М.А. Булатов
НЕМЕЦКАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ
Часть I.
Кант. Фихте. Шеллинг

Киев
«Стилос»
2003
ББК 87
Б90
Книга написана при финансовой поддержке Международного фонда
«Возрождение» по Программе «Трансформация гуманитарного образования в Украине»
(1995 г.).
Булатов М.А. Немецкая классическая философия. Часть I. Кант. Фихте. Шеллинг.
– К.: Стилос, 2003. – 322 с.
Б90
ISBN 966-8009-36-3
В книге раскрываются социальные, научные и эстетические предпосылки
учений Канта, Фихте и Шеллинга. Анализируются естественнонаучные,
гносеологические, логические и диалектические проблемы, вопросы морали и
религии, учение о телеологии и эстетика Канта. Во втором разделе дано
истолкование системного строения наукоучения Фихте, специально выделена лекция
о философии истории Фихте, в которой предложена реконструкция его воззрений по
данной философской дисциплине. В разделе о Шеллинге помимо обсуждения принципов
философии природы отдельная лекция посвящена познавательным и психологическим
аспектам длительной полемики Шеллинга с Гегелем.
Рекомендуется всем интересующимся философией, и прежде всего студентам,
чтобы они могли получить целостное представление о немецкой классике и
использовать последнюю как школу для развития философского мышления.
© М.Булатов, 2003
© «Стилос», издание, 2003
© В.Соловьев, обложка, 2003
ББК 87
ISBN 966-8009-36-3
СОДЕРЖАНИЕ
|
Предисловие
|
4
|
|
Социальные и теоретические предпосылки формирования
философии Канта
|
7
|
|
Социальные, научные и эстетические истоки систем
Фихте, Шеллинга и Гегеля
|
22
|
|
|
|
|
КАНТ
|
43
|
|
Естественнонаучные и философские взгляды И.Канта
докритического периода
|
43
|
|
«Критика чистого разума» в самых общих чертах
|
68
|
|
Трансцендентальная эстетика
|
73
|
|
Категории как формы синтеза явлений
|
80
|
|
Схематизм рассудка и роль воображения в познании
|
99
|
|
Принципы описания опыта
|
106
|
|
Трансцендентальная диалектика
|
122
|
|
«Практический разум» и его реализация во всемирной
истории
|
137
|
|
Понятия целесообразности и рефлексии
|
161
|
|
Основные черты эстетики Канта
|
177
|
|
Основные положения телеологии природы
|
193
|
|
|
|
|
ФИХТЕ
|
199
|
|
Наукоучение: диалектическая концепция познания и
деятельности
|
200
|
|
Философия истории Фихте
|
228
|
|
|
|
|
ШЕЛЛИНГ
|
266
|
|
Очерк развития основных идей
|
267
|
|
Принципы философии природы
|
284
|
|
Шеллинг и Гегель: содержательные и психологические
аспекты оппозиции
|
302
|
|
|
|
|
Литература
|
315
|
4 {номер предшествует странице}
Предисловие
Цель настоящих лекций – изложение, анализ и критика философских систем. В
собственно научном исследовании могут рассматриваться отдельные проблемы или
принципы и преобладать аналитические и критические мотивы. Ближе к жанру лекций
сочинения по истории данной области знания. Наиболее известной по нашему
предмету является «История новой философии» Куно Фишера, в которой можно найти
изложение работ всех главных и второстепенных её представителей. Однако в ней
преобладающим, даже подавляющим, является первая сторона – изложение. Анализ
недостаточен и касается более лёгких связей и переходов. Что же касается
трудных мест, а их у немецких философов немало, то они, как правило, остаются
без объяснения. Между тем студент должен освоить целое хотя бы в общих чертах,
и при этом лёгкий материал можно оставить для самостоятельного изучения, а
более трудный объяснить.
Особенно важной является критика учений, под которой мы понимаем их оценку,
вытекающую из анализа, раскрытие слабых и сильных сторон учений. Это
предполагает определённую дистанцию по отношению к ним, которая обеспечивается
как протекшим временем после их появления, так и ненавязчивостью критических
оценок. В лекциях мы используем оценки немецких философов, связанные с
различием материализма и идеализма, метафизики и диалектики. И.Кант
5
критиковал скептический идеализм Р.Декарта и догматический идеализм
Дж.Беркли, ко второму изданию «Критики чистого разума» написал специальный
параграф «Опровержение идеализма». Он же вскрыл особые виды противоречий в
своей критике традиционной метафизики, а Гегель ввел понимание метафизики как
антидиалектики, Л.Фейербах сознательно провел принцип антропологического
материализма и как позитивную исследовательскую установку, и как критический
прием. То, что в XX ст. стало идеологическим штампом, у этих мыслителей имело
научный характер и выражало живую духовность. Поэтому и сейчас их нужно изучать.
Мы придерживаемся той точки зрения, что классические философские
произведения не канули в Лету, для духа и ума они так же живы, как произведения
литературы, музыки, математики и т. д., тем более, что в философской сфере уже
давно нет гениев. Человеческий дух не может питаться одной религией, теософией,
в нем сохраняется и потребность мыслить, которую могут удовлетворить только те
«герои духа», которые были как бы органами мышления. К ним относятся и немецкие
философы, изучение которых является хорошей школой мысли.
В работе рассматривается ряд новых точек зрения. Главная из них связана с
преодолением односторонности известного принципа снятия, согласно которому
предшествующие учения в своих основных чертах и принципах сохраняются в
последующих. Такая позиция объясняет, и то лишь частично, происхождение того
или иного философского учения, то есть одну сторону историко-философского
процесса. Но поскольку принципы разных по времени систем не только отличаются,
но и нередко противоположны друг другу, подобное снятие просто невозможно, и
предшествующие философские образования сохраняют свою самобытность и
самоценность, а не растворяются в последующих. Каждый выдающийся мыслитель
ставил особые проблемы, решал их особыми способами, выражая некоторую общую
идею или точку зрения, которая не может быть отменена другой идеей и, со своей
стороны, не
6
может отменить последнюю. Так что в общей сокровищнице человеческого
духа Зенон Элейский или Платон, Кант или Кьеркегор одинаково ценны. Только в
своей совокупности они выражают человеческую духовность. Говоря словами
К.Ясперса, «вновь возникшая из нигилизма основная позиция учит нас по-новому
смотреть на историю философии. Три тысячелетия истории философии превращаются
как бы в единое мышление. Многообразные формы философских мыслей таят в себе
как бы единую истину. Гегель был первым, кто пытался постигнуть единство этого
мышления, но делал он это ещё таким образом, будто всё предшествующее
становилось ступенью и частичной истиной по отношению к его собственной
философии. Между тем каждое завершение философии надлежит усваивать таким
образом, чтобы в постоянно возобновляемой коммуникации мы рассматривали великие
явления прошлого не как превзойдённые, а как современные нам»[1].
Разумеется, это относится не к частностям, а к тем общим чертам и принципам,
которыми то или иное учение затронуло какую-либо сторону реальности или духа и
осветило её. Такой общей установкой мы руководствовались и при освещении
частных проблем.
В изложении пособия по немецкой классической философии существуют
дополнительные трудности, поскольку в ней есть много идей и концепций, которые
противоречат повседневному опыту. Например, опыт свидетельствует, что понятия
согласуются с объективной действительностью, а не наоборот, как учит Кант,
обосновывая свой коперниканский переворот в философии; или же – опыт учит о
независимости объективного мира от субъекта, а Фихте доказывает, что субъект
полагает объект и т. п. Такие утверждения можно знать, но не понимать.
Понимание может быть достигнуто, если применять те мыслительные приёмы, которые
кантианец И.Шульце называл «разъясняющим изложением», а К.Штанге – раскрыта-
7
ем «хода мыслей» в философском учении. Это мы и пытались сделать при
осмыслении наследия рассматриваемых персоналий.
Необходимость этого очевидна: немецкая классическая философия является
нормативным курсом или разделом везде, где читается история философии. Между
тем учебного пособия по данному курсу в отечественной литературе нет.
Предлагаемая книга может восполнить этот пробел.
Лекция «Социальные и теоретические предпосылки формирования философии Канта»
была составлена в соавторстве с В.И.Шинкаруком.
Социальные и теоретические предпосылки формирования философии Канта
Немецкая классическая философия является закономерным результатом развития
реальной действительности и мышления Нового времени. При объяснении условий её
возникновения необходимо учитывать как особенности Германии конца XVIII –
начала XIX в., так и обстановку в мире в целом, ибо Германия – лишь одна из
стран Европы, ставших на путь капиталистического развития. Специфические
условия Германии накладывают определённый – и весьма сильный –отпечаток на
системы Канта, Фихте и других философов. Но не только эти особенности
определяют основной строй мышления немецких философов.
Германская буржуазия не была столь радикальна, как французская.
Прогрессивность и революционность французской буржуазии выразились в борьбе
французских философов и просветителей против религии и идеализма, против всех
существующих учреждений. Отсталость и консерватизм немецких порядков побуждают
идеологов к созданию универсальных систем идеализма, а что касается существующих
социальных отношений, то они, в конечном счёте, приходят к положению о том, что
«всё разумное действительно и всё действительное разумно». Ф.Энгельс, сравнивая
немецких и французских мыслителей, писал: «Подобно тому, как во
8
Франции в XVIII в., в Германии в XIX в. философская революция
предшествовала историческому перевороту. Но как не похожи одна на другую эти
философские революции! Французы ведут открытую войну со всей официальной
наукой, с церковью, часто также с государством; их сочинения печатаются по ту
сторону границы, в Голландии или в Англии, а сами они нередко близки к тому,
чтобы попасть в Бастилию. Напротив, немцы-профессора, государством назначенные
наставники юношества; их сочинения – общепризнанные руководства, а система
Гегеля – венец всего философского развития – до известной степени даже
возводится в чин королевско-прусской государственной философии!»[2].
Однако это различие – не только выражение особенностей двух государств
Европы. В общей истории капитализма немецкая буржуазия представляет более
позднюю ступень развития., ступень, которая от предыдущей эпохи отделяется
французской революцией 1789 г. В целом, в истории Европы мы можем выделить
несколько ступеней в развитии революций, переходивших от страны к стране:
нидерландская (1566-1609), английская (1640-1650), французская (1789), немецкая
(1848-1849). Эти даты – кульминационные пункты, отделяющие эти ступени друг от
друга. Каждая из революций явление общеевропейское, а не
узконациональное. Наоборот, национальные особенности тех или иных стран
оказываются выражением особенностей того или иного этапа развития Европы Нового
времени, а национальная буржуазия любой из названных стран оказывается наиболее
способной сыграть роль именно на данной, а не на другой ступени развития.
В этом смысле на Германию XVIII в. мы должны смотреть не только как на одну
из ряда стран, но и как на страну, буржуазия которой смогла консолидироваться и
конституироваться только на следующем этапе (после революции 1789 г.)
9
в развитии европейской истории. Консерватизм немецких буржуа вполне
соответствует изменению характерных черт буржуазии Франции после террора 1793
г. К французам этого периода вполне можно отнести то, что, согласно Энгельсу,
характеризовало немецких буржуа и немецких профессоров.
Только рассматривая Германию как такой результат и этап развития в целом,
можно понять немецкую классическую философию. Особенностями, отвлечёнными
от общей истории Нового времени, мы сможем частично объяснить идеализм немецких
философов, но не диалектику. Диалектика как общая теория развития не может быть
понята, только учитывая своеобразие Германии XVIII в. Она объясняется общей
природой развития буржуазного общества Европы.
В самом деле, именно идеологи буржуазии (Тьерри, Гизо, Минье) первые подошли
к открытию классовой борьбы как содержания истории, объясняя тем самым, что движущей
силой общественного развития является противоречие, единство и
борьба противоположных социальных сил.
Это – следствие того обстоятельства, что, по словам Маркса, буржуазный строй
отличается от всех предыдущих большой подвижностью, динамичностью,
стремительностью развития. Буржуазия не может существовать, не вызывая
постоянно переворотов в орудиях производства, не революционизируя,
следовательно, производственных отношений, таким образом и всей совокупности
общественных отношений.
Эта подвижность общественного бытия неизбежно определяет и соответствующий
характер мышления, общественного сознания во всех его формах (в религии,
искусстве, философии и даже в естественнонаучных теориях). Нельзя не видеть
связи, хотя и не непосредственной, между переворотами в политике и экономике и
теорией катаклизмов Ж.Кювье, космогонической гипотезой Канта-Лапласа, теорией
естественного отбора Ч.Дарвина и т. д.
Выявление диалектических моментов в естествознании, которое в целом в
XVI-XVIII вв. носило метафизический, по словам Энгельса, характер, было связано
с динамизмом
10
общественной жизни нового строя. Если, например, в области механики
древние развивают в основном статику (Архимед), то учёные Нового времени –
динамику земных и небесных тел (Галилей, Кеплер, Гюйгенс, Ньютон и др.).
Математика древних является наукой о постоянных величинах, история новой
математики начинается с введения в неё переменной величины. Более того, именно
в эпоху господства метафизики (до XIX в.) наблюдается постепенное проникновение
принципа движения и развития в разные науки. Если последние расположить по
степеням сложности изучаемых ими явлений, то введение принципа развития
осуществляется в следующих основных сочинениях: Декарт, «Геометрия»
(1637); Кант, «О вращении земли вокруг своей оси» (1754) и «Всеобщая
естественная история и теория неба» (1755); Шеллинг, «Всеобщая дедукция
динамического процесса или категорий физики» (1800); Бюффон, «История
земли» (1744); Ломоносов, «О слоях земных» (1763); Лапель, «Основы
геологии» (1830-1833); Гёте, «Метаморфозы растений» (1790); Ламарк, «Философия
зоологии» (1809).
Названные сочинения – лишь крупнейшие вехи в развитии идей эволюции.
Помимо этого, имеется большое количество сочинений, в которых так или иначе
разрабатываются вопросы развития в разных науках. Значительная часть их
приходится на вторую половину XVIII – начало XIX в. Именно в них видны ростки
диалектического мышления. Ломоносов и Бюффон обнаруживают постепенное изменение
Земли – небесного тела, которое было, согласно христианскому учению,
неподвижным и неизменным центром мира. В 1755 г. в своей «Всеобщей истории и
теории неба» Кант пробивает, по словам Энгельса, первую брешь в метафизическом
мировоззрении, распространяя принцип развития на всю вселенную; космос Канта –
бесконечная и переживающая бесконечную «естественную историю» реальность. Своей
космогонической гипотезой Кант делает большой шаг вперёд по сравнению с
Коперником, который в своём учении сохранил идею Аристотеля об ограниченном
(сферой неподвижных звёзд) и статиче-
11
ском мире. Причём Кант строит историю мира, исходя из
противоположных сил, которыми он наделяет материю, – притяжения и отталкивания.
Его космогония содержит элементы диалектики. Исследования Канта в этом плане
образуют определённую ступень в развитии общей диалектической картины мира,
созданной в новое время.
Таким образом, обращаясь к анализу буржуазного общества, мы видим, как во
всех науках проявляются диалектические тенденции, которые характеризуют всю
историю нового времени. Диалектика же немецких философов в этом смысле
выступает как завершение этого развития, как систематизация диалектической
мысли.
Немецкая классическая философия есть высшая ступень развития
европейской классической философии Нового времени.
Развитие этой философии можно разделить на два этапа: первый представлен
Кантом, второй – Фихте, Шеллингом, Гегелем. Первый этап в общем охватывает
время до Французской революции, второй – после неё. Резкое обострение классовых
отношений накануне революции в философии находит выражение в виде противоречия
между идеалом, «разумом» и действительностью. После совершения революции
буржуазия примиряется с действительностью, ибо теперь последняя уже для неё
«разумна». Противоречие идеала и реальности одинаково сильно – это важно – и в
Германии, и во Франции; в Германии оно достигает, так сказать, «трагической»
остроты. Поэтому, анализируя Германию конца XVIII в., мы тем самым дадим и
характеристику общей проблемы эпохи. Каковы же были условия, в которых
протекала деятельность Канта?
Германия XVIII в. – одна из самых экономически и политически отсталых стран
Европы. Тридцатилетняя война (1618-1648) намного задержала её развитие.
Германия отстаёт на двести лет от Англии и на пятьдесят – от Франции. Это
различие в развитии объясняет нам, почему в «европейской триархии» конца XVIII
– начала XIX в. доминируют три тенденции: в Англии – экономическая, во
Франции – политическая,
12
в Германии – философская. Поэтому первая страна даёт
классическую политическую экономию, вторая – социалистические теории, третья –
философию.
Гейне поэтически выразил это в своей «Зимней сказке»:
Французам и русским досталась земля,
Британец владеет морем,
А мы – воздушным царством грёз,
Там наш престиж бесспорен.
Революция в Германии совершается в сфере разума, потому что сама
действительность не созрела до революции, находилась в состоянии застоя.
Писатели и философы этого времени с болью воспринимают глубокий упадок
Германии, противоречие между идеалами гуманизма и бездуховной, мещанской
действительностью. Гельдерлин, поэт и философ, друг Гегеля, наиболее ярко
выразивший это противоречие в поэзии и жизни, писал в своём романе «Гиперион»:
«Я не могу себе представить народ, который находился бы в более жалком
положении, чем немцы. Вы найдёте между ними ремесленников, но не людей,
мыслителей, но не людей, священников, но не людей, господ и рабов, юношей и
стариков, но не людей!»[3].
Гельдерлин жалуется на то, что «мы не живём в сфере, благоприятной для поэзии»,
ибо «разве можно придерживаться каких-либо правильных понятий о прекрасном,
когда приходится продираться сквозь такую толпу, в которой нас всё от себя
отталкивает». Он, поклонник «греческого идеала», говорит о себе, что «стоит
подобно гусю в современном болоте и не может взлететь на греческое небо»[4].
Между жизнью и идеалом возникает, таким образом, «трагическое противоречие»
(Геттнер), которое составляет «постоянную тему» писаний всех мыслителей и
поэтов этого времени[5].
13
Поэт и живописец Мюллер в отчаянии восклицает: «Как много
стремлений, с которыми мы вступаем в свет! И большая часть из них, для чего?..
Почему так безгранично по чувству это пятичувственное существо, и так
ограничена сила исполнения?»[6].
В силу этой отсталости германская философия и искусство обращаются в поисках
идеала «разумной действительности» или к современной им революционной Франции,
или к прошлому. Известно, что все выдающиеся умы Германии (Фихте, Гегель, Гёте,
Шиллер и многие другие) с восторгом приветствуют французскую буржуазную
революцию – этот, по словам Гегеля, «величественный восход солнца»,
возвестивший наступление нового времени. Тот же Гельдерлин радуется победам
французов, «богатырским успехам республиканцев», насмехается над всеми
«политическими нелепостями, совершёнными в Вюртемберге, Германии и Европе»[7].
«Мсье Жюлю» (Шиллеру) присваивается звание почётного гражданина Франции за его
«Разбойников»; Шеллинг и Гегель высаживают во дворе Тюбингенского института
«Дерево свободы». Но это длится недолго. Ужасы якобинского террора прекращают
прекраснодушное увлечение революционными идеями многих немцев. Они следуют
призыву Шиллера:
Из тесной, удушливой жизни
Уходите в царство идеала.
(«Идеал и жизнь»).
Так как мысль и фантазия не могут питаться сами собой, то материал для
своего идеала немецкие философы должны всё-таки искать в действительности. Но
настоящее и в Германии, и во Франции казалось им ужасным. Остаётся,
следовательно, только прошлое. Два основных направления немецкой поэзии –
классика (Гёте, Шиллер) и романтика (Вакенродер, Новалис, Тик, братья Шлегели)
обращаются, соответственно,
14
к античности и средним векам. Это деление, разумеется, лишь
тенденция, но оно объективно, ибо «Прометей» Эсхила или «Одиссея» имеют такое
же значение для Гёте и Шиллера, как «Песнь о Нибелунгах» для Тика или Шлегелей.
Были писатели, которые, как и Руссо, идеализировали первобытное «естественное состояние».
Это обращение к прошлому естественно: оно выражает поиски сильных
характеров, которых не было в современной Германии. Немецкие поэты стремились
создать современные трагедии, и, нужно отметить, что многие опыты молодого Гёте
идут в этом направлении. На примере театра хорошо видно, какое значение имел
«идеал» в тогдашней Германии: он «заменял» действительность. Г.Геттнер
об этом писал: «Сцена, как очаровательный мир фантазии, явилась спасительным
убежищем от превратностей и гнетущих обстоятельств действительности,
единственным местом, где неудовлетворённое желание самому переживать все сцены
человеческой жизни могли найти удовлетворение»[8].
Это относится не только к театру, но и к науке, философии и т. д. – ко всей
совокупности духовной деятельности.
Указанное противоречие образует центральный пункт всей кантовской системы,
где оно выражается в самых разнообразных формах. Мысли Шиллера об идеале,
приведённые выше, лишь перефразировка положений кантовской философии, ибо, как
известно, Шиллер был близок к философии Канта. Под идеями и идеалом Кант
понимает понятия, для которых нет адекватного объекта. Таков смысл всей
«Трансцендентальной диалектики», в которой анализируются три идеи:
космологическая, психологическая и теологическая.
Оговоримся сразу же: не следует стараться непосредственно вывести все
противоречия философии Канта из данного социального противоречия. Агностицизм,
априоризм, вообще идеалистическая интерпретация научных проблем
15
имеют и гносеологические корни. Однако социальное противоречие
объясняет, почему именно эти проблемы стали у Канта центральными, приобрели
определяющее значение. Когда Кант утверждает, что для идеи или идеала нет
адекватного объекта, то это выражает не только то, что мир в целом нельзя
познать, что нет такого объекта в природе, но это значит, что нет такого
объекта и в обществе, да и создать его нельзя. Человек познаёт природу через
общество, а потому определения понятий о природе есть так или иначе отражения
определений истории.
Агностицизм Канта также имеет не только гносеологические корни, но и
социальные. Кант прав, что при помощи теоретического («чистого») разума нельзя
доказать объективного бытия вещей (это – дело практики); но учение о принципиальной
непознаваемости вещей (агностицизм) есть следствие исторической
ограниченности самой практики того времени, то есть слабости всей
совокупной материальной деятельности в эпоху Канта. В этом смысле во всей
системе Канта мы видим яркое противоречие: «практический разум», с одной
стороны, должен преодолеть недостаток чистого, то есть теоретического разума.
Кант пишет: «...практическим законом, который предписывает существование
высшего возможного в мире блага, постулируется возможность объектов чистого
спекулятивного разума, объективная реальность, которую этот разум
(теоретический) не мог подтвердить»[9].
Однако, несмотря на свои преимущества, практический разум лишь постулирует
объект – он не есть знание об объекте, он есть постулат, требование. Указанное
противоречие между двумя видами разума проникает и внутрь каждого из них.
В «Критике чистого разума» это выражается в известном противоречии «вещи в
себе». Кант утверждает, что о «вещах в себе» мы ничего не можем знать, и в то
же время в специальном параграфе «Опровержение идеализма» доказывает
16
бытие объективных вещей, демонстрируя тем самым, что мы знаем о них.
В «Критике практического разума» данное противоречие выступает в форме «дурной
бесконечности», а именно: практический закон (категорический императив) может
осуществиться лишь в бесконечном процессе, для чего необходимы свобода воли,
бессмертие (то есть вечность, бесконечность) души и бог (другое олицетворение
вечности, бесконечной потому, что она никогда не достигается). Таким образом,
объективация нравственного закона – цель его – достигается в бесконечности, то
есть не достигается. Категорический императив остаётся поэтому бесконечным
долженствованием, специфической формой неразрешённого противоречия.
Из этого, между прочим, вытекает то, что этика, мораль (в форме которой
выступает «практический разум») у Канта есть мораль долга, ибо в сфере морали
понятие долга наилучшим образом выражает отмеченное долженствование[10].
Гегель, приведя слова Канта «ты можешь, потому что ты должен», пишет: «Это
выражение, которое должно было много говорить уму, содержится в понятии
долженствования. Ибо долженствование есть выход за предел; граница в нём снята,
в-себе-бытие долженствования есть, таким образом, тождественное соотношение с
собою, и, следовательно, есть абстракция представления: «мочь, быть в
состоянии» (Abstraction des Kőnnens)»[11].
И здесь же Гегель вскрывает в этом положении противоречие: «Но столь же
правильно и обратное утверждение. Ты не можешь именно потому, что ты должен.
Ибо в долженствовании содержится и предел как предел; вышеуказанный
формализм возможности имеет в этом пределе некоторую противостоящую ему
реальность, некоторое качественное инобытие, и их взаимоотношение есть
противоречие, означа-
17
ет, следовательно, не быть в состоянии, или, вернее, невозможность»[12].
Свой анализ Гегель заключает словами: «Кантовская и фихтеанская философии
выдают долженствование за высший пункт разрешения противоречий разума,
но это, наоборот, есть точка зрения, не желающая выйти из области конечного и,
следовательно, из противоречия»[13].
Долженствование есть неограниченное полагание противоречия, есть
неразрешённое противоречие. Полагание его есть философское выражение реальных
противоречий между разумом и действительностью, между идеалами и существующими
общественными отношениями.
Это противоречие было развито также и философами предреволюционной Франции,
которые стремились, говоря словами Гегеля, поставить мир на голову, то есть
перестроить его соответственно принципам разума. Но уверенность в своих силах
сообщает оптимистические черты и их идеалам, как социальным, так и
теоретико-познавательным. Это отражается в самых отдалённых вопросах познания.
В ответ на рассуждения некоторых математиков о мистичности и непонятности
природы дифференциального и интегрального исчисления д'Аламбер заявляет: идите
вперёд, а уверенность придёт сама собой. Но учение о неразрешимости
противоречия – черта, вытекающая в значительной мере из свойств немецкой
действительности и – поэтому – её теоретиков.
Мы сказали выше, что эти черты нельзя выводить прямо из социальных условий,
ибо влияние их было опосредовано прошлой историей философии и просвещения.
Характерной чертой философии Канта является, как уже сказано, признание
ограниченности человеческого познания. Эта граница есть в то же время
утверждение веры и религии. Известно выражение Канта: «Я ограничил знание,
чтобы дать место вере». В этом положении перекрещивается ряд влияний: теория
«двойственной
18
истины», непоследовательность немецкого просвещения, теологическая
традиция в немецкой философии вообще.
Немецкое просвещение было компромиссным, половинчатым и не достигало такой
степени радикальности, как просвещение во Франции. Если во Франции
просветительские тенденции выразились в основном в форме материализма, то в
Германии оно имело преимущественно идеалистический характер. Сближает их то,
что оба они боролись за права разума, но французы эти права отстаивали в
форме резкой критики религии и церкви; немцы же, как правило, стремились рационализировать
саму религию, отбросить в ней то, что относится к чудесам и не согласуется
с природой и мышлением.
Яркий пример этого – Г.С.Реймарус, не осмелившийся напечатать при жизни свою
критику библии. Рукопись попала в руки Лессинга, который опубликовал из неё
отрывки – так называемые Вольфенбюттельские фрагменты. В своей работе Реймарус
подвергает критике противоречия библии, нелепости чудес, возможность
вмешательства бога в ход природы, но защищает «естественную религию», религию,
которая согласна со здравым смыслом и имеет моральный характер. Такого же
сведения религии к морали придерживается другой крупный просветитель –
С.Симлер. Это сведение есть важное направление всей истории немецкой мысли –
вплоть до Фейербаха, сконструировавшего новую «религию любви». Лессинг
посвящает одно из основных своих произведений – «Воспитание человеческого рода»
– доказательству, что религия – это орудие воспитания людей в направлении к
чистой нравственности и моральности, когда поступки будут регулироваться не
извне (как обстоит дело в религии и как это необходимо на определённой ступени
истории), а изнутри, из внутренней потребности индивида[14].
Но основное значение просвещения состоит в том, что оно, хотя слабо и
непоследовательно, развивается в течение двух
19
веков под знаком борьбы за разум. Понятие разума –
центральное и в немецком, и во французском, и в английском просвещении. Это
понятие было воспринято и развито дальше немецкой классической философией от
Канта до Фейербаха. Разум есть высшая ступень познания в философии Канта; у
Фихте, Шеллинга, Гегеля разумное мышление становится методом; диалектика
– синоним разумного или спекулятивного мышления.
Немецкие философы, правда, не могут, как французские просветители,
освободиться от религии и религиозного в анализе человеческого разума. Объектом
разума у Канта являются «вещи в себе», среди которых мы находим основные
религиозные понятия, именно: «бог», «свобода воли», «бессмертие души»,
обоснованию которых посвящены значительные части всех кантовских «Критик». Но
по сравнению с французскими просветителями они делают и большой шаг вперёд,
исследуя, как сказано, разум в плане диалектики.
Немецкая мысль имела солидную не только идеалистическую, но и диалектическую
традицию, оказавшую большое влияние на немецкую классическую философию. Влияние
Лейбница можно проследить уже у Канта. Учение Канта о категориях имеет много
общего с лейбницевским. Кантовскому различению чувственного, эмпирического и
теоретического (или трансцендентального) соответствует бытующее во всём, в том
числе и в лейбницевском рационализме, деление истин на «истины факта» и «истины
разума» и ряд других положений. Скажем, учение об априорности категорий, хотя и
в ослабленной степени, имеется у Лейбница, ибо последний, как и Кант, считает,
что общее и необходимое (то есть «истины разума») нельзя вывести из единичного
и случайного (эмпирического опыта).
Из зарубежных философов наибольшее влияние оказали на германскую историю
мысли Д.Юм и Б.Спиноза. Юм, по собственным словам Канта, «пробудил его от
догматического сна». Кантовский агностицизм коренится в юмовском. Само это
влияние объясняется как слабым развитием естествознания,
20
так и компромиссным характером немецкой мысли, которая в этом
отношении имеет много общего с английской. Практически компромисс выражался в
единении с дворянством, теоретически – в попытках соединить разум и веру,
религию. У Юма это привело к деизму, у Канта вылилось в стремление ограничить
разум, чтобы дать место вере.
Влияние Юма, следовательно, имело реальную основу в Германии, было
отражением этой основы в сфере философии. Кант, правда, пошёл дальше Юма. Он не
только более последовательно развил его агностицизм: последний привёл его к
открытию антиномий, специфически кантовской формы диалектики, которая была у
него логическим выражением непознаваемости «вещей в себе».
Однако, говоря о влиянии на философию Канта идей Лейбница, Юма и других
мыслителей, недостаточно этим ограничиваться. Взгляды Юма, Лейбница и др.
выражают лишь частные случаи общей закономерности развития европейской
философии Нового времени. Имеются в виду течения эмпиризма (сенсуализма) и
рационализма. Локк, Юм, Бэкон представляют первое направление; Декарт, Спиноза,
Лейбниц, Вольф и др. – второе. Отношение кантовской философии к этим
направлениям примечательно: в ней не просто отразились некоторые идеи,
выдвинутые названными направлениями, но она выступает как определённое звено,
дальнейшее развитие их. В чём состояло это развитие?
Эмпиризм и рационализм – крайности, одна из которых абсолютизирует
чувственность, другая – рациональную сторону познания. Между обоими
направлениями в течение нескольких веков идёт острая борьба (достаточно назвать
полемику Гассенди и Декарта или борьбу Локка против врождённых идей). Борьба
обнаруживает односторонность и эмпиризма, и рационализма. У Лейбница уже есть
идеи, намечающие их объединение, но это – лишь отдельные элементы. В этом плане
философия Канта есть попытка дать систематический синтез эмпиризма и
рационализма. Само знание (анализу которого посвящена его «Критика чистого
разума») у Кан-
21
та является соединением чувственности (эмпирической и
трансцендентальной) и рассудка (категорий). Естественно поэтому, что в
философии Канта можно обнаружить следы идей Юма, Лейбница и т. д. Однако это
влияние может быть и случайным; главное, что в данном влиянии существует закон:
философия Канта есть синтез двух противоположностей – эмпиризма и рационализма.
Это находит концентрированное выражение в основном вопросе философии Канта:
«как возможны синтетические суждения априори», который сводится к проблеме
соединения чувственного и рационального.
Таким образом, и в этом существенном пункте философия Канта, оставаясь ярким
проявлением «немецкого духа», является своеобразной ступенью в истории
общеевропейской мысли.
Но в целом Кант здесь лишь поставил, но не решил проблему, ибо решение её
состоит в обнаружении внутреннего единства чувственного и рационального,
каковое единство Кант категорически отрицает. И соединение противоположностей
ведёт лишь к требованию соединения; система Канта в силу этого полна
противоречий, ибо та борьба, которую вели между собой сенсуалисты и
рационалисты, вошла теперь внутрь одной, кантовской системы и, так
сказать, разрывает её на части. Противоречие остаётся неразрешённым и
непримирённым. Оно выражает лишь проблему, требование, долженствование, высшим
изображением которого является последняя часть «Критики чистого разума» – теория
идей и идеала. Выше мы видели, что эта теория является обобщённым
отражением противоречия между разумом – идеалом – и действительностью. К этому
же пункту ведёт и развитие философии Нового времени, выступающее в виде двух
общих течений сенсуализма и рационализма.
Исследование социальных и историко-философских предпосылок философии Канта
показывает, следовательно, что эта система является ступенью в развитии
общеевропейской мысли, ступенью, на которой ставится обобщённая проблема
синтеза – идеала и реальности, чувственного и рационального,
22
материального и идеального; вся его философская система есть большая
проблема, совокупность нерешённых и, согласно Канту, неразрешимых проблем; Кант
ставит задачу, которую он сам не может выполнить, – превратить долженствование,
обременённое противостоящей ему и недостижимой реальностью, в действительность,
сделать последнюю разумной. Первое решение этой проблемы было дано последующими
немецкими философами.
Социальные, научные и эстетические истоки систем Фихте, Шеллинга и Гегеля
Философия Канта развивается в эпоху, предшествующую Великой французской
революции. Она представляет собой большую проблему, как и отражаемая ею эпоха.
Социальные проблемы европейской буржуазии разрешились революцией, являющейся
наиболее напряжённой формой человеческой деятельности.
В философии эта динамическая эпоха развития отразилась в «Наукоучении»
Фихте, созданном в основном в 1794-1797 гг. В отличие от Канта[15],
интересы которого сосредоточивались на теории познания, у Фихте основной
категорией становится понятие деятельности, или «дела – действия», которые
являются началом и фундаментом его системы. «Мы предназначены, – говорит Фихте,
– не для познания, но для деяний». Философия Фихте выражает желание
действовать, и сам Фихте во время наполеоновских войн великолепно подтвердил на
собственном примере справедливость своего знаменитого положения: каков человек,
такова и его философия. Но надо сказать, что в Германии война с Наполеоном
была, собственно, единственной формой, в которой могла в то время проявляться
активность германской нации. Помимо этого, в Германии не было поля для
практической реальной деятельности, что наложило известный отпечаток на
«филосо-
23
фию действия» самого Фихте. Последнюю надо поэтому рассматривать не
как узконациональное, а как общеевропейское явление, вызванное к жизни прежде
всего Французской революцией, но вообще характерное для буржуазной философии
XVIII – начала XIX в.
Отсутствие реальной деятельности и в то же время потребность в ней,
вызванная французской революцией и медленным развитием самой немецкой
буржуазии, привели к теоретической и художественной разработке идеи
деятельности. Но уже Г.Э.Лессинг, один из самых энергичных умов Германии,
провозгласил, что «человек создан для деятельности, а не для праздной игры ума»[16],
– положение, которое Фихте превратил в «систему практической философии» и
которому Гёте придал значение принципа в своём «Фаусте»: «в начале было дело».
Но Фихте, Гёте, Гегель и другие разрабатывают данную идею в сфере философии и
поэзии, а не практики. Это неизбежно. Гёте, который на посту министра в Веймаре
стремился улучшить общественную жизнь в этом герцогстве, разочарованный, бежал
в 1785 г. в Италию и вернулся оттуда «греком».
Так же и Шиллер, и Гельдерлин кончают «горячкой грекомании». Все они
становятся в конце концов равнодушными к практической деятельности. Гёте
считает всё историческое «самым неблагодарным и опасным материалом»[17].
А во время войны с Наполеоном, находясь в военном лагере, он интересуется
только наукой. Его друг Кнебель пишет: «Гёте всё время занимается оптикой. Мы
изучаем здесь под его руководством остеологию; время для этого самое
подходящее, так как все поля покрыты препаратами»[18].
Европейская война для Гёте и его окружения оказывается, как видим, лишь
физиологической лабораторией. То же мы видим у Гегеля: его юношеские проекты
преобразования конституции Вюртемберга оказываются
24
бесплодными, а зрелый Гегель видит свой идеал не в практическом
преобразовании современной ему действительности, а в примирении с ней,
истолковывая в консервативном смысле своё положение: «Что разумно, то
действительно; и что действительно, то разумно»[19].
В «Предисловии» к «Философии права», где выдвигается это положение, Гегель
резко критикует тех, кто «отступает от общепризнанного и общезначимого»[20].
Он пишет: «Постичь то, что есть, – вот задача философии, ибо то, что
есть, есть разум... Глупо думать, что какая-либо философия может выйти за
пределы современного ей мира, сколь глупо думать, что отдельный индивидуум
может перепрыгнуть через свою эпоху... Если же его теория в самом деле выходит
за её пределы, если он строит себе мир, каким он должен быть, то этот
мир, хотя, правда, и существует, однако – только в его мнении, последнее
представляет собою мягкий материал, на котором можно запечатлеть всё, что
угодно»[21].
Вместе с правильной критикой субъективизма и пустого (в духе императива Канта)
долженствования здесь ясно видно отрицание активности, действенности философии,
мышления вообще, ибо данная активность и выражается в опережении настоящего, в
отступлении от общепризнанного и т. д. Но для Гегеля действительность мышления
состоит лишь в том, что он познает данное, наличное. Это теоретическая, а не
реальная активность. Маркс отмечает, что Гегель знает лишь один –
абстрактно-теоретический вид труда.
Особенно резких, почти крайних форм отрицание «дела» находит в теориях
романтиков. «Романтики хотели основать поэзию на чувстве лишения, то есть на
томлении»[22].
Брандес поясняет, что, согласно романтической теории, томление – вид стремления
– чувства лишения и желания, соединённых
25
в одно, без воли и решимости добиться желаемого[23].
Смысл этого конкретизируется в одной главе в романе Фр.Шлегеля «Люцинда»
(1799). Глава называется «Идиллия в праздности». В ней Шлегель развивает ту
мысль, что праздность есть единственное, что осталось от сходства с Богом,
которое мы сохранили после изгнания из рая. Необходимо изучение праздности. «Её
надо развить в искусство, в науку, даже в религию». Ибо «высшая, самая полная
жизнь блаженных богов есть чистейшее прозябание». Жизнь растений рассматривается
как высшая форма жизни в природе. Вместе с тем Шлегель нападает на «беспокойную
деловитость, на экономический принцип просвещения» и т. д.[24]
Таким образом, уход в «царство идеала», к идеальной деятельности объясняется
прежде всего отсутствием реального «дела» в Германии конца XVIII – начала XIX
в. Это обстоятельство приводит к тому, что активную сторону познания
разрабатывают главным образом идеалисты. Но этот уход вытекает, далее, и из
отвращения к мелкой и ничтожной действительности, отрицанием которой является
отсутствие всякого действия, «чистейшее прозябание». «Теперешнее небо и
теперешняя земля, – говорит Новалис, – прозрачны по своей натуре; это – период
практической пользы. Страшный суд будет началом нового, поэтического периода»[25].
Пока же романтики обращаются к прошлому: ведь «было время, когда наша страна
была покрыта увенчанными башнями красными дворцами» (Поль Меллер)[26].
Романтики так же, как и классики, уходят или в «спокойные помещения сердца»
(Шиллер), или в средние века, или даже в период дикости. А в реальной жизни они
не идут дальше «Войны с филистером» (драма Эйхендорфа). Прав Брандес, говоря,
что «выяснение брачного вопроса является почти единственной социальною задачею,
26
которою занимается беллетристика начала XIX века» (исключая
«Вильгельма Майстера» Гёте, а до него – романы Руссо)[27].
Сказанное объясняет нам то, что, во-первых, понятие, или образ, деятельности
немецкие философы и поэты исследуют в плане сознания, а не бытия. Во-вторых,
что они не понимают активности человека в полной мере, запрещая философии
выходить за пределы того, что есть, или даже полностью отрицая её в «чистейшем
прозябании». Наконец, этот отрыв идеала от жизни обращает их взор к
историческому прошлому.
Это обращение представляет замечательный во многих отношениях факт,
повлиявший на формирование ряда особенностей немецкой классической философии
(особенно Шеллинга и Гегеля). Известно, что французы XVIII в. были начисто
лишены исторического чутья. Они рассматривали всю предыдущую историю как ряд
заблуждений разума, средневековье сводилось для них к обманам духовенства и
вообще было лишено всякой закономерности и необходимости. Образное выражение
это нашло в толковании религии, против которой просветители особенно энергично
боролись. Они восприняли старую легенду «о трёх обманщиках» (Моисей, Христос,
Магомет), которые создали мировые религии для одурачивания и угнетения людей.
Для просветителей религия – не закономерный результат неразвитости производства
и общественных отношений, а козни попов – взгляд, может быть, верный
относительно современного им духовенства, но совершенно ложный по отношению к
прошлому.
В Германии впервые намечается интерес к истории, к прошлому, как самоценной
реальности. И.Винкельман, автор «Истории искусства древности» (1763),
обращается к античности, Вакенродер своими «Фантазиями об искусстве» (1799) – к
средним векам. Классики (Винкельман, Гёте и другие) находят идеал красоты в
древности, романтики – в легендах и сказаниях средних веков. Благодаря этому
история была «ре-
27
абилитирована» и стала для немцев такой же реальностью, какой для
французов была «система природы». Этот интерес к прошлому имел большое
значение. Ему обязаны европейцы первыми переводами А.В.Шлегеля Шекспира,
Кальдерона и других поэтов эпохи Возрождения; результатом его явились создание
сравнительного метода в искусстве (братья Шлегели), сравнительной грамматики
(братья Гримм); благодаря романтикам впервые была создана «всемирная
литература». Прошлая история оказалась не сплетением заблуждений и обманов, а
постепенным развитием разнообразных форм поэзии (например, наивной и
сентиментальной у Шиллера, классической и романтической у А.В.Шлегеля), языка и
других форм общественной жизни. Отношение к истории, таким образом, у немцев и
французов диаметрально противоположно. В своей трагедии «Магомет» Вольтер
изображает основателя ислама как обманщика. Напротив, в неоконченной трагедии
Гёте «Магомет» он – герой, великий исторический деятель. Исследования Шиллера,
Шлегелей и других поэтов подготовили громадный фактический материал, который
позволил немецким философам создать стройную концепцию исторического процесса.
Шеллинг на основе этих исследований в своей «Системе трансцендентального
идеализма» (1800) строит теорию познания как систему исторических «эпох
самосознания». А Гегель создаёт свою «Философию истории».
Большая заслуга в этом принадлежит немецкой литературе и филологии. Ею
подготовлены уже целые части гегелевской «Философии духа», например, «Лекций по
эстетике», в которых общий ход истории развития искусства через три формы
(символическая – классическая – романтическая) имеется уже у Шиллера («О
наивной сентиментальной поэзии») и А.В.Шлегеля («Лекции по литературе и
драматической поэзии», 1801-1811), где даётся чёткое различие античного и
современного искусства в «гегелевском» духе, и историческая последовательность
– пластика, архитектура, живопись, музыка, танцевальное искусство, поэзия –
совпадает, исключая детали, с генезисом эстетических форм в «Лекциях» Гегеля.
28
Р.Гайм с восторгом говорит о богатстве содержания «Лекций» Шлегеля,
но считает, что издание их излишне после напечатания «Эстетики» Гегеля, которая
вобрала в себя всё их положительное содержание[28].
Вообще, благодаря историческим принципам исследования, введенным романтиками и
классиками, Гегель смог создать «Философию духа», в которой формы общественного
сознания предстали в виде системы последовательных исторически сменяющихся
явлений духа, например, искусство – религия – философия, тогда как у французов
XVIII в. они образуют конгломерат, сборище по сути не связанных между собой
образов мысли и фантазии.
Сравнение немецкой и французской философии даёт нам объяснение ещё одной
важной особенности идеалистической философии Германии. Обращение к прошлому
объясняется, как уже сказано, историческими обстоятельствами Германии конца
XVIII – начала XIX в. Дело в том, что Гольбах, Гельвеций и другие действовали в
эпоху, предшествовавшую буржуазной революции, немецкие философы – во время и
после неё. Поэтому первые исследовали главным образом настоящее и будущее
общества, которое должно было принести осуществление «государства разума»;
вторые же, отчасти напуганные террором якобинцев, отчасти уже убедившись, что
на практике «разумное общество» просветителей немногим отличается от
просвещённой монархии, – главное внимание уделяют настоящему и прошлому. И это
естественно, потому что Гегель и другие были идеологами буржуазии, «будущее»
которой осуществилось, стало настоящим в 1789 г. К этому надо добавить
застойный характер жизни Германии, и мы поймём, почему немецкие философы, с
таким блеском разрабатывавшие диалектический (исторический) метод, в силу
отмеченных реальных обстоятельств оконечивают развитие. У Фихте,
Шеллинга, Гегеля диалектика на определённой ступени исчерпывает себя. Например,
согласно Шеллингу, историческое развитие отличается от природного тем, что оно
не достигает
29
точки, когда выходит за пределы самого себя, а совершается
бесконечно[29],
но в «Системе трансцендентального идеализма» он оконечивает развитие
искусством, которое является у него высшей формой «самосознания». Гегель венец
исторического развития видит в современности, когда свобода, по его
собственному мнению, приобрела в германском мире всеобщий характер, как это
видно *из его «Философии истории», а выражением свободы стало право и правовое
государство, описанию которых посвящена «Философия права». Это обстоятельство объясняется
не только тем, что систему надо было чем-то окончить, но и отмеченными
особенностями исторического положения Гегеля и других философов. Классическое
выражение это нашло в теории классовой борьбы О.Тьерри, французского историка
эпохи реставрации. Тьерри первый начал систематически рассматривать всю историю
(особенно новую) как историю классовой борьбы. Но он считал, что она
прекращается с победой буржуазии. У Тьерри антагонизм – в прошлом, теперь же
– борьбы противоположных классов нет. У Гегеля диалектика также обращена в
прошлое, но не в будущее. Исследуя историю и философию, можно легко заметить,
что оконечивание развития – общая тенденция мышления, отражающая
историческое положение буржуазии. Гегель только выразил её раньше, нежели
Тьерри.
В этой связи уместно сказать несколько слов относительно характеристики
гегелевских политических взглядов, связанных с его «Философией права».
Известный либеральный историк Р.Гайм в своей книге «Гегель и его время»
охарактеризовал Гегеля как идеолога феодальной реакции. Эта оценка, данная
Гегелю либеральным буржуа, получила очень большое распространение. Некоторое
время и в отечественной философской литературе имела хождение формула, согласно
которой гегелевская философия является «аристократической реакцией на
французскую буржуазную революцию и французский материализм». Поскольку эта
характеристика относится
30
ко всей философской деятельности Гегеля, она должна быть признана неверной.
Она абсолютизирует отдельные консервативные стороны его философии. Однако эти
черты проявляются в основном в произведениях позднего Гегеля (например, в его
«Философии права»); они не составляют отличительных особенностей сочинений
«молодого Гегеля», например, его «Феноменологии духа» (1806), «Науки логики»
(1812-1816) и пр. В продолжительной философской деятельности немецкого философа
можно наблюдать лишь тенденцию к консерватизму в зрелые годы. Гегель,
как и другие его выдающиеся современники (вроде Гёте), видели в революции 1789
г. «величественный восход солнца», поворотный пункт истории Нового времени.
Гегель остался на всю жизнь верен своей оценке большой исторической значимости
данной революции, несмотря на «поправение» своих взглядов в поздние годы.
Далее, необходимо отличать собственно философские и политические сочинения
Гегеля. Если в «Философии права» есть отдельные негативные черты (оправдание
монархии, «дедукция дворянства» и т. д.), то этого нельзя сказать о
«Феноменологии», «Логике», «Философии искусства», «Истории философии» и т. п. В
этих произведениях Гегель как раз и развил диалектический метод. Консервативная
система отступает здесь на второй план. Если консервативный характер системы
состоит в оконечивании познания, то это находит наиболее резкое выражение в
учении Гегеля об абсолютном знании, в частности в «Науке логики» – в
«абсолютной идее». Но известно, что параграф об абсолютной идее целиком
посвящен изложению принципов диалектического метода. Так же обстоит дело с
«аристократической реакцией на французский материализм». Верно, что борьба
Гегеля с материализмом французов (и не только французов) имела двойственный
характер. Но Гегель боролся с метафизическим, созерцательным материализмом, и
эта борьба, несомненно, имела положительное значение.
Неправильная оценка Гегеля объясняется преимущественно тем обстоятельством,
что его система, как и системы
31
Канта, Фихте, Шеллинга, рассматривается наряду с системами
Гельвеция, Гольбаха и других французских материалистов. Тем самым оба течения
мысли противополагаются, а их особенности фиксируются как проявления специфики
буржуазии французской и немецкой в области идеологии. Однако немецкая
классическая философия не стоит рядом с французской. Она является более
поздней ступенью развития европейской мысли Нового времени. Первая образует
философский пролог французской революции, вторая развивается во время и после
этой революции. Обе – генетические, исторические ступени развития мысли.
Каждая, несмотря на свою «национальную форму» (а отчасти и благодаря ей), имеет
не национальное, а общеевропейское значение. Поэтому философия Гегеля возникла
вовсе не в противоположность французской революции; наоборот, её революционный
метод выразил революционный ритм эпохи, героический период в истории
буржуазии.
Итак, по своему мировоззрению и политической направленности философского
творчества Гегель – буржуазный мыслитель эпохи революционной ломки феодального
строя и утверждения в Западной Европе капиталистического способа производства.
Вместе с тем, на его философию наложила отпечаток экономическая и политическая
отсталость Германии конца XVIII – начала XIX в.: раздробленность на отдельные
княжества и королевства, стремление немецкой буржуазии к компромиссному
разрешению противоречий между феодализмом и потребностями буржуазного развития.
На философской деятельности Гегеля отпечаталась также эволюция его политических
взглядов – от юношеского увлечения республиканскими идеями (под влиянием
французской буржуазной революции) до умеренного либерализма, склонности
примирения с современной ему полуфеодальной действительностью Германии. В целом
философия Гегеля, завершив процесс развития классической немецкой философии,
противоречиво объединила в себе оправдание полуфеодальной действительности с
идеями исторической неизбежности общественного прогресса,
32
обоснование истинности религиозной идеологии с теоретическим
обобщением развития науки, создание системы абсолютного идеализма с разработкой
принципов диалектического метода.
Отрицательные, консервативные черты мировоззрения Гегеля выразились главным
образом в том, что диалектика была разработана им на идеалистической основе.
Поэтому получилось так, что диалектика действительности была прежде всего
открыта в своей производной форме, в виде диалектики мышления. В начале мы
видели, что все писания поэтов и философов пронизывает «трагическое противоречие»
жизни и идеала, между которыми существовала бездна. Но этот разрыв лишь частный
случай: не только идеал, но и идея (логическая), вся сфера мышления выступала
как самостоятельная реальность, отделённая от действительности или
предшествующая ей. «Царство идеала» Шиллера дополнялось «царством идей» Гегеля
и других философов. Противоречия эпохи (упадок Германии и, с другой стороны,
французская революция) породили отрыв мышления от бытия и сильно содействовали
развитию идеалистического мировоззрения. Вообще нельзя не видеть связи между
упадком Германии, наступившим после Тридцатилетней войны, и идеализмом, который
во всё это время был господствующим философским направлением – Германия стала
классической страной идеализма, в отличие от Англии и Франции, где расцвели
также многочисленные системы материалистической философии. Идеализм, выросший,
таким образом, из общественных отношений, в сильной степени повлиял на открытую
немецкими философами диалектику. Но, с другой стороны, он в известной степени и
содействовал её открытию. Благодаря тому, что мышление рассматривалось как самостоятельная
реальность, движущаяся по своим собственным законам, возникла идея о самодвижении,
об имманентном развитии идеального, что возможно не через внешний толчок
(который был устранён самим идеализмом), а через самораздвоение и
самопротиворечивость идеального. А этим в отчуждённой форме было открыто
самодвиже-
33
ние реальности, отблеском которой являются все абсолюты немецкой
классической философии. Разумеется, это лишь одна из причин открытия
диалектики, но её надо отметить: ведь не случайно то, что первая
систематическая теория диалектики носила идеалистический характер.
Итак, противоречия буржуазного общества вызвали к жизни и соответствующую им
теорию противоречий, диалектику. Диалектический характер буржуазного строя
нашёл своё отражение во всех идеальных образованиях эпохи, вплоть до литературы
и поэзии. Романтики (особенно Фр.Шлегель, Зольгер) создают «романтическую
диалектику» – или романтическую иронию – диалектику в духе Сократа. Диалектика
накладывает свою печать на художественную форму. А.В.Шлегель в уже
упоминавшихся «Лекциях» создаёт теорию романа как основного вида поэзии нового
времени – романтической поэзии. Основную задачу романа он видит в изображении
развития личности, в отличие от эпической поэзии древности, в которой личность
статична (Одиссей, Прометей). Претерпевает изменения драматическая форма.
А.Г.Габричевский пишет об этом: «Бунтарская прометеевская реакция на мир
естественно наталкивала Гёте на драматическую форму и драматический сюжет. Что
касается драматической формы, то можно было бы утверждать, что для Гёте
драматическая проблема всегда прежде всего отливалась в форму диалога как
столкновения двух сил, двух мнений, причём носители этих сил и мнений сгущались
в определённый художественный образ. Отсюда излюбленная им парная схема
главных героев как проявление основного диалектического строя его
мировоззрения, который им самим был в области естествознания сформулирован как
принцип «полярности», точно так же как лирическому стилистическому принципу
динамики и экспансии соответствует его натурфилософское понятие развития, или
«нарастания»[30].
В качестве примера мы укажем на знаменитую антитезу
34
Фауст – Мефистофель. Развитие в «Фаусте» Гёте совершается через
выдвижение и разрешение противоречий и напоминает структуру «Наукоучения»
Фихте, «Логики» Гегеля. Отношение между Фаустом и Мефистофелем есть воплощение
этого отношения. «Я отрицаю всё, – говорит он, – и в этом суть моя». Эти
художественные образы Гёте оказали большое влияние на развитие «диалектики
отрицательности». Мыслители воспринимали их не только как художественные
образы, но и как логические принципы. Об этом красноречиво говорят слова
Шеллинга о сатане: «Как неисчерпаемый источник возможностей, изменяющихся
смотря по условиям и обстоятельствам, этот дух есть постоянный возбудитель и
двигатель человеческой жизни; это принцип, без которого мир уснул бы,
ход истории прекратился бы и арена её затянулась бы болотом. Такова
настоящая философская идея сатаны...» И дальше: «Сатана есть необходимый
движущий принцип всей истории»[31].
Здесь совершенно ясна связь сатаны Гёте и «отрицания» в «Логике» Гегеля. По
тому же диалектическому принципу строятся романы Гёте; например: Эдуард –
Шарлотта, Отто – Оттилия в романе «Родственные натуры» или «Избирательное
сродство». В четвёртой главе первой части романа герои обсуждают химическую
проблему – «избирательное сродство»[32]
и приходят к двум выводам: во-первых, сродство, стремление соединиться тем
интенсивнее, чем больше противоположность между соединяющимися элементами;
во-вторых, это – не только химическая, но и всеобщая закономерность.
Капитан Отто говорит о родственности химических элементов: «В щёлочах и
кислотах, которые, несмотря на противоположность друг другу, а может быть
именно вследствие этой противоположности, всего решительнее ищут друг друга и
объединяются, претерпевая при этом изменения, и вместе образуют новое вещество,
эта родственность достаточно броса-
35
ется в глаза». На это его оппонент Шарлотта отвечает: «Признаюсь
вам, когда вы называете родственными все эти странные вещества, мне
представляется, будто их соединяет не столько кровное, сколько духовное и
душевное родство. Именно так между людьми возникает истинно глубокая дружба:
ведь противоположность качеств и делает возможным более тесное соединение»[33].
Здесь в яркой форме (конечно, без логического развития) выдвигается принцип
тождества противоположностей как общий закон телесного и духовного мира. Первый
фрагмент «Фауста» появился в 1790 г. и был с восторгом встречен Фихте,
Шеллингом и Гегелем. Роман «Избирательное средство» Гёте написан в 1809 г., в
1805-1806 гг. – «Феноменология духа», а в 1812 г. появились две первые книги
«Науки логики» Гегеля. И философия, и литература были проникнуты основной
диалектической тенденцией эпохи. Приведенные выдержки из романа Гёте являются
также ярким примером влияния на развитие диалектики современного ему
естествознания – влияния, пронизывающего все сферы интеллектуальной жизни –
даже литературу и поэзию. Это влияние было столь сильно, что мы должны
остановиться на нём подробнее. Нет почти ни одного выдающегося мыслителя этой
эпохи, который бы не уделил значительного внимания естествознанию или так
называемой натурфилософии. О Гёте, который был не только гениальнейшим
выразителем духа эпохи, но и естествоиспытателем, занимающим крупное место в
развитии эволюционной теории, будет сказано дальше. Но Гёте – лишь наиболее
яркий пример сочетания поэтической и естественнонаучной деятельности. Роман
Новалиса «Генрих фон Офтердинген» рассматривается автором как «настоящий
символический роман на тему естествознания». То же относится к более раннему,
неоконченному его сочинению «Ученики в Саисе». Новалис в оставшихся отрывках
излагает различные точки зрения на природу. Сам он считает, что следует вникать
в науку во всём её развитии, возвышаться до
36
творческих соображений и стать на такую точку зрения, в которой
творчество соединяется со знанием, что следует с этого пункта обозревать
будущее времени, как беспредельную драму, и всю историю деятельности природы[34].
Главным героем этого произведения должен был быть «Мессия (освободитель)
природы». С другой стороны, Шеллинг около 1800 г. задумывал совместно с Гёте
написать «Эпос природы», от которого остались только отрывки и несколько
стихотворений на темы натурфилософии. Шеллинг именно и является тем философом,
для которого развитие естествознания имело, наряду с искусством, решающее
значение. Вообще, если брать представителей немецкой классической философии отдельно,
то на каждого из них разные факторы оказали неодинаковое влияние. Система Фихте
вырастает в основном из социально-политических и философских влияний. Сам он
говорит в письме к К.Рейнгольду, что вся его система есть развитие понятия
свободы, которое перелагает на абстрактно-философский язык основные принципы
французской буржуазной революции: свободу, равенство, братство. И здесь важно
подчеркнуть, что импульс, данный этой революцией, не сводился к тому, что
Шеллинг и Гегель «посадили дерево свободы», а Фихте написал сочинение «Об
исправлении мнений публики о французской революции». Влияние более
фундаментально: свобода и т. д. является глубочайшим внутренним содержанием
всех их философских систем, а особенно фихтеанской. Да и у Гегеля, в конечном
счёте, центральным является понятие духа, которое увенчивает его систему, а
сущность духа Гегель усматривает в свободе, тогда как природа – сфера
необходимости. Для немецких философов как раз характерно, что они не расчленяют
философское и политическое понимание свободы, а потому абстрактно-теоретический
анализ всегда есть также анализ политический.
Центральное место в системе Шеллинга занимает натурфилософия, во всяком
случае до того времени, когда его инте-
37
pec перемещается на «философию мифологии» и «философию откровения».
Произведения молодого Шеллинга или непосредственно посвящены исследованию
естественнонаучных проблем, или сильно окрашены в натурфилософские тона.
Наконец, в системе Гегеля – самой обширной системе философии – «Философия
природы» занимает очень скромное место, и к тому же именно в этом сочинении
больше всего натяжек. Основные достижения Гегеля лежат в плоскости логики и
философии духа: в феноменологии, эстетике, философии права, истории, в истории
философии и других частях его системы. Философия Гегеля как завершителя и
систематизатора немецкого классического идеализма вместе с тем определяет общий
удельный вес естествознания в этом идеализме. Классики немецкой философии
базируются на истории в широком смысле слова, так же как классики французской
философии XVIII в. исходят из природы. Вместо «Системы природы» они дают
«Систему истории». Но это не умаляет того большого значения, которое имеет
естествознание в формировании их философских взглядов. Главное влияние
естествознание оказывает своей зарождающейся диалектической тенденцией. В
разделе о Канте мы увидим, как идея развития постепенно проникла в
естествознание. Сам Кант, много и плодотворно занимавшийся исследованием
естественнонаучных проблем, уделял главное внимание вопросам механики. Его
основные работы – о приливном трении и об истории и теории неба относились к
небесной механике. В рассматриваемую эпоху преимущественный интерес вызывают
физические исследования. Открытия в физике того времени производили большое
впечатление. Ломоносов в письме Эйлеру (1748) даёт свою формулировку закона
сохранения и превращения энергии. Исследования Гальвани, Вольты, Риттера и
других естествоиспытателей оказали прямое воздействие на развитие философии
Шеллинга и Гегеля. Достаточно сказать, что именно открытия в области
электричества и магнетизма (Гальвани, 1791 – «животное электричество», Вольта,
1800, Деви –1806-1812, и др.) были той основой, на которой Шеллинг
38
сформулировал «принцип полярности» как основной «способ действия
природы», как универсальный принцип. «Первый принцип философского учения о
природе, – говорит он, – состоит в том, чтобы сводить всю природу к полярности
и дуализму»[35].
Для Шеллинга весь мир – магнит. Магнетизм для него не частный пример, а принцип
диалектики природы. Естествознание этого времени повсюду ищет и находит
полярность и дуализм. Кант на полярности (борьбе) притяжения и отталкивания
строит всю космогонию. Интерес к этому же явлению мы видим в теории
электричества (положительное и отрицательное электричество), магнетизме
(северный и южный полюсы магнита), в химии (противоположность щелочей и
кислот). Если Шеллинг рассматривает магнетизм как основной закон природы, Гёте
говорит о таком же соединении противоположностей на основе исследований
химического сродства. Для него «избирательное сродство» является диалектическим
принципом не только телесного, но и духовного и душевного мира.
То же мы наблюдаем в биологии, к которой интерес возрастает по мере того,
как зарождается критическое отношение к механицизму, а тем самым и к механике,
на основе которой он сформировался. Ламетри и Дидро (в «Элементах физиологии» и
других сочинениях) подчёркивали единство биологической организации, сводя его к
наличию общего предка. Дидро предполагает уже изменчивость не только особей, но
и видов животных. «В животном и растительном царстве индивид, так сказать,
возникает, растёт, развивается, приходит в упадок и гибнет, не то же ли
происходит с целыми видами?»[36].
В «Метаморфозе растений» и других сочинениях Гёте выдвигает целый ряд
диалектических идей: идея развития всего растительного царства из
перворастения, идея единства развития, развитие путём противоположностей
(вдыхание и
39
выдыхание – систола и диастола), связи части и целого в организме
(«в живой природе не происходит ничего, что не было бы в связи с целым»). К
этому надо добавить его мысли, которые устанавливают единство структуры
человека и животных, – о межчелюстной кости у человека, о развитии черепа из
позвонков и так далее.
Если в сочинениях Ламетри или Дидро идеи трансформизма имеют ещё характер
догадок и предположений, Гёте создаёт теорию метаморфозы, которая является у
него всеобщей теорией природы. Понятие метаморфозы было тем звеном, которое
соединяло Гёте и Шеллинга, из которого Шеллинг многое взял для своей
натурфилософии и придал ему яркий диалектический характер. «Метаморфозы»,
наконец, подготовили Ламарка и Дарвина. В целом, о Гёте можно сказать словами
Зибека: «То, что преследует Гёте во всех областях – в характере, интеллекте,
разуме, фантазии, практике, морали, – так это проникновение антиномического»[37].
И это относится не только к Гёте. Проникновение антиномического – общая
тенденция всей эпохи и естествознания в частности. Мы привели лишь некоторые
крупные факты из области естественных наук, которые свидетельствуют о развитии
последних по пути диалектики и которые в своей совокупности образуют мощный
поток, вливающийся в реку немецкой диалектической философии.
Развитие естествознания, литературы, языкознания и других наук привело к
накоплению громадного фактического материала, который надо было как-то систематизировать.
Это вызвало появление идеи создания энциклопедии. Почти всех выдающихся
мыслителей конца XVIII – начала XIX в. занимает эта идея. Р.Гайм говорит о
романтиках: «И Гарденберг и Фр.Шлегель помышляли о составлении общего, цельного
обзора всех наук; но намерение Фр.Шлегеля взяться за составление энциклопедии
не осуществилось; за это дело серьёзно взялись более богатый познаниями
А.В.Шлегель и постоянно руководствовавшийся идеей об единстве всех познаний
40
Шеллинг. Их энциклопедические труды, служившие дополнением одни для
других, являются, с исторической точки зрения, предшественниками энциклопедии
Гегеля»[38].
Этому предмету были посвящены лекции Шеллинга «О методе академических занятий»
(лето 1802 г.); летом 1803 г. А.В.Шлегель читал курс лекций об энциклопедии.
Гайм справедливо считает, что труды Шлегеля и Шеллинга дополняли друг друга,
так как энциклопедия Шлегеля была сводом гуманитарных дисциплин. В своих
лекциях он говорит о таких науках, как логика, символика, грамматика, история
немецкого языка, археология (наука о древности), филология, история философии.
Он желает, например, появления такого историка философии, который бы обозрел с
исторической и с философской точек зрения все системы, принимая их за различные
формы одной и той же неделимой и неизменяемой философии[39],
– задача, поставленная Гегелем в его «Лекциях по истории философии».
Эти работы свидетельствуют о той общей тенденции к объединению знаний, о
которой Шеллинг в первой лекции «О методе академических занятий» писал: «И в
науке и в искусстве, по-видимому, всё стремилось сильнее прежнего к единству»[40].
Эти работы были ещё далеко не совершенны, энциклопедии романтиков представляли
скорее сумму, чем систему знаний и напоминают французскую энциклопедию XVIII в.
Но игнорировать их нельзя. Они, во-первых, предоставили материал для
гегелевской «Энциклопедии философских наук». Во-вторых, именно художники,
писатели, естествоиспытатели выдвигают идею синтеза наук и тем самым определяют
одну из главнейших черт немецкой классической философии. Проблема синтеза
становится центральной в философии. У Канта основной трансцендентальный вопрос:
как возможны синтетические суждения a priori?; у Фихте она
выливается в «синтетический метод». Та же тенденция к синтезу пронизывает всё
мышление Шеллинга, который её вполне
41
осознаёт и последовательно проводит в своей системе. Венцом этого
развития является система Гегеля, охватывающая около двадцати наук. Тенденция к
синтезу и систематизации объясняет и такое уникальное явление, как влияние
Спинозы на немецкую философию. Это влияние прослеживается у всех выдающихся
немецких мыслителей, начиная с Г.Э.Лессинга (1729-1781) и заканчивая
Л.Фейербахом (1804-1872), который называл его «Моисеем новейших свободных
мыслителей». Известный спор о спинозизме Лессинга, вызванный опубликованием
книги Ф.Г.Якоби «Письма об учении Спинозы», в которых Якоби утверждал, что
Лессинг был сторонником Спинозы, – этот спор показывает, что таким же
спинозистом был и Гёте – корифей немецкой поэзии. Своё философское кредо
Лессинг высказал в связи с поэмой Гёте «Прометей», которую Якоби принёс
Лессингу: «Точка зрения поэмы является и моей собственной. Не могу больше
приспособляться к ортодоксальным понятиям о божестве; не понимаю их больше.
Одно и целое или всё. Это всё, что я здесь вижу. К этому же стремится и эта
поэма, и должен признать, что она мне очень нравится». На замечание Якоби: –
Тогда, значит, вы согласны и со Спинозой, – Лессинг ответил, что если бы он
искал учителя, лучшего бы не нашёл»[41].
Последователем Спинозы был также Гердер, а по мнению Меринга («Легенда о
Лессинге») – и Лейбниц.
Отчасти непосредственно, отчасти через этих выдающихся людей Германии
Спиноза оказал большое влияние и на философию конца XVIII и начала XIX в.
Особенно велико было его значение для Шеллинга, Гегеля, Фейербаха. Природа у
Шеллинга – та же субстанция Спинозы, но одушевлённая и сверкающая красками.
Если субстанция Спинозы есть метафизически переряженная природа, то у Шеллинга
она переряжена поэтически и диалектически. Ряд своих работ он изложил даже
«геометрическим методом» (аксиомы, теоремы и т. д.). Наконец, Гегель уже в
«Феноменологии духа» в
42
качестве основной задачи философии выдвигает необходимость
соединения (синтеза) субстанции Спинозы и субъекта Фихте. «На мой взгляд,
который должен быть оправдан только изложением самой системы, всё дело в том,
чтобы понять и выразить истинное не как субстанцию только, но равным образом
как субъект», – говорит он в предисловии к «Феноменологии духа»[42].
Положение Лессинга в преобразованном виде мы находим в гегелевском «истинное
есть целое»[43].
В чём причина такого длительного и глубокого влияния Спинозы на Германию?
Во-первых, Спиноза – один из самых ярких, наряду с Декартом и Лейбницем,
рационалистов – представителей разума и мышления. Немецкие же философы из двух
противоположных линий – рационализма и эмпиризма – склонялись, в силу основной
своей тенденции, именно к рационализму.
Во-вторых, Спиноза – пантеист. Развитие естествознания сделало природу у
Гёте, Шеллинга и других самоценной реальностью. Но ни Гёте, ни, ещё раньше,
Лессинг, ни Шеллинг, не признавали материализма. «Мессией природы»,
освободителем её от теологических и идеалистических привесков выступил позже
Фейербах. Предшественники воспринимали природу как тождество мышления и материи
(или протяжения), то есть в духе пантеизма Спинозы.
В-третьих, влияние Спинозы объясняется стремлением эпохи к синтезу,
систематизации, энциклопедии всех накопленных знаний. «Истинное есть целое» –
это не случайное замечание, а одна из основных тенденций развития познания в
эпоху немецкой классической философии, – тенденция, прообразом которой была
система Спинозы.
Рассмотренные философские и просветительские идеи в соединении с
своеобразными условиями Германии XVIII в., её литературой и естествознанием и
были теми основами, на которых развились своеобразные системы немецкой
философии.
43
КАНТ
Естественнонаучные и философские взгляды И.Канта докритического периода
Иммануил Кант родился 22 апреля 1724 г. в Кёнигсберге в семье ремесленника и
воспитывался в духе религиозного благочестия и строгой морали, что, несомненно,
было одним из корней его учения о «практическом разуме». После окончания школы,
где он увлекался языками, Кант в 1740 г. стал студентом Кёнигсбергского
университета. Родители мечтали видеть сына пастором, и он усердно изучал
теологию, но личный интерес его был направлен на проблемы естествознания и
математики, что определило основной предмет занятий в первый период его
развития. По окончании университета, в 1746-1755 гг., Кант работал домашним
учителем, а с 1755 г. стал преподавателем университета, где на протяжении
многих лет читал самые разнообразные предметы (логику, философию, этику,
физическую географию, математику, физику, антропологию и т.д.). До 1770 г. он
был приват-доцентом, занимал должность, которая не оплачивалась, и потому
работал ещё помощником библиотекаря. Лишь в названный год он получил звание
профессора, защитив диссертацию «О форме и принципах мира чувственного и
умопостигаемого». Эта работа делит всю деятельность Канта на два периода –
докритический и критический. В первый период занятия Канта сосредотачиваются
44
на вопросах естествознания и математики, с одной стороны, и логики –
с другой. Критический период – время разработки собственной философской
системы, получившей название «критицизма». Умер Кант 12 февраля 1804 г.
Перейдём к рассмотрению взглядов Канта докритического периода. В это время
он пишет целый ряд произведений, посвящённых естественнонаучным и логическим
проблемам. Первая работа опубликована в 1746 г. и носит название «Мысли об
истинной оценке живых сил». Кант исследовал в ней вопрос о мере количества движения.
Декарт, как известно, предложил считать такой мерой произведение массы на
скорость (mv), Лейбниц – произведение массы на квадрат скорости (mv2).
Декарт и картезианцы исходили из чисто механического движения, причиной
которого является толчок или удар. Лейбниц и лейбницианцы опирались на
существование движущих сил. Кант отмечает, что все философы до Лейбница, за
исключением одного лишь Аристотеля, придерживались мнения, что сила сообщается
всецело извне. Лейбниц «первый учил, что в теле имеется некоторая сущностная
сила...»[44].
Он назвал её действующей силой. Кант, однако, возражает против такой силы,
объясняющей причину движения. Допущение её он сравнивает с «той уловкой,
которой пользуются школьные учителя при исследовании причин тепла или холода,
прибегая для этого к нагревающей силе или охлаждающей силе»[45].
Кант является противником теплородов и других сущностных (субстанциальных) сил.
Он, однако, не отбрасывает целиком таких сил, а связывает их с существованием
свободных движений (например, планет), которые свидетельствуют, что тела теряют
движение вследствие сопротивления, а без последнего сохранили бы своё движение
вечно. Поэтому Кант даёт оригинальное решение спора между сторонниками Лейбница
и Декарта, а именно: внешнее, механическое движение не имеет другой меры, кроме
кар-
45
тезианской (mv). Свободные же движения имеют большую меру (Лейбница)
– mv2. Кант для этого различает математическое (механическое) тело и
тело свободное (естественное). То, что изгоняется из математики, применимо к
природе[46].
Кант стремится, таким образом, найти истинное в обеих точках зрения и тем
устранить спор. «Знание этих двух крайностей, – пишет он, – должно было помочь
мне определить ту точку, в которой совпадает истинное в воззрениях обеих
сторон»[47].
Это, несомненно, самый мудрый способ решения споров. Ибо противники всегда
выхватывают одну сторону дела и доводят её до абсолюта. Задача критики и состоит
в ограничении последнего.
Отметим здесь ещё два пункта. Во-первых, Кант ставит интересный вопрос об
основании трёхмерности пространства, занимавший ещё Аристотеля. Он стремится
найти его в законе действия силы обратно пропорционально квадрату расстояния,
исходя из лейбницевского представления, что протяжённость есть результат
действия тел друг на друга. Но сам этот закон, по Канту, произволен: бог (Кант
– деист) мог бы создать силы, действующими и по другому закону. Тогда возникли
бы пространства с другими свойствами и измерениями. «Наука обо всех этих
возможных видах пространства, несомненно, представляла бы собой высшую
геометрию, какую способен построить конечный ум»[48].
Неспособность человека представить пространство с более чем тремя измерениями
Кант склонен связать также с действием указанного закона. Иной закон
деятельности сил породил бы иную способность представления. Кантовские
«фантазии» воплотились в XIX в. в создании многомерных геометрий, хотя вопрос о
причине трёхмерности «нашего» пространства не решён и до сих пор.
Во-вторых, исследуя причины заблуждений в понимании меры движения, он
приходит к идее некоторого «искусства угадывать и предполагать по предпосылкам,
будет ли
46
определённым образом построенное доказательство и в своих выводах
содержать вполне удовлетворительные и полноценные принципы»[49].
Идея крайне интересная: теория познания исследует в основном понятие истины, но
не заблуждения. Каковы виды заблуждений, каковы закономерности ошибок – эти
вопросы должны привести к созданию особой теории, которая, подобно
математической «теории измерения ошибок», будет облегчать открытие ошибок не
только в математике, но и в других областях познания.
Особенно значительными являются работы Канта, посвящённые «истории природы».
У древних «история» означала не развитие во времени, а ряд событий (этот смысл
отчасти сохранился и сейчас; «истории» – значит происшествия). Это – первичное
значение этого слова. «Естественная история» Плиния Старшего и другие
аналогичные сочинения были рассказом о явлениях природы, часто не связанных
друг с другом. Это была сумма знаний о природе. У Канта понятие «история»
применительно к природе («небу и земле») приобретает современный смысл. Сюда
относятся главным образом три его сочинения: «Исследование вопроса, претерпела
ли Земля в своём вращении вокруг оси, благодаря которому происходит смена дня и
ночи, некоторые изменения со времени своего возникновения» (1754); «Вопрос о
том, стареет ли Земля с физической точки зрения» (1754) и знаменитая «Всеобщая
естественная история и теория неба» (1755), в которой изложена кантовская
космогония.
В первой из названных работ Кант создал теорию приливного трения, суть
которой состоит в следующем: Земля и Луна связаны силой притяжения. Если бы
Земля была однородной, то притяжение Луны не оказывало бы влияния на её
вращение вокруг оси, ибо она действовала бы равномерно на все участки. Однако
Земля покрыта мировым Океаном в значительной своей части, и это тормозит её
движение. Сама Земля
47
вращается с Запада на Восток, Океан же движется с Востока на Запад –
в силу притяжения Луны. Это обнаруживается особенно в проливах, где скорость
течения увеличивается. В направлении лунного притяжения возникает водяной вал;
со стороны Земли, обращённой к Луне, он возникает вследствие большей силы
притяжения (вода как бы «отстаёт» от Земли). Этот вал всё время находится на
оси Луна – Земля и тормозит вследствие трения движение последней. Замедление
вращения Земли будет длиться до тех пор, пока скорость его не будет равна
скорости обращения Луны вокруг Земли. Тогда Земля будет повёрнута к Луне всегда
одной стороной. Этим Кант объясняет и причину того, почему Луну мы видим всегда
с одной стороны.
В заключение Кант формулирует идею «создания естественной истории неба,
которая заключалась бы в том, чтобы определить первичное состояние природы,
образование небесных тел и причины их связей как частей системы по признакам,
которые сами по себе указывают на состояние мироздания. Подобное рассмотрение,
представляющее собой в большом или, вернее, в бесконечно большом масштабе то
же, что описание истории Земли в малом, может быть в таком широком плане столь
же достоверным рассмотрением, как и история нашего земного шара, проследить
которую люди стремились в наши дни»[50].
Эта идея была реализована Кантом в его «Космогонии», изданной в 1755 г.
Истории посвящена и работа Канта о старении Земли. Он сразу же отвергает
субъективный подход к этому вопросу, согласно которому старики всегда считают
Землю во время их молодости лучшей, богатой водой, лесами и т. д. (Сейчас,
впрочем, в «эпоху космических скоростей», за одно поколение может исчезнуть
лес, погибнуть рыба в реке, загрязниться воздух и т. д.)
Есть другой подход: сравнить плодородие Земли в разные исторические периоды
и исследовать, не убывает ли плодородие почвы. «Однако подобное сравнение очень
48
сомнительно или, вернее, невозможно. Человеческое трудолюбие до
такой степени способствует плодородию земли, что вряд ли можно было бы решить,
кто больше всего виноват в одичании и запустении тех стран, которые раньше были
цветущими государствами, а нынче почти совершенно обезлюдели, – нерадивость
государств или убыль населения»[51].
Исследуя различные гипотезы, по которым Земля движется к своей естественной
смерти (она станет пустынной и необитаемой), Кант развивает ряд важнейших
методологических положений. Он указывает, что «старение какого-либо существа в
ходе его изменения не есть определённая стадия, вызванная внешними и
насильственными причинами. Те же причины, по которым какая-нибудь вещь
достигает совершенства и пребывает в таком состоянии, с другой стороны,
постепенно приближает её к гибели незаметными изменениями. То, что она должна в
конце концов прийти в упадок и погибнуть, есть естественная ступень в течении
её существования и следствие тех же причин, которые привели к её образованию.
Все предметы природы подчинены следующему закону: тот же механизм, который
вначале работал над их совершенствованием, продолжая менять вещь и после того,
как она достигла своего совершенства, постепенно лишает её благоприятных
условий и в конце концов незаметно доводит её до полной гибели...»[52].
В этом «законе Канта» сформулирован важнейший принцип диалектики – принцип
имманентного, внутреннего развития вещей. Особенно всё живое – яркий пример
этого: соки питают сосуды и волокна и после того, как они перестают утолщаться,
соли отлагаются на стенках, закупоривают сосуды, – и организм гибнет.
Применяя свой закон к истории Земли, Кант набрасывает крупным планом картину
постепенного развития Земли из хаоса, через жидкое состояние до настоящего
положения вещей. Под затвердевшей корой находились огонь, пары и т. д., кото-
49
рые создали путём поднятия и опускания суши благоприятное для жизни
сочетание низменностей и возвышенностей. Кант видит теперь обратный процесс:
возвышенности вымываются, земля постепенно выравнивается и становится или
бесплодным камнем, или топью. Достойно внимания то, что Кант, допуская в
развитии Земли действие естественных причин, стоит на позициях стихийного
материализма и отвергает гипотезу, согласно которой старение Земли происходит
вследствие истощения «мирового духа».
Отвлекаясь от естественнонаучного содержания развития Земли, остаётся
основная мысль: Земля переживает историю, начиная от хаоса и заканчивая
пустыней. Эта идея вошла в последующее естествознание. Эти две работы,
касавшиеся частных вопросов развития действительности, были прелюдией к работе,
в которой идея развития была распространена на весь мир, – «Всеобщей
естественной истории и теории неба» (в конце «Исследования...» 1754 г. он назвал
её «Космогонией»...).
Первая космогония Нового времени под названием «теории вихрей» принадлежала
Р.Декарту (изложена в «Трактате о мире»). Но она не была принята учёными, так
как не давала объяснения основных свойств Солнечной системы (одинакового направления
движения планет, движения их всех почти в одной плоскости, плоскости эклиптики,
уменьшения плотности вещества с увеличением расстояния от солнца, увеличения
размеров планет в связи с тем же расстоянием, эксцентриситета планетных орбит и
т. д.). Кроме того, опасаясь преследований со стороны «святых отцов», Декарт
рассматривал её не как картину самого мира, а как гипотезу, метод его
объяснения, потому что, оправдывался Декарт, легче понять предмет, если
исследовать его, как если бы он постепенно развился, хотя такого развития и не
было. То есть сам автор рассматривал свою космогонию как фикцию (als ob). Кант,
напротив, дал для своего времени удовлетворительное объяснение указанных
свойств планетных систем, ибо в его руках была уже вся механика, созданная
Гюйгенсом, Ньютоном, Лейбницем и другими учёными. Работа Канта прошла, правда,
незамеченной, ибо не поступила на книжный
50
рынок ввиду банкротства издателя, и сохранилось немного её
экземпляров, доступных далеко не всем. Но когда в конце века Лаплас развил те
же идеи в математической форме, вспомнили и о книге Канта, и данная небулярная
гипотеза носит ныне название «канто-лапласовской гипотезы».
Далее, Кант был материалистом деистического толка и, стремясь объяснить мир
движением самой материи, старался в то же время согласовать своё учение с
существованием Бога. Это совмещение и есть деизм, а именно, если ортодоксальные
теологии или вольфианцы видели во всякой закономерности и целесообразности мира
доказательство вмешательства творца в ход природы, так что Бог, скажем, создал
горы, реки и тому подобное для блага человека, то Кант считает, что все эти
блага природы могут быть выведены из её всеобщих свойств и законов, но
последние – результат творения Бога. Мы сталкиваемся здесь с любопытной закономерностью
в истории познания: пока знания окружающих вещей ничтожны, действие чуть ли не
каждой вещи приписывается Богу. Но по мере открытия общих законов появляется
возможность вывести частное из общего. Из частного уходит Бог, оттесняется всё
дальше ко всё более общим и абстрактным свойствам и законам – вытесняется на
периферию мира, к «началу» его творения. Это и есть деизм, который,
следовательно, есть необходимая ступень познания действительности.
Замечательно, что Кант сближает своё учение с учениями Лукреция, Эпикура,
Левкиппа и Демокрита. И у них, и у него есть а) первичное рассеянное вещество
(атомы); б) Эпикур предполагал существование такого явления, как тяжесть,
заставлял падать атомы. Кант тоже вводит притяжение как одну из основных сил
первичной материи; в) Эпикур приписывал атомам самопроизвольное отклонение от
прямолинейного пути, «хотя о причинах и ходе этого отклонения у него были
нелепые представления»[53].
Кант для этого вводит отталкива-
51
тельную силу (о природе которой, скажем мы, так же мало известно,
как об эпикуровском отклонении); г) наконец, у названных философов и у Канта из
беспорядочного движения частиц возникают вихри.
Тем не менее Кант отмежёвывается от их описаний возникновения мира. Главный
их недостаток он видит в том, что «названные выше сторонники учения о
механическом происхождении мироздания выводили всякий наблюдаемый в нём порядок
из слепого случая», даже живое пытались вывести из случайных столкновений
атомов. «Я считаю, наоборот, что материя подчинена некоторым необходимым
законам»[54].
Таковы всемирный закон тяготения Ньютона, законы Кеплера. Именно наличие таких
законов, по мнению Канта, и ведёт к тому, что материя, будучи предоставлена
свободному действию, необходимо должна давать прекрасные сочетания, стремиться
к совершенствованию.
Несомненно, это коренное отличие Канта от Эпикура. В нём резюмируется
развитие науки почти за две тысячи лет, главным образом создание науки
механики.
Но Кант ясно видит уже в этом сочинении границы механического объяснения
действительности. Если относительно мироздания в целом можно без особой
кичливости сказать: дайте мне материю и я построю из неё мир, то есть объясню,
как мир из неё возникает, то совершенно иначе с живыми существами. Можно ли
похвастаться тем же успехом, когда речь идёт о ничтожнейших растениях или
насекомых? «Можно ли сказать: дайте мне материю, и я покажу вам, как можно
создать гусеницу? Не споткнёмся ли мы здесь с первого же шага, поскольку
неизвестны внутренние свойства объекта и поскольку заключающееся в нём
многообразие столь сложно? Поэтому пусть не покажется странным, если я позволю
себе сказать, что легче понять образование всех небесных тел и причину их
движения, короче говоря, происхождение всего
52
современного устройства мироздания, чем точно выяснить на основании
механики возникновение одной только былинки или гусеницы?»[55].
Здесь в зародыше дана уже вся критика телеологической способности суждения,
опубликованная Кантом в 1790 г. Ту же идею о границах механицизма мы ещё
встретим при анализе других сочинений Канта.
Основные черты космогонии Канта таковы: Бог создал первичную материю и
вложил в неё общие свойства, две силы – притяжения и отталкивания. Первая из
них действует по закону Ньютона, обратно пропорционально квадрату расстояния
между телами. Могущество Бога бесконечно, и мир бесконечен в пространстве, и по
всему пространству рассеяно первичное вещество. Творение также бесконечно во
времени, но «порядок и строение миров развиваются постепенно, в некоторой
последовательности во времени из запаса сотворённого природного вещества; но
сама эта основная материя, свойства и силы которой служат причиной всех
изменений, есть непосредственное следствие божественного бытия; следовательно,
она сразу должна быть настолько богатой и полной, чтобы развитие её сочетаний
могло вечно происходить по одному плану, ... по бесконечному плану...»[56].
Развитие начинается от некоторого центра, где вещество наиболее плотно, и
отсюда распространяется всё дальше и дальше без конца. Сотворение мира – дело
не одного мгновения. «Творение никогда не кончается. Оно, правда, имеет начало,
– оговаривает он, оглядываясь на теологию, – но оно никогда не прекратится»[57].
Кант не входит в рассмотрение, хотя и видит трудность, известную уже Паскалю:
«в бесконечном пространстве ни одна точка, собственно говоря, не имеет больше
права называться центром, чем любая другая»[58].
53
По закону тяготения более тяжелые частицы притягивают более лёгкие и
образуют центр притяжения. С наибольшей силой стремятся тяжелые частицы,
поэтому планеты, более близкие к Солнцу, имеют большую плотность, с увеличением
расстояния – меньшую.
Постепенно более далёкие частицы под влиянием силы притяжения и взаимного
столкновения начинают обращаться вокруг центра, они сталкиваются до тех пор,
пока не получается общей результирующей движения – отсюда вращение планет в
одном направлении и в одной плоскости.
Также на разных расстояниях от Солнца получаются меньшие скопления частиц –
будущие планеты. Чем дальше такое скопление от Солнца, тем больше может оно
притянуть к себе частицу; вблизи, вследствие мощного притяжения светила, они
падают на него. Поэтому планеты увеличиваются в размерах по мере удаления от
Солнца. Эксцентриситет орбит Кант объясняет так: сначала все частицы вращаются
по кругам вокруг Солнца. Затем они друг к другу притягиваются. У них разные
скорости, и равнодействующая не оказывается равной кругу (слишком мала
вероятность этого) – отсюда эллипс. Так Кант, следуя за механическим развитием
планетной системы, объясняет все основные её свойства. В результате длительной
истории формируется Солнце с системой планет. В неё входят подсистемы, например,
Юпитер и Сатурн со спутниками. С другой стороны, Солнечная система входит в ещё
более обширную систему – Млечный путь. Все звёздные туманности – тоже такие
млечные пути – системы миллионов солнц. Эти системы второго порядка образуют
ещё более грандиозную систему, – и так далее до бесконечности. Вся безграничная
Вселенная есть последовательное вхождение низших систем в высшие, есть
бесконечная иерархия систем[59].
Осуществляется «последовательное развёртывание Вселенной в бесконечности
времени и пространств благодаря непрестанному образованию новых миров»[60].
54
Кант, далее, ставит вопрос о гибели мироздания, ибо ничто, считает он, не
вечно. В то время как на бесконечном расстоянии возникают молодые миры, старые
потухают и гибнут. Но затем они снова возрождаются: в силу притяжения на
центральное потухшее тело падают планеты; увеличение массы ведёт к разогреванию
Солнца и рассеиванию вещества (перевес берет отталкивание) – и всё начинается
сначала. Таков круговорот материи, которому есть начало, но нет конца.
Близка к этой гипотезе И.Канта космогония И.Г.Ламберта, изложенная в его
сочинении «Космологические письма об устройстве мироздания» (1761). Само
устройство и его генезис в основном совпадают с кантовскими.
Опуская детали, которые со временем не могут не уточняться, нельзя не
признать, что и сейчас космогония Канта поражает грандиозностью замысла. Её
главная мысль лежит в основании многих современных космогонических гипотез
О.Ю.Шмидта, В.С.Фесенкова и др.
Но историческое значение этой и других работ Канта не только специально
научное, но и мировоззренческое. Ими он внёс идею развития, эволюции в
объяснение мира как целого, и тем самым подготовил разработку диалектических
закономерностей философии природы у Шеллинга и Гегеля. Философско-научные опыты
Канта повлияли и на его собственное дальнейшее развитие: в критический период
проблему познания он решал именно на материале естествознания. Наконец,
изучение большого естественнонаучного материала открыло перед Кантом
ограниченность логических средств познания, существовавших в его время.
Формальная логика в столкновении с диалектической природой математики и
зачатками диалектики в физике, химии и других науках оказывалась бессильной как
инструмент исследования. Постепенно у Канта наметилась тенденция – найти новый
органон науки, что привело к созданию «трансцендентальной логики».
Раздвоение логики и действительности впервые с большой чёткостью исследовано
Кантом в работе 1755 г. «Новое освещение первых принципов метафизического
познания». Здесь он
55
анализирует законы противоречия и определяющего основания. Причём
указанное раздвоение проводится им только по отношению ко второму закону.
Различие логического и реального противоречия впервые раскрыто им в сочинении
1763 г. «Опыт введения в философию понятия отрицательных величин».
Относительно первого закона Кант доказывает, что нет одного единственного,
безусловно первого и всеобъемлющего принципа для всех истин. Так как положения
(суждения) разделяются на утвердительные и отрицательные, то и соответствующих
им принципов – два. Утвердительные суждения основываются на положении: «всё,
что есть, есть»; отрицательные – «всё, что не есть, не есть». Взятые вместе,
оба принципа называются принципом тождества.
Как ни далека эта работа Канта от «Основ общего наукоучения» Фихте (1794),
логически в ней предвосхищены первые два основоположения наукоучения. Как и
Кант, Фихте считал, что из утверждения нельзя вывести отрицания, и потому
помимо абсолютно безусловного тезиса «Я есть Я» (А есть А), ввёл относительно
безусловный антитезис «Я есть не-Я». Это положение, по его идее, абсолютно по
форме (формой здесь служит отрицание – не) и обусловлено по содержанию (Я –
содержание и в первом основоположении).
Далее, Кант устанавливает связь тождества и формально-логического
противоречия. Он считает, что первоначальным является именно тождество. Принцип
противоречия гласит: «Невозможно, чтобы одно и то же одновременно было и не
было». Это не что иное, как дефиниция невозможного, ибо всё, что противоречит
себе, то есть всё то, что в одно и то же время мыслится и как сущее, и как
не-сущее, называется невозможным. Однако свести все истины к этой дефиниции как
к пробному камню нельзя. «В самом деле, нет никакой необходимости обосновывать
каждую истину невозможностью противоположного ей, и, говоря откровенно, само по
себе недостаточно»[61].
Для того,
56
чтобы перейти от невозможности к бытию, нужно использовать принцип:
истинно всё то, противоположное чему ложно. Это Кант и называет собственно
противоречием. Но оно оказывается замаскированным тождеством: в простейшем виде
оно гласит: всё, что не не есть, есть. Последний принцип Кант и считает высшим
принципом для всех истин. Ибо истина есть утверждение или отрицание и потому
подчиняется закону тождества в двоякой форме.
Установленный Кантом факт очень правилен и диалектичен по существу. Позже в
«Науке логики» Гегель также рассматривал противоречие как другое выражение для
начала тождества.
Другой закон тождества Кант называет принципом определяющего основания. Под
определением он понимает полагание предмета с исключением противоположного ему.
То, что определяет субъект по отношению к предикату, называется основанием.
Этот закон имел уже определённую историю. Ещё Аристотель о познании начал
высказал такую мысль: «Естественный путь к этому ведёт от более понятного и
явного для нас к более явному и понятному по природе... Поэтому необходимо
продвигаться именно таким образом: от менее явного по природе, а для нас более
явного, к более явному и понятному по природе»[62].
Явное для нас – внешняя сторона вещей, явление, а более понятное по природе –
сущность. Познание идёт от явления к сущности, а в самой действительности,
напротив, сущность определяет явления.
Кант, по-видимому, не знал этой «проблемы Аристотеля». Непосредственно он
отталкивался от сочинения Крузия «Исследование о применении и о границах
принципа определяющего основания, обычно называемого принципом достаточного
основания» (1743). Вслед за Крузием Кант вводит два вида основания:
предшествующе-определяющее и последующе-определяющее: «Первое основание можно
назвать также осно-
57
ванием «почему», или основанием бытия или становления, второе
основание – основанием «что», или основанием познания»[63].
Таким образом, вместо единого лейбнице-вольфовского закона достаточного
основания вводится два принципа: один объясняет становление вещей, другой –
процесс познания. Данное разграничение Кант поясняет примером затмения
спутников Юпитера. Это явление даёт основание познания скорости света (именно
по нему О.Ремер определил скорость света). «Но это основание, – пишет Кант, –
лишь последующим образом определяет данную истину, ибо если бы даже вовсе не
существовало никаких спутников Юпитера и их затмений, то свет всё равно
распространялся бы в определённое время, хотя, быть может, мы и не могли
познать этого»[64].
Сами явления затмения спутников Юпитера предполагают определённое реальное основание
скорости света.
Сочинение Канта – одна из крупных вех развития его основной идеи о
принципиальном различии мышления и бытия – идеи, завершением которой был
кантовский агностицизм. Тогда принцип причинности станет априорным и оторванным
от мира.
Пока же Кант из этого принципа делает ряд выводов: он отрицает свободу воли
как беспричинность; показывает, что предвидение будущего невозможно без
определяющего основания; основывает закон, что в следствии нет ничего сверх
того, что есть в основании, откуда выводит, что естественным путём количество
реальности не увеличивается и не уменьшается; опровергает распространённое
тогда положение, что малые причины рождают великие события, справедливо
указывая, что такого рода причины (например, искра) не порождают силы (пороха),
а обнаруживают её, то есть, как более ясно указал Гегель, это не причины, а
поводы; опровергает закон различия Лейбница (в мире нет двух
58
одинаковых вещей), считая, вопреки ему, что могут быть абсолютно
тождественные вещи, занимающие разные места (например, кристаллы)[65].
Наконец, надо отметить, что Канта рассмотренные им принципы логики не
удовлетворяют как способы познания, и он выводит из закона основания два новых
принципа философского познания. Один из них, «принцип последовательности»,
гласит: изменение субстанций происходит благодаря их воздействию друг на друга[66].
Если устранить связь, исчезает движение, последовательность перемен, время.
Кант, как видим, рассматривает время не как субстанцию (по Ньютону), а как
свойство изменяющихся тел. Отсюда же он делает и тот важный вывод, что душевные
изменения есть доказательство существования внешних вещей и наших тел, то есть
обосновывает материализм, хотя и открещивается от «пагубных взглядов
материалистов»[67].
Этим Кант опровергает и предустановленную гармонию Лейбница, ведь без реальной
связи с телами душа не могла бы изменяться.
Второй – «принцип существования» имеет идеалистический смысл: общение
субстанций происходит в силу «единого источника» – Бога и его разума[68].
Впоследствии Кант даст ему более научное толкование. Оба эти принципа мы
встречаем затем среди «аналогий опыта» в «Критике чистого разума».
Как анализ противоречия и основания, так и выдвинутые им новые принципы
познания свидетельствуют о том, что его не удовлетворяла традиционная логика;
Кант искал новые логические средства познания.
Эти поиски продолжаются в «Опыте введения в философию понятия отрицательных
величин» (1763). Кант в этой статье желает применить некоторые положения
математики к анализу философии. Такое использование он считает плодо-
59
творным и отличает его от подражания математическому методу, которое
не принесло пользы. Идея, развиваемая Кантом, состоит в утверждении, что
«отрицательные величины не представляют собой отрицания величин..., но сами по
себе суть нечто в подлинном смысле слова положительное и только противоположное
чему-то другому. В этом смысле отрицательное притяжение не есть покой, как он
[Крузий] это понимает, но подлинное отталкивание»[69].
Кант здесь развивает основную идею диалектики – о положительности
отрицательного, правда, не в чисто логической (всеобщей) форме, а на её
примерах из разных областей действительности. Он вводит два вида
противоположения. «Одно противоположно другому, если это одно упраздняет как
раз то, что полагается другим. Это противоположение может быть двояким: или
логическим, через противоречие, или реальным, то есть без противоречия.
Противоположность первого рода, именно логическая, есть та, на которую до сих
пор единственно и всецело было обращено внимание исследователей. Она состоит в
том, что относительно одной и той же вещи нечто одновременно и утверждается и
отрицается. Следствием такого логического соединения является совершенное
ничто, как об этом гласит закон противоречия»[70].
Так, тело, находящееся в движении, есть нечто; тело, которое не движется, тоже
есть нечто. Но тело, которое и находилось и не находилось бы в движении в одно
и то же время, в том же самом смысле, есть ничто.
Реальная противоположность состоит в том, что два предиката одной и той же
вещи противоположны, но не по закону противоречия. Одно и здесь упраздняет
другое. Но следствием является не ничто, а нечто. Так, результат двух равных
противоположных движений есть покой. Кант называет результат логического
отрицания абсолютным ничто, а результат реального отрицания – относительным
ничто. Он дает
60
блестящий анализ отрицательных величин в математике, и его полезно
усвоить, чтобы лучше понимать раздел в «Науке логики» Гегеля, посвященный
понятию противоположности, а также примечание о противоположных величинах
арифметики.
Кант устанавливает такие свойства отрицания. Противоположность величин
всегда взаимна, одна из них упраздняет другую, но вследствие этого те величины,
перед которыми стоит «+», не отличаются от тех, перед которыми стоит «-».
Величины с «-» имеют его только как знак противоположности, именно поскольку
они берутся вместе с теми, которые имеют «+». Если же они соединяются с
величинами, имеющими также знак «-», то все эти величины суммируются, то есть
«-» будет означать знак суммы, то есть «+». Поэтому сам по себе «-» не есть
знак вычитания, но только вместе «+» и «-» дают такой знак. -4-5 = -9 есть не
вычитание, а сложение.
То же касается знака «+». Он есть знак сложения, если соединяется с другим
таким же знаком. «Но если величина с «+» должна быть соединена с другой
величиной, перед которой стоит «-», то это не может произойти иначе, как через
противопоставление, и тогда знак «+», как и знак «-», одинаково обозначают
вычитание, именно, что одна величина исключает из другой как раз столько,
сколько в этой другой есть ей равного, как, например, -9 + 4 = -5»[71].
«Поэтому никакую величину нельзя назвать безусловно отрицательной, но следует
сказать, что «+а» и «-а» представляет собой каждая отрицательную величину по
отношению к другой»[72].
Отрицание указывает не на особый род вещей, а на отношение противоположности .
Противоположность, которая здесь имеется, реальная, а не логическая. Нет
никакого противоречия в том, чтобы одно лицо в одно время имело +8 капитала и
-8 долга, хотя одно исключает другое. Долг есть отрицательный капитал. Такое
61
отрицание положительно, ибо, будь оно = 0, мы бы имели +8+0=8, то
есть лицо, несмотря на долг, имело бы тот же капитал. Долги не есть только
отрицания, или отсутствие капиталов.
Кант даёт определение: «Реальная противоположность имеет место лишь в том
случае, если две вещи в качестве положительных оснований исключают последствия
друг друга»[73].
Его основные свойства таковы. Во-первых, противоречащие определения должны
принадлежать • одному субъекту, потому что если они в разных субъектах, то
никакого реального противоположения не будет. Во-вторых, одно определение не
есть противоречащая противоположность другого, ибо иначе мы имеем логическое
отрицание. В-третьих, определение не может отрицать ничего другого, кроме того,
что утверждается другим определением, иначе не было бы противоположения.
В-четвёртых, оба определения не могут быть отрицательными (в силу п. 3). Оба
положительны, но при этом соединении отрицают следствия друг друга.
Здесь дано очень точное и глубокое описание диалектического противоречия,
как мы его теперь называем.
Во втором отделе работы Кант приводит примеры из философии, заключающие в
себе понятие отрицательных величин. Притяжение и отталкивание, свет и тьма,
удовольствие и неудовольствие (неудовольствие не есть только некоторый
недостаток удовольствия, но и некоторое положительное ощущение), отвращение и
вожделение, ненависть и любовь, безобразие и красота, порицание и похвала,
порок и добродетель, запрещение и повеление, наказание и награды, холод и
тепло, полюсы магнита, положительное и отрицательное электричество – все эти
явления могут быть плодотворно исследованы, по Канту, только применением
понятия отрицательных величин[74].
Кант старается из установленного им понятия вывести
62
космические принципы. Таковы положения: 1. Во всех естественных
изменениях мира сумма положительного не увеличивается и не уменьшается,
поскольку она получается в результате того, что согласующиеся между собой (не
противоположные друг другу) начала складываются, а реально противоположные
начала вычитаются друг из друга. 2. Все реальные основания вселенной, если
сложить те, которые согласуются между собой, и исключить те, которые
противоположны друг другу, дают результат, равный нулю. 3. Таким же обобщением
идеи Канта является положение, что «именно в ... конфликте противоположных
реальных оснований и состоит как раз совершенство мира, равно как и правильное
течение материальной стороны его поддерживается только борьбою этих сил[75].
Кант вполне сознательно рассматривает свой принцип реальной противоположности
как общее свойство мира.
«Опыт» Канта ценен во многих отношениях. Он свидетельствует о плодотворном
влиянии на философию математических понятий, влияние, которое есть также в
учении Н.Кузанского или Дж.Бруно. Кант впервые в истории мысли вполне
сознательно развил учение о положительности отрицательного, то есть о сущности
диалектики. Различение двух противоположностей показывало Канту недостаточность
традиционной логики и требовало создания новой. Работа есть важная веха на пути
к критицизму: Кант резко обособляет логическое и реальное; в результате это
выльется в априоризм и агностицизм.
Кант, постоянно занимавшийся исследованием естественнонаучных проблем и
потому признававший опыт как основу всякого познания, негативно относился ко
всякого рода мистике. Ярким выражением этого является его отношение к
Э.Сведенборгу (1688-1772), физику, который на 57-м году вообразил себя
духовидцем, который может общаться с душами умерших. Главная идея его фантазий
состояла в признании несамостоятельности наблюдаемого нами, то есть материаль-
63
ного мира, за которым у него скрывался мир духовный, открытый только
для избранных Богом. Откровения Сведенборга, как и вообще измышления такого
рода, нашли немало приверженцев. Многие из них обращались к Канту с просьбой
высказаться по этому вопросу. Философ, уступая их просьбам, ознакомился с
предметом, запрашивал самого духовидца по ряду вопросов, но тот уклонился от
ответа, ссылаясь на книгу, в которой всё будет разъяснено. Результатом было
сочинение Канта «Грёзы духовидца, поясненные грёзами метафизика» (конец 1765
г.) и ряд писем (например, к Ш. фон Кноблюх от 10.VIII.1763 г. и М.Мендельсону
от 8.IV.1766 г.).
По мнению Канта, всевозможные басни о духах составляют немалую часть нашего
познания. Люди слышат их от нянек, знакомых, в результате повторения привыкают
к ним и принимают за нечто действительное. Вся работа Канта направлена против
этих сказок. Он считает немыслимым не только существование духов вне тел, но и
их отдельное бытие в теле, вроде некоего паука, при помощи паутины приводящего в
движение весь организм. Чувствительность есть общее свойство тела. «Я есмь
также непосредственно в кончике пальца, как и в голове»[76].
Духи принимаются как действительные без исследования, без критики, и потому
«ссылка на нематериальные начала есть убежище ленивой философии»[77].
Даже если признать существование и влияние бестелесных существ, никогда нельзя
будет постигнуть, каким образом оно происходит и как далеко оно простирается.
Кант не отрицал того, что в разного рода ясновидениях много шарлатанства. Но
он не старается свести всё к обману. Как и происхождение религии, веру в духов
нельзя объяснить одним сознательным обманом. Поэтому он исследует, «как
возможен этот обман»[78]
(самообман). О Сведенборге он писал:
64
«Его рассказы и самая компоновка их, по-видимому, действительно,
возникли из какого-то фантастического созерцания и почти исключают возможность
заподозрить, что спекулятивные бредовые фантазии извращённого ума побудили его
сочинить их с целью обмана»[79].
При восприятии внешних вещей фокус, в котором сходятся линии, по которым
воспринимается предмет, воспринимается нами вне нас, при осознании предметов
воображения – внутри нас. Это различие исчезает при душевном расстройстве, а
особенно при помешательстве. «Сбившийся с толку человек принимает предметы
своего воображения за нечто внешнее, за предметы, которые действительно
находятся перед ним»[80].
Это и есть душевное расстройство или помешательство. При этом не все органы
могут быть одинаково расстроены. «Равным образом, – пишет Кант, – не
удивительно, что эти химеры появляются и внезапно исчезают или же, обманывая
одно чувство, например, зрение, оказываются неощутимыми для других, например,
для осязания, и потому кажутся проницаемыми»[81].
(Духи всегда считались, в отличие от непроницаемой материи, проницаемыми,
бесплотными.) Такова первая и главнейшая причина рассматриваемых фантазий. Кант
уделяет её изучению большое значение, потому что, по его мнению, болезнь
фантаста – «не в повреждении рассудка, а в обмане чувств»[82].
Никакой рассудок не убедит чувство, ибо чувственное ощущение предшествует всем
доводам разума. Излечить разумом этих «кандидатов больницы» нельзя.
Но одного расстройства органов было бы мало для их возникновения. Человек,
свободный от предрассудков, даже заболев, не впал бы в духовидение; вторая
причина его – воспитание, которое доставляет для обманчивых образов обильный
65
материал, заполняет сознание человека с детства понятиями о духах.
Наконец, Кант указывает и на практический интерес, вызывающий к жизни
духовидение. Он называет его даже «главной причиной» доверия к россказням
фантастов. Все «они имеют заметный вес лишь на чашке надежды (на будущее в
загробной жизни), в умозрении же оказываются лишёнными всякой основы»[83].
Получается, следовательно, что главный корень суеверия – не умозрение, а
надежда, практический мотив действия.
Итак, расстройство чувств, воспитание, практический интерес – таковы три
корня, основания обмана и самообмана в отношении «духов». Несомненно, Кантом
указаны главные причины возникновения суеверий, вплоть до глубокого положения о
главенстве практического интереса.
Каково отношение метафизики к «грёзам духовидца»? Кант очень тонко
анализирует этот вопрос. Он показывает, как, исходя из некоторого факта,
скажем, отличия нашей души от тела, путем незаметных сдвигов можно дойти до бытия
духов. И метафизики, строя из чистого разума системы, на деле идут на поводу у
суеверия. Они различают знание априорное и апостериорное. Метафизик создаёт
чисто умственную конструкцию, в конце которой с удивлением замечаешь, что она
пришла к «опыту», к тому, что хотели обосновать. Метафизик действует как
эпикуровский атом – движется не по прямой линии связных логических выводов, «но
с незаметным уклоном своих доказательств таким образом, чтобы они незаметно
привели к цели известных опытов и свидетельств. Таким образом разум должен был
попасть туда, где простодушный ученик меньше всего ждал его, а именно он должен
был доказать то, о чем уже раньше было известно, что оно должно быть доказано.
Этот путь они назвали априорным, хотя он проведен по незаметно расставленным
вехам по
66
направлению к известному пункту апостериорно...»[84].
Так же конструируются априорные системы для объяснения («выведения») и
свидетельств и «опытов» вроде сведенборговских.
В этих суждениях Кант вскрыл механизм («уклонение») так называемой
«объясняющей формы познания», когда падение камня объясняется силой падения и
т. п. Кант прав, что без таких уклонений, на пути строго логическом, априорная
система никогда не пересечётся с опытом, как две параллельные линии. Сам он
твёрдо придерживается опыта, беспощадно клеймит метафизику, смотрит на неё с
презрением, считает её метод совершенно превратным, способным до бесконечности
умножать заблуждения и ошибки. «Метафизика, – пишет он М.Мендельсону, – мнимая
наука»[85].
Кант, правда, не отбрасывает её вообще. Он и в «Грёзах» видит в ней двоякую
пользу: она, во-первых, стремится решить задачи, которые ставит дух
исследования, хотя результат здесь часто обманывает надежду. Вторая польза – «она
следит за тем, чтобы задача исходила из области, доступной знанию, и
устанавливает отношение данного вопроса к опытным понятиям, на которых всегда
должны быть основаны все наши суждения. В этом смысле метафизика есть наука о
границах человеческого разума...»[86].
Эта граница – опыт. Нужно знать невозможное для ума. Кант считает, что вопросы
о духовной природе, о свободе и предопределении, о будущей жизни и т.п. лежат
вне сферы человеческого кругозора. Он не отрицает их бытия, он утверждает, что
познать их нельзя, ибо они не есть предмет опыта. Все понятия, взятые не из
опыта, «совершенно произвольны и не могут быть ни доказаны, ни опровергнуты»[87].
Поэтому во всей
67
работе Канта, помимо осмеяния суеверия, проходит и второй мотив –
агностический – мы ничего не можем знать о духах, «человеческий разум, –
говорит он, – и не наделён такими крыльями, которые могли бы дать ему
возможность пробиться сквозь высокие облака, скрывающие от наших глаз тайны иного
мира»[88].
Правда, тем любознательным, кто хочет о нём что-либо знать, Кант даёт
иронический совет терпеливо дожидаться, пока они не попадут туда. А всё
сочинение он заканчивает словами вольтеровского Кандида: будем заботиться о
нашем счастье, пойдёмте-ка лучше работать в нашем саду. И всё же Кант не даёт
окончательного решения вопроса, он, наоборот, в известной мере признаёт себя
бессильным дать его, объявляя существование духов непознаваемым. Это говорит,
что уже в 1765 г., в год издания «Грёз», Кант стал на позиции агностицизма.
Впоследствии его критическая позиция, питавшаяся естественнонаучным сенсуализмом,
была им ослаблена ещё больше: он признал существование души – правда, не из
умозрительных соображений, а из требований «практического разума». В письме к
Ш. фон Кноблох он пишет, что относительно веры в чудесное он всегда старался
следовать указаниям здравого смысла, «склоняясь всегда в сторону отрицания»[89].
В письме М.Мендельсону он находит наиболее целесообразным снять догматическое
одеяние метафизика, «подвергнуть мнимые знания метафизики скептическому
рассмотрению, польза чего, правда, лишь негативна, но подготовляет нас к
позитивной. Простота здравого, но не направленного рассудка нуждается для
достижения знания лишь в органоне, мнимое же знание извращённого ума – в
катарактиконе»[90].
Позже последний он назовёт «критикой чистого разума». Все эти исследования
Канта обнаруживают большую противоречивость в его взглядах. Как
естествоиспытатель он сторонник науки, опыта, сенсуализма. Но в то же время и
религия
68
им не отвергается. В логических работах он развивает идею
противоположности мышления и бытия, которая ведет в конечном счете к
агностицизму, просматривающемуся уже в критике Сведенборга и других сочинениях
первого периода.
Все это постепенно подвело к диссертации 1770 г. «О форме и принципах
чувственного и умопостигаемого мира», в которой обстоятельно изложена исходная
идея «критицизма» – учение о субъективности пространства и времени, откуда как
следствие вытекает деление мира на явления и вещи в себе – деление, на котором
стоит вся философская система Канта.
«Критика чистого разума» в самых обших чертах
Это основное произведение Канта: в нем он изложил свою теорию познания и
диалектику. Основное оно потому, что, начиная с Бэкона и Р.Декарта, главным
предметом философствования становится научное познание и способы, методы его
получения. Познание оформилось в виде трех проблемных областей: математики,
естествознания, метафизики (философии).
Прогресс разума в первую очередь вызывал вопрос об источниках познания. В
ответе на этот вопрос философы разделились на два лагеря: сенсуалистов и
рационалистов. Первые считали источниками знания ощущения и восприятия, которые
дают и чувственные данные и вскрывают связи между ними. Само мышление
понималось как некоторое общее чувство (например, К.А.Гельвеций, Д.Дидро).
Такое знание получило название апостериорного, опытного. Рационалисты, не
отвергая чувственного познания (ибо оно очевидно), считали, однако, что оно не
является всеобщим и необходимым, а это-то и существенно для научного знания. Потому
они полагали, что источник знаний – мышление, независимо от чувственных данных
порождающее основные логические, математические и естественнонаучные понятия и
структуры, не говоря уже о метафизике. Такие знания назывались врожденными или
априорными, доопытними.
69
Разделение знания на два указанных вида определялось отчасти различием
материалистического и идеалистического его истолкования (такое истолкование
есть факт), но в еще большей степени – удельным весом теоретического мышления.
В описательном естествознании оно невелико, в теоретическом, или чистом,
естествознании играет решающую роль, хотя и чувственные данные наличны как
исходный материал. В чистой математике оно еще больше, по крайней мере в Новое
время: в истории математики эмпирическая стадия развития находится в глубокой
древности, когда геометрия возникла из землемерия, арифметика, по выражению
К.Гаусса, – царица наук, из практического счета и т.д. Также и древние
философские учения ориентировались на чувственные данные (вода – у Фалеса, огонь
– у Гераклита, воздух – у Анаксимена и т. п.), но постепенно они становились
все более рационализированными и стали ко времени Канта способом постижения из
одних понятий. Так возникла метафизика с основными ее частями: рациональной
космологией, рациональной психологией и рациональной теологией. В XVIII в. шла
напряженная борьба между философией, которая старалась постичь мир с помощью
научных, в том числе и эмпирических, данных, и метафизикой. Кант понимает под
последней «совершенно изолированное спекулятивное познание разумом, которая
целиком возвышается над знанием из опыта, а именно познание посредством одних
лишь понятий»[91].
Второй вопрос, связанный с быстрым развитием познания, состоит в том, как
возникает новое знание? Дело в том, что элементарной формой знания является
суждение; суждения же разделяются на аналитические и синтетические. Признак
аналитических состоит в том, что предикат заключен более или менее явно в
субъекте. Например, суждение «все тела протяженны» – аналитическое, ибо «тело»
немыслимо без протяжения, и предикат я извлекаю из субъекта. Напротив,
70
суждение «все тела имеют тяжесть» – синтетическое: хотя тяжесть и не
существует без тела, она в его понятии не заключена, нужно выйти за его пределы
и присоединить признак к данному субъекту. Первое, аналитическое, суждение лишь
поясняет понятие тела, второе, синтетическое, расширяет познание, дает нечто
новое[92].
Поэтому на таком элементарном уровне прогресс познания выражается в прибавлении
синтетических суждений.
Но с последними связана большая трудность. Дело в том, что для
аналитического суждения ничего, кроме понятия, не нужно: предикат получается,
если расщепить его внутреннее содержание. В суждениях же синтетических необходимо
выйти из одного понятия (субъекта) к другому (предикату). Возникает вопрос, как
возможно такое выхождение и что связывает элементы в такого рода суждениях.
Поэтому, если учесть сказанное выше об априорном знании, «истинная ... задача
чистого теоретического разума заключается в следующем вопросе: как возможны
априорные синтетические суждения?...»[93].
Поскольку такие суждения представлены в виде трех названных областей знания,
решение данной задачи содержит возможность ответить на три вопроса: как
возможно чистое естествознание? Как возможна чистая математика? Как возможна
метафизика?[94]
Решению этих вопросов и посвящена «Критика чистого разума».
По названию труда можно было бы заключить, что Кант исследует одну
познавательную способность. Но это не так: он выделяет две такие способности:
чувственность и мышление. В свою очередь, чувственность, или чувственное
познание, состоит из двух компонентов: формы и содержания, а мышление делится
на рассудок и разум. Этими делениями и опреде-
71
ляется общая структура «Критики». Наиболее общие ее разделы:
«Трансцендентальное учение о началах» и «Трансцендентальное учение о методе».
Названные познавательные способности исследуются в первом разделе, а именно:
чувственность – в первой части, которая называется «Трансцендентальная
эстетика». Мышление – предмет «Трансцендентальной логики», второй части.
Наконец, логика подразделяется на учение о рассудке – аналитику и учение о
разуме – диалектику. О методе скажем потом.
Все учение о началах последовательно раскрывает структуру и процесс
познания. Чтобы дать опору для интуиции читателя, представим их в самом общем
виде. Материалом или содержанием познания являются чувственные данные –
ощущения. Эти данные упорядочиваются в пространстве и времени, которые Кант
называет формами созерцания и которые субъект имеет в себе уже до того, как
начинает воспринимать внешние вещи или свои внутренние состояния. Единство
такого материала и такой формы есть явление, обнаружение реальности для
познающего человека. О том, каковы вещи в себе, то есть помимо их воздействия
на органы чувств, неизвестно. Такие вещи в себе непознаваемы.
Познание есть соединение рассудка с чувственными объектами-явлениями.
Рассудок как мыслительная способность состоит из категорий – форм мышления.
Такое применение мышления к явлениям дает знание, а совокупность знаний есть
опыт, опытное, или эмпирическое, познание.
Опыт ограничен, человек хочет знать больше, чем дает опыт. Его интересует,
каков мир в целом, конечен ли он или бесконечен в пространстве и во времени,
простая или сложная субстанция человеческая душа, существует ли Бог и т. п. Все
это вещи в себе, так как они не даются ни в каком опыте. Поэтому и знание о них
– только видимость. Признаком ее являются противоречия, в которые запутывается
мышление, когда оно покидает пределы опыта. Систему этих противоречий И.Кант
назвал «трансцендентальной диалектикой».
72
Теперь можно объяснить термин «трансцендентальный», который имеет столь
большое значение в теории познания И.Канта. Он происходит от слова
transcendens, что значит выход, выхождение за пределы чего-нибудь. У Канта
наличны два таких выхода. Первый по ту сторону опыта, в мир вещей в себе. Вещи
в себе недостижимы, непознаваемы, трансцендентны для познания. Но есть и второй
выход – по эту сторону опыта, в познавательные способности самого субъекта. Это
– формы созерцания и формы рассудка, которые предшествуют опыту, обусловливают
его возможность. «Я называю трансцендентальным всякое познание, занимающееся не
столько предметами, сколько видами нашего познания предметов, поскольку это
познание должно быть возможным a priori. Система таких понятий называлась бы
трансцендентальной философией»[95].
Т.И.Ойзерман поясняет: «Кант называет априорные формы созерцания и мышления
трансцендентальными, противопоставляя понятие трансцендентального понятию
трансцендентного. Трансцендентное – значит сверхопытное, недоступное опыту,
потустороннее; трансцендентальным же Кант называет доопытное (значит, не
выходящее за пределы опыта, не возвышающееся над ним, а предшествующее ему), но
применяющееся к опыту и, более того, делающее возможным опыт, делающее
возможным опыт как систематическое эмпирическое знание»[96].
Однако существует и другой смысл термина «трансцендентальный», который мы
раскроем при описании кантовской диалектики.
Таково самое общее истолкование познания у Канта. «Всякое наше знание
начинает с чувств, переходит затем к рассудку и заканчивается в разуме, выше
которого нет в нас ничего для обработки материала созерцания и для подведения
его под высшее единство мышления»[97].
Перейдём к более детальному и систематическому его анализу.
73
Трансцендентальная эстетика
Во времена И.Канта существовало два смысла этого термина. Один смысл был
раскрыт в третьей «Критике» Канта – «Критике способности суждения»: эстетика –
это теория изящных искусств, или философия искусства. Сам термин, однако,
впервые введен А.Баумгартеном (1714-1762) в другом смысле: эстетика – это
чувственное познание, чувствование, ощущение, низший вид его по сравнению с
логикой. Именно второй смысл этого термина используется Кантом в данном труде.
Исходным является созерцание. Оно «есть именно тот способ, каким познание
непосредственно относится к ним [предметам. – М.Б.] ... созерцание имеет
место, только если нам даётся предмет; а это в свою очередь возможно ... лишь
благодаря тому, что предмет некоторым образом воздействует на нашу душу. Эта
способность (восприимчивость) получать представления тем способом, каким
предметы воздействуют на нас, называется чувственностью»[98].
Посредством чувственности предметы нам даются, мыслятся же они рассудком.
Результатом воздействия предмета на чувства человека являются ощущения, а те
созерцания, которые относятся к предмету через ощущения, Кант называет
эмпирическими. Наконец, общий, или неопределённый, предмет познания называется
явлением[99].
Далее, в явлении Кант различает два компонента: материю (то, что
соответствует ощущениям) и форму (то, благодаря чему многообразное содержание
явления может быть упорядочено). Источники их происхождения совсем разные:
«Хотя материя всех явлений дана нам только a posteriori, форма их целиком
должна для них находиться готовой в нашей душе a priori и потому может
рассматриваться отдельно от всякого ощущения»[100].
Кант приводит два аргумента в пользу своей мысли. Во-первых, нужна какая-то
среда, в которой могут быть упорядочены и приведены в известную
74
форму получаемые ощущения, и сама она уже не может быть ощущением.
Во-вторых, он находит форму созерцания путём абстрагирования: «Так, когда я
отделяю от представления о теле всё, что рассудок мыслит о нём, как-то: субстанцию,
силу, делимость и т. п., а также всё, что принадлежит в нём к ощущению, как-то:
непроницаемость, твердость, цвет и т. п., то у меня остаётся от этого
эмпирического созерцания ещё нечто, а именно протяжение и образ. Все это
принадлежит к чистому созерцанию, которое находится в душе a priori также и без
действительного предмета чувств или ощущения, как чистая форма чувственности»[101].
Вообще эти аргументы лучше брать в обратной последовательности, чем у Канта.
Ибо второй более очевиден, прозрачен, чем первый. Но главное в том, что
указанное абстрагирование действительно обнаруживает остаток, осадок, который
уже нельзя устранить из представления и который и есть та среда, в которой
происходит упорядочение и оформление ощущений. Задержимся ещё на данной мысли
Канта. Мы воспринимаем вещи органами чувств, результатом являются ощущения –
цвет, звук, запах, осязание вещи. Но восприятие имеет и другой вид: когда вещи
нет. Это – представление. Я представляю море, лес и т. п. Их здесь нет, но я их
вижу внутри себя, но во вне. Чтобы видеть в себе вещи, отсутствующие передо
мной, нужно иметь способность восприятия. Но это – внутреннее зрение, или
созерцание; я должен иметь в себе некоторый экран, по которому простирается
морская гладь, располагаются деревья и поляны и т. д. Я могу представить любой
предмет или событие, но точно также могу убрать их и заменить другими, третьими
и так без конца. Наконец, я могу вообще убрать любые предметы из своего
внутреннего созерцания. Но если я не сплю (по крайней мере не вижу снов), а
бодрствую, то убрать самый экран я не могу. Он остаётся, но пустой, без
наполнения, как экран в кинотеатре после окончания фильма. Этот экран есть
форма созерцания, а то, что его заполняет, – содержание.
75
Содержание приходит и уходит, а форма остаётся. Первое я получаю
извне, а вторая есть моё внутреннее состояние. Без такой формы я не мог бы
представить ни одной вещи, поскольку она протяжённа или длится. Таким образом,
содержание изменчиво и приходит извне, а форма постоянна, однородна и
предваряет восприятие, так как без неё я не мог бы видеть что-либо внутри себя.
Форма существует во мне до всякого опыта, она, по мысли Канта, априорна.
Содержание апостериорно, даётся в опыте.
Как видим, аргумент Канта является правильным. Против него можно выдвинуть
только то возражение, что Кант анализирует зрелого человека, у которого и
чувственность (в том числе и формы созерцания), и мышление уже сформировались.
Но это не так очевидно, если взять ребёнка, у которого их развитие находится
впереди. Тогда, возможно, оказалось бы, что априоризм Канта далеко не
обоснован. Кант, однако, не принимает во внимание индивидуальное развитие
познавательных способностей. Основанием для этого было обстоятельство, которое
хорошо известно, но которого не замечают критики Канта. А именно, он исследовал
развитие, расширение научного познания, а оно осуществляется взрослыми людьми,
а не детьми. Поэтому он берёт в готовом виде и чувственность, и рассудок.
Однако заранее даны только зачатки, зародыши категорий, постепенно
развивающиеся до состояния зрелости. Очевидно это и относительно ощущений или
восприятий. Прав Б.М.Теплов: «Можно считать безнадёжным делом воспитывать у
человека такую способность, задатки для которой у него отсутствуют»[102].
О зачатках категорий пишут современные генетические психологи[103].
Что касается ощущений, то их зачатки очевидны в дифференциации органов
новорожденного и в том, что это живое, а значит чувствующее существо. Таким
образом, современная наука показывает, что
76
априоризм – не выдумка, а преувеличение действительного факта: врожденные
зачатки мышления и чувственности предшествуют опыту человека и в этом смысле
врождены или априорны. С другой стороны, развившись под влиянием опыта, формы
созерцания (и категории) становятся атрибутом, неотъемлемым свойством
духовности человека и предваряют любой конкретный опыт. Последний аспект
априоризма и представлен у Канта в приведенном его аргументе и во всём его
исследовании.
Итак, формы созерцания упорядочивают ощущения. Кант считает, что существуют
две такие формы – внешняя и внутренняя – пространство и время. «Посредством
внешнего чувства (свойства нашей души) мы представляем себе предметы как
находящиеся вне нас, и притом всегда в пространстве. В нём определены или
определимы их внешний вид, величина и отношение друг к другу»[104].
Пространство есть необходимое априорное представление: «никогда нельзя себе
представить отсутствие пространства, хотя и не трудно себе представить
отсутствие предметов в нём»[105].
Аналогично «время не есть эмпирическое понятие, выводимое из какого-нибудь
опыта. В самом деле, одновременность или последовательность даже не
воспринимались бы, если бы в основе не лежало априорное представление о
времени. Только при этом условии можно представить себе, что события происходят
в одно и то же время (вместе) или в различное время (последовательно)»[106].
И относительно времени он говорит, что «мы не можем устранить само время, хотя
явление прекрасно можно отделить от времени»[107].
Не вдаваясь в детали, отметим три аспекта кантовского учения о данных
формах. Во-первых, из того, что пространство и время как формы созерцания
предваряют восприятия и
77
представления любых объектов, Кант делает вывод, что объективно, в
мире вещей в себе, вне субъекта они не существуют. Об этом пишется много, но
убедительных доводов нет. Вопреки Канту можно сказать: всеобщность и
необходимость пространства и времени как форм созерцания потому и имеет место,
что сами вещи протяжённы и временны. Разумеется, объективно они существуют не
так и не в таком чистом виде, как в представлении. Но они были бы не нужны, не
будь их вне человека. Какое знание дало бы расположение ощущений в субъективном
пространстве и времени, если бы они (ощущения) не были бы аналогично связаны
вне нас? Это была бы видимость, а не знание. Как ни подходить к этой мысли
Канта, нельзя понять, как он мог стоять на такой точке зрения.
Единственное рациональное объяснение этой мысли состоит в том, что она есть
вывод из более общего положения, согласно которому «вещи, которые мы созерцаем,
сами по себе не таковы, как мы их созерцаем... Каковы предметы в себе и
обособленно от этой восприимчивости нашей чувственности, нам совершенно не
известно»[108].
Правда, Кант старается «предостеречь от попыток пояснить утверждаемую нами
идеальность пространства совсем неподходящими примерами, так как, например,
цвета, вкусы и т. п. с полным основанием рассматриваются не как свойства вещей,
а только как изменения нашего субъекта»[109].
Но чем же это отличается от того положения, что к вещам самим по себе
неприменимы пространство и время?
В этом отношении нам видится более правильной теория первичных и вторичных
качеств, по которой цвет, звук и т. д. не присущи вещам самим по себе, а
пространство, время, движение и некоторые другие качества присущи.
Кантовская концепция по данному вопросу противоречива. С одной стороны,
вещам в себе отказано быть протяжёнными и временными, а с другой, он считал
«скандалом для
78
философии и общечеловеческого разума необходимость принимать лишь на
веру существование вещей вне нас (от которых мы ведь получаем материал знания
даже для нашего внутреннего чувства)»[110].
Но «вещь вне нас» предполагает и пространство вне нас. Потому-то мы и внутри
себя представляем вещи как отличные от нас, находящиеся вне нас, что такова
структура самого мира и реального отношения человека к нему.
Что касается вторичных качеств – цветов, запахов и пр. – то они, несомненно,
не вполне объективны. Каждое из них – результат взаимодействия реального
субъекта и объекта, а не копия или фотография вещи в себе, как полагают
метафизические материалисты. В объекте есть основание для какого-то цвета –
определённая длина волны, но сама волна не зелёная и не красная. «...Мой
вкусовой нерв, – писал Л.Фейербах, – такое же произведение природы, как соль,
но из этого не следует, чтобы вкус соли непосредственно как таковой был
объективным свойством её, – чтобы тем, чем является соль лишь в качестве
предмета ощущения, она была также сама по себе, – чтобы ощущение соли на языке
было свойством соли, как мы её мыслим без ощущения...»[111].
Исходя из сказанного, И.Кант отвечает на первый из трёх главных вопросов:
как возможна чистая (то есть теоретическая) математика? А именно, она возможна
потому, что существуют чистые, абстрактные формы созерцания – пространство и
время. Первое лежит в основании теоретической геометрии, второе – арифметики.
Первое очевидно, что касается второго, то предметом арифметики является
натуральный ряд чисел, или, лучше, действительные числа, которые составляют
непрерывный процесс, совершающийся во времени. Можно толковать предмет и так:
арифметика возникает из счёта, определённого вида деятельности, который
невозможен, в чистом виде, без столь же абстрактного потока времени.
79
Как видим, многое в эстетике Канта правильно. Но есть в ней противоречия,
которые послужили толчком для дальнейшего развития и видоизменения немецкой
классики. Об одном мы уже сказали: пространство и время считаются необходимыми
для познания, но отрицается их применимость к вещам в себе. Второе связано с
категорией причинности: Кант полагал, что ощущения в наших органах чувств
производятся действием вещей в себе. В таком случае последние – причина
ощущений. В то же время причина, или причинность, по Канту, существует как
рассудочное понятие, применяется к познанию явлений, но не имеет отношения к
вещам в себе. На это противоречие обращали наибольшее внимание критики Канта:
Г.Э.Шульце-Энезидем, Ф.Г.Якоби, И.Г.Фихте и др. Да и концепция непохожести
ощущений и вещей в себе вызывает затруднения, ибо неясно, как причина может
абсолютно отличаться от своего следствия. Если это так, то родство их должно
состоять в чём-то другом.
Проблематичной является и мысль о двух формах созерцания. Приоритет их
несомненен: человек выделен из внешнего мира, извне к нему относится, что и
означает пространство как форма бытия человека. Но для человека характерна также
связь его бытия и времени, ибо он живёт деятельностью, которая является
разновидностью движения, а, по определению Аристотеля, время есть мера
движения. Однако, чтобы воспринимать всё богатство окружающего мира, этого
недостаточно: человек должен воспринимать и качество, и количество его и т. д,
а это возможно, если есть соответствующие формы восприятия или созерцания.
Поэтому и получается так, что в общем виде все категории (качество, количество
и т. под.) являются и формами созерцания. Без них человек мог бы воспринимать в
лучшем случае мир геометрии и арифметики, а не реальный многообразный мир, да и
то с оговоркой: арифметика имеет дело с числом, то есть количеством, а оно у
Канта относится не к эстетике, а к логике"[112].
80
Категории как формы синтеза явлений
Логическое учение Канта сильно отличается от традиционной формальной логики.
Это видно уже по его предметному содержанию. В него входит теория категорий
(«аналитика понятий»), механизм применения категорий к познанию явлений
(«аналитика основоположений»), составляющие вместе «Трансцендентальную
аналитику», и «Трансцендентальная диалектика». В логике формальной категории
иногда также присутствовали, в том её разделе, где шла речь о понятиях как
формах мышления[113].
Категории присоединялись сюда как наиболее общие понятия, под каким
определением, весьма неточным, они и до сих пор встречаются в литературе[114].
Заметим ещё, что термин «трансцендентальный» употребляется в разных смыслах по
отношению к аналитике и диалектике. В первом случае он используется в
вышеразъяснённом смысле, ибо и формы созерцания, и категории одинаково
до-опытны и в то же время применяются к явлениям: формы созерцания – для их
конструирования, категории – для познания. Относительно диалектики смысл
данного термина мы разъясним в своём месте.
«Трансцендентальная аналитика» – это логика познания. Человеческое знание
возникает из двух основных источников: первый есть способность получать
представления (восприимчивость к впечатлениям, или чувственность), второй –
способность познавать через эти представления предмет. «Посредством первой
способности предмет нам даётся, а посредством второй он мыслится...
Следовательно, созерцания и понятия суть начала всякого нашего познания, так
что ни понятия без соответствующего им некоторым образом созерцания, ни
созерцание без понятий не могут дать зна-
81
ние»[115].
Созерцания могут быть или эмпирическими, когда в них содержится ощущение,
предполагающее действительное присутствие предмета, или чистыми, когда никакого
ощущения нет, а есть лишь формы созерцания. Ощущения Кант называет материей
чувственного знания, а понятия – формами мышления о предмете вообще, или о
любом предмете. Способность мыслить предмет чувственного созерцания есть, по
его определению, рассудок. «Мысли без содержания пусты, созерцания без понятий
слепы... Только из соединения их может возникнуть знание»[116].
Понятия рассудка Кант называет категориями и даёт такую дефиницию категорий:
«Они – понятия о предмете вообще, благодаря которым созерцание его рассматривается
как определённое с точки зрения одной из логических функций суждения»[117].
О предмете вообще речь идёт потому, что категории сказываются, как известно ещё
со времён Аристотеля, о любом предмете: каждый имеет качество, количество и т.
п. В «предмете вообще» не содержится других определённостей, кроме
категориальных, которые выражаются тем или иным суждением, что значится во
второй части дефиниции.
Вся первая часть логики Канта есть учение о категориях и их применении к
познанию чувственных данных. Все категории он представил в виде таблицы. В
истории философии Нового времени это – первая попытка систематизировать
категории. В античности аналогичной была попытка Аристотеля: он выделил десять
категорий, на первое место поставил «сущность», под которой понимал конкретный
предмет, а все остальные – качество, количество и другие – как определенности
«сущности». Данный ряд полезно сравнить с таблицей Канта, которая имеет такой
вид:
82
|
Таблица категорий
|
|
1
Количества
Единство
Множественность
Целокупность
|
|
2
Качества
Реальность
Отрицание
Ограничение
|
3
Отношения
Субстанция и акциденция
Причинность и зависимость
(причина и следствие)
Общение (Взаимодействие)
|
|
4
Модальности
Возможность – невозможность
Существование – несуществование
Необходимость – случайность[118].
|
Свой перечень категорий Кант получает из соответствующей «таблицы суждений».
Так, по количеству суждения делятся на общие, частные и единичные, откуда и
следуют категории первой группы. Из качества суждений – утвердительных,
отрицательных и бесконечных – он выводит вторую группу и т. д.[119]
Внутренняя связь суждений и категорий состоит в том, что они есть формы
синтеза. «Та же самая функция, которая сообщает единство различным
представлениям в одном суждении, сообщает единство также и чистому синтезу
различных представлений в одном созерцании; это единство, выраженное в общей
форме, называется чистым рассудочным понятием»[120].
Свою таблицу Кант называет перечнем «всех первоначальных чистых понятий
синтеза, которые рассудок содержит в себе a priori и именно благодаря которым
он называется чистым, так как только через них он может что-то
83
понимать в многообразном (содержании) созерцания, то есть мыслить
объект созерцания»[121].
Эти понятия он называет, вслед за Аристотелем, категориями, отличает их как
«основные понятия» (предикаменты) от производных (предикабилий) и т. п.[122]
Кант очень старательно проводит идею о чистоте, априорности и т. п. свойств
категорий. Но не надо бояться этой чистоты. В сущности, это очень простая вещь.
Если, например, отношение причины и следствия (категория причинности)
применяется для познания бесконечно разнообразных явлений, не переставая быть
именно данным отношением, то ведь это значит, что она имеет некоторое
чрезвычайно или предельно общее содержание и форму, которые выходят за пределы
любых актов применения. Значит, ее можно изучать и в таком общем или чистом
виде: она содержит в себе некоторое многообразие, которое мы различаем как
причину и следствие, в своем созерцании (внутреннем) как-то «видим» их
различие, но в то же время и соотносим друг с другом при помощи воображения,
соединяем или синтезируем. И это не всё. «Под синтезом, – пишет Кант, – в самом
широком смысле я разумею присоединение различных представлений друг к другу и
понимание их многообразия в едином акте познания»[123].
И добавляет: «Синтез вообще, как мы увидим это дальше, есть исключительно
действие способности воображения, слепой, хотя и необходимой, функции души; без
этой функции мы не имели бы никакого знания, хотя мы и редко осознаём её.
Однако задача свести этот синтез к понятиям есть функция рассудка, лишь
благодаря которой он доставляет нам знание в собственном смысле этого слова»[124].
Поясним на примерах. Мы различили в чистом (то есть общем) созерцании
многообразие (причину и следствие), затем путём воображения присоединили одно к
другому, чтобы достичь их единства. Однако
84
последнее бывает разным. Если я присоединяю число к числу, то
получаю единство, которое называется количеством, если присоединяю следствие к
причине, то получаю иное единство – причинное отношение. Воображение своей
операцией присоединения создаёт абстрактно-чувственное единство, а специфика
последнего проистекает из действия рассудка. Кратко у Канта это выглядит так:
«Для априорного познания всех предметов нам должно быть дано, во-первых,
многообразное в чистом созерцании; во-вторых, синтез этого многообразного
посредством способности воображения, что, однако, не даёт ещё знания. Понятия,
сообщающие единство чистому синтезу и состоящие исключительно в
представлении об этом необходимом синтетическом единстве, составляют третье
условие для познания являющегося предмета и основываются на рассудке»[125].
Понимание гносеологии Канта затрудняет то, что он не стоит на точке зрения
теории отражения. Его субъект – носитель активной деятельности. Подобно тому,
как строитель из полученных материалов конструирует дом, а не получает его в
готовом виде из природы, так и познающий субъект получает лишь материал
познания (ощущения, чувственные данные), а упорядочивая, синтезируя их,
порождает понятия. Именно поэтому исторично, изменчиво, со временем в нём
обнаруживаются неточности, неверные смыслы, в результате чего понятия
переконструируются, изменяются и т. д.
Однако в этом отношении И.Кант зашёл дальше, чем следовало. Изменчивость он
признавал лишь за эмпирическим познанием. Априорное же он считал неизменной
структурой. Он ориентировался при этом на геометрию, созданную ещё Евклидом, на
арифметику, на земную и небесную механику, созданную в Новое время, но уже в
своих основах вполне сложившуюся и считавшуюся теоретически и практически
незыблемой. Отсюда у него и возникла идея о завершённой структуре познания. В
этом плане его концепция неверна, ибо
85
еще при жизни Канта Гаусс знал о другой системе геометрии –
неевклидовой, а спустя примерно два десятилетия она появилась в трудах
Н.И.Лобачевского и Я.Больаи. В XX в. возникла теория относительности и т. д.
Сами способности познавательные – чувственность и рассудок действительно
существуют и в таких общих формах, как их исследует Кант, но до абстрактного
пространства и времени как предпосылок математики человек дошёл в процессе
длительной истории, в том числе и эмпирического познания, и практической
деятельности. Что же касается отдельного индивида, то у него есть, согласно
современным исследованиям, лишь зародыши или зачатки категориального членения
мира от рождения, а их раскрытие осуществляется в процессе жизнедеятельности.
Поэтому можно сказать так: когда формы созерцания и мышления человека вполне
сложились и к тому же он занимается специально научной деятельностью, он может
конструировать понятия так или почти так, как описывает Кант. Но с точки зрения
развития, наиболее полно выраженного в генетической психологии и эволюционной
эпистемологии, кантовская концепция априоризма неверна. Не категории как
понятия априорны, но априорны, доопытны и появляются вместе с рождением ребёнка
зародыши или зачатки их, которые затем и доразвиваются до понятий. Сам Кант
затрагивает вопрос о категориях как задатках мышления, однако отвергает эту
точку зрения в силу её якобы субъективности[126].
Но против этого есть серьёзный аргумент: человек или ребёнок со своими
задатками, в том числе и умственными, не извне приходит в чужой ему мир, –
напротив, он – часть этого мира и все его задатки также сложились в этом мире,
следовательно, выражают его строение, а не навязываются ему произвольно.
Помимо сказанного, отметим ещё некоторые характерные черты его концепции
категорий.
Первая черта состоит в способе открытия категорий, а именно Кант выводит
свою таблицу категорий из соответствующей
86
таблицы суждений. По этому поводу Гегель замечает, что «кантовская
философия чрезвычайно облегчила себе задачу отыскания категорий»[127].
Гегель согласен с тем, что в каждом суждении заключена определённая категория,
но задача логики в том, чтобы исследовать их внутренние связи, у Канта же этот
вопрос даже не ставится. Как огромную заслугу Фихте оценивает Гегель попытку
его дедуцировать категории. У Канта они взяты в виде совокупности, о чём
говорит и сам термин «таблица категорий».
Но таблица не хаос, а всё же некоторое, хотя и внешнее, упорядочение. Вторая
черта кантовской концепции касается последнего. На первое место он ставит
категории количества, затем качества, отношения, модальности. Такой порядок
объясняется исторически: в Новое время решающую роль в познании приобрела
математика – наука о количественных отношениях. Математическое естествознание
есть познание количественных и качественных отношений, что вовлекает в
философский анализ вторую группу категорий; далее, результаты этого познания
выражаются в открытии существенных отношений, или законов природы, для
осмысления которых наиболее общие установки находятся в третьей группе; и,
наконец, для науки существенным является вопрос о субъективности или
объективности законов, их необходимости или случайности, действительности или
иллюзорности формулируемых отношений – этот аспект познания категориально
задаётся четвёртой группой рассудочных понятий. Таким образом, определённая
субординация, хотя бы имплицитно, содержится в кантовской таблице, и она, как
видим, не произвольна. Но эта связь больше историческая, нежели логическая. По
поводу первых двух групп категорий Гегель тонко подметил, что «само название
категорий он применил не к родам своих категорий (количество, качество и т.
д.), а лишь к их видам; поэтому он не мог найти третьей [категории] к
87
качеству и количеству»[128].
Такую третью Гегель открыл в категории меры.
Но зато Кант заметил – и в этом состоит третья черта его категориальной
структуры – внутреннюю связь понятий в каждой группе отдельно. А именно:
«каждый класс содержит одинаковое число категорий, а именно три, и это
обстоятельство также побуждает к размышлениям, так как в других случаях всякое
априорное деление с помощью понятий должно быть дихотомическим. Сюда надо,
однако, прибавить, что третья категория возникает всегда из соединения второй и
первой категории того же класса»[129].
Идея о тройственном членении категорий в последующей немецкой классике,
особенно у Фихте и Гегеля, стала основной идеей их диалектики категорий. Но
откуда и как она появилась у Канта – остаётся загадкой. Формально её можно
вывести из того факта, что в традиционной логике виды суждений, из которых Кант
и вывел основные группы категорий, также рассматривались триадически, но в них
не было мысли о том, что третий вид суждений является синтезом двух предыдущих.
Поэтому необходимы дополнительные исследования имеющегося здесь несомненно
гениального прозрения Канта.
Категории интересовали его не сами по себе – такими они стали в новой
логике, созданной Гегелем, – а как средства познания явлений. Поэтому после
открытия и описания их Кант переходит к исследованию их отношения к чувственным
данным. Главное, что он пытался выяснить, – необходимость категорий для такого
познания, его невозможность без них. Такое отношение категорий к познаваемым
объектам Кант назвал «трансцендентальной дедукцией категорий». Дедукция, то
есть выведение, здесь означала не способ их получения (это он называл
«метафизической дедукцией»[130]),
а «возможность a priori познавать при помощи категорий все предметы, какие
88
только могут являться нашим чувствам, и притом не по форме их
созерцания, а по законам их связи, следовательно, возможность как бы a priori
предписывать природе законы и даже делать её возможной»[131].
Здесь уместно предупредить читателя о том, что мы подошли к самым трудным
страницам сочинения Канта (в цитируемом томе это с. 190-216).
Кант исходит из того, что многообразное содержание созерцания даётся только
в чувственности. Но связь не содержится в чувственности: она – действие
рассудка, которое Кант обозначает общим названием синтеза, который исходит из
мышления, рассудка. Как мы видели выше, Кант выделил три элемента в данном плане.
Теперь он это повторяет: «... Понятие связи заключает в себе, кроме понятия
многообразного и синтеза, ещё понятие единства многообразного. Связь есть
представление о синтетическом единстве многообразного»[132].
Формами такого единства являются категории. Однако их много, они предполагают
связь и единство, поэтому источник последних следует искать выше категорий и
рассудка в целом.
Идея здесь проста: рассудок с его понятиями не существует сам по себе как
некоторая вещь: он – познавательная способность субъекта. Субъект – это
носитель познавательной деятельности. Его основная особенность или черта – сознание
или самосознание. Самосознание есть нечто единое («Я»), в мыслительном или
рассудочном аспекте оно предстаёт как «Я мыслю». Мысль осуществляется через
категории, поскольку же они суть формы единства и связи, это значит, что
субъект через них транслирует в познаваемый мир чувственности своё собственное
первичное единство и свою связность. Такое единство сознания Кант называет
«первоначально-синтетическим единством апперцепции»[133].
Первоначальное оно потому, что
89
выше его единства в познании нет. Апперцепцией оно называется
потому, что предшествует всякому акту познания: без сознания нет познания. Моё
«Я», сознание или созерцание «Я» сохраняется во всех познавательных актах и
предваряет их. Перцепция есть восприятие, то есть созерцание того, что даётся
извне. Но моё «Я» извне мне не даётся, оно есть созерцание, которое есть до
восприятия того или иного предмета, иначе говоря апперцепция.
Всё это верно, но сомнение вызывает третий аспект данного феномена –
синтетическое единство, которое, согласно Канту, вносится в многообразие
чувственности, а не извлекается из неё посредством мышления. Однако даже если
признать последнее, идея Канта остаётся правильной. В самом деле, предположим,
что два элемента чувственного многообразия, А и В, связаны сами по себе, а не
через «Я». Предположим также, что сознание не едино или одно, а раздроблено,
скажем, зернисто, и его части обособлены друг от друга. Если А попадёт в одну
часть сознания, а В – в другую, то, несмотря на их объективную связь, сознание
не сможет их соединить в силу своей собственной раздробленности. Здесь
действует принцип, известный ещё древним философам: подобное познаётся
подобным. Поэтому и в данном аспекте мысль Канта сохраняет значение, и её
следует не отвергать, а дополнить положением об основаниях связи вне нас. В
сжатом виде концепция Канта выглядит так: «Рассудок есть, вообще говоря, способность
к знаниям. Знание заключается в определённом отношении представлений к объекту.
Объект есть то, в понятии чего объединено многообразное, охватываемое данным
созерцанием. Но всякое объединение представлений требует единства сознания в
синтезе их. Таким образом, единство сознания есть то, что составляет одно лишь
отношение представлений к предмету, стало быть, их объективную значимость,
следовательно, превращение их в знание; на этом единстве основывается сама
возможность рассудка»[134].
Указанное
90
свойство субъекта Кант называет трансцендентальным единством
самосознания, «чтобы обозначить возможность априорного познания на основе этого
единства»[135],
трансцендентальным единством апперцепции, «благодаря которому всё данное в
созерцании многообразное объединяется в понятии об объекте. Поэтому оно
называется объективным» единством самосознания[136].
Он показывает, каким образом рассудок выражает данные знания как объективные, а
именно посредством связки «есть». Суждением «солнце есть причина нагревания
камня» я утверждаю, именно связкой «есть», что так обстоит дело в
действительности, а не только в моём сознании. Иначе говоря, эта связка
соединяет чувственные данные и одновременно выносит синтез вовне[137].
Поскольку и данная связка, и все категории вообще – формы мышления, Кант
отличает субъективное единство сознания от объективного единства апперцепции:
первое означает, что многие чувственные данные наличны в одном сознании, хотя
их связь может быть субъективной, если мне кажется, что тела тяжёлые или солнце
нагревает камень; во втором же случае связь объективна, потому что Я мыслю.
Трансцендентальная апперцепция – это и созерцание «Я», и мышление. Кант,
описывая её, постоянно употребляет и то и другое выражение. Без единства
созерцающего «Я» нельзя схватить и единство предмета, а без мышления –
объективности предметов и отношений. Формы же мышления – категории, функции
суждения. «Многообразное, содержащееся в созерцании, которое я называю моим,
представляется посредством синтеза рассудка как принадлежащее к необходимому
единству самосознания, и это происходит благодаря категории»[138].
Указанную двойственность постоянно надо иметь в виду, потому что именно
благодаря ей кантовское учение об апперцепции столь сложное,
91
оно всё время поворачивается то одной, то другой стороной и
затрудняет понимание текста.
Понимая знание как единство мышления (категорий) и созерцания, а последнее
может быть или созерцанием вообще или чувственно эмпирическим, Кант старательно
различает и анализирует различные виды синтеза между двумя компонентами знания.
Этих синтезов у него три.
Первый синтез – тот, который мыслится в одних категориях, он называет
рассудочной связью (synthesis intellectualis).
От него отличается фигурный синтез (synthesis speciosa) – трансцендентальный
синтез воображения. «Воображение есть способность представлять предмет также и
без его присутствия в созерцании»[139].
В отличие от обычных восприятий воображение есть проявление спонтанности,
самодеятельности субъекта, и оно способно определять чувственность до появления
определённого объекта, то есть строить некоторый абстрактный объект. Такой
синтез «сообразно категориям должен быть трансцендентальным синтезом
способности воображения; это есть действие рассудка на чувственность и первое
применение его (а также основание всех остальных способов применения) к
предметам возможного для нас созерцания»[140].
В другом месте Кант поясняет это так: субъект воспринимает не только внешние
вещи, он имеет и внутреннее чувство –чувство самого себя. Последнее имеет общий
характер, ибо вещи приходят и уходят, а чувство «Я» остаётся; оно длится, ибо
априорная форма этого чувства – время и абстрактное многообразие, которое в нём
может быть. Это то субъективное единство сознания и самосознания, которое Кант
отличает от апперцепции и называет его «внутренним чувством»[141].
Необходимую связь многообразного в этом чувстве создаёт мышление, рассудок.
«Рассудок не находит во внутреннем чувстве
92
подобную связь многообразного, а создаёт её, воздействуя на
внутреннее чувство»[142].
Иначе говоря, воображение объединяет категории с абстрактным созерцанием и они
из чисто мыслительных становятся и образными конструкциями. Если мы захотим
вообразить понятие причинности, то нарисуем в своём представлении некоторый
образ или фигуру, скажем, такого вида: А → В, что будет значить, что один
объект порождает другой. Это и есть фигурный синтез – некая категориальная
связь, воплощённая в чувственном теле образа. Всё наше абстрактное мышление
протекает в этой сфере, ибо то, что мы мыслим, мы должны и представлять,
созерцать хотя бы самым схематичным способом. Кант поясняет: «Это мы и
наблюдаем всегда в себе. Мы не можем мыслить линию, не проводя её мысленно, не
можем мыслить окружность, не описывая её, не можем представить себе три
измерения пространства, не проводя из одной точки трёх перпендикулярных друг
другу линий и даже время мы можем мыслить не иначе, как обращая внимание при
проведении прямой линии (которая должна быть внешне фигурным представлением о
времени) исключительно на действие синтеза многообразного, при помощи которого
мы последовательно определяем внутреннее чувство...»[143].
Рассудок в целом и его категории представляют при этом «как единство действия,
сознаваемого рассудком, как таковое, также и без чувственности, но способное
внутренне определять чувственность в отношении многообразного, которое может
быть дано ему сообразно форме её созерцания»[144].
Иначе говоря, категория как способ действия, обрастая тонким созерцанием и
воплощаясь в нём образно или фигурно, через это воплощение может соединиться и
с конкретным объектом внешних чувств. Почему Кант и говорит, что фигурный
синтез или синтез воображения есть также основание и всех иных применений
рассудка.
93
В связи с этим Кант пытается разъяснить «парадокс, который должен поразить
каждого при изложении формы внутреннего чувства»[145].
Суть в том, что субъект активен, он – носитель познавательной деятельности,
объект противостоит ему как пассивное, испытывающее деятельность. Но когда
субъект делает самого себя объектом, или предметом исследования, он сам
становится пассивным. «Следовательно, рассудок, под названием
трансцендентального синтеза воображения, производит на пассивный субъект,
способностью которого он является, такое действие, о котором мы имеем полное
основание утверждать, что оно влияет на внутреннее чувство»[146].
Парадокс состоит в том, что рассудок есть способность, свойство сознания или
самосознания субъекта-носителя внутреннего чувства, а действует он (рассудок)
так, как будто именно он есть субъект, а субъект становится объектом. Единое Я
раздваивается, раскалывается надвое, на мыслящее и мыслимое. «Но каким образом
Я, которое мыслит, отличается от Я, которое само себя созерцает... и тем не
менее совпадает с ним, будучи одним и тем же субъектом?.. Этот вопрос столь же
труден, как вопрос, каким образом Я вообще могу быть для себя самого объектом,
а именно объектом созерцания и внутренних восприятий»[147].
Кант не даёт решения этого вопроса, и его следует искать далеко за пределами
«Критики чистого разума», лучше всего – в аналитической психологии К.Г.Юнга, в
его учении о том, что сознание не есть нечто абсолютно монолитное; оно есть
комплекс с рядом составляющих (мышление, ощущение, эмоция, интуиция), что само
сознание личности есть наиболее устойчивый психический комплекс, и что в ней
есть или могут быть и другие комплексы, которые могут занять его место, и т. д.[148]
94
Таким образом, верхний уровень субъекта познания состоит как бы из двух
половинок – мыслящей (рассудочной) и созерцающей. Их соотносит и объединяет
продуктивное воображение, порождающее фигурный синтез. Та сторона Я, в которой
нет рассудка и его категорий, это – внутреннее чувство, самосозерцание Я. А как
сплавленное с интеллектуальной связью внутреннее чувство есть
трансцендентальный синтез воображения и, взятое с результативной стороны,
трансцендентальное единство апперцепции.
В фигурном синтезе категории (интеллектуальные связи, «единства действий»)
направлены как бы вверх, к верхнему уровню сознания. Соединяя категории с
чувственным, хоть и абстрактным, созерцанием, воплощая их в фигурах или
фигурациях, сознание создаёт предпосылку для синтеза категорий и с внешними
чувственными предметами. Коротко можно сказать, что «чистое» мышление нельзя
приложить прямо к вещам. Для этого и существуют промежуточные звенья, известные
в науках под видом схем, моделей и т. п. Только «обросшие плотью» понятия можно
направить и вниз, к чувственным вещам, применить их к ним, синтезировать с
ними.
На этом пути появляется у Канта третья форма синтеза – синтез схватывания
(apprehension), под которым он понимает «сочетание многообразного в
эмпирическом созерцании, благодаря чему становится возможным восприятие его, т.
е. эмпирическое сознание о нём...»[149].
Особенность человеческого отношения к миру состоит в том, что мир предстаёт
перед ним как многообразие вещей. Осознание вещей есть восприятие. Не для
всякого живого существа дело обстоит таким же образом. Низшие виды существ,
например, насекомые, могут ощущать лишь отдельные свойства вещей – их цвет,
запахи и т. п. Вещность мира для человека объясняется тем, что он сам имеет
дело с вещами, потому что он строит их – дома, столы, стулья, шьёт одежду или
обувь и т. д. Человек в своей практической деятельности
95
конструирует вещи, которые содержат различные элементы и множество
связей между ними. В ходе этого процесса, продолжающегося на протяжении всей
истории, складывается и вещный способ осознания действительности. Учитывая, что
вещь есть указанное многообразие элементов и связей, само восприятие
приобретает конструирующий характер. И.Кант поясняет суть синтеза схватывания:
«Таким образом, если я, например, превращаю эмпирическое созерцание
какого-нибудь дома в восприятие, схватывая многообразное (содержание) этого
созерцания, то в основе у меня лежит необходимое единство пространства и
внешнего чувственного созерцания вообще; я как бы рисую очертания дома
сообразно этому синтетическому единству многообразного в пространстве»[150].
Иначе рассуждая, я как бы строю дом, воспроизвожу его постепенно, поэлементно.
Когда я вижу дом, кажется, что я в один миг принимаю его в своё сознание. На
деле же это не так: он хотя и быстро, но лишь последовательно воссоздаётся. Дом
не принимается, а производится моим сознанием, и восприятие это не простое
принятие того, что дано, а конструирование. Современной психологии это хорошо
известно: она подробно исследовала, как ребёнок в процессе манипулирования
вещами, их разборки, ломки, повторной сборки вырабатывает способность
воспринимать вещи. Но во времена Канта это было неизвестно, и он в данном
вопросе сделал большое открытие, имеющее значение и для психологии, и для
теории познания. Он старается вскрыть слои, по которым происходит построение
образа дома. Один из них уже указан – это синтез чувственных данных в
пространстве. Далее он подчёркивает: «Но то же самое синтетическое единство,
если отвлечься от формы пространства, находится в рассудке и представляет собой
категорию синтеза однородного в созерцании вообще, т. е. категорию количества,
с которой, следовательно, синтез схватывания, т. е. восприятие, должен всецело
сообразоваться»[151].
96
Таким образом, вторым в построении восприятия является
категориальный слой. А всего имеется три элемента: материал, форма созерцания и
форма мышления. Если учесть, что восприятие есть конструирующая деятельность, а
не простая чувственность (принятие только данного), такое представление
является правильным.
Можно сказать больше: поскольку речь идёт о восприятии конкретного предмета,
то в нём можно было бы найти имплицитно наличные и другие категории, скажем,
категории основания (отношение фундамента и остальной части дома), качества и
т. п. Но для Канта важно показать, что здесь есть и категория, форма мышления,
а не только форма созерцания. Поскольку категории представляют собой закономерные
связи, синтезы явлений, а их источник находится в субъекте, то он приходит к
выводу: «Категории суть понятия, a priori предписывающие законы явлениям, стало
быть, природе как совокупности всех явлений»[152].
В этом положении наиболее резко выражается априоризм Канта. В общем виде о нём
шла речь выше. Здесь добавим, что Кант, в отличие от созерцательной теории
отражения сенсуализма, открыл такой факт, как активность субъекта. Предпосылкой
открытия, «коперниканского переворота» Канта, было возрастание и углубление
массы человеческой деятельности в Новое время – в науке и промышленности, в социальных
движениях и буржуазных революциях. Человек стал центром мира уже в эпоху
Возрождения, а к концу XVIII в. вполне выяснилось, в чём состоит эта
центральность, а именно в его деятельности, в обращении всей природы в
материал, средство для деятельности и для удовлетворения его потребностей.
Абсолютизацией этой деятельности и стал априоризм Канта. Суть априоризма – в
трактовке связи как синтетического единства многообразного как такой, которая
порождается субъектом и вносится в чувственные данные, в явления и их
совокупность – природу. Необходимые связи и есть законы, откуда и получается
вышеприве-
97
денная формула. Это – абсолютизация действительного факта. Но такой
же абсолютизацией является представление, согласно которому законы природы есть
нечто совершенно объективное, вполне независимое от человеческой деятельности.
Истина лежит посредине: изменчивость, историчность естественнонаучного знания
свидетельствует о том, что такие законы – определённые срезы реальности,
которые определяются как объектом, так и субъектом, что оба вносят свой вклад в
их формирование и функционирование.
Завершая свою дедукцию рассудочных понятий, И.Кант подытоживает её так: «Мы
не можем мыслить ни одного предмета иначе как с помощью категорий; мы не можем
познать ни одного мыслимого предмета иначе как с помощью созерцаний,
соответствующих категориям. Но все наши созерцания чувственны, и это знание,
поскольку предмет его дан, имеет эмпирический характер. А эмпирическое знание
есть опыт. Следовательно, для нас возможно априорное познание только предметов
возможного опыта»[153].
Опыт – это синтез мышления и чувственности, вследствие чего Кант и уделил такое
внимание различным формам синтеза. Открытие и описание последних составляет
ядро его учения о категориях. В нём он раскрыл общую структуру субъекта и
строение познавательного акта.
Высшие познавательные способности суть рассудок, способность суждения и
разум. Разум у Канта относится к диалектике, первые две способности – к
аналитике. Рассудок – это способность давать правила или устанавливать понятия,
а способность суждения – умение подводить под правила, то есть указывать случаи,
к которым эти правила должны применяться[154].
Познание вообще есть применение категорий к явлениям. Такое применение он
трактует как подведение явлений под категории. Именно это и осуществляет
способность суждения. Прежде чем её анализировать, следует сказать о
98
том, что понимает Кант под понятиями или правилами, данными в
понятиях, о которых он постоянно пишет. Надо иметь в виду, что для Канта
понятия – определённые способы действия, синтеза, объединения чувственных
данных или, как он их ещё называет, «единства действия». В таком плане
кантовская концепция понятий совершенно отличается от предшествующих ей
концепций, особенно сенсуалистических. В последних понятие – это то общее,
одинаковое, что есть в различных предметах и явлениях. У Канта понятие – это
способ или правило построения предмета. Сошлёмся на такой текст: «Рассудок как
способность мыслить (представлять себе нечто посредством понятий) называется
также высшей познавательной способностью (в отличие от чувственности как
низшей) потому, что способность [иметь] созерцания (чистые или эмпирические)
даёт только единичное в предметах, [то есть] правило, которому должно быть
подчинено многообразие чувственных созерцаний, чтобы создать единство для
познания объекта»[155].
Общее есть правило синтеза чувственных данных, материала деятельности.
Например, понятия стола, стула и так далее – это способы их построения, понятия
человека, животного и т. п. – это способы, правила, по которым мы в познании
объединяем наличные в них материи и свойства. Поэтому у Канта общее, понятие –
не то, что выбирается из разных предметов, а то, что создаёт, конструирует их,
определённое единство, схожесть действия. В создании таких правил, или понятий,
и состоит природа рассудка. Он, можно сказать, состоит из деятельности, и этим
отличается от чувства. «Внутреннее чувство не есть чистая апперцепция, [то
есть] сознание того, что человек делает, ведь такое сознание относится к
способности мышления; оно [внутреннее чувство. – М.Б.] есть сознание
того, что оно испытывает, поскольку на него воздействует игра собственных
мыслей»[156].
В другом мес-
99
те Кант определяет спонтанность апперцепции как «чистое сознание
деятельности, которое составляет мышление...»[157].
Чувственность даёт материал, а деятельность мышления строит из него предмет.
Способность построения и есть понятие. Выше, в связи с фигурным синтезом, мы
видели примеры таких построений – линию, окружность и др. Такова суть рассудка
– создавать понятия или правила.
Схематизм рассудка и роль воображения в познании
Способность суждения – умение подводить явления под такие правила или
понятия. Здесь возникает проблема: чтобы такое подведение было возможно, оба
компонента должны быть однородны. Но рассудочные понятия (категории) и явления
– совершенно разнородны. Как же подводить явление под категорию? Согласно
Канту, для этого нужно найти между ними третье, посредствующее звено, чтобы оно
было, с одной стороны, однородно с понятием, с другой – с созерцанием. Таким
звеном является схема, а её функцию выполняет время. Ведь мышление есть
действие, деятельность, формой его существования является время, с помощью
которого и осуществляется схематизация категорий для их присоединения к
явлениям. Суть здесь в следующем: категория – это чистый синтез, чистое
действие, время как форма созерцания содержит в себе многообразие. Внося в это
многообразие синтез, способ действия, характерный для данной категории, получаем
её временное определение, которое, с одной стороны, «однородно с категорией
(которая составляет единство этого определения), поскольку оно имеет общий
характер и опирается на априорное правило. С другой стороны, трансцендентальное
временное определение однородно с явлением, поскольку время содержится во
всяком эмпирическом представлении о многообразном»[158].
Кант, исходя из сказанного, схематизирует
100
всю таблицу категорий. Поясним примерами. В логическом смысле
субстанция есть субъект, то, что несёт на себе предикаты, но сама им не может
быть, – в виде схемы субстанция есть постоянность реального во времени; понятие
необходимости есть неразрывность связи, а его схема – существование предмета во
всякое время; соответственно, действительность – это существование предмета в
определённое время; возможность – существование вещи в какое-либо время и т. п.[159]
В общем, «схема есть... лишь феномен или чувственное понятие предмета,
находящееся в соответствии с категорией»[160].
Итак, чтобы соединить категории с явлениями, Кант вводит схему как посредствующее
звено. Схема есть чувственное понятие, и каждая категория схематизируется. Но
категория есть форма мышления, а время, которое выполняет схематизирующую роль,
– форма созерцания. Они, согласно Канту, совершенно неоднородны. Как же
соединяется категория с временем, чтобы возникла схема? Здесь, представляется,
также должно быть нечто третье, и т. д. до бесконечности, если формы созерцания
и понятия рассудка совершенно несходны. То, что здесь есть проблема, чувствовал
и Кант. Однако он её обходит, когда пишет: «Не останавливаясь на сухом и
скучном анализе того, что требуется для трансцендентальных схем чистых
рассудочных понятий вообще, мы лучше [?] изложим эти схемы согласно порядку
категорий и в связи с ними»[161].
Речь как раз и идёт о том, как чистое понятие соединить с чистым созерцанием.
Поэтому получается так, что Кант такое соединение постулирует и поясняет его
примерами. И данные примеры, и гносеология в целом свидетельствуют о том, что
такие схемы действительно существуют и выполняют посредническую роль и в
практике, и в познании. Но как они возможны? Кант, по-видимому, этого не знал.
Иначе как понять следующее место «Критики»: «Этот схематизм нашего рассудка в
отношении явлений и их чистой формы есть скрытое в
101
глубине человеческой души искусство, настоящие приёмы которого нам
вряд ли когда-либо удастся угадать у природы и раскрыть. Мы можем только
сказать, что образ есть продукт эмпирической способности продуктивного
воображения, а схема чувственных понятий (как фигур в пространстве) есть
продукт и как бы монограмма чистой способности воображения a priori...»[162].
Субъективно Кант мог быть уверен, что может проделать необходимый и достаточный
здесь «сухой и скучный анализ». Однако его исходная предпосылка об абсолютной
разнородности понятий и созерцаний явно исключает его.
Аналогичную трудность мы видели выше и в связи с проблемой фигурного
синтеза, где действие воображения предстаёт как синтезирующее влияние рассудка
на внутреннее чувство: Кант констатирует неясность и трудность того, каким
образом «Я» мыслящее отличается от «Я» созерцающего и тем не менее совпадает с
ним. И там данный вопрос ставится, но не решается.
Однако поскольку и фигурный синтез, и схематизм категорий являются
разновидностями соединения мышления и чувственности, следует сравнить их.
Фигурный синтез есть продукт воображения, которое воздействует категориями
(понятиями) на внутреннее чувство и тем определяет их. Внутреннее чувство – это
время как форма созерцания. Но представить и мыслить время мы можем не иначе,
как проводя прямую линию в воображении (такая линия – фигурное представление о
времени) и при таком проведении обращая внимание на действие синтеза
многообразного, которым мы возбуждаем и определяем внутреннее чувство.
Категории здесь оказывают такое же возбуждающее действие, как внешние предметы
на внешнее чувство. Состав фигурного синтеза исчерпывается данными элементами:
рассудочное понятие, внутреннее чувство, их связь, осуществляемая воображением.
102
Оно же создает и схематизм категорий, но здесь речь идет об
отношении категорий и явлений. А явление – это совокупность ощущений,
упорядоченных в пространстве и времени. При этом пространство – форма внешнего
созерцания, а время – внутреннего, поскольку же все воспринимаемые явления
находятся в нас, внутри субъекта, время находится во всех явлениях, внутренних
или внешних. Поэтому Кант выбирает время как посредствующее звено между
категориями и явлениями.
Таким образом, фигурный синтез и схема совпадают лишь частично – поскольку
оба есть результат продуктивного воображения, оба – виды чувственных понятий.
Однако схема – более широкое образование, поскольку она относится к любым
явлениям, фигурный синтез есть действие категорий только на внутреннее чувство.
Но без него нельзя было бы подступиться и к внешним явлениям. Поэтому он –
предпосылка схематизма, «это есть действие рассудка на чувственность и первое
применение его (а также основание всех остальных способов применения)»[163].
Значит, фигурный синтез и схематизм категорий различаются и по содержанию, и
функционально. Основная тенденция в данном вопросе – применение категорий к
познанию чувственных вещей; первый шаг такого применения – фигурный синтез,
второй – схема. На первом шаге категория становится чувственным понятием, на
втором – она применяется к явлениям опыта.
Для понимания специфики схематизма рассудочных понятий Кант сравнивает схему
с образом и монограммой. Он соотносит их на трех уровнях своего анализа –
трансцендентальной эстетики, эмпирического познания и в отношении категорий.
По поводу первого Кант пишет, что «в основе наших чистых чувственных понятий
[математики. – М.Б.] лежат не образы предметов, а схемы. Понятию
о треугольнике вообще не
103
соответствовал бы никакой образ треугольника»[164].
Образ есть единичное созерцание, или созерцание единичного предмета. Образ
треугольника всегда будет образом конкретным – прямо-, остроугольным или
треугольником большим или меньшим – и не будет адекватен его понятию. Ему
соответствует только схема. «Схема треугольника не может существовать нигде,
кроме как в мысли, и означает правило синтеза воображения в отношении чистых
фигур в пространстве»[165].
Таким синтезом будет определение: треугольник – это три прямых отрезка, попарно
соединенных в своих концах; это и понятие («правило синтеза» отрезков), и
фигура для созерцания, в общем – схема.
Аналогично в эмпирическом познании. Здесь разнообразие объектов еще больше,
чем в математике: видов собак больше, чем видов треугольников. Поэтому образ
собаки еще менее адекватен ее эмпирическому понятию и соотносится с последним
через схему. «Понятие о собаке, – пишет Кант, – означает правило, согласно
которому мое воображение может нарисовать четвероногое животное в общем виде,
не будучи ограниченным каким-либо единичным частным обликом, данным мне в
опыте, или же каким бы то ни было возможным образом in concrete»[166].
To, что таким образом нарисовано, есть и понятие, и фигура, то есть их единство
– схема.
О схематизме категорий мы писали выше. Здесь поясним различие схемы и образа
применительно к количеству. «Чистый образ всех величин для внешних чувств есть
пространство, а чистый образ всех предметов чувств вообще есть время. Чистая же
схема количеств как понятия рассудка есть число – представление, объединяющее
последовательное прибавление единицы к единице (однородной)»[167].
Мы находим у Канта пример данного различия. Если я располагаю пять
104
точек одну за другой, то это образ числа пять. Но если я возьму 1000
точек, то образа не получится, ибо их нельзя обозреть, чтобы сравнить с
понятием. Так же и с любыми числами, превосходящими нашу зрительную
способность. «Если же я мыслю число вообще, безразлично, будет ли это пять или
сто, то такое мышление есть скорее представление о методе (каким представляют в
одном образе множество, например тысячу) сообразно некоторому понятию, чем сам
этот образ, который в последнем случае, когда я мыслю тысячу, вряд ли могу
обозреть и сравнить с понятием»[168].
Этот метод – способ соединения многообразия единиц в некоторое целое – число.
Метод есть способ действия, форма синтеза, или понятие, он объединяет
чувственные элементы – единицы, и получается третье – схема, в данном случае
это – число. Добавим, что Кант интуитивно подразумевает под методом десятичную
систему счисления. Если объединить пять, сто или тысячу точек в двоичной
системе счисления или в любой иной, то и схема будет иная.
О монограмме сделаем лишь краткое замечание, ибо и Кант, ссылаясь на неё,
использует выражение, что схема есть «как бы монограмма чистой способности
воображения a priori...»[169],
то есть подчёркивает условность сравнения. Это соответствует и сути дела: слово
«монограмма» означает условное изображение имени, фамилии в виде вензеля,
условный знак (изображение цветка, животного и т. д.), заменяющий подпись на
произведениях художников[170].
Обобщение проведённого сравнения содержится в цитированной выше мысли Канта,
согласно которой образ есть продукт эмпирической способности продуктивного
воображения, а схема – чистой или априорной. Как видим, такое различие действительно
существует, не следует только абсолютизировать «чистоту» воображения и
учитывать, что во всякой по-
105
знавательной способности имеются и опытные и сверхопытные аспекты.
Обобщение требуется и в другом отношении. Речь идёт о центральной роли
воображения в гносеологии Канта. Он выделил, как мы видели, две главные
познавательные способности – рассудок и чувственность, их единство есть опытное
познавание, а такое единство осуществляется воображением. Это соединение имеет
несколько уровней. Наивысший из них представлен трансцендентальной апперцепцией
– «Я» как мыслительным, интеллектуальным синтезом и «Я» созерцающим –
внутренним чувством. Трансцендентальный синтез воображения приводит их в
единство, связь через действие рассудка на внутреннее чувство, в результате
чего получается фигурный синтез. Та же сила воображения синтезирует рассудочные
понятия, категории с явлениями посредством схем. Действие воображения можно
заметить и на третьем уровне – восприятий, где имеет место синтез схватывания.
Кант здесь не говорит о воображении, однако, поскольку восприятие есть, как мы
видели, не чисто пассивный процесс принятия данного, а одновременно его
конструирование, без него и здесь нельзя понять познания.
Таким образом, сверху донизу воображение везде выступает как главная
познавательная способность, она стоит над чувственностью и рассудком,
объединяет эти разнородные источники знания. Этим и даётся основная структура
познавательного акта у Канта. До него воображение знали и рассматривали наряду
с представлением и восприятием как одну из чувственных способностей. Кант
принимает это положение, когда пишет, что воображение «принадлежит к
чувственности»[171],
но тут же вносит уточнение, что способность воображения есть «действие рассудка
на чувственность», вследствие чего его синтез фигурный и отличается от чисто
интеллектуального синтеза, производимого рассудком «без всякой
106
помощи воображения»[172].
И в этом отношении гносеология Канта принципиально отличается от предшествующих
её вариантов: достаточно сказать, что воображение за всю историю философии
впервые именно у него приобрело такое основное значение[173].
Его позиция в данном вопросе определила некоторые важные идеи Фихте и Шеллинга,
но в последующем оно снова отходит на периферию познания.
Принципы описания опыта
Итак, схематизация категорий, обрастание их модификациями формы внутреннего
чувства – времени – есть общее условие применения их к чувственным явлениям.
Такое применение даёт некоторое знание о явлениях. Каждой категории
соответствует определённый вид такого знания. Кант называет его
основоположением, а совокупность таких видов знания делает предметом
исследования во второй части своей логики – в «аналитике основоположений».
В изложениях кантовской философии эта часть пропускается, хотя она весьма
обширна (содержит более сотни страниц текста) и очень богата наблюдениями по
вопросу применения категорий, в толковании последних и т. д. Именно
основоположения составляют смысл и содержание опыта – единственного вида
знания, доступного, по Канту, человеку.
Знание состоит из трёх элементов: понятий рассудка, форм созерцания и
материала созерцания – ощущений. Схемы объединяют только два первых элемента.
Объединение необходимо, чтобы понятие приобрело чувственный характер, ибо без
этого оно не может быть приложено к чувственным данным – ощущениям. Когда
приложение осуществляется, получается опыт, или опытное знание. Если нет
какого-либо из трёх названных компонентов, то нет и опыта.
107
Чтобы понять специфику кантовской теории познания, следует учесть функцию
категорий в нём. С этой целью напомним его «дефиницию категорий. Они – понятия
о предмете вообще, благодаря которым созерцание его рассматривается как
определённое с точки зрения одной из логических функций суждения»[174].
Поясним это на примере. Возьмём такой предмет, как камень, который нагрет
солнцем. О нём можно высказать ряд суждений: он большой, малый или средний; он
тёплый и такого-то цвета; нагревается от солнечных лучей, то есть солнце –
причина его нагревания; он покоится на земле, поскольку притягивается ею, и т.
п. Все эти суждения выражают определённости камня и все содержат понятия о
предмете вообще – категории. Логические функции суждения – это и есть
категориальные функции. Так, в данном случае первое суждение определяет предмет
с точки зрения количества, второе – качества, третье – причинности, четвёртое –
взаимодействия. Суждения и заключённые в них категории определяют предмет, и в
этих определениях заключается наше знание о предмете. Поскольку категории (и
ассоциированные с ними суждения) всеобщи и необходимы, то и определяют они
предмет вообще. Поскольку же они априорны, постольку в названных суждениях и
категориях, в их совокупности содержится целая система априорного знания. Эта
система и представлена в основоположениях чистого рассудка.
Иначе говоря, Кант исследует вопрос: можем ли мы иметь знания о явлениях до
того, как будут нам даны какие-либо знания из этих явлений? На этот вопрос он
отвечает утвердительно: такие знания есть, и это именно доопытные, априорные
знания. Правилен ли такой ответ? Предварительно отметим, что в его учении о
категориях следует различать три аспекта. Во-первых, Кант считает, что
категории – это не знания, а только формы мысли. Знаниями они становятся в
процессе применения к явлениям. Если они применяются к действительным
чувственным данным, то получается опыт.
108
Однако есть ещё возможный опыт. Ведь категории могут давать знания
только через отношение к чувственным ощущениям, а не к вещам в себе. Поэтому
они изначально, как бы сами в себе предназначены для определения чувственности,
интенциональны относительно неё, нацелены на неё. Эта их исконная
направленность на явления и порождает изначальное, доопытное знание. «Именно
отношение категорий к возможному опыту должно составлять все чистые априорные
рассудочные знания...»[175].
Конечно, категории – формы мысли, но таковыми они являются потому, что имеют
более общий характер, чем те предметы, к которым они могут применяться. Именно
относительно них они – формы, сами же по себе категории имеют определённое
содержание, что видно и из кантовской их дефиниции. Если брать сложившийся
категориальный строй мышления, как делает Кант, то в силу имеющегося в нём
содержания он и может сказать что-то о возможном опыте.
Во-вторых, априорные знания Кант выводит из априорного характера категорий.
С точки зрения созерцательного материализма, – это сплошное заблуждение. Но мы
уже видели, что категории отчасти апостериорны, отчасти априорны (поскольку они
в зародышевом виде даны с рождением ребёнка). Поэтому в данном вопросе нужно
быть особенно осторожным, чтобы не впасть в другую крайность. Мы его обсудим
дальше, после того, как представим читателю таблицу основоположений, которую
Кант получает из таблицы категорий.
Она состоит из четырёх групп, или рубрик:
1. Аксиомы созерцания
2. Антиципации восприятия
3. Аналогии опыта
4. Постулаты эмпирического мышления вообще Рассмотрим их по порядку.
109
1. Аксиомы созерцания. Принцип их таков: все созерцания есть
экстенсивные величины. Суть этого в следующем: все явления по своей форме
содержат некоторое созерцание в пространстве и времени, априорно лежащее в их
основе, ибо все явления – это упорядочение ощущений с помощью этих форм
созерцания. Но пространство – протяжённая, или экстенсивная, величина, а время
может созерцаться только через проведение прямой линии, то есть также как
экстенсивная величина. Вследствие этого мы ещё до того, как дано явление, можем
знать о нём, что оно экстенсивно, будет ли это цвет предмета, иное его свойство
или сам предмет (дерево, дом и т. п.). Кант придавал этим аксиомам большое
значение. «Указанное нами трансцендентальное основоположение математики явлений
чрезвычайно расширяет сферу нашего априорного знания. Именно благодаря этому
основоположению чистая математика со всей её точностью становится приложимой к
предметам опыта, тогда как без него это не было бы ясно само собой и, более
того, вызывало бы много противоречий»[176].
2. Антиципации восприятия. «Принцип их таков: реальное, составляющее
предмет ощущения, имеет во всех явлениях интенсивную величину, т. е. степень»[177].
Антиципация значит предвосхищение, в данном случае – знание о восприятии до
самого восприятия. Но особенность последнего, кажется, исключает его.
«Восприятие есть эмпирическое сознание, т. е. такое сознание, в котором есть
также ощущение»[178].
Между тем «качество ощущения всегда чисто эмпирическое, и его никак нельзя
представлять себе a priori (например, цвет, вкус и т. п.)»[179].
В «Антропологии» Канта есть такое пояснение: «Тот, кто из семи цветов никогда
не видал красного, никогда не может иметь ощущения этого цвета; слепой же от
рождения не может иметь ни одного цвета... То
110
же самое можно сказать о каждом из пяти чувств, а именно, что
получаемые от них ощущения не могут быть образованы воображением во всей их
сложности, а первоначально должны быть исторгнуты из чувственной способности»[180].
Какая же антиципация, какое априорное знание может быть о восприятии и,
следовательно, об ощущении? Кант полагает, что не их качество, а их интенсивность,
степень. Всякий цвет, например красный, имеет степень, то же теплота, тяжесть,
вкус и т. п. Кант ссылается на то, что от эмпирического сознания к чистому
возможен постепенный переход, когда наличное в представлении ощущение будет
становиться всё более слабым, вплоть до нуля, до полного исчезания, когда
останется один экран – форма созерцания, без его материала. Более определённой
является ссылка на внутреннее чувство, которое имеет свою собственную
интенсивность, силу, напряжение, вследствие чего одна и та же освещённая
поверхность может вызывать у человека более или менее сильное ощущение. Короче,
интенсивность ощущения зависит не только от объекта, но и от субъекта. «Поэтому
хотя все ощущения, как таковые, даны только a posteriori, но то свойство их, что
они имеют степень, может быть познано a priori»[181].
Рассмотренные две группы основоположений, поскольку они выражают
количественные свойства явлений, Кант называет математическими, следующие две –
динамическими, в них речь идёт о действиях, противодействиях, движении
объектов.
3. Аналогии опыта. Опыт есть эмпирическое знание, синтез восприятий.
Поэтому общий принцип аналогий гласит: «Опыт возможен только посредством
представления о необходимой связи восприятий»[182].
Синтез исходит из трансцендентальной апперцепции через категории и схемы –
временные ограничения их. Время имеет три модуса: постоянность, по-
111
следовательность и одновременное существование. Вследствие чего
имеются и три аналогии опыта.
Первая из них – это основоположение о постоянности субстанции: «При всякой
смене явлений субстанция постоянна, и количество её в природе не увеличивается
и не уменьшается»[183].
Вторая – основоположение о временной последовательности по закону
причинности: «Все изменения происходят по закону связи причины и действия»[184].
И третья аналогия – основоположение об одновременном существовании согласно
закону взаимодействия, или общения: «Все субстанции, поскольку они могут быть
восприняты в пространстве как одновременно существующие, находятся в полном
взаимодействии»[185].
Все аналогии опыта есть выражение отношений между явлениями. Одно из
основных положений кантовской философии состояло в том, что существование
явлений нельзя познать a priori, то есть из понятия явления нельзя доказать,
конструировать, извлечь его бытие. Поэтому данные основоположения могут иметь
только регулятивный характер, то есть если дано некоторое восприятие, то можно
сказать лишь то, как другое восприятие связано с данным в таком-то модусе
времени, но нельзя сказать, каково оно по качеству и величине. Существование
удостоверяется ощущением, а последнее антиципировать, предвосхитить или
предвидеть нельзя. Предвидеть можно только отношения, которые представлены и в
категориях третьей группы кантовской таблицы – субстанциональность, причинность
и взаимодействие, но не то, что в этих отношениях находится. Между
категориальными отношениями и отношениями реальными есть сходство, подобие,
аналогия. Своё понимание последней Кант отличает от математической его
трактовки. В математике аналогия – это пропорция – равенство двух отношений
величин, так что если
112
даны три члена пропорции, то тем самым может быть указан и четвёртый
член. «Но в философии аналогия есть равенство двух не количественных, а
качественных отношений, в котором я по трём данным членам могу познать и a
priori вывести только отношение к четвёртому члену, а не самый этот четвёртый
член; однако у меня есть правило, по которому могу искать его в опыте, и
признак, по которому могу найти его в нём»[186].
Если такое правило, скажем, причинность, то по данному восприятию (причине) я
буду искать следствие, а характер причины будет регулировать поиск
соответствующего следствия.
Аналогии опыта выражают основные положения, характерные для научного знания,
особенно естествознания и философии Нового времени. Достаточно назвать
Р.Декарта, Б.Спинозу, Т.Гоббса и других мыслителей. Эти категории преломились и
в некоторых фундаментальных принципах естествознания, например, в принципах
сохранения материи, движения. Стоит отметить, что у Канта наиболее глубокий
уровень объективности представлен взаимодействием. Эта идея сохранилась и в
последующей истории познания – у Гегеля, например, и заново возродилась в
современном естествознании[187].
4. Постулаты эмпирического мышления. Таких постулатов Кант
формулирует три: 1) то, что согласно с формальными условиями опыта (если иметь
в виду созерцание и понятия), возможно; 2) то, что связано с материальными
условиями опыта (ощущения), действительно; 3) то, связь чего с
действительностью определена согласно общим условиям опыта, существует
необходимо[188].
Поясним вкратце эти постулаты. Они основаны на категориях модальности. Их
особенность состоит, по Канту, в том, что они не добавляют никаких свойств
объекту, а выражают только отношение их к познава-
113
тельной способности. Если, однако, это было бы так, то между
объектами возможными и действительными, возможными и необходимыми не было бы
различия. Да это видно и из самих постулатов. Предмет действителен, если он дан
в ощущении, а без этого он – лишь возможный. Например, когда Н.И.Лобачевский
построил неевклидову геометрию, он назвал её воображаемой, поскольку её принцип
(сумма углов треугольника меньше двух прямых) не опирался ни на какую
действительность, не было ни единого факта, его подтверждающего. А мысль о
возможности такой геометрии явилась потому, что все попытки доказать Евклидов
постулат, предпринимавшиеся на протяжении более двух тысяч лет, окончились
неудачей. Так была создана целая новая система знания. Она не была
действительной – в силу сказанного. А была ли она возможной? Система знания,
построенная без опоры на опыт, возможна, если не содержит внутреннего
противоречия. Вот почему творцы новой геометрии Н.И.Лобачевский, Я.Больаи,
К.Гаусс, не имея внешнего её подтверждения, старались доказать её
непротиворечивость. Если бы внутри неё оказалось противоречие, она заведомо
была бы ложной и невозможной. Возможная система знания согласна с формальными
условиями опыта, как и утверждает первый постулат Канта. Во втором он правильно
подчёркивает, что «в одном лишь понятии вещи нельзя найти признак её
существования... В самом деле, если понятие предшествует восприятию, то это
означает лишь возможность его, и только восприятие, дающее материал для
понятия, есть единственный признак действительности»[189].
Если взять наш пример, возможность новой геометрии была доказана ещё в XIX в.,
вопрос о её действительности окончательно не решён и до сих пор – недостаёт вот
этого самого материала для её понятий.
Под необходимостью Кант понимает связь явлений по закону причинности[190].
Это понятие, как и предыдущие,
114
несомненно объективно. Однако, с другой стороны, в понятиях есть и
субъективный момент. Его и старался подчеркнуть Кант. О том, что он имел в
виду, ясно из следующего текста: «Если понятие какого-нибудь предмета уже
совершенно полное, то я всё же ещё могу спросить об этом предмете: только ли
возможный он или действительный, и в последнем случае не есть ли он также
необходимый предмет? Тем самым уже не мыслится определение в самом предмете, а
только ставится вопрос, как он (вместе со всеми своими определениями) относится
к рассудку и эмпирическому применению его, к эмпирической способности суждения
и к разуму (в его применении к опыту)»[191].
Здесь действительно есть проблема. Если предположить полноту понятия или, в
нашем примере, полноту развитой априори системы неевклидовой геометрии у
Н.И.Лобачевского (а это общепризнанно), то подтверждение её в опыте может
ничего не добавить к её содержанию (например, ни одной новой аксиомы или
теоремы), так что система возможная и действительная содержательно – одна и та
же, и разница «только» в том, что во втором случае к системе знания
«присоединено» бытие, а в первом случае его нет. Бытие меняет статус
воображаемой геометрии, но может не добавлять новых определений к её
содержанию. Вот это различие бытия и созерцания и проводит Кант в толковании
своих постулатов, и его надо иметь в виду, чтобы понять их смысл.
Таковы основоположения рассудка в самом общем виде. Они и составляют то
априорное знание, которое Кант старался открыть в человеке. Их совокупность он
характеризует как способность «антиципировать опыт», как «чистую схему для
возможного опыта», как «принципы описания явлений»[192].
Последние два определения весьма удачны: в основоположениях мы находим все
основные принципы познания, свойственные истории естествознания Нового времени.
Здесь и применение математики к эмпирическому познанию («математика явле-
115
ний»); и фундаментальные категориальные связи субстанциальности,
причинности и взаимодействия; наконец, постулаты, в которых выражается статус
понятий или теорий, своеобразные критерии их объективности или субъективности.
Ко временам Канта все эти принципы вполне сложились и стали необходимыми во
всяком научном познании, приобрели характер исходных законов для познания, то
есть априорных.
Понятие априорного имеет три аспекта. Во-первых, это рассмотренные выше
зачатки, или зародыши, категорий и форм созерцания в человеке, полученные им
при рождении. Апостериорным является их развитие и раскрытие в индивидуальном
развитии. Мы видели, что Кант не признавал таких задатков, боясь субъективизма;
кроме того, он занимался исследованием готового рассудка или разума, которые
представлены в деятельности учёных. Во-вторых, апостериорное, сложившись и став
привычным, становится априорным, ибо теперь оно предшествует познанию новых
явлений. В-третьих, априорное выражает активность познающего субъекта; без
этого знание было бы чисто пассивным восприятием или принятием извне данного,
что не соответствует действительности. Всякое развивающееся знание – единство
априорного и апостериорного, которые, однако, не абсолютны, а относительны.
Сошлёмся на классический пример – историю создания неевклидовой геометрии. Один
из творцов её, венгерский учёный Больаи (1802-1856), построил её систему и
опубликовал в виде приложения к сочинению своего отца Ф.Больаи (1832) под
названием «Appendix. Приложение, содержащее науку о пространстве абсолютно
истинную, не зависящую от истинности или ложности XI аксиомы Евклида, что a
priori никогда решено быть не может...». С его точки зрения, только опыт может
решить, какой постулат соответствует реальности – является ли сумма углов
треугольника равной 2d или меньше 2d. Но система неевклидовой геометрии не
сводится к этому. По поводу одного из её разделов он пишет, подытоживая: «Таким
образом, существует априорная плоская тригонометрия, для которой, однако,
остаётся неизвестной единственная истинная
116
система, и потому абсолютные величины выражений остаются
неизвестными; по заданию одного случая, очевидно, устанавливается вся система»[193].
Дело в том, что в построенную априорным способом систему, в её формулы входит
некая величина i, которая и может быть установлена опытным путём. То же видим
мы и в «Воображаемой геометрии» Н.И.Лобачевского: она тоже априорна, но это
один её план, второй – опытный. А в целом такие системы – единство того и
другого. Более того, всякое развитое теоретическое познание содержит оба таких
элемента, вследствие чего оно и не бывает чисто абсолютным, а уточняется с
прогрессом рассудка и опыта. Добавим здесь, что неевклидова геометрия обычно
рассматривается как полное опровержение кантовского априоризма. Это так,
поскольку априоризм есть абсолютизация доопытного элемента познания, поскольку
названную неизвестную величину можно определить только в опыте. Однако это
только одна сторона дела. Другая, не менее важная, состоит в том, что ведь
целые системы знания были построены доопытным путём, о чём свидетельствует само
название геометрии у Лобачевского или приведенный текст Больаи. С этой стороны
новые геометрические системы были и подтверждением кантовских взглядов с
необходимой их корректировкой.
Есть нечто парадоксальное в учении Канта: с одной стороны, он, как никто
другой, возвысил априорные аспекты познания, развернув целую систему
основоположений как предваряющую опыт и сверхопытную; с другой стороны, через
всю его работу проходит лейтмотив – априорное знание относится только к
явлениям, только к опыту и не имеет отношения к вещам в себе. Поэтому, завершая
изложение своей логики, он пишет специальный раздел «Об основании различения
всех предметов вообще на феномены и ноумены». Таким основанием он считает
понятие знания как единства формы и материала. К первым относятся категории и
формы созерцания, ко второму – ощущения. Вещи в себе в этом смысле непознавае-
117
мы, они не даются в ощущениях, и это полагает границу между ими и
явлениями.
Здесь уместно представить кантовскую концепцию по данному вопросу в
целостном виде. А именно, соответственно трём главным частям его «Критики чистого
разума» у него имеется три понятия о вещах в себе.
В трансцендентальной эстетике – это реально существующие вещи, ибо они
воздействуют на чувственность и порождают ощущения, хотя между последними и
вещами в себе нет никакого сходства, что и порождает агностицизм Канта.
Данное понятие «вещи в себе» эпизодически появляется и в логике, при
рассмотрении постулата о действительности. Действительно то, что связано с
материальными условиями опыта, то есть с ощущением, а оно возбуждается
реальными вещами. И вот в завершение анализа данного постулата Кант во втором
издании своего сочинения пишет специальный параграф «Опровержение идеализма», в
котором доказывает «Теорему: простое, но эмпирически определённое сознание
моего существования служит доказательством существования предметов в
пространстве вне меня»[194].
Здесь позиция та же, что и в его эстетике.
Однако, повторяем, это – эпизод. В целом в логике понятие «вещи в себе»
иное, чем в первом разделе «Критики». Это подчёркивается и внешне,
терминологически: вместо явления и вещи в себе используются термины «феномен» и
«ноумен». Меняется и содержание. Явление это, так или иначе, – проявление иного
– вещи в себе, феномен показывает не другое, а самого себя. Данное различие
проистекает из различия двух главных познавательных способностей. В эстетике
исследуется чувственность – способность получать впечатления извне, через
воздействие реальных вещей. В логике раскрывается сущность рассудка,
способности создавать понятия. Рассудок – спонтанная деятельность, он образует
понятия, так сказать, из самого себя, а не через действие вещей. Чувственные
118
же, упорядоченные ощущения, к которым он прилагает понятия, рассудок
просто находит как данные; это и есть феномены, происхождение которых – за
пределами логики.
Аналогично обстоит дело и со второй парой элементов: вещь в себе
соотносительна с чувственностью, в которой сказывается её действие. Отношение
же рассудочного понятия к вещам совсем иное; здесь действует положение Канта,
уже приведённое выше: в одном лишь понятии вещи нельзя найти признак её
существования. Приведём ещё не менее выразительную мысль: «... Наше знание о
существовании вещей простирается настолько, насколько простирается
восприятие...»[195].
Таким образом, соответствуют ли понятиям некоторые реальные вещи, это
неизвестно. Отсюда и возникает специфика ноумена: это – понятие
проблематическое; ноумен есть не понятие реального объекта, а вопрос, проблема[196].
Хотя понятие ноумена возникает не произвольно, «но в конце концов возможность
таких ноуменов усмотреть нельзя, и вне сферы явлений всё остаётся [для нас]
пустым, иными словами, мы имеем рассудок, проблематически простирающийся далее
сферы явлений, но у нас нет такого созерцания, ... благодаря которому предметы
могли бы быть даны нам вне сферы чувственности, а рассудок можно было бы
применять ассерторически за её пределами. Следовательно, понятие ноумена есть
только демаркационное понятие, служащее для ограничения притязаний
чувственности и потому имеющее только негативное применение. Однако оно не
вымышлено произвольно, а связано с ограничением чувственности, хотя и не может
установить ничего положительного вне сферы её»[197].
Эти мысли вполне рациональны, ибо действительно при помощи одного мышления
нельзя установить бытие объектов вне нас.
Третье понятие о вещах в себе раскрывается в диалектике Канта. Там речь идёт
о специфических объектах: о душе
119
человека, мире в целом, о боге. Они связаны с иной познавательной
способностью – разумом человека. Об этом будет речь дальше. Сейчас же отметим,
что своеобразным обобщением к сказанному выше, о различии вещей в себе и
явлений, ноуменов и феноменов, проистекающем из различия познавательных способностей,
является «Приложение об амфиболии рефлексивных понятий, проистекающей от
смешения эмпирического применения рассудка с трансцендентальным». Это
приложение образует переход к диалектике Канта.
Амфиболия, по определению его, есть «смешение объекта чистого рассудка с
явлением»[198].
Такое смешение происходит в соотносительных, или рефлексивных, понятиях. Кант
различает два вида рефлексии – логическую и трансцендентальную. Логическая
рефлексия есть такое сравнение понятий, при которой отвлекаются от
познавательных способностей, к которым принадлежит их содержание, а рефлексия
трансцендентальная учитывает данные способности[199].
Важность этого для Канта состоит в том, что амфиболия смешивает объекты
рассудка и явления, нарушает границы опыта, выходит за их пределы, вследствие
чего возникают некритические системы философии.
Всего он насчитывает четыре пары рефлексивных понятий: тождество и различие;
согласие и противоречие; внутреннее и внешнее; материя и форма.
Если две капли воды совершенно одинаковы по содержанию, то с точки зрения
мышления они совершенно тождественны (понятие одной ничем не отличается от
понятия другой). Однако они различны как явления, хотя бы потому, что занимают
разные места в пространстве. В этой связи Кант критикует принцип неразличимости
Лейбница, который действителен только для понятий о вещах, но не для их
созерцания (Лейбниц не считал его самостоятельным источником познания)[200].
120
Если в понятии вещи есть только утвердительное и нет отрицательного,
то оно согласно с собой и не содержит противоречия. Иное дело в созерцании, в
реальности: здесь одно положительное, например, противоположно направленные
движения, создаёт реальное противоречие, результатом которого является нуль (в
данном примере – покой)[201].
В предмете чистого рассудка внутренним бывает только то, что не имеет
никакого отношения ко всему отличному от него. Напротив, внутренние определения
субстанции, являющиеся нам в пространстве, сводятся к отношениям, «и сама такая
субстанция целиком есть совокупность одних лишь отношений». Здесь Кант
возвращается к тому предмету, который обсуждал в первой аналогии опыта.
Интересно обоснование приведённого положения: субстанцию в пространстве мы
познаём по силам, которые действуют в нём, силам притяжения или отталкивания;
других свойств, которые составляли бы понятие субстанции, являющейся нам в
пространстве и называющейся материей, мы не знаем. В другом месте он называет
постоянное явление в пространстве непроницаемой протяжённостью[202].
Лейбниц интеллектуализировал внутреннее в субстанциях и таким образом пришёл к
учению об изолированных монадах, отношения между которыми устанавливаются
внешней силой, предустановленной гармонией, исходящей от Бога, а пространство и
время превратилось из форм созерцания в чисто мыслительное построение.
Наиболее важное значение Кант придавал материи и форме. «Эти два понятия
лежат в основе всякой другой рефлексии...»[203].
Они прямо выражают познавательные способности, первая – материал познания,
ощущения, вторая – его формы (понятия и формы созерцания).
В целом нельзя не признать правильности рассуждений Канта по данному
вопросу. Характерно и то, что его таблица
121
рефлексивных понятий «содержит не более чем четыре приведенные
рубрики всякого сравнения и различения, отличающиеся от категорий тем, что они
показывают не предмет согласно тому, что составляет его понятие, а только
сравнение представлений, предшествующее понятию о вещах»[204].
Если отвлечься от познавательных способностей и перейти к логической рефлексии,
то соотносительных понятий намного больше: единство и множество, сущность и
явление, свойство и отношение и т. п., сюда же надо бы включить и коррелятивные
категории из третьей группы их кантовской таблицы: причины и следствия и др.
Подобное мы видим в «Науке логики» Гегеля, во второй её части, которая и
составляет его «логику рефлексии»
Однако Кант выбрал только такие виды понятий, которые дают возможность
проводить чёткое различие между чувственностью и рассудком, явлениями и вещами
в себе, феноменами и ноуменами. Поэтому приложение об амфиболии рефлексивных
понятий есть не простое добавление или приложение, не отклонение от
магистральной линии кантовской мысли, а обобщение всей его критики познания. Более
того, он использует здесь результаты и своих докритических исследований,
например, из опыта введения в философию понятия отрицательных величин и других
сочинений. В приложении он выделяет вопрос о различии чувственности и рассудка
в чистом виде, находит ряд специальных категорий, которые его представляют и
поясняют, даёт развёрнутую критику принципов учения Г.В.Лейбница (1646-1716),
который смешивал явления и вещи в себе. Последователи Лейбница, особенно
Х.Вольф (1679-1754), возвели это смешение в систему, создали целые науки,
построенные из одних абстрактных понятий, без привлечения опыта, – рациональную
психологию, рациональную космологию и рациональную теологию. Их анализ и
критика и составляет предмет трансцендентальной диалектики Канта – третьей части
«Критики чистого разума».
122
Рассматриваемое «Приложение» есть, следовательно, и обобщение всей
предшествующей мысли Канта, и непосредственный переход к его диалектике.
Трансцендентальная диалектика
Основой для понимания кантовской диалектики является представление об
ограниченности опыта. Знание простирается настолько, насколько простирается
восприятие. Но человек не может удовлетвориться этим, он желает знать и то, что
находится за пределами опыта, то есть знать не часть реальности, но целое.
Поэтому рассудок перешагивает границы опыта и, расправляя крылья, устремляется
к вещам в себе. Таким образом он становится разумом. Здесь место для объяснения
смысла названия книги Канта: чистый разум – это именно тот, который притязает
познать вещи в себе без опоры на чувственность. Такое познание, по Канту, в
принципе невозможно. Поэтому смысл книги сосредоточивается именно в этой её
части, так как претензии чистого разума он и критикует.
Особенностей разума как познавательной способности несколько. Во-первых, разум
– это способность давать принципы. Последний термин, по Канту, имеет двоякий
смысл. Обычно он обозначает такое знание, которое можно применять как принцип,
хотя по своему происхождению оно и не является таковым. Сюда относятся всякие
общие положения, под которые подводятся частные случаи, каковы, например,
аксиомы в математике. Кант выделяет в нём другой смысл; он называет познанием
из принципов лишь такое знание, в котором я познаю частное в общем посредством
понятий. Ведь такова природа разума – стремиться познавать без опоры на
чувственность, из одних понятий. Такое знание Кант называет принципами в
абсолютном смысле слова, тогда как общие положения – относительными принципами[205].
Во-вторых, для такого абсолютного познания разум создаёт и соответствующие
понятия. Рассудочные понятия – это
123
категории, понятия разума – идеи. «Под идеей я разумею такое
необходимое понятие разума, для которого в чувствах не может быть дан никакой
адекватный предмет. Следовательно, чистые понятия разума... суть
трансцендентальные идеи... Они не вымышлены произвольно, а даны природой самого
разума и потому необходимо имеют отношение ко всему применению рассудка.
Наконец, эти понятия трансцендентны и выходят за пределы всякого опыта, в
котором, следовательно, никогда не бывает предмета, адекватного
трансцендентальной идее»[206].
Идеи трансцендентальны, ибо образуются в нашем разуме и являются предпосылкой
для постижения мира как целого; и они трансцендентны, ибо переходят за границы
опыта.
В истории новой философии термин «идея» без всякого разбора смешивался с
другими терминами для обозначения представлений, ощущений и т. п. У Д.Локка,
Дж.Беркли и других это обычное явление. Кант придал этому термину совсем иное значение
(отличное и от платоновского), строго отграничил его от других терминов
гносеологии: созерцаний, понятий и т. п. «Для тех, кто привык к такому
различению, невыносимо, когда представление о красном называют идеей»[207].
Освобождённое от крайностей критицизма, кантовское понятие идей сохраняется и
поныне.
В-третьих, продуктом рассудка является теоретическое, чистое естествознание,
и в системе основоположений Кант попытался показать, как оно возможно.
Продуктом разума является метафизика. Это наука древняя, в XVIII в. она
постепенно приобрела такой характер, что её начали противопоставлять философии,
хотя они – синонимы. О её своеобразии в это время Кант пишет: «Метафизика,
совершенно изолированное спекулятивное познание разумом, которая целиком
возвышается над знанием из опыта, а именно познание посредством одних лишь
понятий»[208]...
Метафизика – это наука
124
об идеях. Главных идей и их объектов – три: душа человека, мир в
целом и Бог. Как уже говорилось, в лейбницианско-вольфовской школе о них было
создано три науки из одних понятий: рациональная психология, космология и
теология. Кант поставил задачу – и это основная задача данной «Критики» –
разоблачить их иллюзорность, неистинность.
Но как это сделать? Поскольку такие построения были чисто интеллектуальными,
опровергнуть их можно было только через раскрытие внутренних противоречий. Опыт
здесь не мог помочь, ибо созерцаний, которые простирались бы на мир в целом,
Бога или сущность души, нет. Даже душа познается как явление, и даже сейчас не
можем сказать, что знаем ее сущность. Об этом свидетельствует история
психологии за последние два века.
Раскрытие и исследование противоречий чистого разума Кант и называет
диалектикой. Диалектика эта не похожа ни на одну иную ее форму, совершенно
специфична. Кант считает ее логикой видимости и подчеркивает: «Это не значит,
что она есть учение о вероятности; в самом деле, вероятность есть истина,
однако познанная с помощью недостаточных оснований...»[209].
Вероятностное знание, его анализ и критика были предметом диалектики
Аристотеля, изложенной главным образом в его сочинениях «Топика» и «О
софистических опровержениях»[210].
Видимость отличается и от явления. Видимость – это заблуждение, явление –
свидетельство чувств. Истина же или заблуждение (видимость) находятся не в
предмете (явлении), а в суждении о нем. Можно «с полным правом сказать, что
чувства не ошибаются, однако не потому, что они всегда правильно судят, а
потому, что они вообще не судят»[211].
Ни рассудок сам по себе, ни чувства сами по себе не могут заблуж-
125
даться. «Заблуждение происходит только от незаметного влияния
чувственности на рассудок»[212].
Ложное суждение – диагональ между двумя этими познавательными силами.
Видимость имеет место и в опыте, например, мы видим изогнутую палку,
частично погруженную в воду. От нее отличается трансцендентальная видимость,
которая совсем уводит нас за пределы опыта и обольщает призрачными надеждами на
расширение познания с помощью одного лишь мышления[213].
Таково общее понятие диалектики у Канта. Представляется, что усилия Канта
раскрыть несостоятельность метафизики близки по своей логической природе к тем
операциям, которые связаны с поисками внутренней противоречивости (или непротиворечивости)
систем знания, например, геометрии, о которой шла речь выше. Ведь если бы
обнаружили противоречие в системе неевклидовой геометрии, она оказалась бы
неистинной. К этому же стремится и Кант, стараясь обнаружить противоречивость в
рациональной психологии, космологии, теологии. Однако существенное отличие
состоит в том, что противоречия в иных науках не необходимы, а в названных –
неизбежны и всегда воспроизводятся снова, хотя и была бы доказана их
несостоятельность, – потому что человек всегда, повторяем, желает знать больше
того, что дает опыт. Собственно благодаря этому желанию и опыт расширяется,
иначе он всегда был бы тот же, как имеет место у животных.
В соответствии с тремя трансцендентальными идеями – психологической,
космологической и теологической – Кант раскрывает три вида противоречий:
паралогизмы, антиномии, идеал разума. Данные идеи и противоречия относятся к
субъекту, к объектам внешнего мира как целого, ко всему сущему. Поэтому и идеи,
и противоречия имеют обобщенный, целостный характер. Рассмотрим противоречия
конкретно.
Паралогизмы – это такие умозаключения, в которых средний термин используется
в двояком смысле, вследствие
126
чего при выводе один смысл подменяется другим, и вывод получается
неправильный. Паралогизмы как логическая форма были исследованы еще Аристотелем
в названных сочинениях. Приведем пример из последнего: «Кориск не то же, что
Сократ; Сократ есть человек; следовательно, Кориск не то же, что человек[214].
В большей посылке термин «Сократ» имеет в виду просто отличие его как человека
от Кориска как человека. В меньшей – тот же термин уже отождествляется с человеком,
– и получается, что Кориск вовсе не человек. Таких паралогизмов Аристотель
приводит и раскрывает множество.
Кант аналогичные паралогизмы вскрывает в «рациональной психологии», то есть
такой, которая строится на основе одних понятий, одного мышления, без обращения
к опыту. Она исходит из единственного положения «Я мыслю» и из него дедуцирует
четыре свойства субъекта, души: она есть субстанция; по природе простая; в
различные моменты времени численно тождественна, то есть представляет собой
единство, а не множество; и может осознавать себя без вещей вне её. Эти четыре
вывода из исходного положения порождают четыре противоречия, или паралогизма.
Метод их образования один и тот же: он основан на смешении меня как субъекта и
как объекта. Сам этот метод основывается на общем паралогизме, который Кант
представляет следующим образом: «То, что нельзя мыслить иначе как субъект, не
существует иначе как субъект и есть, следовательно, субстанция; мыслящее же
существо, рассматриваемое как таковое, нельзя мыслить иначе как субъект;
следовательно, оно и существует только как субъект, то есть как субстанция»[215].
В истории философии под субстанцией понимали нечто самостоятельное,
существующее через самого себя. Рациональная психология стремилась истолковать
таким образом и душу человека. Человек в философии со времён Р.Декарта
представлялся как мышление – «Я
127
мыслю». Субъект отождествлялся с мышлением. Когда я мыслю себя, я
сознаю себя не предикатом, свойством чего-либо иного, а субъектом,
самостоятельной реальностью. Отсюда, из такого осознания себя делался вывод,
что я таков и на деле, объективно. Согласно Канту, из понятия, мышления нельзя
вывести бытия, об этом уже была речь выше. Это фундаментальный тезис Канта.
Между тем приведённый паралогизм и делает это заключение, смешивая субъективное
и объективное. «Итак, анализ осознания меня самого в мышлении вообще не дает
никакого знания обо мне самом как объекте. Логическое истолкование мышления
вообще ошибочно принимается за метафизическое определение объекта»[216].
Так, я осознаю себя как простое, неделимое существо – отсюда делается вывод,
что и объективно я такой же. Я осознаю себя как нечто отличное от тела и вещей
– и делаю вывод, что и реально я от них независим. Главным мотивом всех
паралогизмов этого рода было доказательство субстанциальности души, её
простоты, неразложимости, следовательно, её бессмертия.
Противоречия, раскрытые здесь Кантом, не являются случайностью или эпизодом
в истории духа. По сути вся религиозная психология основывается на них, а
поскольку она испокон веков существовала и продолжает существовать, данная
часть диалектики Канта имеет в известном смысле непреходящий характер и должна
приниматься во внимание в наше время.
Вторую часть диалектики Канта составляют антиномии – противоречия
космологических идей. Структура их иная, чем в паралогизмах: каждая из
антиномий (а их четыре) состоит из двух противоположных утверждений, которые
одинаково необходимы и в то же время исключают друг друга. Эту часть диалектики
Кант называет антитетикой. «Если сумму догматических учений назвать тетикой, то
под антитетикой я разумею не догматические утверждения противоположного, а
128
противоречие между догматическими по виду знаниями, из которых ни
одному нельзя отдать предпочтение перед другим... Трансцендентальная антитетика
есть исследование антиномии чистого разума, ее причин и результатов»[217].
В антиномиях выявляются противоречия разума, когда он стремится постичь
объективный мир как целое, выходя далеко за пределы опыта. Таких антиномий –
четыре. Представим их читателю.
Первая антиномия
Тезис. Мир имеет начало во времени и ограничен в пространстве.
Если мир не имеет начала во времени, тогда до всякого данного момента
времени прошел бесконечный ряд состояний вещей в мире. Но бесконечность ряда в
том и состоит, что он никогда не может закончиться путём последовательного
синтеза. Следовательно, бесконечный прошедший мировой ряд невозможен, и мир
имеет начало во времени.
Бесконечность мира в пространстве можно представить только посредством
законченного синтеза его частей, а для такого синтеза потребовалось бы
бесконечное время, что невозможно.
Антитезис. Мир не имеет начала во времени и ограничен в пространстве.
Если мир имеет начало во времени, то до него было пустое время. Но в пустом
времени невозможно возникновение какой-либо вещи, так как ни одна часть такого
времени в сравнении с другой не заключает в себе условия существования,
отличного от условия несуществования.
Если мир конечен и ограничен в пространстве, то должно существовать
отношение мира к пустому пространству. Но такое пространство есть ничто, ибо
оно есть только форма явления и само по себе не есть нечто действительное.
Следовательно, мир не ограничен в пространстве.
129
Вторая антиномия
Тезис. Всякая сложная субстанция в мире состоит из простых частей.
Если бы это было не так, то по устранении всякого сложения не осталось бы ни
сложных, ни простых частей, то есть не осталось бы ничего, никакой субстанции.
Отсюда следует, что все вещи в мире состоят из простых субстанций.
Антитезис. Ни одна сложная вещь в мире не состоит из простых частей, и
вообще в мире нет ничего простого. В самом деле, вещи занимают пространство, а
из простых частей никакое пространство нельзя составить, и потому безусловно
простое есть лишь идея, объективную реальность которой нельзя доказать никаким
опытом.
Третья антиномия
Тезис. Для объяснения явлений природы надо допустить свободную причинность –
спонтанность, способность само собой начинать ряд явлений.
Если последней нет, то любое явление имеет причину, это – свою причину и т.
д. до бесконечности. Но в таком случае всегда существует только подчиненное, а
не первое начало, и потому для явления нет достаточного основания, как требует
известный закон логики.
Антитезис. Нет никакой свободы, всё совершается в мире только по законам
природы.
Способность событий начинаться с самих себя, без предшествующих причин и их
определяющего действия разрушило бы единство опыта, оборвало бы нить связей,
без которых невозможен связный опыт, а этого не встречается ни в каком опытном
познании.
Четвёртая антиномия
Тезис. К миру принадлежит или как его часть, или как его причина безусловно
необходимая сущность.
В самом деле, ряд явлений есть ряд случайный, условный, а всё условное
предполагает безусловное начало.
130
Антитезис. Нигде нет никакой абсолютно необходимой сущности – ни в мире, ни
вне мира – как его причины.
В мире его не может быть, так как в нём все вещи обусловлены. И вне не может
быть, так как, начав действовать, такая причина должна была бы войти в мир, в
цепь его феноменов и тем самым потерять безусловность.
Таковы Кантовы антиномии. Две первые он называет математическими, две вторые
– динамическими. Различие их существенно, оно сказывается в двух разных
способах разрешения антиномий.
Первая антиномия разрешается тем, что мир никогда не может быть дан весь, а
в опыте мы не находим начала во времени и в пространстве, так как можем от
явления к явлению продвигаться всё дальше и дальше, и в то же время
совокупность явлений всегда ограничена. Иначе говоря, граница здесь всегда
полагается и снимается, отодвигается, поэтому регресс или прогресс здесь идёт
не в бесконечность (она в опыте не может быть дана), а в неопределённость[218].
Поэтому противоречие здесь кажущееся, если рассматривать его в рамках опыта.
Тогда просто получается движение границы – одно конечное преодолевается другим
и т. д., здесь всегда дано и конечное, и его отрицание (движение за его
пределы).
Аналогично разрешается вторая антиномия: мир явлений не состоит из простых
частей, ибо сколько бы ни делили их, можно делить и дальше – простое не
достигается; однако, с другой стороны, для деления не положено пределов, его
можно производить без конца, в этом смысле и тезис правилен. Здесь разрешение
состоит в понятии потенциальной бесконечности.
Разрешение первых двух антиномий привлекает тем, что обе противоположности
теряют свою абсолютность, становятся относительными, и таковыми они являются в
процессе движения от явлений к явлениям или в процессе деления целого на части.
Если представить себе границу мира, то за нею сно-
131
ва что-то находится. Говоря словами Гегеля, мир нигде не заколочен
досками. Можно добавить: если и заколочен, за ним всё равно есть что-то иное.
Так же обстоит дело и с потенциальной делимостью.
Но каков мир сам по себе, то следует согласиться с Кантом, что мы этого не
знаем. Поэтому на протяжении истории мысли существовали концепции и конечного и
бесконечного мира, только, естественно, их придерживались разные учёные или
философы. Кант эту двойственность соединил в одном общечеловеческом разуме,
откуда и возникли антиномии.
Совсем иначе разрешаются динамические противоречия. Если тезисы и антитезисы
математических антиномий оба одинаково неприложимы к миру в себе, а соединённые
в мире явлений представляют аспекты неопределённо продолжающегося процесса
движения познания в пространстве и времени или потенциальную делимость явлений,
то динамические антиномии разрешаются тем, что тезис и антитезис отделяются
друг от друга и прилагаются к разным предметам: воля и безусловная сущность
помещаются в ноуменальном мире, причинность и условность – в сфере феноменов. И
те и другие оказываются одинаково верными, но в разных сферах реальности. И
доказательство их правильности разное: второе доказывается критикой
теоретического разума, первое допускается потребностями практического,
морального разума.
Здесь мы имеем, таким образом, дело с различием науки и религиозной морали.
Ни одну из них нельзя отбросить, хотя каждая имеет и положительные и
отрицательные стороны. Без науки современное человечество не могло бы
существовать. Но, с другой стороны, наука – основа техники, а техника –
средство разрушения природы, часть которой составляет и человек. Поэтому современную
науку стараются соединить с этикой, создать космическую этику как средство
против экологической катастрофы. С моралью же тесно связана религия. Сама по
себе мораль неустойчива. Поэтому её надо подпирать некоторым внешним или
внутренним принуждением. Внешнее принуждение – это право, внутреннее –
религиозное
132
мировоззрение. Бог есть некое абсолютное начало, человек любит или
боится его, в обоих случаях это заставляет его следовать общечеловеческим
ценностям гуманности, по крайней мере до известной степени, потому что и
религия за свою историю породила и порождает помимо добра, немало и зла.
О Боге идёт речь в третьем виде противоречий – идеале чистого разума. В
последовательности формообразований мышления Кант отмечает важную
закономерность всё большего их удаления от реальности. Посредством одних
рассудочных понятий, категорий, без чувственности нельзя представить себе
никакой предмет, так как категории – только формы мышления и не обладают
объективной реальностью. Но если их применить к явлениям, их можно показать
конкретно, поскольку именно в явлениях они находят для себя эмпирический
материал. Далее, идеи ещё более далеки от объективной реальности, чем
категории, так как нельзя найти ни одного явления, в котором их можно было бы
представить себе конкретно. Они содержат в себе некоторую полноту, какой не
достигает эмпирическое знание, и разум при этом обладает только чувством
систематического единства, и с последним пытается сблизить эмпирически
возможное единство, никогда не достигая его полностью. «Но, по-видимому, ещё
более чем идея, далеко от объективной реальности то, что я называю идеалом и
под чем я подразумеваю идею не только in concreto, но и in individuo, т. е. как
единичную вещь, определимую или даже определённую только идеей»[219].
Кант подчёркивает, что человеческий разум содержит в себе не только идеи, но и
идеалы. Так, добродетель и вместе с ней человеческая мудрость во всей их
общности и чистоте есть идеи. Но мудрец стоической морали есть идеал, то есть
человек, существующий только в мысли, но полностью совпадающий с идеей
мудрости. Идеи дают правила, а идеал служит прообразом для поведения. Это как
бы божественный человек в нас, с которым мы сравниваем себя, оцениваем себя и
благодаря этому исправля-
133
емся, хотя никогда не можем сравниться с ним. Такие идеи и идеалы
обладают практической, нравственной силой в определении поступков и всей жизни
человека[220].
Так понимает Кант идеал вообще. От него он отличает трансцендентальный идеал
– идеал чистого разума. Это – некая единичная вещь или единичное существо,
которое воплощает в себе все возможные позитивные предикаты, в том числе и
бытие (или реальность), и которое является условием возможности всех вещей.
Идеальность, совершенство его – это совокупность всех реальностей. Поскольку
такой идеал выступает условием бытия конкретных вещей, он и является
трансцендентальным.
В сложившихся типах мировоззрения идеалом является Бог. Он и есть вещь в
себе, не данная ни в каком опыте и потому проблематичная для познания.
Вследствие этого отсутствует общепринятое его признание. Одни верят, другие –
нет, те верят в такого-то бога, эти – в иного. Проблематическим является,
следовательно, бытие Бога. И усилия обыденной, или естественной, религии и
рациональной теологии были направлены на доказательства бытия Бога.
Согласно Канту, существуют три таких доказательства. Одно из них,
онтологическое, опирается на чистый разум, на само понятие о Боге как
всесовершенной реальности, включающей и его бытие. Без такого включения он не
был бы существом совершенным, то есть его понятие было бы противоречиво. Данное
доказательство было развито Ансельмом, архиепископом Кентерберийским
(1033-1109). Кант неточно называет его картезианским[221].
Другое и третье доказательства – космологическое и физико-теологическое –
проводятся с опорой на опыт, или неопределённый, в котором учитывается только
бытие вещей, или определённый, когда принимается во внимание целесообразность,
гармония в устройстве мира. Поскольку любая вещь
134
обусловлена другой, эта – третьей и т. д., так что их существование
зависимо, разум стремится завершить такие регрессивные ряды, найти для
условного и случайного некую безусловно необходимую сущность. Поскольку такая
сущность нигде в опыте не дана, то скачок к ней совершается при помощи одного
разума – и, таким образом, в конечном счёте доказательство его бытия опирается
на Ансельмов аргумент о реальности как составной части совершенства Бога. Так
выглядит космологическое доказательство.
Аналогичный характер имеет и доказательство физико-теологическое: от
целесообразного устройства мира заключают к причине такого устройства, то есть
к Богу как мудрой причине и творцу мира.
Основной тезис Канта в критике идеала чистого разума, как и во всей его
диалектике и, более того, во всём рассматриваемом сочинении, состоит в
утверждении, что мышление и бытие – абсолютные противоположности, что поэтому
из одного понятия вещи нельзя вывести её существование, для этого необходим
опыт; а для идей и идеала и опыта недостаточно, ибо он всегда ограничен
явлениями, а данные формы разума пытаются доказать бытие вещей в себе. Поэтому
идеал как соединение крайних противоположностей – чисто разумной,
интеллектуальной идеи и бытия единичного существа есть наиболее глубокое,
предельное противоречие. В обнаружении этого противоречия во всех
доказательствах бытия Бога и состоит диалектика в сфере рациональной теологии.
И в целом Кант оправдал своё заверение, высказанное в начале данного раздела:
«Я докажу, что разум ничего не может достигнуть... и что он напрасно
расправляет свои крылья, чтобы одной лишь силой спекуляции выйти за пределы
чувственно воспринимаемого мира»[222].
Но на этом основании нельзя думать, что Кант вообще отрицает религию. Он
отрицает её только как предмет теоретического научного знания. Причина в том,
что ко временам
135
Канта естествознание было уже настолько разработано, что в природе
фактически невозможно было найти ниши для сверхъестественной, надприродной
силы. «Следовательно, высшая сущность остаётся для чистого спекулятивного
применения разума только идеалом, однако безукоризненным идеалом, понятием,
которое завершает и увенчивает всё человеческое знание и объективную реальность
которого этим путём, правда, нельзя доказать, но и нельзя также опровергнуть»[223].
Доказывая, что теоретическое знание ограничено, Кант считал возможным расширить
его путём практического, или морального, разума. И это относится не только к
понятию Бога, но и к душе человека, к свободе воли, к бессмертию души, то есть
ко всем предметам, о которых трактуется в кантовской диалектике. Завершая её,
следует выделить те черты, которые характеризуют её в целом.
Во-первых, своей критикой чистого разума, ядро которой представлено именно в
диалектике, И.Кант старался разграничить науку и мораль. «Так, учение о
нравственности и учение о природе остаются в своих рамках, чего не было бы,
если бы критика нам заранее не разъяснила, что мы ни в коем случае не можем
знать вещи в себе, и не показала, что всё, что мы можем теоретически познать,
ограничивается лишь явлениями. Точно такое разъяснение положительной пользы
критических основоположений чистого разума можно сделать и в отношении Бога и
простой природы нашей души...». И далее Кант выделяет основные объекты
практического разума. «Я не могу, следовательно, даже допустить существование
Бога, свободы и бессмертия (души) для целей необходимого практического
применения разума, если не отниму у спекулятивного разума также его притязаний
на трансцендентные знания». Кант, исходя из ограниченности теоретического
разума, постулирует возможность его практического расширения и заключает:
«Поэтому мне пришлось ограничить знание, чтобы освободить место
136
вере...»[224].
Таким образом диалектика обозначает пограничные столбы знания и есть теория его
границ или пределов. Но последние двойственны. Поэтому, хотя Кант упорно
подчёркивает лишь одну сторону, его диалектика амбивалентна: ограничение знания
верой есть и обратное ограничение веры знанием. Однако его диалектика ни к
тому, ни к другому не сводится.
Во-вторых, трансцендентальная диалектика есть непреходящее завоевание
человеческой мысли. Это – такая структура разума, которая в разных формах и
видах всегда воспроизводилась и воспроизводится. Кант был первый, кто её
осознал, разработал, но ещё нужны духовные усилия, чтобы понять её всеобщность
и независимость от других образов диалектики. Ведь исходная идея Канта в этом
случае была идея ограниченности опытного знания, а оно всегда, несмотря на
расширение его границ, было и останется таковым; и всегда человеческий разум
будет стремиться за пределы опыта, чтобы понять или представить, каков мир в
целом, какова душа в своей «последней» сущности, на чём основывается свобода
воли и как она связана с причинностью. К такого рода вечным вопросам относится
и вопрос о происхождении сознания, психики, возникает ли она или в зародышевом
виде существует изначально; каков смысл жизни человека, и есть ли он вообще;
добр или зол человек по своей природе и т. п. Философские проблемы имеют
пограничный, предельный характер, и все они, несмотря на усилия философии и
науки, остаются до сих пор до конца непрояснёнными, а значит, подвержены той
диалектике, которая представлена у Канта.
В-третьих, особый характер имеют те вещи в себе, о которых здесь идёт речь.
У них две особенности: это не любые вещи в себе, которые Кант допускает в
эстетике и которые аффицируют чувственность человека, порождая ощущения, а
специальные «вещи» – Бог, свобода воли, душа и её бессмертие; это и не ноумены
из «Аналитики», которые как вещи
137
вполне проблематичны, и обозначают в большей степени границы опыта,
его демаркационные линии, а не собственно вещи. Напротив, бытие названных трёх
вещей в себе из трансцендентальной диалектики для Канта несомненно, но оно
удостоверяется не знанием, а нравственностью: Бог и т.д. нужны, чтобы были
реализованы моральные законы и главный из них – категорический императив.
Поэтому в данном разделе Кант часто использует, наряду с термином
«трансцендентальный», термин «трансцендентный». Происходит это потому, что
названные вещи действительно находятся по ту сторону опыта и действительно
существуют, как того требует практический разум, иначе говоря, их бытие
трансцендентно. Теоретический разум тоже стремится к ним, но не может достичь
этого, и всё, что он считает своим знанием о них, на самом деле есть только
субъективная видимость, находится не по ту, но по эту сторону, то есть
трансцендентально. Трансцендентное обретается практическим разумом, и там, где
явно или неявно он появляется в разделе о диалектике, Кант использует этот
последний термин.
«Практический разум» и его реализация во всемирной истории
Критикой теоретического разума Кант ограничил человеческое знание сферой
опыта. За его пределами оказался мир вещей в себе. Под последними Кант понимал
такие вещи, которые не имеют отношения к познавательным способностям человека,
то есть вещи, существующие сами по себе. Хотя Кант и написал специальный параграф
«Опровержение идеализма» в первую «Критику», где доказывал, что вещи в себе
есть, но в целом по отношению к теоретической способности они были проблемой[225],
притом неразрешимой, выражающейся противоречиями чистого разума.
138
Если бы речь шла только о познании, то на этом можно было бы завершить
систему философии. Но существовал во времена Канта ряд понятий (идей),
касавшихся вещей в себе и игравших большую роль в общественном сознании и
поведении людей. Имеются в виду понятия «свобода воли», «бессмертие души»,
«Бог». С ними были связаны такие распространённые формы общественного сознания
и общественной деятельности, как религия и мораль. Два последних понятия были
известны ещё в Средневековье. Первое – свобода воли, будучи столь же древним, в
эпоху Канта – эпоху приближающейся буржуазной революции 1789 г. – наполнилось
новым социальным содержанием. Оно входило в основной лозунг буржуазной
революционной мысли – «Свобода, равенство, братство».
Если многие французские философы XVIII в. были атеистами, то этого нельзя
было сказать о Канте. Отсталость Германии была питательной почвой для
религиозного мировоззрения. С другой стороны, он не мог не испытать влияния
прогрессивных течений мысли, особенно французской, самой радикальной в то
время. Немецкая буржуазия и её идеологи, отражая эти влияния, не имели поприща
для практической деятельности и воспроизводили их в чисто абстрактной форме.
Гегель в «Истории философии» писал об этом: «Руссо признал свободу уже за
абсолютное, Кант выставил тот же принцип, но более с теоретической точки
зрения. Французы говорят: «быть наготове». У них имеется чувство действительности,
они любят действовать, доводят дело до конца, представление у них
непосредственно переходит в практику. Чего только не происходит у нас в головах
и на головах – и при всём том немецкая голова оставляет спокойно сидеть свой
ночной колпак и действует только в его пределах»[226].
В разделе о теоретических и социальных корнях кантовской философии уже подробно
говорилось об этом разрыве познания и практики в Германии XVIII в.
139
Данный разрыв философски выражается в дуализме разума и чувственности,
который пронизывает всю работу Канта, образует её стержень; Кант понимает
практическое как закон поведения людей, имеющий характер всеобщности и
необходимости. Но чувственность, которая определятся внешними вещами, как и
сами вещи, не имеют, с его точки зрения, этого характера. «Все практические
принципы, которые предполагают объект (материю) способности желания как
определяющее основание воли, в совокупности эмпирические и не могут быть
практическими законами»[227].
Они, согласно Канту, суть максимы – основоположения, значимые только для
отдельного индивида. А закон абсолютно всеобщ и необходим. Кант отвергает все
те системы морали, которые клали в основание личный интерес, личное счастье и
т. п., исходили из частных целей и стремлений. Он, правда, признаёт, что «быть
счастливым – это необходимое желание каждого разумного, но конечного существа
и, следовательно, неизбежное определяющее основание его способности желания»[228].
Но, несмотря на эту общность, «в чём именно каждый усматривает своё счастье –
это зависит от особого чувства удовольствия или неудовольствия у него, и даже в
одном и том же субъекте зависит от различия потребностей, которые меняются в
соответствии с этим чувством; следовательно, субъективно необходимый закон...
объективно есть ещё очень случайный принцип, который в различных субъектах
может и должен быть очень различным и, значит, никогда не может быть
законом...»[229].
Однако, если объект, материя не может быть определяющим основанием
морального поведения, то что же может выполнить его роль? Кант отвечает: для
того, чтобы закон был всеобщим и необходимым, он должен определять волю не по
материи, а только по форме. Он должен определять волю независимо и вопреки
чувству удовольствия и неудовольствия,
140
независимо от счастья и интереса. В соответствии с этим Кант
следующим образом формулирует «основной закон практического разума»: «Поступай
так, чтобы максима твоей воли могла в то же время иметь силу принципа всеобщего
законодательства»[230].
Чтобы показать смысл этого закона, надо уяснить отношение его к законам
природы и к личным склонностям людей. Что касается первого, то
естественнонаучный и моральный закон существенно различны. Именно, от суммы
углов треугольника не надо требовать, чтобы они равнялись двум d, не нужно
требовать, чтобы сумма квадратов катетов равнялась квадрату гипотенузы и т. д.
Эти законы выражают то, что есть, суть законы сущего. Напротив, нравственный
закон требует поступать так-то и так-то. Он показывает не то, как люди
поступают, а то, как они должны поступать. Поэтому Кант называет его
императивом, повелением. Если бы у человека не было других побудительных
мотивов для действия, кроме выраженного в основном законе, то он бы и поступал
всегда согласно ему, а отличие двух видов законов исчезло бы. «Но для существа,
у которого разум не единственное определяющее основание воли, это правило
[поведения] есть императив, т. е. правило, которое характеризуется
долженствованием, выражающим объективное принуждение к поступку, и которое
означает, что, если бы разум полностью определил волю, поступок должен был бы
неизбежно быть совершён по этому правилу»[231].
Кроме того, так как Кант старается найти основание поведения, независимое от
конкретных условий, то он называет основной нравственный закон категорическим
императивом – безусловным повелением.
Несомненно, Кант прав, устанавливая это различие природных и моральных
законов. Первые действуют независимо от нас, вторые же – зависят от воли
человека, от случайностей её определения, то есть от произвола, и потому
постоянно
141
нарушаемы, так что в качестве всеобщих они, как правило, существуют
в виде долженствования, а не бытия. Об ограниченности Канта в этом плане мы
скажем позже.
Рассмотрим соотношение императива и личной склонности. Сам закон формален.
Кант желает сказать им, каким моральное требование должно быть по форме. То
есть закон природы будет иметь вид: S есть Р, закон морали: S должно быть Р. Но
очевидно, что в формуле последнего не видно, как надо поступать, ибо в нём не
выражено никакого содержания. Требование, долг – основное понятие этики Канта.
Но каково его конкретное содержание, его «материя» или объект, как он
соотносится с интересом личности, её счастьем и т. п.?
Так как Кант этого не указывает, то его этика справедливо считается
формалистической, абстрактной, неисторической и т. д. Но в этом формализме есть
также рациональный момент, который, как правило, подавляется негативным и
потому проходит мимо внимания критиков.
Чтобы понять суть дела, поставим вопрос: какими вообще могут быть
взаимоотношения долга (императива) и личной склонности в их отношении к
поступку? Они таковы: а) личный интерес подавляет долг; б) кроме личного
интереса у индивида вообще нет понятия долга; в) личное отсутствует вообще,
есть только долг; г) долг подавляет личное; д) гармония долга и чувства.
О морали в первых двух случаях нет смысла говорить. Третий невозможен, о чём
говорит и Кант, признавая, что людям свойственно стремление к счастью. Остаются
два последних. Гармонии долга и чувства Кант не признаёт. Они находятся в
противоречии, в борьбе, в которой может побеждать или одна сторона или другая.
Если побеждает долг, индивид морален.
Таким образом, практически действующая кантовская личность расколота,
раздвоена, дуалистична в себе. Это в абстрактной форме выражает (отражает)
коллизию личности и общественности, противоречие личности и социальной среды.
142
Противоречие проникает и в самый моральный закон: он всеобщ и необходим,
человек должен ему подчиняться, подавляя в себе индивидуальные склонности. Но в
то же время этот закон не детерминирован внешним объективным миром, в нём
воплощается свойство, способность разума быть независимым от среды. Кант в этом
плане столкнулся с вопросом: что же является основанием морального закона?
Чтобы поставить такой вопрос, нужно быть независимым от чувственного мира
явлений, нужно обладать свободой. Но в «Критике чистого разума» философ
доказывает, что существование свободы непостижимо, она – вещь в себе. Стало
быть, нельзя начинать с неё, чтобы из неё вывести императив. Кант поступает
наоборот: так как чистый разум, то есть способность отвлекаться от
чувственности, есть факт, то и закон такого разума – факт. А исходя из факта,
Кант в обратном порядке заключает о том, что есть свобода.
В этих абстракциях отражается реальное положение вещей в Германии в конце
XVIII в.: здесь нет свободы как реального, то есть как общественного явления;
она есть вещь в себе, или идея, то есть находится в субъекте, в его глубинах.
Иначе говоря, свобода есть пока что только идея, она ещё должна реализоваться,
воплотиться в жизнь. Сам Кант, как мы увидим дальше, допускает её реализацию
только в потустороннем мире.
Двойственность кантовского императива, индивидуального и общего
одновременно, в данном плане выражает то, что «практический разум» общественный
по сути дела, но ещё не воплощён в действительность и наличествует в отдельных
индивидах в виде идеи.
Но здесь есть и момент, характерный для морали вообще, а не только для
кантовской. Мораль есть форма общественного сознания и общественной
деятельности, а так как действует не общество как таковое, а индивиды, живущие
в нём, то в ней неизбежно сочетание общественного и индивидуального, и мы
возвращаемся к вопросу: каково это сочетание: конфликтное или гармоническое? У
Канта имеет место первое. Он
143
пишет об этом так: «Бесспорно, конечно, что всякое воление должно
иметь и предмет, стало быть материю; но эта материя не есть ещё поэтому
определяющее основание максимы, следовательно, хотя материя максимы и может
оставаться, но она не должна быть её условием, иначе такая максима не годится
для закона. Следовательно, одна лишь форма закона, который ограничивает
материю, вместе с тем должна быть и основой для того, чтобы присовокупить эту
материю к воле, но не предполагать её»[232].
Допустим, говорит Кант, что таким содержанием моего поведения будет моё личное
счастье. Если я признаю счастье за каждым, то оно может стать практическим
законом, но не потому, что мне это нравится или доставляет удовольствие, а потому,
что всеобщности счастья я требую, исходя из всеобщности морального закона.
Ф.Шиллер сатирически изложил это так:
Ближним охотно служу, но – увы! – имею к ним
склонность.
Вот и гложет вопрос: вправду ли нравственен я?..
Нет тут другого пути: стараясь питать к ним
презрение
И с отвращением в душе, делай, что требует долг[233].
Шиллер осмеивает Канта, он желает гармонического сочетания долга и
склонности. Спрашивается, кто из них прав?
Совершенно очевидно, что существует и гармония их (или как факт или как
идеал человеческого развития) и противоречие. Поэтому оба говорят о разных
вещах. Критика Шиллера справедлива, поскольку Кант никакой другой формы
поведения, кроме той, в которой проявляется дуализм разума и чувства, не видит.
Но просто отбросить эту форму нельзя: в ней выражается противоречие личного и
общественного, вообще характерное для природы человека. Кант односторонен,
потому что кроме морального сознания иного не видит. Сознание, о котором идёт
речь у Шиллера, это – нравственность. Но
144
Кант употребляет эти понятия как синонимы, что неправомерно, как
показал Гегель, установивший различия между моралью и нравственностью[234].
Исторически нравственность характерна или для прошлого, первобытнообщинного
строя, когда индивид ещё не противостоит обществу, или есть идеал будущего,
когда будет достигнуто полное единство личных и общественных интересов. С точки
зрения этой перспективы Шиллер отстаивает иную форму сознания, нежели Кант. Но такое
единство, по-видимому, утопично.
Таким образом, хотя в этике Канта и присутствует момент формализма, но он
состоит не в том, что Кант вообще отбрасывает содержание, предмет поступка, а в
том, что индивид в поведении должен преследовать не личные узкокорыстные цели,
а подчиняться долгу. Мораль Канта есть мораль долга. Она основывается на
высоком представлении о человеке, о его достоинстве и мощи его разума.
Сказанное можно видеть в том, что у Канта императив существует не в одной,
приведённой выше, а в трёх формах.
Вторая форма императива исходит из признания человека «абсолютной
ценностью». Кант разделяет все предметы на вещи и лица. Вещь – это предмет,
используемый как средство для чего-либо. Лицо, человек есть цель в самом себе.
«Человек и всякое разумное существо существует как цель сама по себе, а не
только как средство для любого применения со стороны той или другой воли...» И
Кант формулирует основной закон морали так: «Поступай так, чтобы ты всегда
относился к человечеству и в своём лице и в лице всякого другого также как к
цели, и никогда не относился бы к нему только как к средству»[235].
Кант выступает против вещевизма, превращения человека в вещь, отстаивает его
свободу, самоценность его личности. Это, конечно, далеко от формализма. Здесь
моральный закон наполнен общим, но конкретным содержанием.
145
Но откуда происходит сам закон, кто является законодателем? Об этом нет речи
в первых двух формах императива. Ответ на этот вопрос содержится в третьей его
форме, согласно которой надо поступать так, чтобы воля благодаря своей максиме
могла рассматривать самоё себя также как устанавливающую всеобщие законы. Таким
образом, закон морали исходит от отдельного индивида, хотя, правда, не из его
личного интереса, а из разума, имеющего дело со всеобщим и необходимым, а
потому и имеет значимость для всех людей.
Это целое Кант выразил как «царство целей» – сообщество людей, объединённых
нравственным законом так, что каждый из его членов – самоцель, а не средство
для другого. Здесь «все максимы из собственного законодательства должны
согласоваться с возможным царством целей как царством природы». Последнее,
согласно Канту, есть практическая идея, которая может реализоваться благодаря
поведению людей[236].
Отметим, что названные три формы императива Кант подробно исследует в
«Основах метафизики нравственности» (1785), но в «Критике практического разума»
(1788) он говорит только о первой из них, а там, где заходит речь о
самоценности человека, она не формулируется как закон морали. Чем это
объяснить? Некоторый свет на это проливает мысль из «Основ», что в нравственном
суждении лучше полагать в основу первую форму императива. «Но если хотят в то
же время практически применить нравственный закон, то очень полезно один и тот
же поступок провести через все три названных понятия и этим путём, насколько
возможно, приблизить его к созерцанию» т. е. к действительности, ибо первая
форма, как говорит сам Кант, выражает форму закона, вторая – содержание, а
третья – полное определение[237].
Действовать же практически по одной форме, конечно, нельзя.
146
Возникает вопрос: можно ли осуществить нравственный закон? Если бы человек
обладал только разумом, полагает Кант, то поведение всегда согласовалось бы с
ним. Но он чувственное существо, имеющее личные интересы и страсти. И потому
закон говорит не о том, что есть, а о том, что должно быть. Единственное
чувство, которое органически связано с императивом, – это уважение к моральному
закону, и моральность состоит, согласно определению Канта, в том, что «поступок
совершают из чувства долга, т. е. только ради закона»[238].
Все остальные чувства, склонности, интересы из него исключены и находятся с ним
в коллизии. «Моральное состояние человека, в котором он может находиться, есть
добродетель, то есть моральный образ мыслей в борьбе, а не святость в мнимом
обладании полной чистотой намерений и воли. Поэтому действие согласно чистому
закону морали, без примеси чувственности, должно быть постоянной, хотя и
недосягаемой, целью стремлений»[239].
Анализируя теорию познания Канта, мы видели, что дуализм разума и
чувственности порождает противоречия (антиномии). Аналогично обстоит дело
здесь. Подчёркивая противоречие природы человека, он ставит вопрос о
«диалектике практического разума». Там противоречия касались души, мира в целом
и Бога, здесь они касаются предмета практического, морального поведения,
который Кант называет по традиции высшим благом. В соответствии с двойственной
природой человека и объект его стремлений двойственный: это, во-первых,
добродетель, во-вторых, счастье. Первая есть требование разума, вторая –
чувства. «Полное и совершенное благо» есть единство их. Это единство не может
быть аналитическим, так как понятие добродетели не заключено в понятии счастья,
и наоборот. Значит, оно синтетично: одно из них есть причина, другое –
следствие. «Следовательно, или желание счастья должно быть побудительной
причиной максимы
147
добродетели, или максима добродетели должна быть действующей
причиной счастья»[240].
Возникает «антиномия практического разума»:
тезис: счастье – причина добродетели (морали);
антитезис: добродетель – причина счастья.
Первое Кант считает безусловно невозможным, как уже показано выше. Но и
второе невозможно, потому что в реальном мире человек действует, исходя из
законов природы и своих собственных способностей и целей. Вследствие этого
невозможен и сам объект воли – высшее благо. А именно на него направлено
действие императива. Поэтому получается, что моральный закон направлен
фактически на пустые воображаемые цели, то есть сам по себе ложен. Антиномия
получает иное выражение:
тезис: моральный закон безусловно необходим;
антитезис: этот закон невозможен.
Практический разум является клубком противоречий, которые, кажется,
невозможно разрешить.
Эти противоречия – не выдумка Канта, они действительно есть, и его большая
заслуга в том, что он не затушёвывает их, а выставляет во всей остроте и тем толкает
мысль на поиски их разрешения.
Надо подчеркнуть, что антиномию морального сознания Кант выдвигает в связи с
поисками единства склонности и долга. Ибо для него идеалом является гармония
их. Антиномия говорит о противоречивости такого единства. Если бы Кант
остановился на этом, вышеприведённая критика Шиллера была бы безусловно
правильной. Однако, обнажив основное противоречие морали, немецкий философ
старается найти его решение. А это роднит его с Шиллером, который искал
подобной гармонии.
Итак, проблема поставлена. Как решает её Кант? Решение таково: тезис
антиномии безусловно ложен, антитезис – условно, относительно ложен: именно, по
отношению к реальному
148
чувственному миру предмет практического невозможен. Ибо если
нравственный закон обусловливает счастье, то здесь действует закон причинности,
а мораль – выше его. По ту сторону явлений, опыта такое соединение возможно. То
есть гармония долга и счастья достижима в потустороннем мире, а не в реальной
действительности. Такое решение характерно для верующих, и поскольку для них
потусторонний мир есть несомненная реальность, оно имеет для них большое
значение. В мире исторического опыта названной гармонии нет, разве что она
встречается в виде исключения. Но относительное единство долга и счастья существует.
Без такого единства могут существовать только отдельные индивиды, общество же
как целое распалось бы. Но для Канта без Бога морали нет.
И действительно, он выдвигает три постулата, без которых его мораль
оказывается нереализуемой.
1. Полное соответствие воли с моральным законом поступка ни одному человеку
недоступно. Оно «может иметь место только в прогрессе, идущем в бесконечность»[241].
Поэтому человеческая душа должна существовать бесконечно долго, то есть
необходимо, чтобы душа была бессмертной, иначе практический закон не будет
реализован.
2. Человеку же как существу, стремящемуся к счастью, должно быть
гарантировано, что если он будет добродетельным, то и счастье приложится. Где
же эта гарантия? «Моральный закон сам по себе не обещает счастья». Человек сам
по себе не способен добиться гармонии долга и счастья. Поэтому гарантом
гармонии Кант считает Бога. «Так моральный закон... ведет к религии»[242].
3. Наконец, как уже говорилось, Кант из морального закона вывел свободу
воли.
Таковы три основы, на которых покоится этика Канта и её основной закон:
бессмертие души, свобода воли, Бог. Она есть поэтому вариант религиозной
морали. От других видов её
149
этика отличается тем, что в строго религиозном мировоззрении мораль
выводится из религии. Кант же старается вывести религию из морали. Он допускает
религию не в теории, а на «практике», в практическом разуме.
Познание не может доказать, что есть три указанные вещи в себе. Но оно, по
Канту, не может и доказать, что их нет. С этой точки зрения, они лишь возможны.
Практический интерес требует их существования. Они необходимо есть, иначе не
будет выполнен моральный закон. Поэтому «можно мыслить расширение чистого
разума в практическом отношении, не расширяя при этом его познания как разума
спекулятивного (теоретического)»[243].
И Кант говорит «о первенстве чистого практического разума в его связи со
спекулятивным»[244].
Таким образом, практический разум выше теоретического. Он считает
необходимым установить их субординацию, иначе разум впадёт в противоречие с
самим собой: как теоретический он неспособен говорить о существовании вещей в
себе, как практический – должен это утверждать. «Но нельзя, – говорит далее
Кант, – требовать от чистого практического разума, чтобы он подчинялся
спекулятивному и, таким образом, переменил порядок, так как всякий интерес есть
в конце концов практический и даже интерес спекулятивного разума обусловлен и
приобретает полный смысл только в практическом применении»[245].
Правильность этой мысли Канта прояснилась особенно в наше время, когда
теоретический разум, став основой техники, загрязнил природу, оказался
несостоятельным без опоры на моральный разум, на так называемую экологическую
этику и т. д.
Подведём итог. Этика Канта имеет ряд положительных черт. Она высоко ставит
понятие долга, без которого мораль невозможна. Как и во всякой форме сознания,
в ней есть
150
противоречия, формулировка которых составляет заслугу Канта.
Положительно и то, что Кант старается найти разрешение этих противоречий.
Однако его решение ведёт к религии и потому имеет частичный характер. Кроме
того, Кант суживает сферу практического одной моралью. Между тем для её
поддержки необходимо правовое принуждение, социальная стабильность, хотя бы
скромное материальное благополучие. Без этого народу «не до морали».
Недостатком учения Канта является неразличение морали и нравственности, важное
с точки зрения развития человечества.
Однако существенной чертой этики Канта является её антиисторизм. В первой и
второй «Критике» свобода – источник морали – противополагается природе –
необходимой, причинно обусловленной связи явлений. Свобода и природа образуют у
Канта антиномию, они несовместимы. Рациональный смысл такого противопоставления
в том, что свобода, действительно, есть не природное явление, невыводима из
него. Она – исторический, общественный феномен. Но, как мы видели, Кант
помещает её вообще за пределы материального мира. Спрашивается, каково у него
соотношение морали и истории? Без выяснения этого вопроса нельзя получить
полного представления об этике Канта.
Исторические и общественно-политические взгляды изложены немецким философом
главным образом в таких сочинениях, как «Идея всеобщей истории во
всемирно-гражданском плане» (1784), «К вечному миру» (1795), «Метафизика
нравственности» (1797). Они дают довольно стройное представление о кантовской
философии истории, о современном ему положении вещей и конечной цели
исторического развития.
Рассматривая ход истории, Кант сразу же сталкивается с противоречием его с
учением о свободе воли – основным этическим понятием. «Какое бы понятие мы ни
составили себе с метафизической точки зрения о свободе воли, – говорит он в
«Идеях», – необходимо, однако, признать, что проявления воли, человеческие
поступки, подобно всякому другому явлению природы, определяются общими законами
природы».
151
Как видно, Кант не проводит различия между человеческими действиями,
историей и природой. Он не видит их качественного различия.
Понимая природу как необходимую связь явлений, он то же старается обнаружить
и в обществе. «История, занимающаяся изучением этих проявлений, – говорит он
дальше, – как бы глубоко ни были скрыты их причины, позволяет думать, что если
бы она рассматривала действия свободы человеческой воли в совокупности, то
могла бы открыть её закономерный ход...»[246].
Кант ссылается на статистику, которая в хаосе браков, рождений и смертей
обнаруживает «постоянные законы природы». И Кант формулирует идею, которая
затем у Шеллинга определяется как «главный характер истории», у Гегеля – как
«хитрость разума» (в истории) и т. д.: «Отдельные люди и даже целые народы мало
думают о том, что когда они, каждый по своему разумению и часто в ущерб другим,
преследуют свои собственные цели, то они незаметно для 'самих себя идут к
неведомой им цели природы как за путеводной нитью и содействуют достижению этой
цели, которой, даже если бы она стала им известна, они бы мало интересовались»[247].
Хотя люди действуют не чисто инстинктивно как животные, но и не по
согласованному плану, то кажется, говорит Кант, что у них и не может быть
«планомерной истории». Кант, не видя общей цели, плана в поступках людей,
утверждает, что «нужно попытаться открыть в этом бессмысленном ходе
человеческих дел цель природы, на основании которой у существ, действующих без
собственного плана, всё же была бы возможна история согласно определённому
плану природы»[248].
Кант ставит задачу найти путеводную нить для такой истории. Последняя, таким
образом, приобретает телеологический характер, ею управляет «провидение» (о чём
прямо говорится в трактате «К вечному миру»), но постановка вопроса о
152
закономерном ходе истории поистине гениальна. Достаточно вспомнить
рассуждения французских философов XVIII в. об определяющей роли случая, о
«зашалившем атоме» и т. д., чтобы увидеть, какой шаг вперёд делает Кант.
Основные черты механизма исторического развития в изображении Канта таковы.
1. Так как природа действует целесообразно (это подтверждается изучением
животных и их анатомии), то все природные задатки живого существа (человека)
предназначены для совершенного и целесообразного развития. Иначе мы «имеем не
закономерную, а бесцельно действующую природу; и, как ни печально, вместо
разума путеводной нитью становится случай»[249].
Кант, следовательно, отождествляет закон и цель и вместе противополагает их
случайности. Его детерминизм имеет телеологический характер.
2. Природные задатки человека, направленные на применение его разума,
развиваются полностью не в индивиде, а в роде. Разум, по Канту, безграничен по
своим замыслам. Но он действует не инстинктивно, а нуждается в упражнении,
воспитании, обучении. Поэтому отдельному индивиду нужно непомерно долго жить,
чтобы научиться наиболее полно использовать свои природные задатки. Так как
срок жизни краток, то люди последовательно развивают себя и передают от
поколения к поколению своё просвещение, чтобы постепенно продвигаться к цели
природы.
3. Своеобразие человека Кант усматривает в разуме и основанной на нём
деятельности. Всё – от питания, одежды и крова до развлечений, доброты и
проницательности – должно быть исключительно делом его рук. Природа скупо
наделила человека животными качествами, нацелив его на «высшую потребность»,
чтобы только он, достигнув счастья и совершенства мыслей, воспользовался
плодами своих трудов и был обязан ими только самому себе. Кант здесь,
несомненно, схва-
153
тывает существенное отличие человека от животного, именно труд, и
делает его основой разум. Можно поэтому видеть, что учение Фихте и Гегеля о
деятельной природе субъекта берёт своё начало в «Идеях» Канта.
4. Благодаря труду образуется поступательный ход истории. Старшие поколения
трудятся в поте лица как будто исключительно ради будущих поколений, чтобы
подготовить им ступень, на которой можно было бы выше возводить здание,
предначертанное природой, и чтобы только позднейшие поколения имели счастье
жить в этом здании, для построения которого работал длинный ряд
предшественников. Кант при этом отмечает, что предшественники не преднамеренно
это делают, ход возведения здания имеет телеологический характер, поскольку об
этом «заботится природа».
5. Замечательной чертой философии истории Канта является диалектическое
понимание развития. «Средство, которым природа пользуется для того, чтобы
осуществить развитие всех задатков людей, – это антагонизм их в обществе,
поскольку он в конце концов становится причиной их законосообразного порядка.
Под антагонизмом я разумею здесь недоброжелательную общительность людей, т. е.
их склонность вступать в общение, связанную, однако, с всеобщим сопротивлением,
которое постоянно угрожает обществу разъединением». Кант видит источник этого в
«человеческой природе». Человек, с одной стороны, имеет склонность общаться с
себе подобными, ибо в таком состоянии он больше чувствует себя человеком, то
есть чувствует развитие своих природных задатков. С другой стороны, ему присуще
стремление к уединению, изоляции, необщительность, желание всё сообразовать со
своим разумением и сопротивляться другим. Это сопротивление пробуждает все силы
человека, заставляет его преодолевать природную лень. «Здесь начинаются первые
истинные шаги от грубости к культуре, которая, собственно, состоит в
общественной ценности человека»[250].
Без
154
необщительности, корыстолюбия все таланты человека в условиях жизни
аркадских пастухов остались бы нераскрытыми, неразвитыми. Будь люди кротки как
овцы, они не поднялись бы выше уровня домашних животных. Итак, «человек хочет
согласия, но природа лучше знает, что для его рода хорошо; и она хочет раздора.
Он желает жить беспечно и весело, а природа желает, чтобы он вышел из состояния
нерадивости и бездеятельного довольства и окунулся с головой в работу и испытал
трудности, чтобы найти средства разумного избавления от этих трудностей»[251].
Здесь видны яркие зачатки диалектико-материалистического понимания истории,
хотя в целом субъектом общественного развития, основой его является природа.
Кант делает первые шаги, чтобы порвать с историческим натурализмом.
6. Что является целью исторического развития? Согласно Канту, развитие всех
природных задатков людей. Но для этого необходим особый тип общества, а потому
«величайшая проблема для человеческого рода, разрешить которую его вынуждает природа,
– достижение всеобщего правового гражданского общества»[252].
В таком обществе человек имеет величайшую свободу, а стало быть существует
полный антагонизм, – и в то же время имеется возможность совмещать свободу
одного со свободой других; максимальная свобода сочетается с непреодолимым
принуждением – это и есть справедливое гражданское устройство. Он образно
поясняет роль антагонистических склонностей в формировании идеального общества.
Хотя они и порождают много бед, «однако в таком ограниченном пространстве, как
гражданский союз, эти же человеческие склонности производят впоследствии самое лучшее
действие подобно деревьям в лесу, которые именно потому, что каждое из них
старается отнять у другого воздух и солнце, заставляют друг друга искать этих
благ всё выше и благодаря этому рас-
155
тут красивыми и прямыми; между тем как деревья, растущие на свободе,
обособленно друг от друга, выпускают свои ветви как попало и растут уродливыми,
корявыми и кривыми. Вся культура и искусство, украшающие человечество, самое
лучшее общественное устройство – всё это плоды необщительности, которая в силу
собственной природы заставляет дисциплинировать себя и тем самым посредством
вынужденного искусства полностью развить природные задатки»[253].
В понимании общественного развития Кант, как видим, проявляет себя блестящим
диалектиком. В отличие от негативных и субъективных антиномий первых двух
«Критик» эта диалектика имеет положительный и объективный характер, напоминает
диалектические воззрения Канта докритического периода. Здесь действительно
указан механизм исторического движения, который будет исследоваться философами
после Канта. Мы найдём его в учениях Шеллинга, Гегеля.
7. Исследуя возможность перехода к идеальному обществу, Кант сталкивается с
педагогическим пониманием истории, весьма распространённым в его время, и
вскрывает в нём трудность, проблему. Он рассуждает так: человек есть животное,
злоупотребляет своей свободой (стремится порабощать других) и потому нуждается
в господине, который заставил бы его повиноваться законам. Но где он может
найти такого господина? «Только в человеческом роде. Но этот господин также
есть животное, нуждающееся в господине. Поэтому нельзя... понять, – пишет Кант,
– как он создаст себе главу публичной справедливости, который сам был бы
справедлив. Ведь каждый облечённый властью всегда будет злоупотреблять своей
свободой, когда над ним нет никого, кто распоряжался бы им в соответствии с
законами. Верховный глава сам должен быть справедливым и в то же время человеком.
Вот почему эта задача самая трудная из всех...»[254].
Кант полагает,
156
что эту задачу полностью решить невозможно. Можно лишь приближаться
к этому. Кант проницательно вскрывает трудность в названном понимании истории и
ограниченность его.
Описанный механизм действует и в отношениях между государствами. Кант указывает,
что создание совершенного государственного устройства зависит от установления
правовых отношений между государствами и без последнего не может быть
осуществлено. Этому вопросу философ посвятил сочинение «К вечному миру» (1795),
в котором высказал целый ряд прогрессивных идей, имеющих полную актуальность и
сейчас.
Здесь он старается найти меры, условия перехода к идеальному строю, в
котором войны станут невозможными. Война есть тот же антагонизм, который мы уже
описали, но действующий в международном масштабе. Спрашивается, как её
преодолеть?
Все условия Кант фиксирует в виде отдельных статей (сочинение написано в
форме договора) и делит их на предварительные и окончательные. Первых
насчитывается шесть, среди них такие, как: ни одно самостоятельное государство
(большое или малое – это безразлично) не должно быть приобретено другим
государством ни по наследству, ни в обмен, ни куплей, ни в виде дара;
постоянные армии должны со временем полностью исчезнуть; ни одно государство не
должно насильственно вмешиваться в политическое устройство и правление других
государств, и др.
Но особенно замечательны окончательные статьи. Первая из них гласит:
«Гражданское устройство в каждом государстве должно быть республиканским»[255].
Республиканским он называет такое устройство, в котором господствует свобода
(правомочие не повиноваться никаким внешним законам, кроме тех, на которые я
мог бы дать своё согласие), равенство («такое отношение его граждан, когда
каждый может обязать к чему-либо другого юридически, только если он сам
подчиняется за-
157
кону, требующему, чтобы и его могли обязать таким же образом»), зависимость
всех подданных от единого общего законодательства (отрицание каких-либо
прирождённых прав – феодальных привилегий). Кант говорит, что на привилегии
никогда не согласится общая воля народа в «первоначальном договоре (а ведь
именно эта воля есть принцип всех прав)»[256].
Отвергая наследственное дворянство, он допускает дворянство служилое, привилегия
которого связана с должностью.
Уточняя своё понимание республики, Кант различает формы государства по
формам господства и формам правления. Первые зависят от того, один, несколько
или все обладают верховной властью. Это создаёт автократию, аристократию,
демократию – власть государя, дворянства, народа. Форма правления зависит от
способа распоряжения властью и может быть или республиканской, или
деспотической. И Кант определяет: «Республиканизм есть государственный принцип
отделения исполнительной власти от законодательной; деспотизм – принцип
самовластного исполнения государством законов, данных им самим»[257].
Согласно Канту, представительная монархия есть республиканское устройство,
потому что в ней имеется указанное разделение властей. Но «из трёх форм
государства демократия в собственном смысле слова неизбежно есть деспотизм, так
как она устанавливает такую исполнительную власть, при которой все решают об
одном и во всяком случае против одного...»[258].
Кант выводит закономерность: чем меньше персонал государственной власти и чем,
напротив, шире её представительство, тем более государственное устройство ближе
к республиканизму. «Вот почему при аристократии уже труднее, чем при монархии,
достигнуть этого единственно совершенного правового устройства, а при
демократии его можно достигнуть только путём насильственной революции»[259].
158
Почему Кант считает республику необходимой для предотвращения войн? Потому
что при ней граждане решают, быть ли войне и если да, то им самим придётся
нести все её тяготы. Деспот же смотрит иначе; «война нисколько не лишает его
пиров, охоты, увеселений, празднеств и т. п., и он может, следовательно,
решиться на войну по самому незначительному поводу как на увеселительную
прогулку, равнодушно предоставив всегда готовому к этому дипломатическому
корпусу подыскать приличия ради какое-нибудь оправдание»[260].
Второе окончательное условие требует, чтобы международное право было
основано на федерализме свободных государств. Кант считает, что необходимо
создание «союза народов», который, однако, не должен быть государством народов,
ибо в последнем есть высшие и низшие, а в союзе должны быть равноправные народы.
Для нас это различие понятно.
Наконец, третье условие гласит: «Право всемирного гражданства должно быть
ограничено условиями всеобщего гостеприимства». Тут Кант выступает как
противник колониализма. Он называет чудовищной несправедливость, причиняемую
европейцами народам других частей света. «Когда открывали Америку, негритянские
страны, острова пряностей, мыс Доброй Надежды и т.д., то эти страны
рассматривались как никому не принадлежащие: местные жители не ставились ни во
что». Он считает, что насилие не принесло европейцам никакой выгоды, а ввергло
народы в большие бедствия. В этом отношении Кант выступает как большой
гуманист, и его идеи прямо перекликаются с животрепещущими проблемами наших
дней.
Таковы условия вечного мира. Но что гарантирует его? «Эту гарантию, –
отвечает Кант, – даёт великая в своём ис-
159
кусстве природа, в механическом процессе которой с очевидностью
обнаруживается целесообразность, состоящая в том, чтобы осуществить согласие
людей через разногласие даже против их воли»[261].
Внутри народа раздоры устраняет война с другими народами, заставляя его
консолидироваться. Что касается внешних отношений, то здесь Кант особенно
указывает на торговлю. «Дух торговли, который рано или поздно овладевает каждым
народом, – вот что несовместимо с войной. Дело в том, что из всех сил
(средств), подчинённых государственной власти, сила денег, пожалуй, самая
надёжная, и поэтому государства вынуждены (конечно, не по моральным
побуждениям) содействовать благородному миру»[262].
Кант считает вечный мир практически достижимым и требует добиваться этой «не
столь уж призрачной цели».
В идее вечного мира, как её излагает Кант, характерно соединение
совершенного государственного устройства отдельных народов и правового
отношения между ними, единство внутренних и внешних преобразований. Конечно,
это необходимая предпосылка. Однако, как показывает исторический опыт,
предпосылка недостаточная. Даже надежда на изменение формы собственности не
оправдалась, ибо и социалисты, и их антиподы одинаково воинственны.
Агрессивность лежит ниже сферы социальности, в самой природе живого вообще и
человека в частности.
Таковы основные философско-исторические и социально-политические идеи Канта.
Они рисуют его как крупного мыслителя и гуманиста. Несмотря на небольшой объём
его сочинения «Идеи о всеобщей истории...», в нём в тезисном виде заключены уже
основные положения «Философии истории» Гегеля. Учение об антагонизме и труде, о
закономерном развитии общества, о роли интереса и превращении
160
совокупности индивидуальных действий в единый исторический поток,
захватывающий всё человечество, вошло в золотой фонд науки.
Из вышесказанного можно выделить общую структуру исторических воззрений
Канта. Но сначала два слова о роли морального фактора в истории. Она, как
свидетельствуют его сочинения, весьма скромна. Правители содействуют миру силой
денег («самой надёжной силой»), но, «конечно, не по моральным побуждениям», –
говорит Кант. Материальный интерес сильнее морального. Соотношение морали и
политики аналогично: «... не от моральности надо ожидать хорошего
государственного устройства, а, скорее наоборот, от последнего – хорошего
морального воспитания народа». Общая воля (основа морали), имеющая свою основу
в разуме, почитаема, но на практике бессильна, и ей природа должна оказать
поддержку через склонности людей[263].
Таким образом, всесильный императив очень мало даёт в истории. Чистый закон
нравственности, по Канту, не зависит от нас, но поскольку он говорит о
действительной моральной жизни людей, Кант ставит её в зависимость от
устройства государства.
Итак, в основе всей истории лежит у Канта «план природы». Он определяет ход
её как целого. Отдельные индивиды руководствуются своим личным интересом.
Возникает антагонизм. Борьба интересов порождает государство и право, которые
дают возможность морального совершенствования людей. Все эти факторы вместе
порождают в идеале состояние вечного мира. Схематически:
161
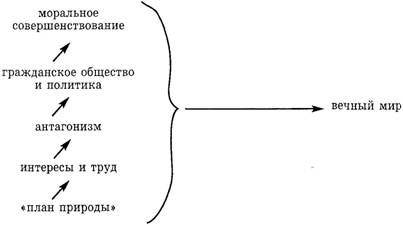
Таким образом в фундаменте всего природного и общественного мироздания лежит
телеология. Специальному анализу её посвящена «Критика способности суждения» –
третье основное произведение Канта.
Понятия целесообразности и рефлексии
Понятие системы – одно из основных в учении Канта. Оно пронизывает как
отдельные его произведения критического периода, так и всё его учение в целом.
Первые две «Критики» посвящены исследованию теоретического познания и
морально-практической деятельности. Они дополняют друг друга. При помощи одной
теории, толкуемой, правда, идеалистически, нельзя, по мысли немецкого философа,
доказать бытие вещей в себе. Практический разум в этом отношении обладает
первенством перед теоретическим, ибо для выполнения основного нравственного
закона необходимо постулировать вещи в себе, тогда как для познания они
остаются ноуменами – проблематическими понятиями, объективная реальность
предметов которых не может быть доказана. Но между теорией и практикой у Канта
нет органического единства, ибо предметы
162
их – явления и вещи в себе – тоже не находятся в единстве. Это – два
мира, связь между которыми есть разграничение, а не соединение. Между ними
пропасть, которую должна заполнить третья основная работа Канта критического
периода – «Критика способности суждения». Как увидим ниже, эту пропасть Канту
заполнить не удалось, но его поиски в этом направлении – найти формы соединения
теории и практики – заслуживают внимания.
Вся система философии Канта, с учётом сказанного, имеет следующие общие
черты. Сначала она делится на две части – формальную и материальную. Первую
образует логика. Вторая, реальная, рассматривает предметы мысли, которые, в
свою очередь, Кант делит на две части – на теоретическую и практическую –
философию природы и философию нравов. Первая, по его мысли, может иметь и
эмпирические принципы, вторая, трактующая о свободе, – только априорные. В
связи с этим, Кант уточняет понятие практического. Он разграничивает моральную
и материальную деятельность. «Полагали, – пишет Кант, – что к практической
философии можно причислить политику, политическую экономию, правила
домоводства, а также искусство обхождения, предписания для [сохранения]
здоровья и для диететики души и тела [почему вообще не все ремёсла и
искусства?], поскольку все они содержат в себе некоторую совокупность
практических положений»[264].
Согласно Канту, последние отличаются от теории (философии природы) лишь по
способу представления, по форме, но не по содержанию. Так, законы рычага
одинаковы и в теоретической механике, и в практике, где они используются.
Последняя поэтому есть «практическая часть философии природы», но не
практическая философия... Она не является самостоятельным предметом
исследования. Кант считает бессмыслицей практическую геометрию как обособленную
науку, и то же касается практической физики, психологии и тех отраслей
деятельности, кото-
163
рые перечислены выше. Чтобы избежать двусмысленности в употреблении
понятия «практическое», Кант все названные виды деятельности называет
техническими: «они относятся к искусству осуществлять то, чего хотят, чтобы оно
было»[265].
Итак, теория изучает свойства данных объектов, техника – способ их создания;
слово «техника» Кант употребляет и по отношению к тем предметам природы,
которые обнаруживают в себе целесообразность и могут быть рассматриваемы по
аналогии с искусством ( то есть с производством, с искусственно созданными
вещами). Феномен целесообразности должен, по Канту, соединить теорию и
практику, обособленно рассмотренных в первых двух «Критиках».
Таким образом, схематически систему философии Канта можно изобразить так:
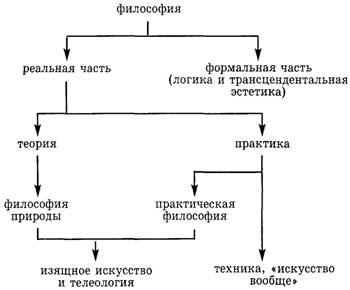
164
Как видно, Кант в этой классификации философских наук исходит из их
предмета, из его своеобразного содержания. Ценность этой системы в том, что вся
философия выступает как расчленённое изображение основных форм человеческой
деятельности: теории, практики и их единства[266].
Но философия, будучи знанием, требует также учёта духовных способностей
человека. И кантовское расчленение определяется также делением высших
познавательных способностей, а затем и системой всех способностей души. Высших
познавательных способностей он выделяет три: рассудок (способность давать
правила для познания), способность суждения (способность подводить особенное
под общее) и разум (источник идей – высших форм синтеза). Первый – предмет
«Критики чистого разума», вторая – «Критики способности суждения», третий –
«Критики практического разума». Интересно отметить, что, вводя способность
суждения в свою систему, Кант считает, что она есть часть критики, но не часть
доктрины. Её функция – осуществлять связь между природой и свободой. Но эта
связь выявится лишь проблематической, она не будет положительным учением.
Поэтому философия как система «может состоять только из двух частей»[267].
Наконец, все способности души можно свести к трём: познавательная
способность, чувство удовольствия и неудовольствия и способность желания.
Познание как особая деятельность анализируется в «Критике чистого разума»,
желание – в «Критике практического разума», чувства удовольствия и
неудовольствия – в «Критике способности суждения». Сама специализация всех
способностей души у Канта явно зависит от системы форм деятельности: познание,
практика, телеология и искусство. Из этого, между прочим, видно, как неверно
сводить учение Канта к гносеологии. Сам он говорит: «Прав-
165
да, философы, заслуживающие, впрочем, всяческой похвалы за
основательность своего образа мыслей, объявили это различие лишь мнимым и
стремились свести все способности к одной только познавательной способности.
Однако можно очень легко показать, и с некоторых пор уже поняли, что подобная
попытка внести единство в это многообразие способностей ... тщетна». Кант
резонно замечает, что одно дело соотнесение представлений с объектом в
познании, иное – представление как причина объекта (в продуктивной деятельности)
и, наконец, отношение их только к субъекту, когда они вызывают удовольствие.
«Это чувство безусловно не есть познание и не даёт познания, хотя и может
предполагать его в качестве определяющего основания»[268].
Конечно, разные вещи – знать объект, получать от него удовольствие и создавать
его. Этим-то вызывается потребность в «Критике чувства удовольствия и
неудовольствия».
Посмотрим, как вводит Кант способность суждения в свою систему.
Он исходит из понятия опыта. Последний есть форма знания и, стало быть,
требует понятий. Если речь идёт об опыте вообще, то и необходимые для него
понятия имеют всеобщий характер. Это – категории, априорные, по Канту, условия
опытного знания в целом. Категории образуют систему, а потому и опыт есть
«система по трансцендентальным законам, а именно таким, которые a priori даёт
сам рассудок»[269].
Но помимо «трансцендентальных» имеется множество частных, особенных законов
опыта. Их Кант называет эмпирическими и справедливо считает, что их нельзя
вывести из априорных законов рассудка. Поэтому хотя последние образуют систему,
а значит, является системой и опыт вообще (она изложена Кантом в аналитике
основоположений в «Критике чистого разума»), «однако возможно столь бесконечное
многообразие
166
эмпирических законов и столь большая разнородность форм природы,
относящихся к частному опыту, что понятие о системе по этим (эмпирическим)
законам должно быть совершенно чуждо рассудку, и нельзя понять возможность, а
тем более необходимость такого целого»[270].
Это разграничение очень важно.
Во-первых, в нём отражается тот факт, что категории, являющиеся общими
условиями опыта, сформировались на протяжении всей истории человечества и
«разум» последнего немыслим без них, так что они кажутся как бы независимыми от
опыта, априорными. Но знание развивается, развивается и сам опыт, и в нём
всегда имеется огромное множество частных законов, которые ещё не вошли в этот
категориальный состав познания. Здесь поэтому и нет видимости, что они
сверхопытны, что фиксируется также Кантом.
Во-вторых, построение системы требует общего принципа. Если его нет, то нет
и системы – вместо неё будет агрегат. Пока нет такого принципа, опыт как
система невозможен. Но где взять такой принцип? В ответе на этот вопрос чётко
расходятся кантовская и материалистическая точки зрения. У Канта возможен двоякий
ответ на него. Первый: принцип будет всеобщим. Тогда он, согласно Канту,
априорный, а из него эмпирические законы невыводимы. Второй: проблема остаётся.
Поэтому Кант вводит иерархию эмпирических законов. Эмпирическое подводится под
общее, «хотя всё ещё и эмпирическое, и так далее вплоть до высших эмпирических
законов и соответствующих им природных форм...»[271].
Таким образом, подымаясь в этой иерархии выше и выше (здесь Кант даёт
реалистическое описание развития опытного знания), мы всё-таки не достигаем
точки, где эмпирическое перешло бы во всеобщее, абсолютное. Эмпирия
ассимптотически движется ко всеобщему, но не достигает его. Значит, принцип для
система-
167
тизации опыта не может быть взят из чистого рассудка. Он –
эмпирический, хотя и более общий закон. Общее, а также различие принципов и
системы здесь относительно, тогда как чистый рассудок даёт абсолютное знание.
Эмпирически опытное знание у Канта развивается, прогрессирует, а категориальная
структура его неизменна.
Но почему мы не останавливаемся на данном многообразии эмпирических законов,
а ищем общее относительно их? Прежде всего, можно ответить: потому что такова
природа познания. Но этого мало. Чем объясняется сама эта природа? Можно было
бы сказать, что раньше мы уже находили общее для особенного и теперь поступаем
аналогично. Но вопрос этим не решается, а отодвигается дальше и дальше вглубь
истории познания. Надо вообще выйти за пределы познания, чтобы это понять.
Выход необходим, потому что познание не является чем-то абсолютно
самостоятельным. Оно в конечном счёте определяется практической деятельностью
людей, трудом. Основная же особенность последнего состоит в целеполагании,
постановке и реализации целей. Поскольку деятельность стремится реализовать
цель, то и она должна протекать целесообразно. А целесообразность – это
достижение цели с минимальным количеством средств. Поэтому действие, в котором
используется, при прочих равных условиях, один общий закон, будет более
целесообразным, нежели то, в котором используется много частных законов. Так
как, далее, реальная деятельность определяет в общем познавательную, то эта
общая черта первой должна отражаться во второй. В познании мы действительно
видим общую особенность – стремление сводить к общим принципам частные законы.
Оно-то и есть идеальное, гносеологическое воспроизведение реальной
целесообразности деятельности человека – целесообразность в сфере познания.
Таково материалистическое решение этого важного вопроса гносеологии. Как решает
его Кант? Из чего он исходит?
Прежде всего, Кант считает необходимым не останавливаться на частных
законах, а искать общее, у нас есть
168
«способность подводить данные частные законы под более общие,
которые не даны»[272].
Кант называет её способностью суждения. А так как познавательные способности у
Канта ни из чего не выводятся, то их особенности изначальны. Они в них
присутствуют всегда. Он не выводит их из практики, «искусства и ремесла», как
мы видели, он исключает их из «практической философии». Не выводит он их и из
природы, ибо последняя, наоборот, конструируется с помощью средств познания.
Кант пишет: «Понятие, первоначально возникающее из способности суждения и
свойственное лишь ей, есть понятие о природе как искусстве, иными словами, понятие
о технике природы в отношении её частных законов»[273].
Техника природы, природа как искусство – это целесообразность её для познания,
движущегося от частного к общему, перенесение на природу основной особенности
способности суждения. «Эта сама по себе случайная» (не вытекающая из
необходимых законов рассудка) «закономерность, которую предполагает в природе
способность суждения (лишь ради себя самого), есть формальная целесообразность
природы, которую мы безусловно допускаем в ней. Этим не утверждается ни
теоретическое познание природы, ни практический принцип свободы, тем не менее,
однако, даётся принцип для рассмотрения и исследования природы, чтобы искать
общие законы для того или иного частного опыта...»[274].
Кант прав, что, если не допустить, не предположить такой целесообразности
природы для познания, то не будет стимула для поисков общих законов, которые
ещё не даны. Верно также, что такое допущение ещё не есть познание, а говоря
иным словом, гипотеза, лишь стремление к нему. Верно, далее, что мы делаем
такое допущение потому, что у нас есть определённая познавательная способность
– способность суждения, при помощи которой мы
169
двигаемся от частного к общему. Эта способность формируется на
протяжении всей истории познания, и потому она уже есть, если мы встречаемся с
частным опытом. Она предваряет последний и является необходимым условием такого
предположения в отношении этого опыта, то есть, употребляя термин Канта,
трансцендентальна. Наконец, правильно, что это способность субъекта, ибо сами
вещи предположений не делают. В этом смысле верны слова Канта, что это –
«субъективно необходимое трансцендентальное предположение»[275].
Но кантовской теории суждения недостаёт существенного – объективного
основания названной способности, которое, как отмечалось выше, находится в
труде; поскольку человек с его трудом возникает на основе развития природы, то
познавательные способности его суть отражение её через призму труда, и тогда
становится понятным, почему, делая субъективное допущение о целесообразности
природы, люди находят подтверждение ему, когда для частных законов находят
общие. Кантовская теория, правильно описывая основные свойства способности
суждения, не даёт им по сути никакого объяснения. Они идеалистически повисают в
воздухе как нечто изначальное и невыводимое из реальной действительности.
Учитывая эти недостатки, нельзя не признать глубину в кантовском способе
введения понятия целесообразности и способности суждения в философский анализ
при помощи «опыта как системы по эмпирическим законам».
Но способность суждения бывает, по мысли Канта, двух видов: определяющая и
рефлектирующая. Если предмет подводится под имеющееся готовое понятие, мы имеем
определяющую способность суждения; примерами будут суждения: солнце – причина
тепла, «Война и мир» Толстого – действительное произведение искусства и т. п.
Если же для предмета понятие только ищут, то способность суждения
рефлектирующая. «Рефлектировать, – пишет Кант, – означает сравнивать
170
и соединять данные представления либо с другими, либо со своей
познавательной способностью по отношению к понятию, возможному благодаря этому»[276].
Легко видеть, что в кантовском анализе опыта речь шла именно о рефлективном
суждении. Помимо этого основного различия Кант вводит ещё ряд различий.
Принцип определяющей способности суждения есть понятие, под которое
подводится предмет (представление). «Принцип рефлексии» есть способность делать
предположение, что для данных предметов можно найти общее понятие. «В самом
деле, если бы мы не могли предполагать это и не положили этого принципа в
основу нашего рассмотрения эмпирических представлений, то всякое
рефлектирование производилось бы наугад и вслепую, стало быть, без уверенности
в том, что оно будет соответствовать природе»[277].
Третье различие состоит в том, что в определяющем суждении правилом
подведения предмета под понятие является схематизм, который Кант подробно
осветил в «Критике чистого разума», рефлексия же действует «не схематически, а
технически, не чисто механически, словно инструмент, управляемый рассудком и
чувством, а с искусством, согласно всеобщему, но в то же время неопределённому
(предполагаемому) принципу целесообразного устройства природы в некоей
системе...». Техника природы делается принципом рефлексии о частных законах.
Без неё нельзя было бы «ориентироваться в лабиринте многообразия возможных
частных законов»[278].
Четвёртое различие. Если это общее понятие, то путём его деления можно
спуститься к видам, подвидам и даже индивидам. Так, понятие философия можно
делить на формальное и реальное, как это обстоит дело с системой философии
Канта. Такое деление Кант называет спецификацией понятий. Но ес-
171
ли двигаться от особенного к общему, то есть рефлектировать, то
нужна классификация многообразного – сравнение между собой многих классов,
подведение их под более высокие классы (роды), пока не дойдём до понятия,
содержащего в себе принцип всей классификации («составляющего высший род»). Но
если высший род дан, то он специфицируется на все виды и подвиды. Поскольку же
в рефлексии он только отыскивается, то предположение о нём есть в то же время
предположение о том, что природа специфицирует по какому-то принципу свои
законы. Принцип рефлексивной способности суждения поэтому гласит: «природа
специфицирует для способности суждения свои всеобщие законы в эмпирические
сообразно с формой логической системы[279]
(которая состоит в делении понятий). Кант отмечает искусственный характер
классификации. «Подобно тому как такая классификация не есть обычное опытное
знание, а имеет искусственный характер, так и природа, если она мыслится таким
образом, что она специфицируется согласно такому принципу, рассматривается как
искусство»[280].
В связи с этим Кант различает номотетику (законодательство) от техники: первая
предписывает законы; вторая есть лишь необходимое предположение.
Как видим, понятие целесообразности органически связано у Канта с
рефлектирующей способностью суждения. Эта связь выражена им так: «цель полагают
вовсе не в объекте, а исключительно в субъекте, и причём лишь в его способности
рефлектировать»[281].
Остановимся на этом положении, без уяснения которого невозможно дать правильной
оценки настоящей работы Канта. Цели ставит человек, субъект. В этом Кант не
сомневается. По его определению, «цель есть предмет понятия, поскольку понятие
рассматривается как причина этого предмета (как реальное основание его
возможности); и
172
каузальность понятия в отношении его объекта есть целесообразность
(forma finalis)»[282].
Такого понятия наблюдать в природе нельзя, – доказывает Кант на протяжении всей
критики, – хотя, как увидим дальше, он допускает цель в сверхчувственном –
Боге. Но если в природе как явлении нет понятия, то о какой целесообразности
здесь может идти речь? Как о субъективной. «Так, мы рассматриваем почвы, камни,
минералы и т. п. как не имеющие какой-либо целесообразной формы, просто как
агрегаты, однако они столь родственны по внутреннему характеру и основам
познания их возможности, что оказываются пригодными для классификации вещей в
системе природы по эмпирическим законам, не обнаруживая в них самих какой-либо
формы системы»[283].
Поэтому классификация создаётся на основе внутреннего родства вещей, на основе
их собственных свойств, но не природа, а человек ставит цель – создать такую
классификацию. Природа сама по себе действует без всякой цели, механически,
человек же, действующий по целям, ищет целесообразность и в природе, создавая,
например, искусственные классификации животных или растений. Кант в этом случае
считает, что «вполне совместимы механическое объяснение явления, составляющее
дело разума в соответствии с объективными принципами, и техническое правило
рассмотрения того же самого предмета по субъективным принципам рефлексии о нём»[284].
Предметы целесообразны не сами по себе, а в их отношении к людям. При этом Кант
указывает, что из способности суждения нельзя заключить о способности к
порождению самих по себе целесообразных природных форм, однако, поскольку
целесообразность обнаруживается в опыте (например, в живых организмах),
возможно и дозволено считать причиной их некий сверхчеловеческий рассудок[285].
О последней мысли скажем дальше, сей-
173
час же проанализируем целесообразность природы в отношении к
человеку.
Известно, что из пробкового дерева делают пробки для закупоривания бутылок,
то есть целесообразно его используют. Ясно, что природа, создавая это дерево,
вовсе не преследовала цели – доставить людям пробочный материал. В самом дереве
никакой целесообразности нет. Но она появляется, когда дерево вовлекается в
сферу человеческой деятельности. В последней предметы природы используются как
средства для определённых целей, то есть обретают целесообразность, которая
осуществляется потому, что предметы природы имеют определённые свойства, но для
них безразлично, что их используют для каких-то целей. Точно так же внутреннее
родство камней, минералов и т. д., наличие в них определённых объективных
свойств делает их пригодными для систематизации, имеющей, таким образом,
объективное основание. Но для этих вещей является внешним и безразличным то,
что их целесообразно распределяют по рубрикам, как для дерева безразлично, что
из него делают пробки. Кант тоже касается реального отношения людей к вещам. Он
говорит, что «если человек на основании свободы своей каузальности считает
природные вещи пригодными для своих, часто глупых, целей (пёстрые перья птиц
для украшения своего платья, красящие вещества или соки растений для румян), а
иногда и разумных – лошадь для езды, вол, а на Минорке – осёл и свинья для
плуга, – то здесь нельзя допускать даже и относительной цели природы (для
такого пользования)» (то есть нельзя допускать, что природа создала эти вещи
для его пользования). «В самом деле, его разум умеет давать вещам соответствие
с его произвольными выдумками, к чему человек вовсе не был предопределён
природой»[286],
то есть человек, а не природа делает вещи целесообразными.
174
Но в основном Канта интересует не реальное (промышленное) использование
природы, а целесообразное отношение её к духовным свойствам людей. Кант, как
уже отмечалось, не видел того, что целесообразное действие способности суждения
в отношении природных форм есть отражение практической деятельности. Реальная
техника есть база для техники суждения. Последняя, будучи по самой своей сути
целеполагающей, и внешние вещи делает целесообразными, используя их.
Деятельность в этом смысле есть основание целесообразности природы. Кант
фиксирует эту связь лишь в отражённой идеальной форме. Он говорит «о технике
способности суждения как основании идеи о технике природы»[287].
Так как «ремёсла и искусства» исключаются из практической философии,
действительный факт познания получает идеалистическую интерпретацию. Именно
потому, что Кант ещё не знает производства как действительной основы
«способностей души», у него «принцип целесообразности есть лишь субъективный
принцип деления и спецификации природы, он ничего не определяет в отношении
форм продуктов природы»[288]
(имеется в виду природа сама по себе). Разграничивая природу саму по себе от её
отношения к человеку (субъекту), Кант отделяет технику от механики.
«Каузальность природы в отношении формы её продуктов как целей я буду называть
техникой природы. Она противопоставляется механике природы, которая заключается
в её каузальности (причинности) через связь многообразного без какого-либо
понятия, лежащего в основе способа её соединения, примерно так же, как те или
иные подъёмные механизмы, которые могут давать эффект для какой-либо цели и без
идеи, положенной в её основу; например, рычаг, наклонную плоскость мы назовём,
правда, машинами, но не произведениями искусства, так как хотя они и могут быть
применены для каких-то целей, но возможны не
175
только по отношению к ним»[289].
Ибо наклонные плоскости, рычаги и т. п. есть и в самой природе, а не являются
обязательно созданными искусственными предметами. Здесь Кант говорит о
действительных вещах и о действительном, реальном использовании вещей природы,
то есть он знает материальную целесообразность природных форм. Но анализирует
её он спорадически и к тому же, повторяем, не видит в ней основы техники
суждения.
Но учитывая эту зависимость, учёный имеет право рассмотреть способность
суждения как относительно самостоятельный феномен, подобно тому, как изучают (в
теоретической геометрии) чистое пространство, хотя в действительности оно
соединено с материей.
Обрисовав таким образом общее понятие целесообразности у Канта, внесём в
него необходимые различения.
Предмет может быть целесообразным или непосредственно для человека (субъекта),
или для другого предмета (как, например, почва для злаков). Так как человек и
материальное и духовное существо, то первый вид целесообразности, в свою
очередь, расчленяется на два класса: на вещи, удовлетворяющие физические
потребности, и вещи, действующие на духовные способности. Что касается
последних, то они, далее, тоже неоднородны. Предметы 1) могут быть пригодными
для познания, и, поскольку они действуют на чувственность, Кант исследовал её в
«трансцендентальной эстетике»; 2) они могут действовать на рефлексию (в
вышеразъяснённом смысле этого слова); и, наконец, 3) прямо на внешнее чувство,
доставляя человеку удовольствие. Во всех трёх случаях имеется чувственность, но
неодинаково отношение её к понятию, что важно для формы рефлектирующей способности
суждения, о которой идёт речь.
Первый случай сюда не относится, ибо он исследован в «Критике чистого
разума»; третий – тоже, ибо в нём отсут-
176
ствует понятие, предмет без посредства его воздействует на чувство.
Но ввиду того, что чувственность присутствует везде, все три способа восприятия
действительности могут быть названы эстетическими в широком смысле слова. Кант
называет первый тип отношения (где созерцание подводится под понятие)
логическим суждением, второй – эстетическим суждением рефлексии и третий –
эстетическим суждением чувствования. Примерами их могут быть: а) Солнце велико;
б) Аполлон прекрасен; в) вино приятно. Познавательное суждение безразлично к
чувству удовольствия (восторг Архимеда перед открытым им законом не входит
никогда в самый закон). Рефлексивное суждение выражает чувство удовольствия
перед прекрасным предметом (ибо красота действует не только на ум, но и на
чувство). Суждение чувствования выражает только удовольствие, без всякой
примеси понятий. Поэтому первое суждение Кант называет объективным, вторые два
– субъективными.
Что касается целесообразного отношения одной вещи к другой, то хотя оно, как
выше говорилось, и не имеет места без субъекта (а потому тоже субъективно), но
отличается от предыдущего: там субъект рассматривает (осознаёт, воспринимает)
целесообразность как субъективную, здесь она рассматривается как объективная.
«Суждение об объективной целесообразности природы называется телеологическим»[290].
Первую Кант называет формальной целесообразностью, вторую – реальной; но
«техника природы, будет ли она чисто формальной или же реальной, вообще
представляет собой лишь соотношение вещей и нашей способности суждения, и
только в последней можно найти идею целесообразности природы, которая
приписывается природе лишь в отношении к нашей способности суждения»[291].
Мы получаем такую картину:
177

Таким образом, вся работа Канта делится на две части: «Критику эстетической
способности суждения» и «Критику телеологической способности суждения». Каждая,
в свою очередь, состоит из «Аналитики» и «Диалектики». Рассмотрим в кратких
чертах эти части сочинения Канта.
Основные черты эстетики Канта
Уже говорилось, что эстетическое суждение имеет определяющим основанием
удовольствие от представления (созерцания) предмета. Но связь их может быть или
прямой, или косвенной. Если предмет прямо действует на внешнее чувство
(обоняние, осязание), то возникающее при этом удовольствие даёт основание для
суждения чувствования, скажем «вино приятно». Кант справедливо это к эстетике
не относит. Но предмет может, подействовав на внешнее чувство (без этого
восприятие невозможно), влиять дальше – на душевные (познавательные)
способности человека, на мышление и воображение, или на способность суждения, в
которой они находятся в соотношении друг с другом. Последнее может быть
178
соответствием или несоответствием. Если возникает соответствие
способностей души, то, значит, и предмет, вызывающий его, соответствует им,
является для них подходящим или целесообразным. В противном случае – наоборот:
дисгармония мышления и воображения свидетельствует о дисгармонии предмета и
способности суждения.
Если имеет место соответствие их, возникает чувство удовольствия, если
конфликт, противоречие – неудовольствие. Суждение о предмете на основе такого
опосредованного удовольствия Кант называет суждением вкуса. Вкус он определяет
как «способность судить о прекрасном».
Здесь надо подчеркнуть два момента. Во-первых, правильно, что эстетическое
есть отношение предмета не к физическим, а к духовным способностям и
потребностям человека. Правильно также, что основные из этих способностей –
мышление и воображение, и что поэтому удовольствие будет здесь результатом не
прямого, а косвенного воздействия предмета.
Далее, в самом мышлении Кант различает рассудок и разум. Воображение может
соотноситься и с тем и с другим. Разум и воображение не могут находиться в
соответствии: первый мыслит бесконечное, второе не может его представить. Разум
возвышается над воображением, и противоборство их порождает чувство
возвышенного, которое Кант называет «духовным чувством». Им оказывается не положительное
удовольствие, как в чувстве прекрасного, а негативное – уважение.
Таким образом, эстетика Канта состоит из «Аналитики» и «Диалектики», а
первая делится на аналитику прекрасного (критику вкуса) и аналитику
возвышенного (критику духовного чувства).
179
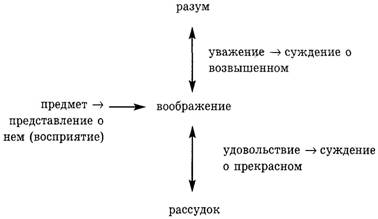
Итак, «вкус – это способность судить о прекрасном»[292].
Суждение вкуса характеризуется, согласно Канту, четырьмя моментами[293].
Первый момент касается качественной специфики эстетического суждения. Он
представляется так: «Вкус есть способность судить о предмете или о способе
представления на основании удовольствия или неудовольствия, свободного от
всякого интереса. Предмет такого удовольствия называется прекрасным»[294].
Кант глубоко прав, стараясь отделить сферу эстетического от познания, практики,
морали и т. д. Эстетическое суждение, поэтому, «не есть познавательное
суждение». Для теории познания, исследующего объект, неважно, какие чувства
испытывает исследователь. Важен сам предмет. Из вышеприведённой дефиниции вкуса
видно, что сам предмет называется прекрасным, однако через удовольствие,
вызываемое им, а не прямо. Чтобы её понять, надо привести определение интереса,
даваемое Кантом: «Интересом называется удовольствие, которое мы связываем с
представлением о
180
существовании предмета»[295].
По разъяснению В.Ф.Асмуса, «это особенно ясно, если предмет, изображённый в
художественном произведении, есть предмет заведомо фантастический. Вопрос о
том, существовал ли в действительности Вий, не имеет значения для эстетического
суждения о рассказе Гоголя»[296].
Если мы узнаем, что человек по имени Мюнхаузен существовал в действительности
или что прототипом Робинзона Крузо был реальный Селькирк, то это может вызвать
удивление, но не увеличивает и не уменьшает красоты произведений Распе и Дефо.
Кант, повторяем, не отрицает существования предмета, но непосредственное
суждение вкуса определяется не им, а представлением (изображением) через
вызываемое им чувство удовольствия. «Когда ставится вопрос, прекрасно ли нечто,
хотят знать не то, важно ли или могло ли быть важным для нас или для
кого-нибудь другого» (скажем, для родственников Селькирка или Мюнхаузена)
«существование вещи, а то, как мы судим о ней, просто рассматривая её (созерцая
её или рефлектируя о ней)»[297].
Однако справедливо отрицая, что интерес является определяющим основанием
суждения вкуса, Кант говорит: «Но отсюда не следует, что после того как оно уже
дано как чистое эстетическое суждение, с ним нельзя связывать какой-нибудь интерес»[298].
И Кант пишет два параграфа по этому вопросу: § 41 «Об эмпирическом интересе к
прекрасному», где доказывает, что «прекрасное вызывает эмпирический интерес
только в обществе», и § 42 «Об интеллектуальном интересе к прекрасному», где
устанавливает связь вкуса с моральным чувством человека.
Второй момент суждения о прекрасном – количественный – формулируется так:
«Прекрасное есть то, что без понятий представляется как объект всеобщего
удовольствия». В другом месте: «Прекрасно то, что нравится всем без [посред-
181
ства] понятия»[299].
Хотя удовольствие как основание суждения о красоте предмета субъективно (ибо
его испытывает не объект, а субъект), однако, как уже разъяснялось, оно возникает
на основе гармоничной настроенности духовных способностей человека, благодаря
тому, что мышление и воображение приходят в соответствие, обоюдно друг друга
возбуждают. Согласно Канту, это соответствие, будучи ощущаемым, и вызывает
удовольствие. Всеобщность его объясняется именно тем, что у всех людей есть
названные познавательные способности, объединяемые в способности суждения.
Третий момент раскрывает отношение суждения вкуса к целям. Цель может быть
или субъективной, или объективной. Допустим, я ставлю цель – получить
удовольствие от «Лаокоона», так чтобы он выступил для меня как прекрасный
предмет. Эта цель может не реализоваться, если мне не хватает культуры, чтобы
воспринять красоту. С другой стороны, если последняя есть, я буду чувствовать
удовольствие от этого произведения, даже не ставя перед собой никакой цели.
Поэтому не от последней зависит эстетическое восприятие, хотя оно и может быть
с нею связано, подобно тому как обстоит дело с интересом.
Допустим, далее, что речь идёт об объективной цели, скажем, что скульптура
Афины Паллады была создана с практически-религиозной целью, потому что древние
греки поклонялись этой богине. Но эта цель исчерпала себя вместе с
исчезновением древнегреческой религии, а потому красота статуи определяется не
ею. Таким образом, в обоих случаях красота определяется не целью.
Несмотря на это, художественные произведения или предметы природы мы
рассматриваем как целесообразные, потому что они подходят, соответствуют нашим
познавательным способностям, приводят их в гармоническую (целесообразную)
настроенность. Кант выражает сказанное в понятии «целесообразность без цели»;
предмет здесь не средство для чего-то
182
другого, он вызывает интерес сам по себе, есть самоцель. «Суждение
вкуса имеет своей основой только форму целесообразности предмета (или способа
представления о нём)». Под формой он понимает «согласованность многообразного
как единого (без определения, чем оно может быть)»[300].
Так, можно восхищаться красотой поляны в лесу в окружении деревьев. И при этом
не представлять себе никакой цели, например, что эта поляна должна служить для
танцев.
Ввиду сказанного, Кант, во-первых, исключает из красоты то, что возбуждает и
трогает, хотя они имеют значение, чтобы привлечь к ней ещё неразвитый вкус;
во-вторых, отграничивает от неё полезность (как в примере с Афиной); в-третьих,
различает красоту и совершенство – согласие вещи с понятием, которое
определяет, какой должна быть вещь. Поэтому Кант различает два вида красоты –
свободную и прикладную (привходящую). Первая нравится сама по себе,
необусловленно (цветы, поляны и т. п.), вторая связана с понятием, чем должна
быть вещь (такова красота человека, лошади, дворца). Суждение о первой есть
чистое суждение вкуса, о второй – прикладное.
В связи с этим Кант говорит об идеале красоты. Идеал – это чувственное
воплощение идеи – понятия разума. Она определяет, чем должен быть предмет, и
служит для последнего целью. Идеал есть фиксированная, а не неопределённая
красота. Вследствие этого «нельзя мыслить идеал красивых цветов, красивой
меблировки, красивого пейзажа». Только то, что имеет цель своего существования
в самом себе, что является целью самого себя, то есть только человек может быть
идеалом красоты, так же как среди всех предметов в мире (только) человечество в
его лице как мыслящее существо может быть идеалом совершенства»[301].
Идеал красоты можно искать только в человеческой фигуре. «А в отношении её
идеал состоит в выражении нравственнос-
183
ти»[302].
Высшая, идеальная красота есть чувственное выражение нравственности. Так как
этическое и эстетическое – не одно и то же, то суждения о такой красоте Кант
правильно считает не чисто эстетическими. Соотношение двух названных сторон
идеала таково, что нравственное в нём – содержание, а красота – его внешнее
выражение, оформление, форма. Красота есть формальная сторона идеала,
целесообразная для познавательных способностей, то есть вызывающая
удовольствие. Поэтому данный момент суждения вкуса определяется так: «Красота –
это форма целесообразности предмета, поскольку она воспринимается в нём без
представления о цели»[303].
В чистом виде она существует в вещах природы, которые не имеют цели или идеи в
самих себе, а в человеке – связана с моралью.
Четвёртый момент суждения вкуса Кант определяет так: «Прекрасно то, что
познаётся без [посредства] понятия как предмет необходимого удовольствия». Эта
необходимость не теоретическая (основывающаяся на научных понятиях) и не моральная
(категорический императив), а эстетическая: она основывается не на понятиях, а
на «общем чувстве» (Gemeinsinn) «(под этим понимается не внешнее чувство, а
действие, [возникающее] из свободной игры наших познавательных способностей)»[304].
Но существует ли оно? Кант отвечает: да, потому что познание обладает всеобщей
сообщаемостью (можно передать знание другому человеку), потому что все обладают
воображением и рассудком. Их расположение может иметь различные пропорции,
среди которых есть и такая, которая наиболее благоприятна для познания; она
воспринимается чувством, а не понятием. Так как познание вообще сообщаемо, то
сообщаемо и это расположение. Но это расположение (соответствие) познавательных
сил вызывает чувство удовольствия. Поэтому надо предположить общее у
184
всех людей чувство. Оно и есть то условие, которое необходимо
вызывает чувство красоты при восприятии предметов. И Кант в разделе о дедукции
эстетических суждений подробно развивает глубокую теорию «О сообщаемости
ощущения», «о вкусе как некотором виде sensus communis (общего чувства)» (§§
30-42), без которой феномен эстетического будет чисто субъективным и случайным,
а не необходимым, как есть на деле и как доказывает Кант. На этих чертах вкуса
Кант построил «диалектику эстетической способности суждения». Антиномия
эстетического, как и остальные антиномии, состоит из тезиса и антитезиса. Тезис
гласит: суждение вкуса не основывается на понятиях, иначе можно было бы о нём
диспутировать (решать с помощью доказательств). Короче: о вкусах не спорят.
Антитезис утверждает: суждения вкуса основываются на понятиях, иначе нельзя
было бы о них спорить (притязать на необходимое согласие других с данным
суждением). Решение антиномии состоит, согласно Канту, в том, что эстетическое
суждение не строится на логически точных понятиях – и в этом рациональный смысл
тезиса. Но эстетическое имеет отношение к рассудку, ибо суждение соотносит
воображение и мышление; поэтому оно имеет общую основу во всех людях и о нём
можно спорить. И сама антиномия и её решение Кантом рациональны.
Таковы основные черты учения Канта о прекрасном. Правильно отграничивая
красоту от приятного и доброго, полезного и совершенного, Кант устанавливает её
своеобразие, рассматривает её как внешнее, формальное свойство предмета,
вызывающее удовольствие через мышление и воображение, но в учении о прикладной
красоте, об эмпирическом и интеллектуальном интересе к ней устанавливает её
связь с отличными от неё моралью, совершенством и т. д. Кант, как мы видели,
вовсе этой связи не отрицает, но было бы неверно смешивать красоту и полезность
(их различал ещё Сократ), прекрасное и нравственное и т. д. Непонимание
специфики эстетического часто давало повод обвинять Канта в «формализме». Между
тем известно, что одно и то же хорошее содержание может
185
быть выражено и в прекрасной форме и бесформенно, так что красота
есть способ выражения, характеризующийся указанными Кантом чертами.
Справедливость сказанного ещё резче видна на кантовском учении о
возвышенном.
Основные отличия прекрасного от возвышенного таковы:
1. «Прекрасное в природе касается формы предмета, которая состоит в
ограничении; возвышенное же можно находить и в бесформенном предмете, поскольку
в нём или благодаря ему представляется безграничность и тем не менее
примышляется целокупность её»[305].
2. Прекрасное изображает понятие рассудка, возвышенное – идею разума.
3. Там доминирует качество, здесь – количество.
4. Прекрасное вызывает удовольствие, возвышенное – чувство почитания или
уважения.
5. Красота заключает в себе целесообразность для субъекта, возвышенное
нецелесообразно, несоразмерно с нашим воображением (ибо вообразить безграничное
нельзя).
Кант различает математически возвышенное и динамически возвышенное. Первое
касается экстенсивной величины природы, второе – интенсивной величины силы.
Определение возвышенного гласит: «Возвышенным мы называем то, что безусловно
велико»[306].
Но ведь любая величина относительна. Какую бы большую величину мы ни взяли, она
будет малой по сравнению с другими, ещё большими. «Следовательно, с этой точки
зрения, ничто из того, что может быть предметом (внешних) чувств, нельзя
назвать возвышенным»[307].
Поэтому Кант математически большое отличает от эстетически большого. Для
воображения всегда есть наибольшая величина, ибо, хотя в нашем воображении
заложено стремление
186
к продвижению в бесконечность, но сама воображаемая величина не
может быть бесконечной. «В самом деле, когда схватывание (величин) доходит до
того, что схваченные сначала частичные представления чувственного созерцания в
воображении уже начинают гаснуть, а воображение тем временем переходит к
схватыванию большего числа (представлений), то оно на одной стороне теряет ровно
столько, сколько выигрывает на другой, и в соединении имеется нечто наибольшее,
дальше которого оно уже идти не может»[308].
Эта-то наибольшая воспринимаемая и воображаемая величина и есть эстетически
безусловно большое, «эстетическая основная мера», и Кант говорит, что «для
эстетического определения величин наибольшее несомненно имеется»[309].
Но отсюда видно, что имеется «несоответствие (нецелесообразное отношение)
между нашей способностью определять величину предметов чувственно
воспринимаемого мира и идеей»[310]
(бесконечности), которая имеется в нашем разуме. Это несоответствие «пробуждает
чувство некоторой сверхчувственной способности у нас», которая превосходит
чувственно воспринимаемое, возвышается над предметами природы. Это чувство и
есть чувство возвышенного. Поэтому Кант говорит, что «природа возвышенна в тех
своих явлениях, созерцание которых вносит идею её бесконечности»[311].
Природа расценивается как возвышенная потому, что она пробуждает в нас
деятельность воображения, а последнее – разума, который возвышается над
воображением и природой. Конфликт их вызывает чувство неудовольствия, но
возвышение разума доставляет удовольствие (и воспринимает предмет как
целесообразный – для применения его к этой деятельности разумного начала).
Чувство возвышенного пробуждается не одной природой, «но гораздо больше
заложенной в нас способностью судить о при-
187
роде без страха и мыслить наше назначение как возвышающееся над ней»[312].
Итак, Кант обосновывает глубоко верную мысль, что человек выше природы и
восприятие этого как раз и пробуждает чувство возвышенного.
Как известно, человеческое назначение Кант видит в нравственной
деятельности, а потому он прямо соотносит с ней названное чувство. В нём мы
становимся «выше природы внутри нас самих», а потому и вне нас. «На самом деле,
– пишет Кант, – вряд ли можно мыслить чувство возвышенного в природе, не
соединяя с ним расположения души, подобного расположению к моральному...
возвышенное всегда должно иметь отношение к образу мыслей, т. е. к максимам –
делать так, чтобы интеллектуальное и идеи разума брали верх над чувственностью»[313].
Таким образом, и в учении Канта о возвышенном эстетическое связано с этическим
содержанием.
Наконец, идейная сторона эстетики Канта особенно сильно проявляется в его
теории искусства. «Искусство вообще», по Канту, есть целеполагающая, разумная
деятельность. «В самом деле, хотя продукт пчёл (правильно устроенные соты)
иногда угодно называть произведением искусства, всё же это делается только по
аналогии с ним, стоит только подумать о том, что в своей работе они не исходят
из соображений разума, как тотчас же скажут, что это есть продукт их природы
(инстинкта) и как искусство он приписывается только их творцу». В деятельности
человека цель предшествует продукту. «Если при обследовании торфяного болота,
как это часто бывает, находят кусок обработанного дерева, то говорят, что это
продукт не природы, а искусства; производящая причина его мыслила себе цель, и
этой цели кусок дерева обязан своей формой»[314].
188
Искусство, далее, отличается от науки. «Искусство как мастерство человека
отличают также от науки (умение от знания), как практическую способность от
теоретической, как технику от теории (как землемерное искусство от геометрии)»[315].
К искусству не относится то, что можешь сделать, если только знаешь, что надо
сделать; искусство – мастерство, вырабатываемое долгим трудом.
Наконец, «искусство отличается и от ремесла, первое называется свободным,
второе также можно назвать искусством для заработка. На первое смотрят так, как
если бы оно могло оказаться (удаться) целесообразным только как игра, т. е. как
занятие, которое приятно само по себе; на второе смотрят как на работу, т. е.
как на занятие, которое само по себе неприятно (обременительно) и привлекает
только своим результатом (например, заработком), стало быть, можно принудить к
такому занятию»[316].
Кант, однако, подчёркивает, что во всех свободных искусствах требуется нечто
принудительное, некоторый механизм, без которого дух произведения не имел бы
тела, и возражает против новейших воспитателей, которые хотят избавить
искусство от всякого принуждения и из труда превратить его просто в игру[317].
Для Канта искусство не только игра, но и серьёзный труд, что объясняется его
идейным содержанием, как мы увидим дальше.
Кант, далее, в «искусстве вообще» выделяет несколько его видов:
1. Механическое искусство – осуществление действия на основе познания для
того, чтобы создать предмет. Это собственно работа, труд.
2. Если же непосредственной целью оно имеет чувство удовольствия, то это –
эстетическое искусство. Оно, в свою очередь, делится на приятное и изящное.
Первое предназначено только для наслаждения (развлечения). «Изящные же ис-
189
кусства – это способ представления, который сам по себе целесообразен
и хотя и без цели, но всё же содействует культуре способностей души для общения
между людьми»[318].
В первом случае цель искусства в том, чтобы удовольствие сопутствовало
представлениям только как ощущениям, во втором – чтобы оно сопутствовало им как
видам познания. Удовольствие здесь возникает из деятельности высших
познавательных способностей человека.
Проводя идею «целесообразности без цели» применительно к произведениям
искусства, Кант устанавливает одну из основных их особенностей, именно «изящное
искусство есть искусство, если оно кажется также и природой»[319].
При виде произведения надо сознавать, что это искусство, а не природа; тем не
менее целесообразность в форме его должна казаться свободной от
принудительности произвольных правил; оно должно выглядеть естественным, как
если бы было продуктом природы. Целесообразность «не должна казаться
преднамеренной, т. е. на изящное искусство надо смотреть как на природу, хотя и
сознают, что это искусство». В нём не должно быть педантизма, не должна
проглядывать школьная выучка, чтобы незаметно было, что какое-либо правило неотступно
стояло перед глазами художника и налагало оковы на его душевные силы.
Этот «природный» (естественный) характер произведения есть прежде всего
результат природной способности. «Изящное искусство есть искусство гения», –
гласит § 46 «Критики способности суждения». Это понятие Кант определяет так:
«Гений – это талант (природное дарование), который даёт искусству правило.
Поскольку талант как прирождённая продуктивная способность художника сам
принадлежит к природе, то можно было бы сказать и так: гений – это прирождённые
задатки души, через которые природа даёт искусству правило»[320].
190
В гениальной способности Кант подчёркивает четыре основные черты: а)
оригинальность; б) так как оригинальной может быть и бессмыслица, то
произведение гения должно быть показательным, образцом, и возникать не через
подражание, но другим служить для подражания, быть мерилом или правилом оценки;
в) гений сам не может описать или показать, как он создаёт произведение; он
творит как сила природы; г) гений, по Канту, может быть только в искусстве, но
не в науке, с чем, конечно, нельзя согласиться.
Правильно подчёркивая, что гений есть природное дарование, Кант в то же
время отдаёт должное и работе, труду в его деятельности. По его мысли, «нет
такого изящного искусства, в котором бы не было чего-то механического, что
можно постигнуть по правилам и чему можно следовать по правилам; таким образом,
нечто согласное со школьными правилами составляет существенное условие
искусства... Гений может дать лишь богатый материал для произведений изящного
искусства; обработка его и форма требуют воспитанного школой таланта...»[321].
Без школы, выучки дарование выродится в дурное оригинальничанье.
Далее, гений необходимо соединять со вкусом, который является результатом
воспитания. В произведениях искусства, говорит Кант, «можно часто наблюдать – в
одном гений без вкуса, в другом – вкус без гения». Требуется вкус, чтобы найти
прекрасное представление предмета. «Это представление есть, собственно, только
форма изображения понятия, через которую это понятие приобретает всеобщую
сообщаемость»[322].
Вкус имеет дело с внешней стороной предмета. Сделать его со вкусом – значит
сообщить надлежащую форму. Если в основе предмета не лежит понятие (как,
скажем, в красивых цветах), то достаточно вкуса, чтобы судить о нём
эстетически. Поэтому вкус в чистом виде проявляется в оценке вещей природы. Но
произведение искусства создаётся предва-
191
ряемое целью – понятием, которым руководствуется художник. Здесь
красота есть изображение, выражение понятия. Здесь принимается во внимание и
совершенство вещи. Так же обстоит дело и с вещами природы, в которых принимают
во внимание их назначение. Говоря: «Это красивая женщина», «имеют, по Канту, в
виду только одно: что природа прекрасно представляет в её фигуре цели
телосложения женщины; ведь помимо одной только формы необходимо обратить
внимание и на понятие»[323].
В этой связи Кант развивает глубокую теорию о духовных способностях,
составляющих понятие «гений». К ним он относит: 1) воображение, 2) рассудок
(необходимый для механической стороны искусства), 3) вкус и 4) дух. О первых
трёх уже говорилось. Но что такое дух в искусстве?
Дух есть принцип, оживляющий материал искусства. «Я утверждаю, – говорит
Кант, – что этот принцип есть не что иное, как способность изображения
эстетических идей, под эстетической же идеей я понимаю то представление
воображения, которое даёт повод много думать, причём, однако, никакая
определённая мысль, т. е. никакое понятие, не может быть адекватной ему и,
следовательно, никакой язык не в состоянии полностью достигнуть его и сделать
его понятным»[324].
Кант подчёркивает богатство содержания эстетических идей и их отличие от чисто
логических понятий, как правило, строго фиксированных. Практически это
богатство проявляется в том, что, скажем, никакими понятиями нельзя адекватно
передать содержание симфонии, трагедии, романа и т. д.
В учении об эстетических идеях видно, насколько далёк Кант от формализма в
трактовке искусства, в понимании прекрасного и т. д. Он определяет последнее
так: «Красотой вообще (всё равно будет ли она красотой в природе или красотой в
искусстве) можно назвать выражение эстетических
192
идей...»[325].
Красота есть форма выражения, идея – содержание.
Эта дефиниция кладётся в основание кантовской классификации искусства. Он
считает наиболее удобным принципом классификации аналогию искусства с тем способом
выражения, который дан в речи. Оно состоит в слове, жесте, тоне. «Только
сочетание этих трёх видов выражения исчерпывает способность говорящего к
сообщению, ведь благодаря этому мысль, созерцание и ощущение передаются другим
одновременно и совокупно»[326].
На основе этих трёх видов выражения Кант делит искусство на словесное,
изобразительное и искусство игры ощущений. К первому относятся поэзия и
красноречие, ко второму – пластика и живопись (пластика делится на ваяние и
зодчество), к третьему – музыка и искусство красок.
Сравнивая различные виды искусства, Кант на первое место ставит поэзию. «Из
всех искусств первое место удерживает за собой поэзия»[327].
После неё по силе воздействия на чувства стоит музыка. Кант её несколько
недооценивает, так как она влияет через одни ощущения без понятий и в отличие
от поэзии «ничего [?] не оставляет для размышления». Здесь явно имеется в виду
развлекательная музыка. Если, говорит Кант, оценивать искусства по той
культуре, какую они дают душе, брать мерилом обогащение познавательных
способностей, то выше музыки надо поставить изобразительные искусства, причём
отдать предпочтение живописи, потому что «она способна проникнуть гораздо
дальше в область идей и в соответствии с ними расширить сферу созерцания
больше, чем это доступно другим искусствам»[328].
Из изложенного видно, что аналитика эстетического у Канта делится на: 1)
критику вкуса (учение о красоте), 2) кри-
193
тику духовного чувства (теория возвышенного) и 3) теорию искусства,
в котором соединяются вкус, дух и гений, его порождающий. Вкус действительно
имеет дело с внешностью, формой вещей природы и искусства. Чтобы судить о
красоте, не нужно быть гением, необходимо только воспитание. Но чтобы создавать
произведения изящного искусства, нужен гений – продуктивная способность,
необходим дух – способность изображать эстетические идеи, и нужен вкус, чтобы
находить для этого изображения соответствующие прекрасные формы. Целый ряд
моментов эстетики Канта, такие, как учение о прекрасном и возвышенном, теория
искусства и гения, вошли в золотой фонд современной эстетики. Перейдём к
телеологии Канта.
Основные положения телеологии природы
Помимо искусства, Кант исследовал вопрос о целесообразности вещей природы.
Он выделяет ряд типов целесообразности: объективная и субъективная
целесообразность, из которых вторая исследована в эстетике; формальная и
материальная; относительная и внутренняя. Под объективной он понимает
целесообразность в природе, например, в живых организмах. Формальная
целесообразность – это построение фигур и чисел на основе понятий и форм
созерцания. Материальная, в отличие от этого, находится в действительных вещах.
Относительная, или внешняя, целесообразность называется Кантом полезностью или
пригодностью одной вещи для другой: так, трава нужна скоту, а скот – человеку
для его существования, хотя и не знают, почему (для чего) это нужно, чтобы люди
существовали. Здесь можно от одной вещи переходить к другой, не находя ни
начала, ни конца, – каждая вещь может рассматриваться как цель в одном
отношении и как средство – в другом. Внутренняя целесообразность налична в
живых организмах. «Органический продукт природы – это такой, в котором всё есть
цель и в то же время средство»[329].
Цель в собственном смысле, то
194
есть понятие, по которому создается предмет, налична только в
человеке, в его деятельности (в «искусстве вообще»). Цель же в природе можно
лишь предполагать, но нельзя ни доказать её, ни наблюдать в опыте.
Таким образом, у Канта представлены все основные виды целей и
целесообразного в человеческом мире и мире природы. Схематически их типологию
можно изобразить так:

Каков источник целесообразности в самой природе? Этот вопрос возник перед
Кантом в связи с трудностями механистического объяснения живой природы. Уже в
работе «Всеобщая естественная история и теория неба» (1755) Кант высказал
мысль, что законами механики нельзя объяснить даже простейшего органического
образования. Со временем брошенная вскользь идея разрослась в целое учение о
«телеологической способности суждения». Кант утверждает: «Вполне достоверно то,
что мы не можем в достаточной степени узнать и тем более объяснить организмы и
их внутреннюю возможность, исходя только из механических принципов природы; и
это так достоверно, что можно смело сказать: для людей было бы нелепо даже
только думать об этом и надеяться, что когда-нибудь появится новый Ньютон,
который сумеет сделать
195
понятным возникновение хотя бы травинки, исходя лишь из законов
природы, не подчинённых никакой цели»[330].
С другой стороны, доказать существование или наблюдать в опыте существо, по
целям которого возникают организмы, также нельзя. Кроме механических, слепо
действующих сил мы в природе ничего не наблюдаем.
Это привело Канта к антиномии в объяснении природы. Тезис её гласит: «Всякое
возникновение материальных вещей и их форм надо рассматривать как возможное
только по механическим законам». Антитезис утверждает противоположное:
«Некоторые продукты материальной природы нельзя рассматривать как возможные
только по механическим законам (суждение о них требует совершенно другого
закона каузальности, а именно закона конечных причин)»[331].
Этой антиномией Кант впервые в истории философии совершенно определённо указал
на границы механистического объяснения природы, и критика механицизма, начатая
Кантом, продолжится затем в философии Шеллинга, Гегеля и Фейербаха.
Кант, однако, не смог разрешить вставшую перед ним проблему. Он разрешает
антиномию так: познание природы возможно лишь по механическим законам, но так
как наблюдаемая целесообразность ими не объясняется, то мы можем предположить,
допустить возможность, что мир устроен согласно целевым причинам, и
рассматривать его так, как если бы (als ob) он был продуктом целеполагающего
существа, не утверждая, однако, его объективной реальности. Тезис антиномии
будет в таком случае принципом определяющей способности суждения, антитезис –
рефлектирующей. Этим, согласно Канту, не устраняется тезис, скорее наоборот,
требуется следовать ему насколько возможно. Не утверждается этим также, «будто
указанные (целесообразные) формы не возможны на основе механизма». Кант
допускает, что, может быть, сама целесообразность – продукт деятельности
механических
196
(слепых) сил природы. «Здесь утверждается только, что человеческий
разум, следуя первой максиме (тезису), так никогда и не сможет найти ни
малейшего основания того, что составляет специфическую особенность цели
природы..; причём остаётся нерешённым вопрос, могут ли быть объединены в одном
принципе в неизвестной нам внутренней основе природы физико-механические и
целевые связи у одних и тех же вещей, мы знаем только то, что наш разум не в
состоянии соединить их в таком принципе...»[332].
Кант, верно описав современное ему состояние естествознания, делает неверный
агностический вывод, что человек никогда не сможет познать природу
целесообразности. Для него существование последней – факт, но объяснение его
объективными причинами он считает невозможным и квалифицирует немеханистический
анализ природы как субъективный рефлектирующий способ её рассмотрения. «В самом
деле, – пишет Кант, – так как мы, собственно, не наблюдаем целей в природе как
преднамеренных, а только примышляем это понятие в рефлексии о продуктах природы
как путеводную нить для способности суждения, то они не даны нам через объект»[333].
Они лишь возможны для познающего субъекта, но не действительны для него.
Эту двойственность в трактовке природы Кант выводит из особенностей
человеческого рассудка. Выше уже говорилось, что рассудок образует понятия
(категории), а чувственность даёт материю (содержание) познания. Понятие или
система их, не подкреплённая показаниями чувств, лишь возможна,
действительность её устанавливается созерцанием, чувственностью, наблюдением.
Если предположить другой, не человеческий рассудок, который был бы одновременно
мыслящим и созерцающим, то есть интуитивный рассудок (intellectus archetypus),
то для него исчезло бы различие возможного и действительного, тогда отпало бы различие
между действительным механическим познанием вещей и возможностью их
197
по целевым причинам. Оба принципа объединились бы и совпали. Но для
человеческого рассудка это невозможно, и потому данное различие сохраняет силу.
Таким образом, Кант обосновывает антиномию свойствами познавательных
способностей человека, и в рациональном виде это означает, что во времена Канта
человеческое познание не достигло той ступени, не выработало таких
познавательных средств, без которых феномен живого необъясним. Кант этот факт
абсолютизировал и превратил во внеисторическое свойство рассудка вообще.
Утверждая невозможность научного объяснения целесообразности в природе, он
должен был апеллировать к Богу, который якобы и создаёт эту целесообразность.
Но в «Критике практического разума» мы видели, что постулат о бытии Бога вовсе
не есть познание его, он допускается в практических (моральных) целях – для
реализации категорического императива. Поэтому и с этой стороны объективно
научного объяснения целесообразности не достигается. В конечном счёте Кант не
видит путей этого объяснения, а так как целесообразность – факт, то вместо
объективного Кант вводит субъективно-рефлектирующий принцип рассмотрения.
Несмотря на агностические и теологические мотивы в трактовке целесообразности,
телеология Канта сыграла значительную роль в развитии философии. Кант своей
антиномией чётко поставил проблему, которая является одной из вечных
метафизических проблем.
Подведём итог. «Критика способности суждения» составляет органическую часть
системы Канта. Она призвана соединить мир явлений и мир вещей в себе. Это
соединение Кант осуществляет через понятие рефлектирующей способности суждения.
«Теоретический разум» исследует совокупность явлений, исходя из системы
априорных категорий. Но он не может систематизировать совокупность частных
законов опыта и явлений. Это делает рефлексия, вводя понятие цели и
целесообразности. Целесообразность – факт, но научно, теоретически она для
Канта необъяснима. От неё Кант перебрасывает
198
мостик к ноумену (Богу) – творцу природы. Однако доказать его бытие
нельзя. Он постулируется моральным разумом. Получается, следовательно, цепочка:
теория – система частных законов опыта – рефлексия – целесообразность – Бог –
практический разум. Как бы идеалистична ни была эта последовательность, в ней
отразилась реальная закономерность: человек познаёт природу, на основе знания
ставит цели и практически их реализует. Познание – целеполагание – практика –
такова последовательность в очищенном рациональном виде. Всесторонне разработанная,
она легла в основу системы Канта, создаёт её непреходящую проблемность и
проблематичность, а его сочинения заслуживают изучения и дальнейшего
переосмысления.
199
ФИХТЕ
Иоганн Готлиб Фихте родился 19 мая 1762 г. в городке Раменау в Саксонии. Его
отец и дед были сельские ткачи, мать – дочерью торговца полотном. Маленький
Иоганн помогал родителям, пас гусей. Одной из достопримечательностей Раменау
были проповеди священника Вагнера, на которые приезжали знатные люди из
окрестных селений. С этими проповедями связан счастливый случай, который сыграл
знаменательную роль в образовании и воспитании мальчика. Однажды барон фон
Мильтиц опоздал на проповедь. Местные жители посоветовали ему обратиться к
«гусятнику Фихте», который обладал феноменальной памятью и мог её слово в слово
воспроизвести. Благодарный вельможа отдал мальчика на попечение пастору Кребелю
в Нидерау, а затем в монастырскую школу в Пфорте, где он подготовился к высшему
образованию. С 1780 г. Фихте изучал теологию и филологию в Иенском, далее в Лейпцигском
университетах. Бедность определила его в домашние учителя – сначала в разных
городах Саксонии (с 1784 г.), потом в Швейцарии в семье поэта Вейсе. В 1790 г.
Фихте начал преподавать одному студенту кантовскую философию, которая
захватывает его самого. В 1791 г. состоялось его знакомство с Кантом, а в 1794
г. он стал профессором Иенского университета; отсюда он вынужден был уйти
(1799) по ложному обвинению в атеизме. С 1800 г. Фихте – профессор в Берлинском
университете, где
200
был и первым выборным ректором (1810). Умер там же 29 января 1814 г.
Отличительные черты характера Фихте – энергия деятельности и в то же время
глубина и тонкость рефлексии. В соединении со спецификой эпохи – революцией во
Франции и буржуазным преобразованием Европы – это определило основную
мировоззренческую установку мыслителя на осуществление и познание деятельности
как принципа человеческого бытия. Данный принцип реализовался в его
«Наукоучении», разработанном в основном в первый период творчества – до 1801 г.
Во второй период он больше интересовался онтологией, и в поздних вариантах
наукоучения объектом его усилий стало объективно-идеалистическое осмысление
нравственного миропорядка.
Наукоучение: диалектическая концепция познания и деятельности
И.Г.Фихте является непосредственным преемником И.Канта как родоначальника
немецкого классического идеализма. Разработанная им система субъективного
идеализма возникла как определённый способ решения основного противоречия в
гносеологии Канта – противоречия между признанием существования объективных
вещей и отрицанием их познаваемости.
Схематически кантовскую теорию познания можно представить так:
трансцендентальное – явление – трансцендентное. Трансцендентальное (формы
созерцания, категории, идеи) находится по эту сторону явления, в субъекте;
трансцендентное – по ту сторону явлений. Оно образует мир непознаваемых вещей в
себе. Уже первые исследователи философии Канта – К.Рейнгольд, С.Бек, С.Маймон,
Ф.Г.Якоби и (наиболее крупный среди них) И.Г.Фихте обнаруживают, что вещь в
себе – клубок противоречий. Действительно, Кант говорит, что вещь в себе
совершенно непознаваема, однако утверждает, что она есть, и во втором издании
«Критики чистого разума» пишет параграф «Опровержение идеализма», где
доказывает существование вещей в себе. Получается, что
201
мы знаем о бытии вещей в себе, а это первое и необходимое во всяком
познании. Далее, согласно Канту, наши ощущения аффицируются вещью в себе, хотя
и не имеют с ней ничего общего. Вещь в себе – причина наших ощущений. Но
причина, по Канту, – лишь форма мышления, а вещь в себе находится вне всякого
мышления. Причина, таким образом, оказывается определением трансцендентного.
Рейнгольд заявляет: если вещь в себе непредставима, как утверждает Кант, она –
голое понятие. Но как голое понятие может аффицировать ощущение? С.Маймон,
проанализировав вещь в себе, заключает, что она ни представима, ни
непредставима, ни познаваема, ни непознаваема и т. д. «Хамелеонов цвет» всех её
выводов, «искусственно-двусмысленная амальгама» – такие характеристики даёт ей
Якоби и делает вывод: без вещи в себе нельзя войти в философию Канта, а с нею
нельзя в ней остаться. К тем же выводам приходит Фихте. Обнаружив, что вещь в
себе есть сплошное противоречие, он отбрасывает её и из трёх членов кантовской
теории познания остаётся два: субъект и продукт его деятельности. С отказом от
вещи в себе внешний источник чувственности исчезает, и предмет познания
оказывается произведением субъекта и со стороны формы, и со стороны содержания.
Единственное, что остаётся от кантовского «явления», – кажущаяся независимость
продукта (предмета) от субъекта («Я»). Хотя предмет есть результат деятельности
«Я», но он выступает как внешний по отношению к нему, от него независящий, то
есть как объективный. Отношение «Я» к произведенному продукту, предмету
выступает, следовательно, как отношение субъекта и объекта. На поверхности, в
явлении, эти стороны кажутся противоположностями, отрицающими, исключающими
друг друга: субъект есть «Я», объект – отрицание его, «не-Я». Задача Фихте
состоит в том, чтобы показать тождество «Я» и «не-Я», объяснить «не-Я» из
деятельности «Я», вывести все определения объекта (категории) из единого
принципа («Я»). В этом плане Фихте считает свою философию «правильно понятой
системой Канта», ссылаясь на то, что уже Кант попытался дать трансцендентальную
202
дедукцию чистых рассудочных понятий (категорий) из одного корня –
«трансцендентального единства самосознания («Я»)» или
«первоначально-синтетического единства апперцепции». Кант, действительно,
поставил такую задачу, хотя и не смог её решить.
Своей «трансцендентальной дедукцией» он выдвинул проблему – построить
систему категорий. Диалектика Фихте есть первая попытка решения этой задачи.
Здесь важно отметить, что отказ от вещи в себе имел двоякое значение.
Во-первых, он означал переход от «критицизма», который был смешением
материализма и идеализма, к субъективному идеализму, суть которого состоит в
том, что субъект («Я») производит объект («не-Я»).
Но, с другой стороны, вещь в себе делала философию Канта насквозь
дуалистической, чем и объяснялась её неспособность дать дедукцию всех чистых
рассудочных понятий из единого принципа. У Канта как раз не было единого
принципа. Построение системы, в тех исторических условиях, было возможно только
через устранение дуализма кантовской философии. В этом отношении отказ от вещи
в себе оказался необходимой предпосылкой построения системы философии. В этом
мы убеждаемся из самих произведений Фихте. Основные сочинения, в которых Фихте
излагает свою систему, следующие: «О понятии наукоучения или так называемой
философии» (1794), «Основы общего наукоучения» (1794), «Очерк особенностей
наукоучения по отношению к теоретической способности» (1795) и два «Введения в
наукоучение» (1797).
Так как после устранения вещи в себе никакого реального объекта (сущего до и
без познания) не осталось, основным предметом философии называется само знание.
Объект («не-Я») есть тоже лишь определённая форма знания, а не реальный
предмет. Философия выступает как наука о знании. Проблема знания для Фихте
сводится к тому, чтобы из одного принципа (субъекта) вывести все производные,
то, что характеризуется как объект со всеми его определениями (кате-
203
гориями). Такое выведение Фихте называет наукой. Философия есть,
стало быть, «наукой о науке» – наукоучением.
Понятие науки – фундаментальное у Фихте, мы его кратко рассмотрим.
Разъяснению этого понятия посвящена первая работа Фихте «О понятии наукоучения
или так называемой философии». Фихте выдвигает следующие принципы построения
научного знания:
1) «Наука должна быть единым, целым... Наука есть система»[334].
2) Система знания тем отличается от суммы, что в ней одни положения
выводятся из других, связанных друг с другом. Эта связь образует форму науки, а
то, что связывается, – содержание.
3) Выведение двусторонне: положение В следует из А, а из него следует С. А
есть основа для выведения В. Что же касается А, то оно или выводится из других
или нет. Если не выводится, тогда оно называется основоположением. Если
выводится, то, опять-таки, или мы дойдём в этом регрессивном движении до
начала, или нет. Первый случай совпадает с рассмотренным. Если мы не можем
дойти до положения, которое уже не выводится, то получаем бесконечный регресс
опосредований, в котором, именно в силу бесконечности, ни одно положение не
будет достоверным и научным. Стало быть, наука как система требует начала,
исходного принципа, или, говоря словами Фихте, «основоположения». «Наука, –
пишет он, – имеет систематическую форму: все положения в ней связываются в
одном-единственном основоположении и в нём объединяются в одно целое»[335].
4) Наука как общая система знания предполагает, что в ней заключаются все
основные положения знания. Но как мы можем быть уверены в том, что система
исчерпывает все положения? Пусть из А следует В, а из В – С и т. д. до конца;
204
какое бы положение мы ни взяли (Д, Е и т. д.), всегда есть
возможность из каждого из них вывести следующее положение. «Наука есть система,
иначе говоря, она закончена, когда далее не может быть выведено ни одно
положение»[336].
Это – отрицательный признак системы. Положительный признак Фихте формулирует
так: «Таким признаком может быть только то, что само основоположение, из
которого мы исходим, есть вместе с тем и результат. Тогда было бы ясно, что мы
не могли бы идти дальше, не проделывая сызнова тот путь, который мы уже раз
прошли»[337].
Следовательно, наука «проделывает круг и покидает исследователя у той самой
точки, из которой она вместе с ним вышла»[338].
Таковы важнейшие принципы построения системы знания у Фихте. Они очень важны,
так как именно из них можно увидеть, каким образом Фихте подходит к открытию
диалектики.
А именно, все положения должны быть выведены из одного. Это основоположение
должно быть началом, основой, принципом всей системы. «Мы, – писал Фихте, –
должны отыскать абсолютно первое, совершенно безусловное основоположение всего
человеческого знания. Быть доказано или определено оно не может, раз оно должно
быть абсолютно первым основоположением»[339].
Задача Фихте – из абсолютно первого, единого вывести все определения
объекта, категории или сам объект. Но категории – полярные, противоположные
определения (причина – действие, субстанция – акциденция, субъект – объект и т.
д.). Как же можно из единого вывести противоположное? Через раздвоение единого.
205
Однако раздвоение единого – лишь часть пути познания. Раздвоить – значит
вскрыть противоречие. Но его надо и разрешить, снять. Ведь система, которую
хочет построить Фихте, исходит из единого основоположения и возвращается к
нему. Следовательно, движение должно состоять не только в раздвоении, но и в
слиянии, в сдваивании противоположностей. Это – вторая сторона движения
познания.
Общая форма или принцип диалектического движения состоит, таким образом, в
следующем: единое – раздвоение его – слияние в третьем. Это третье вновь есть
единое целое, которое также раздвоится, и т.д., пока мы не возвратимся к
абсолютно первому; дальше движение, совершив круг, будет его повторять.
Таким образом, становится очевидным, каким образом система, как её понимает
Фихте, требует диалектического развития категорий. Более того, система и есть
сама диалектика. Форма знания, то есть связь основоположения и выводимых из
него положений, имеет диалектическую природу.
Здесь уместно заметить, что известное положение о «противоречии метода и
системы», которое обычно рассматривается как особенность гегелевской философии,
но которое в такой же мере относится и к философии Фихте и Шеллинга, поскольку
они также строят системы на основе диалектического метода, – трактуется, как
правило, односторонне, в смысле формально-логического противоречия: метод
требует бесконечного развития, система его оконечивает. Но это противоречие
означает и единство противоположностей (метода и системы): философская система
может быть построена только на основе диалектики, и диалектика может
осуществиться лишь в виде системы. Это прямо следует из вышесказанного, что система
есть раздвоение начала (единого) и снятие раздвоения; оно необходимо в силу
того, что из единого надо вывести полярные категории. Противоречие метода и
системы имеет более глубокий характер, чем представляется на первый взгляд.
Ведь не случайно то, что именно созидатели философских систем (Фихте, Шеллинг,
Гегель) построили системы диалектики и
206
открыли диалектический метод. Мы возвратимся ещё к обсуждению
данного вопроса, сейчас перейдём к анализу того, как Фихте выводит из начала
полярные категории.
Система философии Фихте базируется на трёх основоположениях. Первое из них –
абсолютно-безусловное основоположение. «Абсолютно» значит: по форме и
содержанию. Второе – по своему содержанию обусловленное основоположение, и
третье – по форме своей обусловленное основоположение.
Первое основоположение гласит: «Я есть Я» или: «Я полагает Я»[340].
На это основоположение нельзя смотреть как на определение «Я», ибо всякое
определение есть отрицание (Спиноза), в данном случае «не-Я», которого здесь
нет. Поэтому единственное, что оно означает, состоит в бытии: «Я есть»[341].
Бытие – вот что выражает это основоположение[342].
Согласно ему, «Я полагает себя самого и оно есть только благодаря этому
самоположению»[343].
И ещё: «Я» первоначально полагает безусловно своё собственное бытие»[344].
«Я» (сознание) творит («полагает»), действует, а то, что оно создаёт, есть оно
же само. Таким образом, действие (созидание, полагание) и предмет его
совпадают. Фихте пишет: «Оно (Я) является в одно и то же время и тем, что
совершает действие, и продуктом этого действия; – действующим началом и тем,
что получается в результате этой деятельности»[345].
Это единство Фихте обозначает понятием дела – действия[346].
«Действие и дело суть одно и то же, и потому Я есть выражение некоторого дела –
действия»[347].
207
Глубокий смысл этих положений состоит в том, что субъект, «Я» сам себя
производит. Если учесть, что «Я» Фихте – абстрактное, идеалистическое
изображение человека, то тезис Фихте утверждает, что человек – результат своего
собственного дела» «Я сам делаю себя: своё бытие посредством своего мышления»[348].
«Я – безусловно своё собственное создание»[349].
Примечательно, что у Фихте «дело – действие» есть основоположение – стоит во
главе наукоучения, образуя фундамент всей системы, которая, как дедукция из
него, есть, следовательно, теория деятельности. Фихте превращает в систему
принцип Гёте (из «Фауста»): «деяние – начало бытия».
Второе основоположение противоположно первому: «Я полагает не-Я». Это –
полагание объекта, создание внешнего мира. В отличие от первого оно не
абсолютно-безусловно; оно безусловно лишь по форме, так как отрицания («не»),
определяющего его по форме, нет в «Я есть Я»; содержание же («Я») его
тождественно с содержанием первого основоположения. Здесь мы сталкиваемся с
одной из важнейших особенностей диалектики Фихте. Первые два основоположения –
противоположности, и Фихте утверждает, что второе не может быть выведено из
первого[350].
Хотя оно и обусловлено со стороны содержания, но со стороны формы «не-» (что и
делает его противоположностью) оно абсолютно безусловно. Следовательно,
противоположности не выводятся, не переходят друг в друга. Фихте ставит вопрос:
полагается ли противоположность А и на условии какой формы чистого действия?
Если бы вышеустановленное положение (не-А не есть А) было выведено из А=А, это
условие в свою очередь должно было бы выводиться из положения А = А. Но такого
условия из него никак не может получиться, так как форма противоположения не
только не содержится в форме положения, а наоборот, даже противоположна ей. И
Фихте делает вывод: «Противоположение,
208
стало быть, противополагается без всякого условия и непосредственно»[351].
Невыводимость противоположения означает невыводимость противоположности, так
как это одно и то же: то, что в первом случае дано в форме действия, во втором
– в виде дела, спокойного результата. Но тем самым связь противоположностей
внешняя. Фихте, правда, подробно доказывает, что оба основоположения необходимо
связаны: «Если бы сознание первого действия не было связано с сознанием
второго, то второе полагание не было бы противополаганием, а лишь просто
полаганием»[352].
Но это единство находится не в них, а в третьем – сознании (абсолютном «Я»),
которое их сталкивает и соотносит.
Логически данная ситуация означает неспособность Фихте вывести из
утверждения (А = А) отрицания. В этом отношении Фихте не преодолевает
ограниченности формальной логики, которая, как известно, полагание (А есть А) и
противополагание (не-А не есть А) считает двумя разными законами: законом
тождества и законом противоречия. Но легко видеть, что это, собственно, один и
тот же закон: то, что в первом законе полагается непосредственно, во втором –
через двойное отрицание; но двойное отрицание равно утверждению (символически:
- х - = +). Поэтому Гегель совершенно справедливо считает, что различие
тождества и противоречия состоит лишь в том, что во втором выявлено, положено
то отрицание, которое в А = А имеется в скрытом виде. Не говоря уже о том, что
само абстрактное тождество есть абсолютное различие: ведь под абсолютным
различием (в отличие от относительного) понимается отличие от самого себя. Но
«закон тождества», - А есть А и есть такое отличение А от самого себя, так что
тождество осуществляется как различение А от себя, как отрицательность А в
отношении самого себя[353].
Именно развитие заключённого в полагании отрицания переводит полагание в
противополагание.
209
Итак, несомненным достижением Фихте в данном пункте является идея о единстве
противоположностей. Чего не достаёт принципу Фихте и что, собственно, образует
сущность принципа тождества противоположностей, так это диалектики
отрицательности, понимания перехода как диалектического отрицания.
Объединение противоположностей у Фихте совершается не через их
отрицательность, а через то, что «Я» творит и себя и своё другое – «не-Я». Он в
связи с этим отличает «Я» как абсолютную деятельность самосознания от различия
«Я» и «не-Я» внутри этой общей сферы. Второе «Я» – ограничено своей
противоположностью. Полагание «не-Я» (предметной действительности) – это
полагание в сфере самого сознания. «Я» и «не-Я» – лишь две стороны одного и того
же абсолютного «Я», бесконечного сознания. Об идеалистическом характере этой
идеи мы скажем дальше, сейчас же проанализируем третье основоположение.
Поскольку два первых основоположения не выводятся друг из друга, то задача –
синтез их – устанавливается ими, но решение её не даётся. «Решение
осуществляется безусловно и непосредственно властным велением разума»[354].
Синтез противоположностей образует третий абсолютный акт разума, третье
основоположение. Задача формулируется так: «Как можно соединить в мысли А и -А,
бытие и небытие, реальность и отрицание, так, чтобы они при этом друг друга не
разрушали и не уничтожали?»[355].
Ответ гласит: «Едва ли кто-либо ответит на этот вопрос иначе, чем следующим
образом: они будут друг друга взаимно ограничивать»[356].
Их синтез – некоторая граница, но Фихте специально настаивает, что её нельзя
понимать как соединение реальности и отрицания, из которых её можно было бы
вывести. «Хотя противоположные понятия даются двумя первыми основоположениями,
а требование их соединения заключается в первом (абсолютном Я),
210
тем не менее способ их соединения в них вовсе не содержится; он
определяется особым законом нашего духа...»[357].
Фихте доказывает это следующим образом. «Ограничить что-нибудь значит
уничтожить его реальность путём отрицания не всецело, а только отчасти.
Следовательно, в понятии границы, кроме понятий реальности и отрицания,
заключается ещё и понятие делимости (способности количественного определения
вообще, не какого-либо определённого количества)...». Следовательно, действием
«как Я, так и не-Я просто полагаются как делимые»[358].
Фихте прав, поскольку он имеет в виду количественное определение, а не
определение вообще. Всякое определение есть отрицание. Оно – полагание предела,
границы. При таком понимании граница выводится из реальности и отрицания. Но
количественное определение есть лишь вид, один из видов определения; для него
помимо родового признака необходимо видовое отличие. И такое отличие есть
делимость. Но из этого видно, что Фихте стоит на точке зрения количественного
различия противоположностей. Количество же – внешняя определённость. Гегель
определят количество как определённость, безразличную к бытию предмета, ибо
предмет может увеличиваться, уменьшаться, не переставая быть этим предметом.
Фихтеанская точка зрения естественно вытекает из того, что обе
основополагающие противоположности берутся как безусловные, самостоятельные,
внешние. Их взаимоотношение, поэтому, также имеет внешний, количественный
характер. А количественное отношение отрицательных противоположных сторон может
быть только частичным уничтожением.
Замечательно, однако, что к такому пониманию синтеза Фихте приходит через
интерпретацию «Я» и «не-Я», субъекта и объекта как чистой, то есть
качественно-неопределённой,
211
деятельности. Чистая, бескачественная деятельность имеет лишь
количественные различия внутри себя.
В отличие от количества, качество – определённость сущая, совпадающая с
бытием предмета. Изменить качество – значит изменить предмет. Изменение
качества есть не увеличение или уменьшение, а отрицание. Это отрицание
привходит к качеству не извне. Оно в нём содержится. Ведь качество как
определённость логически выражается в форме определения, а всякое определение,
повторяем ещё раз, есть отрицание, как говорит Спиноза. С другой стороны,
определение – значит полагание предела, границы, которая, таким образом, не
означает ничего иного, кроме связи реальности и отрицания.
В этой связи очевидно также, что Фихте отрицание понимает «отчасти» в смысле
формальной логики. В формальной логике отрицание означает уничтожение.
Поскольку противоположности выступают как отрицающие друг друга, они, согласно
формальной логике, уничтожают друг друга, и поэтому применение к предмету
противоположных определений в одно и то же время, в одном и том же отношении
есть нарушение закона тождества и закона недопустимости противоречия.
«Противоречивое» суждение есть ложное суждение. Фихте также считает, что
противоположности («Я» и «не-Я») уничтожают и разрушают друг друга. Он явно стоит
на точке зрения формальной логики. Но, с другой стороны, при таком уничтожении
ничего – ни «Я», ни «не-Я» не останется. Поскольку «Я» – субстанция мира –
неуничтожима, оно должно сохраняться. Как объединить уничтожение и
неуничтожение? Фихте отвечает: через частичное уничтожение. Фихте,
следовательно, «отчасти» остался в формальной логике, «отчасти» развивает
диалектику. Он ещё далёк от гегелевской формы диалектики, в которой отрицание
есть не уничтожение, а форма связи, потому что «в негации совершается переход...»[359].
212
Следовательно, мы видим и с этой стороны специфику фихтеанской диалектики.
Он сознательно развивает понятие синтеза как единства противоположностей, но в
определённой, количественной форме, что, опять-таки, сводится к отсутствию у
него диалектики отрицательности. Это основная историческая определённость
диалектики Фихте.
Но по сравнению со своими предшественниками Фихте делает громадный шаг
вперёд. Понятие «синтез противоположностей» – центральное в его философии. С
идеей раздвоения сознания на противоположности «Я» и «не-Я» связана разработка
Фихте «синтетического метода». При помощи этого метода строится у него всё
«Наукоучение». Если у Канта сознание и предмет ещё могли быть разорваны (вещь в
себе трансцендентна по отношению к сознанию), то для Фихте противоречие
сознания и предмета, «Я» и «не-Я» находится внутри абсолютного, единого
сознания вообще. Тем самым он столкнулся с проблемой единства
противоположностей, находящихся в едином сознании. Для него, поэтому, анализ
сознания сводится к исследованию актов мысли как форм синтеза
противоположностей. Анализируя проблему, Фихте пишет: «Различные вещи могут
быть противопоставлены или уподоблены друг другу в каком-либо признаке лишь при
том условии, что они вообще равны или противоположны. ...То действие, которое в
сравниваемых [вещах] ищет признака, в коем они противополагаются друг другу,
называется антитетическим приёмом... Синтетический же приём состоит как раз в
том, что в противоположностях ищется тот признак, в котором они равны друг
другу. По своей чисто логической форме, совершенно отвлечённой от всякого
познавательного содержания, а также от того, как оно достигается, суждения,
получающиеся первым путём, называются антитетическими или отрицательными,
суждения же, получающиеся последним путём, – синтетическими или
утвердительными»[360].
213
Далее Фихте доказывает, что «первоначальное действие, им (третьим
основоположением) выражаемое, действие сочетания противоположностей в некотором
третьем, невозможно без действия противоположения» (ибо противоположность – его
результат), «и что это последнее невозможно без действия сочетания; стало быть,
оба эти действия неразрывно связаны друг с другом и могут быть разъединены лишь
в рефлексии»[361].
В общем, «никакой антитезис невозможен без синтеза», как и наоборот, «синтез
невозможен без антитезиса»[362].
Наконец, «сколько мало возможен антитезис без синтеза или синтез без антитезиса,
столь же мало возможны они без тезиса, без некоторого безусловного положения,
чрез которое просто полагается, как таковое, некоторое А (Я), не будучи ни с
чем сравниваемо и ничему другому противопоставляемо»[363].
Тезис (исходное положение, принцип), считает Фихте, придаёт системе крепость и
завершение. Ибо «наша система должна быть системой и притом единой системой;
противоположности подлежат единству, пока ещё есть хоть что-нибудь
противоположное, доколе не будет достигнуто абсолютное единство»[364].
Эти положения показывают, что логическая форма движения в системе Фихте
имеет вид триады: тезис – антитезис – синтез, полагание – противополагание –
сочетание противоположностей. «Тут [в системе «Наукоучения»] должны быть
синтезы; стало быть, нашим постоянным приёмом отныне... будет синтетический
приём; каждое положение будет содержать в себе некоторый синтез». Но ни один
синтез невозможен без предшествующего ему антитезиса. «Мы должны, значит, при
каждом положении исходить из указания противоположностей, которые подлежат
объединению». Дальше, получив данный синтез, «в связанных этим первым синтезом
противоположностях, нам надлежит опять искать новых
214
противоположностей; эти последние вновь соединить через посредство
какого-нибудь нового основания отношения, содержащегося в только что выведенном
основании, – и продолжать так, сколько нам будет возможно...»[365].
Так описывает Фихте свой «синтетический приём» (метод), который вошёл в
историю как особая форма диалектического метода. Фихте здесь начал с того, чем
окончил Кант, – с идей о закономерном возникновении противоречий в познании. Но
у Канта неустранимость противоречия означает не только необходимость его, но и
его неразрешимость. Неразрешённое противоречие – это антиномия, в форме которой
и выступает диалектика Канта. Антиномия есть абсолютизация отрицательного
характера противоположностей, ведущая к их разрыву и лишь внешнему соотношению
(«и то, и это» необходимо, хотя они исключают друг друга). Понятие «антиномия»
(«противозакон») и выражает это. Вследствие этого у Канта диалектика имеет
отрицательный («регулятивный») характер, выполняет роль жандарма,
останавливающего рассудок, в своих чрезмерных претензиях перешагивающего
область познаваемого – явление. Но легко видеть, что разрыв противоположностей,
антиномический дуализм есть результат разрыва предмета на явление и вещь в
себе. Снятие вещи в себе в плане метода выступает как поиск единства
противоположностей («Я» и «не-Я»). Фихте во-вторых, приходит к положительному
пониманию диалектики как движения познания от тезиса («Я») к антитезису
(«не-Я») и от них к их синтезу (ограничение). Положительное понимание
диалектики, наконец, означает у Фихте не только обнаружение противоположностей
(это сделал как раз Кант в форме антиномий), но и разрешение их («сочетание в
третьем»). Здесь, между прочим, видно, как важен этот момент «сочетания». Ведь
часто диалектику понимают как только выдвигание противоречий. Но такая
характеристика диалектического метода неполна, её надо соединить с
215
фихтеанской идеей о «слиянии» (сочетании) противоположных определений
в третьей категории.
Ещё раз: если принципом Канта в его учении об антиномиях был принцип
противопоставления взаимоисключающих понятий (у Фихте этому соответствует
антитезис и «антитетический приём»), то Фихте выдвигает принцип синтеза
противоположностей. В принципе синтеза Фихте намечены уже некоторые основные
элементы диалектического принципа тождества противоположностей. Эти элементы
таковы: 1) понятие о раздвоении единого (полагание и противополагание, акт
«антитезиса»); 2) представление о противоречии как движущей силе познания; 3)
мысль о синтезе противоположных определений; 4) логическая форма движения
определений (тезис – антитезис – синтез).
Надо, однако, заметить, что Фихте односторонне характеризует свой метод как
синтетический. Синтез выражает лишь результат движения противоположностей. Не
менее важной является также противоположная сторона метода – раздвоение единого
на взаимоисключающие противоположности, то есть анализ, вскрывающий
противоречия. Фихте называет этот анализ «антитетическим приёмом». Понятие
«анализ» Фихте называет «менее удобным» по двум причинам: 1) анализ создаёт
впечатление, что через него из понятия можно добыть содержание, не вложенное в
него синтезом. 2) «Первым наименованием яснее обозначается, что этот приём представляет
собою противоположность синтетического»[366].
Антитетическое – противоположность синтетического. Это так. Но ведь
«антитезис» и соответствующий ему приём есть необходимая сторона самого
синтетического метода, который разворачивается как движение триады: тезис –
антитезис – синтез. Почему же Фихте выдвигает как решающий результат всего движения?
И не о словах ли только идёт здесь речь? Первое положение показывает, что нет.
Оно свидетельствует, что Фихте не видит возможности из единого (одного)
216
получить противоположности без того, чтобы они уже до этого (до
анализа) там содержались. Для Фихте оно сводится к сосуществованию
противоположных категорий, что совершенно ясно видно уже из первой триады: ведь
тезис и антитезис он берёт с самого начала как безусловные противоположности;
они не выводятся из единого (иначе основоположение должно было бы быть одно,
вроде «чистого бытия» в «Науке логики» Гегеля), а находятся в едином
(абсолютном «Я») и упор делается не на то, как их получить в виде
противоположностей: последние даны, и всё дело сводится к тому, чтобы отыскать
их синтез, единство, тождество. Фихте главное внимание уделяет сосуществованию
противоположностей, их борьбе и слиянию в третьем понятии. Это – синтетическая
сторона метода. Первая же есть аналитическая сторона. Только единство обеих
сторон – анализа и синтеза противоположностей – есть «полная» диалектика, и
Гегель справедливо называет диалектический метод аналитико-синтетическим
методом. «Этот столь же синтетический, сколь и аналитический момент суждения
(перводеления), в силу которого первоначальное всеобщее определяет себя из себя
самого как другое по отношению к себе, должен быть назван диалектическим»[367].
Но поскольку это так, то вследствие недооценки роли анализа, раздвоения
противоположностей Фихте специфически решает и вопрос о синтезе. В самом деле,
синтез должен быть снятием противоречия. Но снятие происходит лишь отчасти.
Возьмём первые категории «Наукоучения». «Я» и «не-Я» синтезируются, сочетаются
в понятии ограничения – частичного уничтожения. Но «Я» и «не-Я» по-прежнему
остаются; только теперь к ним прибавляется новое определение: «Я»
ограничивается «не-Я» и наоборот. И сам Фихте для осуществления синтеза ищет
основания отношения, признака, в котором они равны друг другу. В данном случае
такой признак есть понятие делимости «Я» и «не-Я». Но изначальные противополож-
217
ности продолжают существовать, несмотря на то (или вследствие того),
что они в некотором отношении равны.
В определённом признаке они равны, тождественны, но в других –
противоположны. Это выражается в том, что в самом синтезе, в котором они
объединяются, они противоположны. Например, «Я» ограничивает, «не-Я»
ограничивается. Таким образом синтез сам в себе противоречив, что даёт
основание для новых противоположностей, которые вновь сочетаются в новом
синтезе и т.д. Каждый последующий синтез всё прочнее и плотнее сплавляет
основные полюсы системы – «Я» и «не-Я»: с каждым новым синтезом в них всё
меньше и меньше противоположного, и пределом является их тождество.
Таким образом, вся система движется между двумя крайностями – субъектом и
объектом, как между двумя полюсами магнита. Каждый синтез вычленяет новые
полярные категории, являющиеся определениями субъекта и объекта. Каждая
категория (причинность, субстанциональность и т. д.) – не свойство субъекта и
объекта, а форма их взаимоотношения. Их же взаимоотношение есть деятельность.
Если «Я» активно, то «не-Я» пассивно: это – отношение субстанции и акциденции.
Если же «не-Я» деятельно, а «Я» страдательно, получается причинность (действие
и страдание), и т. д. Здесь мы имеем одно из глубочайших положений философии
Фихте: все категории суть формы деятельности. Разумеется, Фихте развивает его
на идеалистической основе, так как знает лишь один, абстрактно-теоретический
вид труда. Но поскольку он рассматривает познание как деятельность, он и
приходит к тому важному результату, о котором уже говорилось выше: к совпадению
теории познания и теории деятельности.
Это единство обнаруживается уже в фундаменте всей системы, первом синтезе –
взаимоопределении «Я» и «не-Я». Фихте выделяет в нём два противоположных
определения: «1) Я полагает не-Я, как ограниченное через Я... 2) полагает себя
самого ограниченным через не-Я...».
218
Фихте пишет, «1. что последнее положение обосновывает теоретическую часть
наукоучения... 2. Что первое... обосновывает практическую часть наукоучения»[368].
Фихте доказывает, что «Наукоучение» «должно исходить из теоретической части,
оставляя без внимания то, что в дальнейшем окажется, что не теоретическая
способность делает возможной практическую, а наоборот – практическая
теоретическую (что разум по своей сущности только практичен и что он лишь через
применение своих законов к ограничивающему его не-Я становится теоретическим)»[369].
Итак, практический разум – основа теоретического. Классически это выражено в
«Назначении человека»: практический разум есть корень всякого разума.
Теоретическое наукоучение, которое Фихте называл «прагматической историей
человеческого духа», имеет своим фундаментом практическое наукоучение. В этом
отношении философия Фихте является, наряду с системами Канта и Гегеля, важным
теоретическим источником для развития идеи о практике как основе познания.
Какова же основная цель «Наукоучения»? Доказательство, что «Я» и «не-Я»,
субъект и объект, тождественны. Синтетический метод Фихте и вся построенная с
его помощью система обосновывает единство, «тождество» мышления и бытия,
сознания и предметной действительности. Собственно, сам метод и сложился в
результате подведения сознания и предметной действительности под понятие
категорий «Я» и «не-Я» и поисков путей обоснования синтетического единства этих
противоположностей.
Структура всей системы направлена именно на эту цель. Как уже говорилось,
все синтезы – формы объединения субъекта и объекта. Так как первый синтез –
ограничение – лишь частично уничтожает их противоположность (через понятие
делимости), то он сам противоречив. В этом синтезе вскрываются
219
новые противоположности и ищется их синтез, который, таким образом,
вдвигается между полюсами прежнего. С новым синтезом дело обстоит так же:
третий синтез вдвигается для сочетания противоположностей во второй и т. д.
Всего в теоретическом наукоучении (мы ограничимся им) пять синтезов:
A. Синтез взаимоопределения;
B. Синтез действительности (причинности);
C. Синтез субстанции и акциденции; Д. Взаимное действие и страдание;
Е. Синтез взаимного действия и страдания и независимой деятельности
(продуктивное воображение).
Каждый последующий синтез всё ближе и ближе подходит к центру, ядру системы
– тождеству «Я» и «не-Я», пока, наконец, синтез Е (теория продуктивного
воображения) не показывает, каким образом «Я» и «не-Я», будучи противоположностями,
в то же время тождественны. Каждый последующий синтез вкладывается в
предыдущий, и вся цепь изображает процесс смыкания крайних полюсов («Я» и
«не-Я») в некоторой нейтральной точке. Сам Фихте об этом пишет: «Подлинной
высшей задачей, содержащей в себе все другие задачи, является следующая: как
может «Я» непосредственно воздействовать на «не-Я», или же «не-Я» – на «Я», раз
оба должны быть друг другу противоположны. Между ними продвигают какое-нибудь
X, на которое они оба воздействуют и через которое они, стало быть, косвенно
воздействуют и друг на друга. Но тотчас же замечают, что ведь и в этом X должна
же быть какая-нибудь точка, в которой «Я» и «не-Я» непосредственно совпадают.
Чтобы этому воспрепятствовать, вместо проведения точных границ продвигают между
ними некоторое новое посредствующее звено Y»[370];
И так можно бы продолжать до бесконечности, так как мы никогда не получим
точки, в которой «Я» и «не-Я» непосредственно соединились бы. Почему же? Потому
что это «внутренне противоречиво»[371].
Парадоксальный
220
факт: основные противоположности, объединение которых есть смысл
всей системы, не могут, однако, объединиться. Но тогда система не будет
закончена, и, согласно Фихте, не будет целым – системой. Чтобы избежать этого,
Фихте поступает так же, как древние поэты разрешали трагические коллизии:
вестник богов или его заменитель являлся, как гром из ясного неба, и всё ставил
на свои места. «И можно было бы так продолжать до бесконечности, если бы узел
затруднения не был, правда, не разрешаем, а разрубаем некоторым властным
предписанием разума, которое не делается философом, а только указывается им, а
именно повелением: так как не-Я никак не может быть соединено с Я, то вообще не
должно быть никакого не-Я»[372].
Приведя пример тьмы и света и обнаруживая в них ту же трудность, Фихте делает
окончательный вывод: «Следовательно, противоречие может быть разрешено только
следующим образом: свет и тьма вообще не противоположны между собой, а
различаются лишь по степени. Тьма есть только чрезвычайно незначительное
количество света. Совершенно так же обстоит дело и с отношением между Я и не-Я»[373].
Итак, «Я» и «не-Я» различаются лишь «по степени», а не качественно. Здесь мы
видим крайнее развитие количественного понимания противоположностей у Фихте:
они вовсе и не противоположности! Это ведёт к признанию, что одна из них может
быть другой. Так, рассматривая «Я» как бесконечность, а «не-Я» – как
конечность, Фихте говорит, что их объединение вообще невозможно. «В конце
концов конечность вообще должна будет быть уничтожена, так как окажется
совершенно невозможным достигнуть искомого объединения; все границы должны
исчезнуть, и бесконечное Я одно только должно остаться как нечто единственное и
всеединое»[374].
Все эти высказывания делают совершенно прозрачной связь особенностей
диалектики Фихте и его идеализма: поскольку субъект и объект различаются лишь
количественно,
221
они не противоположны друг другу, то есть объект имеет ту же
природу, что и субъект, «Я», мышление, сознание и т.д. Объект – не реальная
вещь, находящаяся вне мышления, а само мышление, сама деятельность «Я»,
выступающая, являющаяся, однако, в форме противоположности сознания. Задача
состоит в том, чтобы «развенчать» эту видимость, уничтожить объективность
объекта. Фихтеанская диалектика, следовательно, направлена на обоснование
тождества мышления и бытия. Последнее (обоснование) достигается посредством
недостаточного развития диалектики.
С другой стороны, форма диалектики задаётся исходной позицией Фихте; ведь
«не-Я» должно быть противоположностью «Я», мышления, то есть не-мышлением,
материей. Но Фихте с самого начала заявляет, что, поскольку они должны
соотноситься друг с другом сознанием, они оба находятся внутри сознания: «Я» и
«не-Я» – различия внутри «Я», внутри одного качества, то есть количественные
различия. Идеализм определяет специфическую (количественную) форму диалектики.
Мы этим вовсе не хотим сказать, что только количественное понимание
противоположностей ведёт к идеализму, или наоборот. Отмеченных особенностей
диалектики нет у Гегеля, хотя идеализм остаётся. Гегелевская диалектика имеет
свои особенные черты, делающие её идеалистической диалектикой. Если Фихте
недостаёт отрицательности, то Гегель, наоборот, абсолютизирует её. Но и
диалектика, абсолютизированная и оторванная от рассудочного удерживания
противоположностей порознь, становится метафизикой, которая и ведёт к
идеализму. Будем ли мы (вместе с Фихте) считать, что конечность должна
исчезнуть и остаться лишь бесконечное «Я», или (вместе с Гегелем) предполагать,
что абсолютная отрицательность мышления снимает всё конечное, – результат один
– идеализм.
Логический анализ, проделанный Фихте, раскрыл ряд категориальных отношений
между субъектом и объектом, однако не позволил устранить их противоположности.
Даже
222
ослабление последней через сведение субъекта и объекта к
количественным различиям не достигает желаемой цели. Как ни подходить к ним,
сохраняется противоречие: объект полагается субъектом, но в любом реальном
сознании он противостоит ему и от него не зависит. Это противоречие и
составляет основную проблему теоретического наукоучения. Фихте попытался её
решить, выйдя за пределы логического анализа. Это он осуществляет в синтезе
«Е», в котором в действие вступает продуктивное воображение. Фихте называет его
основной теоретической способностью. Ведь теоретический разум имеет дело с
объектами как независимыми от нас образованиями. А данная способность как раз,
по Фихте, и показывает, как это возможно, если они положены нами. Как и у
Канта, у Фихте воображение функционирует бессознательно. Продуктивное
воображение не воспроизводит сущее, а творит новые объекты. Получается, что
субъект полагает, творит объект, но так как его продуктивная способность
действует бессознательно, то продукт её действий предстаёт как объект, как
нечто независимое от него. Фихте осознал то, что только фактически было у
Канта, – основополагающую роль воображения в познании. Его теория продуктивного
воображения имеет много ценного, ибо отчасти раскрывает механизм объективации
тех качеств, которые порождаются взаимодействием субъекта и объекта, но не
осознаются первым и противостоят ему как данные, а не созданные.
Особенность каждой из систем немецкого классического идеализма (Фихте,
Шеллинга, Гегеля) состоит в том, что они, во-первых, строятся на основе
диалектического метода (и в этом плане система и метод совпадают). Но, с другой
стороны, система имеет начало и конец. Поэтому диалектика также начинается и
кончается. А так как ядро диалектики – противоречие, «единство и борьба противоположностей»,
то из двух этих сторон остаётся одна – единство, вернее: тождество
противоположностей. У Фихте и Шеллинга это – тождество субъекта и объекта, у
Гегеля – тождество мышления и бытия. И здесь – подчеркнём это ещё раз – не
меняет сути дела точ-
223
ка зрения Гегеля, что это тождество не мёртвое, а, наоборот, есть
абсолютное различие. Но в том-то и дело, что в противоречии (диалектическом)
тождество и различие не абсолютны, а относительны, то есть соотносятся друг с
другом как противоположности. Поэтому «абсолютное знание», «абсолютная идея»
Гегеля, по сути, утверждает снятие всякого различия бытия и мышления и тем
самым устранение, уничтожение противоречия, ведущего вперёд. У Фихте данное
равенство достигается сведением субъекта и объекта к количественным различиям,
которые, как говорит Гегель, и не есть различия. Движение, таким образом,
останавливается, и в этом пункте, в конце системы выступает противоположность
между системой и методом. Метод требует дальнейшего развития, система его
заканчивает. Соответствие устанавливается устранением противоречия.
Здесь, однако, надо заметить, что такое положение нельзя сводить, как
некоторые полагают, к извращению сути дела, к искажению фактов. При оценке
этого явления надо исходить из трёх фактов:
1. Истина, наука есть система. Поэтому, говоря о консервативности системы
Фихте или Гегеля, нельзя упускать из виду то обстоятельство, что научное знание
(в отличие от конкретного) может существовать только в форме системы. И поэтому
уместно спросить, каковы рациональные моменты системы Фихте или Гегеля. Если мы
принимаем рациональные «зёрна» их метода, то должны принять и положительные
стороны систем, ибо одного без другого не существует.
2. Всякая система знания конечна. Бесконечных систем нет. Ни одного примера
мы указать не можем. Может быть, мир в целом и есть такая система, но целый мир
не есть предмет знания.
Отсюда возникает дилемма: или мы отбрасываем систему вообще – тогда у нас
нет научной формы и науки. Или признаём систему, но тогда оконечиваем знание,
которое всё же непрерывно развивается. Выход из этого противоречия –
неограниченный переход от одной системы к другой,
224
от неё – к третьей и т.д. Мы получаем третье важное положение.
3. Поскольку система конечна, то со временем она заменяется другой. Механика
Ньютона сменилась механикой Эйнштейна, диалектика Фихте – диалектикой Шеллинга
и Гегеля. Каково же взаимоотношение старой и новой систем? В математике, в
физике, механике выработался уже особый принцип для обозначения такого
соотношения – принцип соответствия. Согласно этому принципу, механика Ньютона
есть предельный, частный случай механики Эйнштейна. Геометрия Евклида – частный
случай геометрии Лобачевского и т. д. В философии подобный принцип ещё раньше
выдвинул Гегель: всякая предыдущая система есть определённая ступень более
развитой. Так, система элеатов в «Науке логики» представлена категорией
«бытие», система Спинозы –«субстанцией» и т. д., а вся система категорий есть
сжатое воспроизведение всех исторически возникавших философских систем. Этот принцип
воспроизведения низшего в высшем Гегель называет снятием.
В математике с конца XIX в. исследуется проблема: как строить математические
теории, системы знания. Этим вопросом занимается специальная область знания –
метаматематика, наука о построении математической науки. В философии этот
вопрос впервые поставил Фихте: его Наука о науке – «Наукоучение» – есть такая
«метаматематика» философии. В этом его большая заслуга: Фихте первый попытался
придать философии научный, то есть систематический характер. За что же мы его и
продолжателей его дела критикуем? Не за то, что они стремились создать системы.
Отвергать систему вообще – значит стремиться свести философию на уровень
беспорядочной суммы сведений.
Мы должны критиковать Фихте и других также не за то, что они строили
конечные системы и тем самым «оконечивали» познание. Ибо бесконечных систем,
повторяем, нет.
Несостоятельно в системах немецкого классического идеализма стремление
придать им окончательный, абсолютный
225
характер, доказать, что на них оканчивается история познания.
Выражением этой метафизической тенденции является тождество мышления и бытия,
которое (тождество) и кладёт конец развитию. Антиисторический принцип выступает
как принцип идеализма. Поэтому системы эти имеют идеалистический характер. Но
система не обязательно совпадает с идеализмом.
Итак, рассмотрение диалектики Фихте показывает, что она органически связана
с его идеализмом. Свой субъективный идеализм Фихте резюмирует в виде особого
положения, которое он называет «законом сознания» и которое гласит: «без
субъекта нет объекта»[375].
Помимо самостоятельного интереса, представляемого этим положением, оно
любопытно тем, что в нём одновременно даны два основных элемента философии
Фихте: (1) его идеализм и (2) его диалектика. Это положение имеет, по-видимому,
субъективно-идеалистический характер и представляет основной тезис фихтеанского
идеализма. Опровергая его, можно было бы (как часто и делают) сказать: с точки
зрения материализма, материя, объективный мир первичны, сознание – вторично. В
терминах Фихте: объект первичен, субъект – вторичен, субъективное – лишь
свойство, возникающее на определённой ступени развития материи. Так что против
Фихте мы должны сказать: «без объекта нет субъекта». Но такая критика
попадает впросак, так как эти слова в действительности взяты из «закона
сознания» Фихте, который в целом гласит: «без субъекта нет объекта; без
объекта нет субъекта».
Очевидно, материализм состоит не в том, что объект признаётся определяющим
по отношению к субъекту; он также не в том, что объект первичен (существует до
и без познания).
«Закон сознания» Фихте – лишь частный случай общего положения:
противоположности неотделимы друг от друга – положения, аксиоматического для
диалектики. Поэтому
226
данное положение само по себе совершенно верно. Без положительного
нет отрицательного, без субъекта нет объекта, без единства – множества, без
явления – сущности и т. д. применительно ко всем категориям философии.
Дело лишь в том, что «закон сознания» можно истолковать по-разному.
Если под субъектом понимать мыслящее и деятельное существо, а под объектом –
вещь, испытывающую действие, то объект не равен вещи: он – лишь определённость
в последней, возникающая в процессе труда. Объект есть вещь, которая
подвергается воздействию человека. Но сама вещь была и до того, как мы её
начали познавать и переделывать, и до того, как она стала вещью для нас,
явлением. Чем она была до этого? Вещью в себе. Но вещь в себе Фихте как раз и
не признаёт.
Различия между материалистическим и идеалистическим истолкованием положения
Фихте следующие:
1) С точки зрения идеализма, субъект есть сознание или самосознание; с точки
зрения материализма, – реальный человек,, предметное существо.
2) Объект, «не-Я» – для идеалиста – отчуждение мысли, «инобытие» её. Для
материалиста объект – вещь, претерпевающая изменения в результате деятельности
человека.
3) Материализм: субъект изменяет вещь, опредмечивает, объективирует в
действительность вещи свои планы и потребности и тем превращает её в объект.
Субъект творит форму вещи. Идеализм: субъект творит не только форму,
«определение» вещей, но и сами вещи, субстанцию их («материю»).
4) Материалист признаёт, что всякий предмет, прежде чем стать объектом,
существовал вне сферы влияния человека, был вещью в себе. Идеализм отрицает
реальность вещей в себе, считая их только мыслью.
Идеализм Фихте состоит не в том, что субъект и объект друг друга определяют
и предполагают, – это диалектические противоположности и потому их оторвать
друг от друга нельзя, – а в том, что, во-первых, сами «Я» и «не-Я» он сводит к
227
сознанию, а, во-вторых, отрицает вещь в себе. Но было бы ошибкой
отбрасывать само положение из-за того, что оно неверно истолковывается. Это
означало бы «защищать» материализм, изменяя диалектике.
Идеализм Фихте, помимо прочего, выражается в том, что он нарушает им же
выдвинутый «закон сознания». Особенно это видно в начале системы. «Я», субъект,
полагается абсолютно безусловно, до и без всякого «не-Я». Значит, «есть субъект
без объекта», то есть, есть сознание без предмета.
Но не лучше будет обстоять дело, если принять обратное: объект может быть
без субъекта. Если так, то, стало быть, между этими определениями нет
существенной, необходимой связи, тогда, значит, и субъект может быть без
объекта, и мы приходим к тому же результату.
Если Фихте берёт за начало первое: субъект дан до объекта, то здесь
выражается и правильный факт. Ведь Фихте рассматривает систему «субъект –
объект» как деятельность. А в ней, несомненно, активное, творческое начало
находится на стороне субъекта, а не объекта. Человек создаёт стол, а не стол –
человека, дом строится рабочими, а не рабочие – домом. Деятельность, активность
исходят от субъекта, что Фихте выражает в абстрактной форме: «Я полагает не-Я».
Что же касается самого субъекта, то есть человека, то уже аксиомой стало
положение, что он является результатом своего собственного труда. Аналогию с
этим составляет первое основоположение Фихте: «Я полагает самого себя». Однако
только аналогию. Дело в том, что Фихте, как Р.Декарт и другие мыслители, искал
некоторое начало познания, которое было бы совершенно, абсолютно достоверным.
А.Августин и Т.Кампанелла нашли его в самосознании, Декарт – в сознании своего
мышления («Я мыслю, следовательно, существую»), Фихте – в самосознании как
действовании, полагании самого себя. Такое начало было необходимо как основа
для философских учений, но оно не означало, что отбрасывается человек также как
реальное существо со всеми его потребностями, что отрицаются другие люди и т.
п. Учёт данного различия между
228
гносеологическим объектом и реальным человеком позволяет по-новому
оценить известные слова К.Маркса: «Так как он родится без зеркала в руках и не
фихтеанским философом: «Я есть я», то человек сначала смотрится, как в зеркало,
в другого человека. Лишь отнесясь к человеку Павлу как к себе подобному,
человек Пётр начинает относиться к самому себе как к человеку. Вместе с тем и
Павел как таковой, во всей его павловской телесности, становится для него
формой проявления рода «человек»[376].
Это – односторонняя интерпретация философии Фихте, поскольку ограничивается
первым основоположением теоретического, познающего разума. Но у немецкого
мыслителя он составляет только первую часть его системы. Второй частью является
система практического разума, в которой исследуются отношения людей в морали,
праве, истории, религии. А принимая по внимание идею Фихте, что практический
разум есть корень всякого разума, мы видим, что само познание в конечном счёте
основывается на общении людей, а не висит в воздухе. Поэтому-то он в своих
социально-политических и исторических сочинениях придавал такое большое
значение труду, воспитанию людей и целых народов. Специально об этом будет идти
речь в следующей лекции, сейчас же отметим, что приведенное положение Маркса
игнорирует этот более глубокий контекст учения Фихте.
Философия истории Фихте
Данное название может вызвать возражение: ведь Фихте не оставил сочинения
одноимённого названия. Видимо, по этой причине Э.Ганс, ученик Гегеля, издавший
впервые (в 1837 г.) его «Философию истории», относил к числу тех, кто оставил
действительно разработанные философии истории, только четырёх человек: Дж.Вико,
И.Г.Гердера, Ф.Шлегеля и Гегеля. У иных мыслителей он находил лишь остроумные и
ценные мысли, среди них находятся Фихте, Шеллинг и
229
другие[377].
Особенно справедливо это относительно Фихте, субъективный идеализм которого
кажется очень абстрактным и далёким от исторической жизни, а тем более от
природы, которая вообще выпала из его учения.
И тем не менее это не соответствует действительности. Чтение и анализ
произведений Фихте убеждает, что в них содержится весьма развитая система
философии истории, только не называемая таким образом. Чтобы увидеть её,
методологически важно принять во внимание два положения, которые имеют и для
Фихте концептуальное значение.
Первое касается соотношения теоретического и практического. Уже первое
изложение его философии – «Основа общего наукоучения» (1794) включает в себя
две части: основания теоретического знания и основания науки практического
знания. В первой исследуется познавательная способность, во второй – воля, практическая
способность. В целом здесь представлена (как и в последующих вариантах
наукоучения) общефилософская теория.
Но рассматриваемое отношение имеет и более широкий смысл: это именно
различие общефилософского и конкретно-философского. И второй смысл практического
это – более конкретное. Тот же Э.Ганс отмечал, что из всех частей практической
философии философия истории позднее всего подверглась разработке[378].
Принципы более конкретных дисциплин есть и в наукоучении, в её «практической»
части. Здесь дедуцируется воля как основная деятельная способность, принципы
права, морали, религии... Но тут они только намечены в самом общем
теоретическом плане. Самостоятельную и детальную разработку они получают вне
этого труда. Таких конкретно-философских, практических или прикладных сочинений
у Фихте много: «Назначение человека» (1800), «Замкнутое торговое государство»
(1800), «О назначении
230
учёного» (1794), «Основные черты современной эпохи» (1805), «Речи к
немецкой нации» (1808) и другие. Все они являются приложением общефилософских
принципов Фихте к более специальным предметам. Некоторые из них поэтому прямо
относятся к философии истории, например, два последних из названных сочинений,
иные – по содержанию, особенно сочинения о назначении человека и учёного.
Второе концептуальное положение высказано Фихте в связи с обязанностями
учёного познавать человека и историю с целью их дальнейшего совершенствования.
Подробней об этом будет сказано дальше, сейчас же отметим, что мыслитель
выделяет три вида знания: философское, философско-историческое и собственно
историческое. Философское – это знание из принципов, дедукция определённых
положений из исходных положений учения.
Термин «историческое» у Фихте имеет два смысла: собственно историческое
(познание истории как развития во времени) и эмпирическое. Это знание из опыта,
опытное знание. В данном случае речь идёт об опыте истории как процессе
развития человечества[379].
Подобное же понимание данного термина было у Канта: он различал рациональное и
историческое знание. «Историческое знание есть cognitio ex datis (знание из
данных опыта), а рациональное – cognitio ex principiis (знание из принципов)»[380].
Только, в отличие от Фихте, у Канта речь идёт об опыте вообще, а не опыте
истории.
Таким образом, Фихте явно выделяет философско-историческое знание, то есть
то, которое является предметом нашего анализа, и выделяет в связи с
обязанностью учёного познавать и совершенствовать, развивать человеческую
историю. При этом он понимает под ним синтез философских принципов и
исторического опыта.
231
Руководствуясь данными положениями, нетрудно выделить общую концепцию
философии истории в трудах Фихте. Она вся представлена, дана в них, её не надо
вымучивать, реконструировать. Особенность лишь в том, что большие её фрагменты,
точнее, отделы, находятся в разных сочинениях. Главные из них: «О назначении
учёного», «Основные черты современной эпохи», «Речи к немецкой нации», «О
назначении человека».
Чтобы дать опору для воображения (интуиции) и мысли читателя, мы сразу же
формулируем основные структурные звенья его концепции философии истории.
Фихте начинает с анализа назначения человека как такового – «в себе» (an
sich), то есть с выяснения сущности человека; затем раскрывает назначение
человека в обществе. Общество неоднородно, оно имеет сословное деление. Поэтому
решается вопрос о различии сословий в обществе. Одно из них – сословие учёных,
что определяет постановку и решение проблемы о назначении учёного. Фихте,
который не придавал, как Шеллинг, первостепенного значения естествознанию и
натурфилософии, главным предметом философа-учёного считал изучение и
совершенствование человека. Этого нельзя сделать без изучения истории, стадий
или ступеней её развития. Все обозначенные проблемы решаются в сочинении «О
назначении учёного». Заключительная, пятая лекция её посвящена критике
философско-исторической концепции Ж.-Ж.Руссо. Это, а также вопрос о назначении
учёного образуют переход к глобальным проблемам. Их три. Во-первых, это –
выделение и анализ исторических эпох развития человечества, что осуществляется
в работе об основных чертах современной эпохи. Во-вторых, история есть
всемирный процесс воспитания человечества, наиболее объёмно представленный в
речах к немецкой нации. В-третьих, Фихте выделяет и по-своему решает проблему
свободы и необходимости в историческом процессе, фундаментальную во всей
немецкой классической философии, особенно у Шеллинга и Гегеля.
232
Такова общая структура философии истории Фихте. Смысл её в самых общих
чертах таков. Фихте начинает с понятия человека, с того самого «Я», которое
образует исходный принцип его наукоучения, вскрывает в нём его атрибуты,
которые отныне не исчезают, а всё время лишь преобразуются при переходе к
последующим шагам исследования – человека в отношении к природе, к обществу,
сословию, назначения учёного и т. д. – до самых общих проблем. Общефилософские
принципы проходят через весь более конкретный человеческий, социальный,
исторический материал, объединяя его или открывая в нём целое и освещая
содержание смыслом наукоучения, что и даёт синтез философии и истории, то есть
определённый образ философии истории. Обратимся к более подробному анализу.
Среди различных вопросов, относящихся к человечеству, Фихте формулирует
«высший: каково назначение человека вообще и какими средствами он может вернее
всего его достигнуть»[381].
Фихте берёт сначала человека вне всякого отношения его к себе подобным. Он
является не средством для чего-то, но своей собственной целью. Кроме того, это
некое определённое, чувственное существо. Он несёт в себе черты из того «Я»,
которое лежит в основе наукоучения: тождественен самому себе или находится в
согласии с собой («Я есть Я»), ни от чего не зависит, есть самоцель. В то же
время второе основоположение наукоучения гласит, что «Я» противоположно «не-Я».
Здесь это поясняется тем, что в «не-Я» – многообразие, а в «Я» – «абсолютная
одинаковость»[382].
Поэтому, хотя человек должен быть в согласии с самим собой, как существо
чувственное, он может себе противоречить. Третье основоположение наукоучения
утверждает, что противоречие «Я» и «не-Я» разрешается (всегда частично) через
ограничение противоположностей. Противоречия, в конечном счёте, не должно быть.
В данной работе это преломляется таким образом:
233
«...Не только воля должна быть постоянно в согласии сама с собой,
... но все силы человека, которые в себе представляют только одну силу и
отличаются только в применении своём к различным предметам, все они должны быть
приведены к полному тождеству и согласоваться друг с другом. Но эмпирические
определения нашего Я зависят, по крайней мере в большей части своей, не от нас
самих, но отчего-то вне нас». И если «Я» должно быть в согласии с самим собой,
«оно должно стремиться воздействовать непосредственно на самые вещи, от которых
зависят чувство и представление человека»[383].
Таким образом, «фихтеанский человек в себе», который рассматривается пока
вне его отношения к другим людям, по своей структуре полностью изоморфен «Я»,
субъекту наукоучения. Он полагает себя, противополагается объективному миру и
стремится воздействовать на него. Иначе говоря, это понятие человека, основная
определённость которого есть деятельность – в полном соответствии с тем, что
«Я» в наукоучении есть «дело-действие» (Tahthandlung). Только все эти
определения чуть более конкретны, поскольку речь идёт уже об эмпирических
индивидах, а не общефилософском субъекте. Конкретизация ведёт к весьма важным
результатам, которые являются прикладным двойником «дела-действия».
Для воздействия на вещи, согласно Фихте, «необходим ... известный навык,
который приобретается и повышается упражнением»[384].
И дальше он формулирует исходные положения своей теории культуры: «Приобретение
этого навыка [необходимо] отчасти для подавления и уничтожения наших
собственных, возникших до пробуждения разума и чувства нашей самодеятельности,
порочных наклонностей, отчасти для модификации вещей вне нас и изменения их
согласно нашим понятиям; приобретение этого навыка ... называется культурой и
так же называется приобретённая определённая степень этого навыка. Культура
различается только по степеням, но она
234
способна проявлять себя в бесконечном множестве степеней. Она –
последнее и высшее средство для конечной цели человека – полного согласия с
собой, если человек рассматривается как разумно-чувственное существо; она сама
есть конечная цель, когда он рассматривается только как чувственное существо.
Чувственность должна культивироваться: это самое высокое и последнее, что с ней
можно сделать»[385].
В общем, «подчинить себе всё неразумное, овладеть им свободно и согласно своему
собственному закону – последняя конечная цель человека...»[386].
Достижима ли эта цель? Данный вопрос возникает потому, что в наукоучении
Фихте приложил много усилий, чтобы разрешить противоречие между субъектом и
объектом, «Я» и «не-Я». Разрешение должно было состояться в обнаружении их
тождества, точнее того, что «не-Я» состоит из того же «вещества»
субъективности, что и «Я». Как он ни старался, это ему не удалось: всегда
остаётся какой-то остаток, толчок, невыводимый из «Я». Без такого разрешения
противоречия система оставалась незаконченной, и Фихте порешил так:
противоречие «Я» и «не-Я» не разрешаемо, а разрубаемо властным велением разума.
В данном сочинении он формулирует свою позицию вполне определённо: «В
понятии человека заложено, что его последняя цель должна быть «недостижимой, а
его путь к ней бесконечным»[387].
Из этого Фихте выводит, что истинное назначение человека не в том, чтобы
достигнуть этой цели, а в том, чтобы бесконечно приближаться к ней. Такое
приближение он называет совершенствованием. «Усовершенствование до
бесконечности есть его назначение. Он существует, чтобы постоянно становиться
нравственно лучше и улучшать всё вокруг себя в чувственном смысле (sinnlich), а
если он рассматривается в обществе, то и в нравственном, и самому становиться
благодаря этому всё более блаженным»[388].
Он добавля-
235
ет при этом, что назначение людей, получающих образование, –
распространять его дальше, «поднять на высшую ступень культуры наш общий
братский род», «оказывать содействие культуре и повышению гуманности» в людях[389].
Таково понятие человека у Фихте. Это – существо деятельное, объект его
деятельности – природа, которой он должен овладеть. В процессе деятельности
формируются способы такого овладения, совокупность этих способов и навыков есть
культура. (Отсюда видно, что известная концепция Маркаряна имеет давнюю
традицию.) Культура в отношении к другим людям есть нравственность и
гуманность. Сам культурно-исторический процесс бесконечен – здесь Фихте
находится в русле просветительской традиции Тюрго, Кондорсе с их теорией
прогресса человеческого разума. Отметим также, что, поскольку Фихте исследует
назначение человека в себе, то есть саму суть человека, а не специфику того или
иного индивида (Сидорова или Иванова), «человек» здесь рассматривается не как
индивид, а как родовое существо, бытие которого есть история. Поэтому и можно
ставить вопрос об его бесконечном совершенствовании, ведь отдельный индивид весьма
конечен. Следовательно, уже и здесь, сразу мы находимся в рамках не философии
личности, но философии истории. И дальше эта тенденция лишь усиливается.
Определив человека через его отношение к природе и культуре как способу её
подчинения, Фихте далее рассматривает человека в отношении к себе подобным –
назначение человека в обществе.
В отношении человека к природе («не-Я») вскрывается один пласт исторического
развития – культура, если её рассматривать как результат деятельности, или
культивирование природы и чувственности (телесности) человека – с точки зрения
процесса. Общественные отношения вскрывают другой пласт истории – культуру
человеческих отношений. Прежде всего Фихте старается определить, что такое
общество.
236
«Обществом я называю отношение разумных существ друг к другу»[390].
Это отношение конкретизируется как деятельность согласно целям, «взаимодействие
по понятиям, целесообразная общность, и она-то есть то, что я называю
обществом»[391].
В отличие от других существ, человек – существо разумное и свободное, а
общество есть взаимодействие таких существ. Общество, как и человек,
развивается от менее совершенного к более совершенному состоянию. Целью при
этом является «основание совершенного общества»[392].
Главное при этом – развитие свободы. Она есть самоцель общественного развития.
Фихте пытается вскрыть механизм развития и высказывает ряд интересных
мыслей. Так, поскольку последняя цель человека недостижима, поэтому человек –
идеальное понятие, у каждого свой идеал человека, а потому возникает борьба
идеалов. «В этой борьбе духов с духами побеждает всегда высший и лучший
человек; таким образом благодаря обществу возникает усовершенствование рода, и
тем самым мы также одновременно нашли и назначение всего общества как такового»[393].
Иногда кажется, что высшее и лучшее не имеет влияния на более низкого и
неразвитого, но это не так, ибо плода нельзя ждать немедленно, а, кроме того,
различие уровней культуры может быть столь велико, что нужны посредствующие
звенья[394].
«Но в общем, – оптимистически заключает Фихте, – конечно, побеждает лучший –
успокоительное утешение для друга людей и истины, когда он наблюдает за
открытой войной света с тьмой»[395].
В целом, согласно Фихте, «человек предназначен для общества; к тем навыкам,
которые он должен усовершенствовать согласно своему назначению, относится также
и общественность». В чём её суть? Общественное стремление «направ-
237
лено на взаимодействие, взаимное влияние, взаимное давание (Geben) и
получение (Nehmen) ... оно направлено не на субординацию, но на координацию...
Всякий, считающий себя господином других, сам раб»[396].
Фихте проводит кантовскую идею, согласно которой люди могут пользоваться вещами
как средствами для своих целей, но не разумными существами; даже для их
собственных целей никто не может использовать их как средство. Равенство
свободных людей для него является идеалом. Исходя из единства разума, он пишет,
что «последняя высшая цель общества – полное согласие и единодушие со всеми
возможными его членами». Идеал недостижим, но приближаться к нему возможно и
нужно. Такое приближение есть объединение людей. «Следовательно, объединение,
которое должно становиться по сплочённости всё более крепким, по объёму всё
более обширным, есть истинное назначение человека в обществе... Объединение
возможно только благодаря совершенствованию» (ибо оно – последнее назначение
человека). Чтобы достигать этого, нужна способность, «которая приобретается и
повышается только посредством культуры»[397].
Способность эта двоякая: способность давать и брать в процессе взаимодействия
свободных существ.
Таким образом, второе измерение человеческого существа – культура общения,
объединение людей, которая, как и овладение природой, образует фундаментальную
тенденцию исторического развития.
Общество, далее, не является аморфным и однородным. Оно состоит из сословий.
И поэтому следующая проблема, которую исследует Фихте, – проблема различия
сословий в обществе.. Этому посвящена третья лекция в сочинении «О назначении
учёного». Нужно исследовать, «откуда происходит различие сословий, или же,
отчего возникло неравенство среди людей»[398].
Это третий пласт исторического процесса – социальный.
238
Фихте, на основе принципов своей философии, вскрывает противоречие в данном
вопросе. С одной стороны, все задатки у людей равны, ибо «они основываются на
чистом разуме», поэтому мы приходим к «последней цели всякого общества: полному
равенству всех его членов»[399].
С другой стороны, в природе всё многообразно, в том числе и в человеке как в
чувственном, природном существе, – поэтому «природа развила каждого только
односторонне»[400].
Задача разума – разрешить это противоречие, исправить ошибки природы, сделать
всех равными. Фихте формулирует общее положение: «Следовательно, разум
находится с природой в постоянно продолжающейся борьбе; эта война никогда не
может окончиться, если мы не станем богами, но влияние природы должно и может
стать слабее, господство разума всё могущественнее; последний должен одерживать
над природой одну победу за другой»[401].
Специфика точки зрения Фихте состоит в том, что сословие индивид избирает
свободно, произвольно. «Выбор сословия есть выбор посредством свободы,
следовательно ни один человек не может быть принуждаем ко вступлению в
какое-нибудь сословие или исключаем из какого-нибудь сословия»[402].
Но в чём же смысл и каков статус сословия? Фихте старается сочетать природу и
свободу в решении данного вопроса. Сословие я избираю свободно, но при этом
должен предварительно подчиниться природе, так как во мне уже (до выбора)
должны быть пробуждены различные стремления и различные склонности доведены до
сознания (иначе не из чего выбирать), – «но в самом выборе я решаю с этого
момента не обращать внимания на некоторые побуждения, которые мне хотела дать
природа, чтобы все мои силы и все преимущества, данные природой, применить
исключительно для раз-
239
вития единственного или многих определённых навыков, и моё сословие
определяется особым навыком, развитию которого я себя посвящаю путем свободного
выбора»[403].
В конечном счёте корень сословий в том, что человек не может один обрабатывать
природу во всех отношениях, он берётся за какой-нибудь особый предмет, для
разработки которого он больше всего подготовлен природой, обществом и
упражнением.
То, что Фихте называет сословиями, скорее есть профессии. Конечно, выходец
из крестьян или торговцев (как сам Фихте) или ремесленников (как Беме или
Дицген) может стать учёным, военным, государственным деятелем, но сословие как
целое не есть предмет свободного выбора. Там, где они есть, человек уже
рождается в определённом сословии. Эта трактовка Фихте сословия как объекта
выбора знаменательна исторически: в его время сословия ещё были (крестьянское,
ремесленное, торговое и т. д.), в развитых странах сейчас их нет, а есть
профессии, специальности. Его концепция наметила этот переход от сословной к
бессословной структуре общества, то есть наметила некоторую важную историческую
тенденцию: расшатывание сословного (или классового) строя под напором свободы.
Для Фихте сословия – одно из проявлений природы, а задача состоит в том, что
каждый по-своему, своим особым делом будет облагораживать человеческий род, «то
есть всё более освобождать его от гнёта природы, делать его всё более
самостоятельным, и таким-то образом благодаря этому новому неравенству
возникает новое равенство, именно однообразное развитие культуры во всех
индивидуумах»[404].
Под «новым неравенством» Фихте понимает многообразие профессий (сословий),
занятий, которым тот или иной индивид посвящает свою жизнь и способствует
прогрессу культуры.
Кажется, что проблема сословий имеет частный характер. Но у Фихте она
приобретает важное значение. Поскольку деление на сословия у него фактически
совпадает с разделением
240
труда и, кроме того, существует сословие учёных, это даёт ему
возможность определить назначение учёного, а затем и роль научного знания в
истории.
Фихте пишет, что «каждое сословие необходимо, что каждое заслуживает нашего
уважения, что не сословие, а достойная поддержка его оказывает честь индивидууму
и что каждый тем почтеннее, чем ближе он в ряду других к совершенному
исполнению своего назначения...»[405].
Фихте полагает, что в основе сословного деления общества, согласно чистым
понятиям разума, должно бы лежать исчерпывающее перечисление всех природных
задатков и потребностей человека, их познание и знание. Это – задача учёного.
Однако этого недостаточно. Нужна наука об их развитии и удовлетворении,
знание средств, при помощи которых они могли бы быть удовлетворены[406],
и это знание – удел учёных. Первое знание – философское, второе –
философско-историческое, поскольку оно отчасти основано на опыте[407].
Но и это не всё. Нужно, наконец, знать, «на какой определённой ступени
культуры в определённое время находится то общество, членом которого мы
являемся, на какую определённую высоту оно отсюда может подняться и какими
средствами оно для этого должно воспользоваться»[408].
Нужно исследовать события предшествующих эпох, или времён, выяснить, на какой
ступени сам находишься, и подобрать подходящие средства. Здесь везде нужно
обращаться к опыту, и поэтому, по мнению Фихте, «эта последняя часть
необходимого обществу знания является, следовательно, только исторической»[409].
Выделение трёх видов знания имеет смысл, но оно упрощает или огрубляет само
знание. Ведь перечисление всех задатков и потребностей не может быть получено
из одного чистого разума, хотя в зависимости от философской позиции оно
241
будет различным (например, сравни этику Эпикура и этику Канта).
Здесь нужен и определённый опыт – эмпирическое знание, или историческое в
смысле эмпирии, как разъяснено в начале этой лекции. То есть здесь будет синтез
философии и опыта. А этим предопределяется и выбор средств, и освещение прошлых
и настоящей эпох развития. В третьем виде знания мы видим также соединение
философского и опытного начал с той особенностью, что здесь опытное есть
историческое в собственном смысле слова, и в качестве целого знания это –
философско-историческое, как первый и второй его виды.
Фихте, который до сих пор выделял и исследовал отдельные пласты
исторического процесса – материальную культуру, культуру общественности,
сословное строение общества, вплотную подошёл к анализу истории как целого. А в
связи с назначением учёного он вскрывает историческую роль научного познания.
«Три указанных рода познания, мыслимые вместе, – без объединения они приносят
мало пользы, – составляют то, что называют учёностью... и тот, кто посвящает
свою жизнь приобретению этих знаний, называется учёным»[410].
Отдельное лицо должно отмеривать для себя часть данной области и исследовать «в
этих трёх направлениях: философски, философско-исторически и только
исторически»[411].
Цель всех этих знаний – «при помощи их стремиться к тому, чтобы все задатки
человечества развивались однообразно, но всегда прогрессивно, и отсюда вытекает
действительное назначение учёного сословия: это высшее наблюдение над
действительным развитием человеческого рода в общем и постоянное содействие этому
развитию.... От развития наук зависит непосредственно всё развитие рода
человеческого. Кто задерживает первое, тот задерживает последнее»[412].
Как видим, Фихте придаёт решающее значение роли науки в истории и
соответственно понимает и роль и качества учёного: он по преимуществу
242
предназначен для общества; является учителем человеческого рода,
воспитателем человечества; во всех проявлениях культуры должен быть впереди
всех других сословий; цель его деятельности – вся культура; он должен быть
нравственно лучшим человеком своего времени, представлять высшую ступень
возможного в данную эпоху нравственного развития[413].
Понимая историю человечества как прогрессивное развитие под влиянием научного
познания, Фихте, естественно, должен был отвергнуть известную концепцию
Ж.-Ж.Руссо о негативном влиянии наук и искусств на нравы людей. Возражениям на
неё посвящена последняя, пятая лекция из данной работы.
«В предшествующих лекциях, – писал он, – я полагал назначение человечества в
постоянном прогрессе культуры и в однообразном непрерывном развитии всех её
задатков и потребностей, и я отвёл очень почётное место в человечестве
сословию, которое предназначено для наблюдения за прогрессом и однообразием этого
развития»[414].
Против этой истины наиболее определённо и красноречиво выступал Руссо, приводя
при этом ложные основания. «Для него дальнейшее движение культуры – причина
всей человеческой испорченности»[415].
Руссо видит прогресс в возврате к естественному состоянию, «для него это
покинутое состояние – последняя цель, к которой наконец должно прийти
испорченное сейчас и изуродованное человечество»[416].
По мнению Фихте, причина этого – неразвитое чувство у Руссо: он видел всё
безобразие вокруг себя, и его чувство возмутилось. С возмущением обрушился он
на свою эпоху. Руссо прав, когда борется против чувственности. Но человек,
поскольку он не животное, не предназначен оставаться в этом состоянии[417].
243
В своей критике Руссо Фихте выдвигает на первый план принцип деятельности,
исходный в его наукоучении. Он даёт «критику человека», но иначе, чем
французский просветитель. «...Человек от природы ленив и косен по примеру
материи, из которой он произошёл. Леность – источник всех пороков. Как можно
больше наслаждаться, как можно меньше делать, – это задача испорченной
натуры... Нет спасения для человека до тех пор, пока эта естественная косность
не будет счастливо побеждена и пока человек не найдёт в деятельности и только в
деятельности своих радостей и своего наслаждения»[418].
Аналогичной является и критика Руссо. У Руссо «была энергия, но больше
энергии страдания, чем энергии деятельности»[419].
«Руссо постоянно изображает разум в покое, но не в борьбе; он ослабляет
чувственность вместо того чтобы укрепить разум»[420].
И наконец: «Стоять и жаловаться на человеческое падение, не двинув рукой для
его уменьшения, значит поступать по-женски... Действовать! Действовать! – вот
для чего мы существуем»[421].
Эти выписки показывают своеобразие позиции Фихте: история есть прогресс деятельности,
определяемой развитием науки и разума в целом. Это – наивысшее, что
представляет нам история. Повторим ещё раз: в лекциях о назначении человека,
общества и учёного Фихте последовательно вскрывает, на основе своего
философского учения, слои или пласты всемирной истории: прогресс материальной
культуры, общественности или культуры общения (нравственности, права и т. п.),
прогресс наук, от развития которых зависит всё развитие человеческого рода.
Показывая, как учёный должен содействовать этому развитию, Фихте ставит
задачу изучения современности, в которую живёт он и его поколение, и
предшествующих времён,
244
чтобы определить, чем, какими средствами надо действовать, – то есть
задачу постижения истории как целого. Этим вполне определяется, где надо
«искать» следующий раздел философии истории Фихте: это его лекции «Основные
черты современной эпохи», читанные в Берлине зимой 1804-1805 гг.
История как целое предполагает уяснение её структуры, её начала и конца (или
цели), её основного содержания. Эти вопросы находят у немецкого философа
оригинальное освещение.
Фихте сразу же ставит вопрос на диалектическую и историческую почву: чтобы
понять современную эпоху, нужно понять её в качестве звена в ряду всех эпох, в
процессе развития человечества. Она может быть понята только в этой связи[422].
Каковы же эпохи истории?
История есть целое деятельности разума, и эпохи различаются способом
существования этого целого. Самое крупное деление – на две эпохи: в первой
господствует инстинкт разума, во второй – свобода разума. Средством перехода от
одной к другой является наука разума, она образует третью эпоху. Однако от
инстинкта к науке перейти прямо нельзя: для этого надо было стремиться
освободиться от инстинкта, а для этого он должен восприниматься как насилие –
что получается тогда, когда разум становится внешней силой и гнётом –
авторитетом разума. Освобождение от авторитета есть эпоха свободы разума. Цель
человечества – разумная жизнь как нравственное художественное целое. Его
удастся достичь тогда, когда наука разума (под которой Фихте понимал своё
наукоучение) будет усвоена всем человечеством и станет нормой жизни. Таким
образом, на пути к цели своей земной жизни человечество проходит пять эпох:
инстинкта, авторитета, свободы, науки и искусства разума. Первые две – эпохи
слепого господства разума, две последние – эпохи зрячего разума, а третья –
посредник, здесь господствует вообще не разум, а
245
индивидуальный эгоизм. Весь ход истории у Фихте имеет
религиозно-нравственный характер: первая эпоха – состояние невинности, вторая –
состояние начинающейся греховности (противление разуму как внешней силе), третья
– состояние завершённой греховности, четвёртая – начинающееся оправдание и
пятая – совершенного оправдания и освящения[423].
Согласно Фихте, современность совпадает с третьей эпохой – завершённой
греховности. Освобождение от авторитета совершается при помощи разрушительной
критики, что составляет сущность просвещения. Всё родовое из мышления удаляется,
остаётся лишь голая индивидуальность, её интересы, личное благополучие. Мораль
освобождается от религии и становится теорией эгоизма. Душу просвещения
составляет обыденный человеческий рассудок. Это сказывается на научном
состоянии эпохи, в господстве эмпирических понятий, пустого и плоского
рационализма. В духовном строе эпохи недостаёт идей, мышление бессильно, не
может сконцентрироваться, рассеяно переходит с объекта на объект, всё время
остаётся на поверхности, неспособно к последовательному ходу мыслей, при
котором одно понятие необходимо создаёт другое. Просвещение изобрело искусство
преподавать науку без всякой внутренней связи, в алфавитном порядке[424].
Фихте явно имеет в виду энциклопедию, созданную под руководством Дидро и
Даламбера. А своей критикой бессвязности внутренней, необходимой связи понятий
он формулирует характерную черту немецкой философии – диалектическое развитие
мышления, которое начинается у Фихте, а высшего развития достигает в философии
Гегеля. Фихте первый осознал данную черту немецкого философствования, а в
значительной мере и сформулировал её. В этом его двойная заслуга.
Данное стремление к необходимому развитию, к внутренней связности заметно и
в его делении эпох истории
246
человечества. Он исходит при этом из двух наиболее общих понятий
своего философского учения – разума и свободы, и, по ним ориентируясь,
конструирует ход истории. Но в этом отношении он не достигает полной
органичности, ибо помимо этого деления у него есть и другое – деление на
древний мир, средние века и новое время. Мы их сравним несколько ниже, а сейчас
остановимся на самом понятии истории и её начале.
Общественный строй любой эпохи, согласно Фихте, определяется государственным
порядком, а последний зависит от общего уровня сознания эпохи. Современное
государство – это известная ступень в развитии государства вообще. Чтобы
познать его, надо из понятия государства вывести его формы и стадии развития
(они-то и составляют второе деление у Фихте), а так как государство – продукт
истории, то правильно судить о нём можно лишь исходя из сущности истории.
Первый предварительный вопрос, следовательно, – вопрос о понятии истории,
второй – о понятии государства. Решение данных вопросов – о сути государства и
истории – даёт возможность определить философски и общее строение современной
эпохи.
Здесь Фихте мыслит в духе своей эпохи: вся история есть развитие сознания
или знания, прогрессирующий временной ряд, прогрессирующее познание. При этом
выясняется, как возможно само развитие: если бы знание с самого начала было
абсолютным, развитие не могло бы начаться, а если бы оно стало абсолютным, то
развитие закончилось бы, в обоих случаях оно уничтожается, а вместе с ним
устраняется и история. Таким образом, понятие истории требует вечной задачи. Её
решение заключается в таком знании, которое не нуждается в развитии, то есть в
знании, тождественном бытию. Такое бытие и знание, по Фихте, есть Бог. В нём
они тождественны. Всё остальное есть развитие знания, отображение Бога, для
которого необходимы познаваемый объект – мир как природа, и познающий субъект –
человечество как совокупность индивидов. Жизнь человечества есть его развитие;
содержание и задача последнего – человечество как род, самоосуществление
247
разума, цель которого в том, чтобы совокупная жизнь человеческая
стала свободным выражением разума. Это развитие и есть история человеческого
рода[425].
Таково понятие истории. Оно определяет и понятие начала истории в концепции
Фихте. Во времена его данная наука не заглядывала ещё далеко в глубь времён. И
применительно к началу он пишет, что здесь совсем нет доказуемых фактов.
Рассказываемые события – мифы, плод творчества. Вопрос, с его точки зрения, о
возможности истории как таковой, а не о том, как осуществлялись необходимые для
истории условия в виде отдельных событий. Того, что является целью истории, –
свобода разума, не могло быть в её начале. Это с одной стороны. С другой – из
неразумия нельзя вывести разума. Поэтому надо признать некое первобытное
состояние человечества, когда господствовал разум как инстинкт или закон
природы. В связи с этим Фихте допускает существование некоего «нормального
народа», изначально обладающего культурой. Его функция состоит в том, чтобы
воспитывать другие народы. Ведь цель человечества – развитие разума, а если бы
всё оно обладало культурой разума, то и цель и само развитие уничтожились бы.
Поэтому нормальный народ – только часть человечества. Ему противостоит
остальная его часть в полной первобытности. Эта часть человечества не лишена
способности разума, но лишена культуры разума. Таково состояние диких народов,
разбросанных по земле. История начинается, когда эти две первоначальные формы
человеческих сообществ приходят в соприкосновение и смешиваются, когда
нормальный народ путём завоевания или колонизации проникает в среду
не-культуры, и начинается конфликт между культурой и дикостью. До этого обе
формы народов однородны (каждая по себе) и лишены всего исторического, они –
доисторические.
Таким образом, получаются стадии: 1) доисторическое (первобытное) состояние;
2) соприкосновение и смешение
248
культурного и диких народов, конфликт, знаменующий начало истории;
3) далее следуют пять эпох истории, перечисленных выше.
Итак, с «педагогического» конфликта начинается история, процесс развития,
постепенное культивирование человечества, впервые образуются общественные и
государственные установления, задача которых – осуществить понятие разумного,
или абсолютного государства[426].
В целом, как видим, история есть эволюция к свободе, такая эволюция есть
воспитание, а для последнего нужны воспитатель и воспитанник. Если история есть
воспитание человеческого рода, то в человечестве необходимо допустить две
доисторические категории народов: один, воспитывающий или способный к этому и
обладающий уже (до истории) культурой, и другие, нуждающиеся в воспитании и
безо всякой культуры; первый – нормальный народ, иные – дикие народы.
Только после этого Фихте переходит к понятию государства. Выше мы встретили
его мысль, что со смешения двух названных народов впервые возникают
общественные и государственные учреждения, значит, ни у диких, ни у культурного
народа государства не было. И действительно, государство Фихте считал
исторически преходящим явлением. Ещё в лекциях «О назначении учёного» (1794) он
писал, что оно лишь средство «для основания совершенного общества». Оно
стремится к своему собственному уничтожению: «цель всякого правительства –
сделать правительство излишним». Когда высшим судьёй будет признан один только
разум, «станут излишними государственные образования»[427].
В «Основных чертах современной эпохи» (1805) он больший акцент делает на
позитивной роли государства; в Германии, по Фихте, господствовало разложение,
состояние грехов-
249
ности, индивидуализм и эгоизм, а в качестве задачи будущего виделось
построение культурного государства.
Государство составляет органичный момент философии истории Фихте: в истории
осуществляется общая цель человеческого рода, на неё должны направляться все
индивидуальные силы; поэтому должно существовать учреждение, побуждающее
индивидов направлять сюда все свои силы, хотя бы сама цель сначала им и не
открывалась; таким учреждением и является государство. Отсюда идея государства:
оно объединяет индивидов для одной общей цели, оно есть выражение рода, а
отдельные лица – его органы или орудия. Фихте подчёркивает противоположность:
цель изолированного индивидуума – наслаждение, цель рода – культура (здесь то
же, что и в сочинении о назначении учёного). Что не служит
государственной цели, не служит культуре, индивидуальному самообразованию, то
содействует варварству. Форма государственной жизни – подчинение отдельного
лица целому, общей цели, всем.
Таково философское понятие государства. Рассматривая его в контексте
исторического развития, Фихте выделяет его ступени. Ступеней три: древние
государства, средневековые государства и государственный строй Нового времени.
К первой ступени Фихте относит две формы государства: азиатские деспотии,
которые, с его точки зрения, возникли из первой цели государства – приобщения
диких народов к культуре, и правовое государство с относительным равенством
прав (греческое и римское). Здесь человек как таковой ещё не признаётся
свободным.
Особенность средневековых государств в том, что церковь является
политически-духовною центральною властью, она наблюдает за международными
отношениями и охраняет самостоятельность тех государств, которые служат
интересам её власти.
В Новое время церковь перестаёт быть центральной политической властью,
коренным образом изменяется устройство государства. Создаётся система
политического равновесия.
250
Чтобы существовать, каждое государство должно стать культурным, а
таковым оно становится, когда все его граждане проникаются общей целью. Это подчёркивание
общего характерно, потому что Фихте считает свою эпоху временем эгоизма и
греховности. И выйти из неё можно путём сплочения в общей цели и подчинения
политики высшим религиозным целям. Это касается будущего истории. Специально об
этом будет идти речь дальше, а сейчас сделаем несколько замечаний о фихтеанском
понимании истории как целого.
В трактовке начала истории у Фихте интересно различение между возможностью
истории как таковой и теми реальными событиями, благодаря которым оно
осуществляется. Различение это обосновано, потому что о начале мы можем знать
не только в опытном, фактическом смысле, но и умозаключать о нём на основании
знаний обо всей, в том числе и современной, истории. В зависимости от того, как
мы понимаем доступную нам историю, что считаем её главным содержанием,
получается и соответствующее истолкование начала. Для Фихте история – это
прогресс разума и свободы, поэтому он и берёт в виде начальной его формы
простейшее образование – инстинктивное, ещё бессознательное действие разума.
В данном вопросе взгляды Фихте родственны кантианским, изложенным в работе
«Предполагаемое начало человеческой истории» (1786). Кант различает в понимании
начала вымысел и гипотезу. Первый ни на чём не основан, вторая является выводом
из более позднего исторического опыта. Такой вывод можно сделать, «если
предположить, что природа при этом первом начале не лучше и не хуже, чем
теперь, – предположение, соответствующее аналогии природы [то есть её единству.
– М.Б.] и не содержащее в себе ничего рискованного»[428].
Поскольку история, по мысли Канта, есть развитие свободы, она, при всём
единстве её, – которое и даёт возможность судить о начале, не данном нам
фактически, – качественно
251
различна на разных стадиях развития. «Поэтому история
первоначального развития свободы из первоначальных задатков, содержавшихся в
человеческой природе, является чем-то совершенно другим, чем история свободы в
её проявлениях, которая может быть основана только на фактических данных»[429].
Различие есть и в степени развития свободы, и в способе её познания: первое
начало познаётся гипотетически, дальнейшее состояние – опытным путём.
Предположения, которые делает Кант о начале истории, – это существование
человека; живёт он в паре (притом одной-единственной); первый человек умел
стоять и ходить, разговаривать и мыслить, выработал некоторые нравственные
навыки; в своей жизни он руководствовался инстинктом, который Кант называет
гласом Божьим, или голосом природы. На смену инстинкта пробудился разум. До
него господствовало состояние невежества и наивности. Разум решительно поднял
человека над уровнем животного: он дал ему возможность избирать (или выбирать)
образ питания и жизни по своему усмотрению, то есть состояние свободы;
преобразовал его половой инстинкт, который приобрёл самостоятельное значение,
независимое от функции продолжения рода; породил ожидание будущего; дал
человеку возможность осознать себя целью природы, а всё окружающее – средствами
и орудиями для достижения угодных ему целей[430].
Отметим ещё, что, не имея опытных данных о начале истории, Кант ведёт анализ
параллельно с библейским текстом, с «Книгами Моисея», как бы философски их
реконструируя и перетолковывая.
Как видим, Фихте примыкает к Канту, когда за начало берёт инстинкт разума,
хотя можно найти и различие, поскольку у Канта инстинкт и разум – последовательные
ступени развития, и две эти способности исключают друг друга. У Фихте они
сочетаются.
252
Для понимания характера науки, называемой «философия истории», интересной
является трактовка общей структуры истории. У Фихте, по сути, две такие структуры:
одна – это пять эпох развития разума и свободы; другая – генезис и история
государства, в которой крупных делений три; можно выделить четыре – если
древнее государство делить на деспотию и относительное правовое государство.
Первая структура прямо выводится из общих принципов наукоучения –
философской трактовки разума и свободы. Вторая имеет более опытный характер,
основывается на опытном знании исторического развития. Первая более
философична, вторая более исторична. И хотя они не противостоят друг другу, а
скорее дополняют одна другую, в этой двойственности заметно, что философия и
история не проникают органично друг в друга, они находятся в процессе
соединения, сплавления. Как далеко простирается этот процесс? На данный вопрос
можно ответить так: до тех пор, пока философские принципы понимаются как
априорные, а историческое знание – как апостериорное, опытное. Процесс этот
должен закончиться, поскольку в конечном счёте открывается, что и философское
знание имеет опытный характер, хотя этот опыт иной, чем в той или иной науке.
Ведь свобода и разум, которыми руководствуется Фихте, тоже взяты из опыта, из
практики человечества. Чистая деятельность, моментами которой являются свобода,
разум, самосознание и т. п., Фихте бессознательно воспринял из жизни, она и её
моменты суть исторический продукт. Из истории политической экономии известно,
что во второй половине XVIII в. А.Смит (1723-1790), в отличие от физиократов,
анализировавших труд в конкретной форме и считавших производительным только
земледельческий труд, пришёл на основе развития промышленности к мысли о труде
вообще, об абстрактном труде как источнике стоимости и богатства. Это было им
сделано в фундаментальном труде «Исследование о природе и причинах богатства
народов» (1776). У нас нет оснований «чистую деятельность» всех немецких
философов прямо выводить из трудовой теории
253
стоимости Смита; Гегель был знаком с английской классической
политэкономией, но Фихте и Шеллинг – нет. Однако есть основание и трудовую
теорию стоимости и чистую, абстрактную деятельность философов выводить из
исторического опыта и времени, ибо труд реально приобрёл всеобщий характер и
поэтому мог влиять равным образом на выработку категорий как политической
экономии, так и философии. Здесь, таким образом, возникла одна из предпосылок
для того, чтобы засыпать пропасть между априорным и апостериорным и в знании в
целом, и в философии истории в частности. Из сказанного выше ясно, что разрыв
опыта и мышления у Фихте не преодолён в его концепции данной науки, а значит у
данного философа, как и у Шеллинга и Гегеля, становление философии истории ещё
не завершилось.
Третье наше замечание касается фихтеанского истолкования истории как
воспитания человечества.
Оно имеет под собой определённые основания. В самом деле, каждое новое поколение,
лучше или хуже, воспитывается предыдущими, и поскольку история есть
последовательная смена отдельных поколений, постольку и получается история как
процесс воспитания. Здесь всё просто и ясно.
Второй аспект проблемы – воспитание не отдельных поколений, а целого народа.
Такое явление также существует. Его выражает феномен просвещения. Например,
французские просветители XVIII в., несомненно, оказали огромное влияние на умы,
чувствования, настроения, установки и способы действий всего французского народа.
Тот факт, что просвещение составляет эпоху в истории каждого народа, каждой
нации, свидетельствует об общем его характере. В отличие от воспитания
поколений, воспитание народа, или его просвещение, предстаёт как некоторая
стадия в его исторической жизни, знаменующая пору его зрелости, самосознания и
самостоятельности.
Вопрос усложняется, если принять во внимание, что человечество состоит из
отдельных народов и государств, связанных друг с другом, но в то же время и
относительно
254
самостоятельных, что выражается и в таком существенном факте, как
различный уровень развития материальной и духовной культуры, сложные и
запутанные отношения вражды и дружбы, господства и зависимости и т. п. Если и
здесь сохранить идею воспитания, то это будет означать, что один народ является
воспитателем другого или других. Именно этот смысл наличен в фихтеанской
концепции воспитания человечества: некий первоначальный культурный народ
воспитывает дикие народы. Так ставится вопрос в «Основных чертах современной
эпохи». В другой, не менее известной работе «Речи к немецкой нации» (читаны в
Берлине зимой 1807-1808 гг., когда Германия была повержена наполеоновскими
войсками) идея воспитания переносится и в современность и выявляет в себе все
аспекты, перечисленные нами. Самым крупным планом концепция Фихте такова:
Германия потерпела поражение, потому что исчезли великие государственные цели и
всеми, снизу доверху, овладел эгоизм. Чтобы подняться, нужно заново создать
народ путём воспитания, распространяющегося на отдельного человека. Необходимо
новое народное воспитание. Осуществить его должно государство. Для этого
молодое поколение надо объединить в педагогическую общину, чтобы каждый
чувствовал себя членом целого и благодаря этому – членом государства и частицей
всего народа. Содержание воспитания – нравственная самостоятельность, ясность
ума и чистота чувства, а путь к этому – самопознание своей деятельности и
выработка нравственной цели человечества. Так как сущность человека – дело,
действие, то в этом и смысл предназначения человечества, а воспитание состоит в
осознании необходимости труда каждой личностью. Поэтому педагогическая община
есть и хозяйственная община: её воспитанники сами должны трудиться,
обеспечивать себя, чтобы стать самодеятельными и самостоятельными. Воспитание немецкой
нации, имеющее конструктивный характер, Фихте противополагает французской
революции конца XVIII в. с её разрушительным характером. Новый немецкий народ
станет воспитателем всего человечества. Основание для этого –
255
духовная самобытность немцев. Из всех народов, разрушивших Римскую
империю и, тем самым, весь древний мир, только германцы остались изначальным,
самобытным или первобытным народом. Свидетельство тому – только они сохранили
свой живой язык, в котором выражается душа народа. Немцы – «народ по существу,
в противоположность другим отколовшимся от него племенам»[431].
Другие, романские народы, усвоили мёртвый язык – латынь. Только у немцев есть
первобытная сила человечества, которая может создавать новую жизнь и сообщать
её. Если погибнет такой народ, то погибнет человечество. Превосходство немцев
Фихте видит в творчестве новой духовности: самобытность их в религии доказывает
церковная реформация; Лейбниц начал борьбу с иностранной философией, Кант
положил начало новой философии, а наукоучение Фихте даёт полное (!) решение
вопроса. Также иностранцы пытались решить и другой вопрос – создать разумное
государство путём французской революции, но это не удалось, это сделают только
немцы – не через революцию, а через воспитание народа. Фихте превозносит
немецкий патриотизм, считая, что только у немцев есть любовь к своему народу и
родине. Используя терминологию наукоучения, он провозглашает, что немцы есть
«Я» среди народов. Только у них могла возникнуть истинная философия,
наукоучение. Спасение немцев и всего человечества зависит от него, оно должно
составить содержание нового народного воспитания, ведь в нём есть главное:
самосознание, приоритет разума, свободы и деятельности. Остальные народы должны
получать спасение от немцев. В общем, новая мировая задача – прежде всего
немецкая задача. На немецкой нации покоится будущее. «Разве мы знаем другой
такой народ из народов другого света, от которого можно было бы ждать
чего-нибудь подобного? Я думаю, – пишет Фихте, – каждый ответит отрицательно на
этот вопрос. Итак, нет
256
иного исхода: если погибнете вы, то погибнет всё человечество без
надежды на возможное восстановление»[432].
Такова концепция Фихте в «Речах к немецкой нации». Заметен, более того,
имеет кричащий характер немецкий национализм. Сами по себе положения несут
рациональный смысл: воспитание народа – это выработка самосознания, объединение
вокруг общей цели, нравственная и трудовая самостоятельность граждан, развитие
нации и духовной культуры и т. п. Верно и то, что немецкий народ внёс большой
вклад в развитие философии, литературы, в государственное строительство, что в
нём много оригинальных черт, но ведь и другие народы оригинальны и самобытны.
Однако всё правильное у Фихте превращается в свою противоположность, потому что
используется для доказательства превосходства немецкой нации.
Применительно к нашей теме можно сказать, что, поскольку каждый народ имеет
что-то своё, самобытное, другие могут этому у него поучиться. И не только менее
развитые у более развитых, но и наоборот, – подобно тому, что не только
родители учат детей, но и сами у них учатся. В этом смысле все народы взаимно
учат и воспитывают друг друга, и история, действительно, есть воспитание
человечества. Однако то воспитание, о котором идёт речь на таком
общечеловеческом уровне, отличается от воспитания поколений, от просвещения
народа его интеллигенцией. По сути дела, теория такого воспитания ещё слабо
разработана. То, что мы находим по данному вопросу у прежних мыслителей, в том
числе и у Фихте, односторонне направлена на превознесение своего народа, на
выпячивание его достоинств, в ущерб достоинствам и достижениям других народов и
наций.
Подобные противопоставления находим и у иных народов: древние греки и
римляне противопоставляют себя всем другим народам как варварам, христианские
народы превозносят себя перед магометанскими и наоборот, и т. п. Все та-
257
кие неравные, односторонние отношения суть гипертрофированные формы
национального или мировоззренческого самосознания. Было бы упрощением считать
их просто заблуждением. Их источником является, если употребить выражение
Канта, недоброжелательная общительность народов. Всякого рода национализм –
этническиий, религиозный, политический и иной – есть выражение такой исконной
общительности народов. Но о воспитании достаточно.
Нам остаётся рассмотреть ещё вопрос о конечной цели истории. Этот вопрос
имеет два аспекта – содержательный и временной. То есть, речь идёт о том, к
чему, в конечном счёте, стремится человек, и в конечное или бесконечное время
он его достигает. Этот вопрос можно уяснить путём сравнения уже сказанного с
содержанием сочинения Фихте «О назначении человека» (1800).
Дело в том, что указанный год является, в известной мере, границей между
двумя основными этапами творчества Фихте. Их различие в том, что в первый
период он – преимущественно субъективный идеалист, во второй – идеалист
объективный. А переход к объективному идеализму определяется усилением в учении
Фихте религиозных идей, переходом от диалектики и теории деятельности
индивидуального «Я» к концепции нравственного и религиозного миропорядка.
Поэтому ответ на занимающий нас вопрос не оставался неизменным.
В первый период творчества – это мы видели по содержанию работы «О
назначении учёного» (1794) – Фихте постоянно подчёркивал бесконечность
прогресса человека. «В понятии человека заложено, что его последняя цель должна
быть недостижимой, а его путь к ней бесконечным»[433].
Назначение человека не в том, чтобы достигнуть цели, а в том, чтобы бесконечно
приближаться к ней, каковой процесс он называет совершенствованием. Указывается
и содержание исторического процесса: человек «существует, чтобы постоянно
становиться
258
нравственно лучше и улучшать всё вокруг себя в чувственном смысле
(sinnlich), а если он рассматривается в обществе, то и в нравственном, и самому
становиться благодаря этому всё более блаженным»[434].
Основное понятие, которое у Фихте выражало этот прогресс – понятие культуры –
культивирование природы и чувственности человека.
Бесконечность прогресса сохранилась у Фихте и во второй период, – и тем не
менее, всё, или почти всё, изменилось. То, что считалось бесконечно удалённой
целью, теперь достигается. Эту цель Фихте называет в данной работе
цивилизацией. Вкратце взгляды Фихте таковы.
Поскольку в материальном мире господствует причинность и необходимость, то
нравственный закон не может в нём осуществиться полностью. Он основан на
свободе, а последняя противоположна природе, которая нас окружает. Должен быть
другой мир. Фихте выводит его из «странного контраста – необъятности желаний
человека с его ничтожеством в настоящем»[435].
Без другого, высшего мира всё предназначение человека сводится к еде и питью, к
борьбе с враждебною природою[436].
Фихте убеждён, что этой борьбе придёт конец, человек откроет самые
сокровенные тайники природы, «сможет сделаться её абсолютным властителем»[437].
Тогда он избавится от тяжких трудов. «Венец человечества не может быть бременем
для человека. Предназначение существа интеллигентного не может состоять в том,
чтобы вечно изнемогать под тяжестью, удручающею его силы...»[438].
Будет достигнут прогресс и в человеческих отношениях. Не одна природа, но
даже и собственная свобода человека есть для него источник неисчислимых зол.
Самый ужасный враг
259
человека – он сам. Народы, нации, сформированные цивилизацией,
нападают друг на друга оружием, созданным самой же цивилизацией[439].
«В более или менее организованном обществе или в государстве, под внешними
видимостями справедливости и законности, идёт всё та же война, делается даже
нечто худшее; ибо тут – это война хитрости, коварства, где удары наносятся в
темноте, где для жертвы несправедливого нападения нет никакого средства от него
защищаться. Тут весь народ неизбежно разделён на две части. С одной стороны
находится большинство, погружённое в невежество и бедность; с другой –
меньшинство, остающееся большей частью равнодушным к этому невежеству»[440].
Неужели это будет вечно? «Нет – никогда! Ибо человечество не имело бы тогда
никакого назначения и было бы не более как какою-то ужасною загадкой, отгадать
которую нам было бы отказано... Но так ли это?»[441].
Ответ на этот вопрос мыслитель находит в факте развития: дикие народы способны
развиваться, ведь и цивилизованные народы Нового Света имели диких предков[442].
Поэтому сейчас мы уже знаем, что самые удалённые от цивилизации племена через
некоторое время достигнут уровня цивилизации самых передовых наций нашей эпохи.
«Сделавшись тогда составными частями всеобщей ассоциации, упоминаемые племена
станут сопричастными всякому прогрессу в будущем»[443].
Фихте ставит вопрос, существовала ли эпоха до нашей эры, где цивилизация царила
бы над большим количеством людей и занимала большее пространство, и отвечает:
«Тогда ... убедятся, конечно, что с самого начала времён, – отправляясь от
нескольких изолированных пунктов – как источников, из которых она не
переставала распространяться и развиваться, так сказать, по всем направлениям,
– цивилизация никогда не
260
покрывала такого большого пространства на поверхности земли, как
теперь»[444].
В конце концов она достигнет окраин обитаемого мира. Те народы, которые раньше
достигнут цивилизации, «пункта отдохновения, уготованного человечеству в ходе
его развития», они подождут других, отстающих, чтобы всем вместе пуститься в
дорогу – «к новым судьбам, к цивилизации более высокой, о которой теперь мы не
можем составить себе ни малейшего понятия. Таково общее движение человечества»[445].
Параллельно с этим внутри каждой нации совершается другое движение,
установление правовых отношений, взаимное ограничение индивидуальной свободы с
целью распространения свободы общей. Фихте подробно раскрывает главный механизм
такого правового процесса: привилегии личности, преступая меру, встречают
противодействие со стороны других; поэтому в собственном интересе уважать
интересы других людей; иначе нанесение вреда другому рикошетом отражается на
тебе самом; этот обратный толчок, неотвратимое наказание за преступление и есть
право, которое восторжествует, искореняя зло, которое люди причиняют лишь потому,
что оно полезно[446].
Резюмируя, Фихте пишет: «вот цель, вот общество, которое ожидает нас, людей, в
конце нашего земного существования»[447].
Разум говорит, что «нам дано этой цели достигнуть». И жизнь, «если бы она не
стремилась к вышеупомянутой цели, не имела бы смысла, не имела бы ничего
серьёзного»[448].
Иначе наша жизнь была бы фантастической драмой, издевательством злого гения.
«Но это не так. На земле мы имеем также цель – цель, которой и достигнем»[449].
Настойчивость, с которой Фихте говорит о достижении цели истории, рельефно
подчёркивает отличие этой его идеи от беско-
261
нечного прогресса культуры в первый период развития его философии.
Теперь земной прогресс конечен.
Но это не означает конца развития, оно продолжается, но уже в другом мире.
«Предполагая, что осуществление такого усовершенствованного общества
совершилось, – что затем останется делать на земле человечеству?...»[450].
«Если все поколения ... находились на земле для того, чтобы достигнуть
вышесказанной цели, тогда для чего, для какого дела будут продолжать
нарождаться новые поколения?»[451].
Ответ в том, что после достижения окончательной цели человечества как общества
на земле должна появиться другая цель, к которой «начнёт человечество снова
своё странствование»[452].
Другой мир, в который перейдут люди, – это царство чистых воль, объединяемых
большой Волей, то есть Богом. Соответственно конечная «другая цель» человека –
это действие воли в полном согласии с Волей Бога[453].
Переход от земной к небесной жизни – вполне известный и банальный для верующего
и для Фихте как человека религиозного. Для нас здесь важно другое: обосновывая
переход, он делает теоретическое открытие: выявляет и формулирует
фундаментальную проблему, связанную с противоречием свободы и необходимости,
которую (проблему) Э.Ганс считал основной в философии истории.
Суть её в следующем. «Наибольшее число лучших моих детерминаций или решений
потеряно для мира; они исчезают как дым. Часто намерения мои, те намерения,
которые мне удаётся осуществить, приводят к результату, совершенно отличному от
результата ожидаемого». С другой стороны, случается, что презренные страсти
ведут к хорошим результатам. «Не покажется ли, с этой точки зрения, что добро,
которое делается на этой земле, есть не что иное, как внешнее проявле-
262
ние силы невидимой, неизвестной, повинующейся своим собственным
законам, – проявление, на которое людские пороки и добродетели не могут иметь
влияния... Не покажется ли, что эта внешняя сила, поглощая, в водовороте своей
деятельности, деятельность, которую люди развивают в добре и зле, заставляет
последнюю безразлично содействовать её (силы) собственной цели, – какова бы при
этом ни была цель, поставленная себе самими людьми в их деятельности, тогда,
когда они начинали действовать?»[454].
В итоге «цель, которую мы должны достигнуть, оказывается гораздо менее нашей
целью, чем целью общей силы, правящей нами без нашего ведома»[455].
Но тогда, может быть, следует передать и нас самих в руки этой силы и не
вмешиваться в ее деятельность?
Если положительно ответить на этот вопрос, мы получим тот тип философии
истории, который классически представлен у Ж.Б.Боссюэ, французского епископа
(1627-1704), в его «Рассуждении о всемирной истории», согласно которому всеми
действиями людей, и самыми незначительными, в конечном счёте правит провидение.
Это чисто религиозная философия истории и никакой «диалектики» индивидуальной
деятельности и божественной необходимости здесь нет, нет и проблемы.
Фихте живёт совсем в другую эпоху, когда деятельность людей приобрела
значительный вес и ценность, и её участие в мировом процессе отрицать уже
нельзя. Поэтому на поставленный вопрос о передаче «нас самих» в руки
неизвестной силы он отвечает отрицательно: «Но я этого не хочу, и не захочу никогда»[456].
Здесь сходятся в одном процессе две силы: человеческая и божественная, и хотя
вторая бесконечно превосходит первую, Фихте не согласен с предопределением.
Бог, который стоит над человеком, в то же время есть кдк бы продолжение его.
Точка соприкосновения между ними есть закон
263
долга, а закон самого невидимого мира есть Воля[457].
Связь воли большой и малой Фихте поясняет так: «Эта всеобщая воля связывает
меня с собою, связывает меня со всеми мне подобными, она есть именно общая
связь всего, что существует»[458].
И далее «основной закон невидимого мира» поясняется так: это – «система многих
индивидуальных воль, союз и непосредственное взаимодействие многих
самостоятельных и независимых воль, взятых вместе»[459].
Такое противоречивое толкование человека и его деятельности Фихте переносит
и в «другую жизнь», развивает странную идею, что, возможно, и там цели человека
будут несоизмеримы с его силами, а добрые намерения потерянными для нас –
«разум не преминет тогда открыть нам тотчас же третью жизнь [!], где
упоминаемые добрые намерения второй жизни должны будут принести свои плоды»[460].
Это – «третий период нашего предназначения»[461].
Здесь и далее Фихте тонет в религиозной фантастике, объективной и здоровой
основой чего, однако, является некоторая «равномерность» Бога и человеческих
действий и сил, которые, вследствие этого, никак не могут потонуть в Воле Бога.
Здесь бесконечность прогресса выступает как движение через разные периоды уже
не земной жизни.
Что же касается жизни земной, то та её последняя цель, которую Фихте в
первый период творчества считал недостижимой, такой, к которой человек может
лишь бесконечно приближаться, теперь, во второй период, достигается и
преодолевается и уже не является конечной целью. «Установление всеобщего мира
между людьми, – писал он, – не кажется уже мне конечной целью настоящего мира;
не более кажутся мне таковою целью слияние всех народов в один народ, в
264
громадную ассоциацию, или в громадное общество; или же – владычество
человеческого рода над неодушевлённою природою, – владычество, возросшее до
того, чтобы оказываться безграничным и не встречающим уже более препятствий»[462].
Оценивая идею Фихте о связи свободы деятельности и объективности,
необходимости, отметим следующее.
Во-первых, это не частная проблема, а фундамент всей системы, к ней в
конечном счёте стягивается и теоретическая, и практическая философия Фихте, в
том числе, как мы видели, и его философия истории. Она не оставалась неизменной
в ходе его научной и практической жизни. В первый её период перевес был за
свободой. В письме к К.Л.Рейнгольду (1758-1823) Фихте писал: «Моя система от
начала до конца есть лишь анализ понятия свободы, и этому понятию в ней ничто не
может противоречить, так как в неё не входит никакой другой элемент»[463].
Однако такой элемент всё-таки присутствовал: «не-Я» Фихте так и не смог
растворить в «Я». Объективная сторона, имевшаяся с самого начала, постепенно
разрасталась, так что во второй период деятельности Фихте сам осознал здесь
глубокую проблему. Объективность истолковывалась религиозно-идеалистически, но
это не меняет сути дела. Поэтому получается: ввиду разрастания объективного
элемента в ходе развития учения Фихте, всё оно постепенно и всё более осознанно
стягивалось и направлялось к этому наиболее глубокому корню его мышления.
Во-вторых, до Фихте решение данной проблемы дал Б.Спиноза. У него свобода
есть познание необходимости. Фихтеанская постановка проблемы двояким образом
отличается от неё. У Спинозы свобода есть согласие, совпадение с необходимостью
вещей – через их познание, у Фихте – противоречие свободного человеческого
начала и внешней необходимости.
265
Второе отличие состоит в том, что у Спинозы свобода достигается
через теоретическую познавательную деятельность, у Фихте – через практическую,
моральную: связь свободы и необходимости осуществляется не через мышление, а
через нравственный закон – «закон долга».
В-третьих, свободное нравственное действие и объективная необходимость не
перерастают одна в другую, а приходят во внешнее столкновение друг с другом, и
по крайней мере в «земной жизни» они несоединимы, ибо материальный мир – сфера
причинности и необходимости, а свобода осуществляется в «другой жизни». Поэтому
материальная практическая деятельность есть сплошная цепь необходимости, и
только за её границами индивидуальная воля и свобода соединяются с высшей волей
и её необходимостью – с Богом.
В-четвёртых, Фихте выявил содержание и структуру проблемы, но не оформил её
категориально, в терминах свободы и необходимости. У него мы видим, как он
приходит логикой своей системы к ней, но осознаёт её лишь частично.
Полное осознание данной проблемы и её значения для философии истории
произошло у Шеллинга.
И последнее: на протяжении тысячелетий люди жили и действовали так, как если
бы существовали боги, иной мир и тому подобное. Жизнь земная и небесная были
для них одинаково реальны, а для значительной массы людей остаются таковыми и
сейчас. Вот этот почти всеобщий феномен и отразила религиозная философия
истории. Согласно закону трёх стадий О.Конта и марксизму, религия – исторически
преходящее явление. Поскольку это предсказание не оправдывается, можно
утверждать, что не существует универсальной философии истории, что значимы
различные её типы в зависимости от типов народных мировоззрений.
266
ШЕЛЛИНГ
Фридрих Вильгельм Иосиф Шеллинг родился 27 января 1775 г. в г. Леонберг близ
Штутгарта в семье дьякона. После семинарии окончил теологический факультет
Тюбингенского университета. В первых работах («О возможной форме философии», «Я
как принцип философии, или Безусловное в человеческом знании» (1795)) он был
преимущественно последователем Фихте. Но и в них заметна тенденция к
объективности, которая реализуется затем в натурфилософских работах («Идеи к
философии природы» (1797), «Первый набросок системы натурфилософии» и «Введение
к наброску системы натурфилософии» (1799)). По окончании университета Шеллинг
работал домашним учителем, а после стал профессором Иенского университета. В
Иене он сближается с романтиками (братья Шлегели, Л.Тик, Новалис) – и в его
творчестве появляется третья, едва ли не главная тенденция. В «Системе
трансцендентального идеализма» (1800) фихтеанская, натурфилософская и
эстетическая линии соединяются в целое, искусство становится завершением
системы и органоном философии. С 1806 г. Шеллинг становится генеральным
секретарём, а с 1827 г. – президентом Академии художеств в Мюнхене. В 1809 г.
публикует одно из самых глубоких своих сочинений «Философские исследования о
сущности человеческой свободы». После смерти жены Каролины (1809) у него
повышается интерес к религии, который находит своё завер-
267
шение в работе над «Философией мифологии» и «Философией откровения».
Обобщающий характер имел и курс лекций «История новейшей философии». В 1841 г.
он был приглашён в Берлинский университет, где читал лекции, направленные
против философии Гегеля, однако неудачно. Большинство работ, начиная с 20-х
гг., не завершены и опубликованы лишь посмертно. Умер Шеллинг 20 августа 1854
г.
Очерк развития основных идей
Шеллинг не создал завершённой системы, которая бы его удовлетворила. Это тем
более интересно, что он принадлежал к плеяде мыслителей, которые строили именно
системы философии, – Кант, Фихте, Гегель. Последний по этому поводу писал: «В
своих различных изложениях Шеллинг каждый раз только начинал всё с самого
начала, потому что... предшествующие изложения его не удовлетворяли и он всегда
находился в поисках новой формы; таким образом, он бросался от одной формы к
другой, не дав ни разу завершённого, вполне разработанного целого»[464].
Это правильно, но точнее следующие слова Гегеля по поводу шеллинговской
философии: «...Она ещё не представляет собой организованного, расчленённого
научного целого... Философия Шеллинга должна рассматриваться как находящаяся
ещё в процессе эволюции, и она ещё не дала зрелого плода. Мы должны поэтому
указать только её общую идею»[465].
Такую идею Гегель усматривал в единстве противоположностей идеального и
реального, субъективного и объективного, то есть конкретного, которую Шеллинг
считал, однако, постижимой не мышлением, а интеллектуальным созерцанием, что и
было основным пунктом в расхождении его с Гегелем.
С нашей точки зрения, дело обстоит следующим образом. В основе системы лежит
некоторый принцип. Если философ
268
нашёл его и удовлетворен им, он строит систему и дух его
успокаивается. При обозрении эволюции Шеллинга бросается в глаза, что он не мог
найти удовлетворительного принципа. Различные периоды его творчества
различаются именно разными принципами. Но при этом последние стоят не рядом, а
связаны генетически. Каждый из них он разрабатывает более или менее
систематически. Поэтому у Шеллинга несколько генетически связанных систем, и
его творчество в целом есть развивающаяся система. При этом возникало и немало
дисгармонического в связи различных этапов, а следовательно, и в душе, психике
мыслителя, о чём дальше мы скажем особо.
Под таким углом зрения следует выделить и этапы развития Шеллинга. Нужно
исходить из принципов, только тогда и творчество его в целом можно исследовать
и оценить принципиально. Однако, насколько нам известно, по крайней мере в
отечественной литературе, подобный подход до сих пор не осознан и не проведен
последовательно. Это объясняется тем, что в анализе немецкой классики сложилось
представление, согласно которому в учениях её представителей имеется только два
главных элемента: метод и система. Такое представление неполно, не выражает
целостную структуру и само построение систем. Когда Гегель пишет, что метод
разрастается в систему, он имеет в виду способ действия, в данном случае свою
диалектику. Но последняя должна прилагаться к некоему материалу, то есть
основе, из которой и на которой только и может вырасти система знания. Такая
основа и называется принципом. Подобная тройственность элементов – принципа, метода
и системы, приложенная к анализу историко-философского процесса, в новом свете
представляет как самый этот процесс, так и его отдельные стадии, или учения. Об
этом можно судить по одной из наших работ[466].
Там мы анализировали эволюцию не отдельных философов, а всю рассматриваемую
философию в целом.
269
Без такого подхода нельзя сосредоточить мысль на главном, основном, особенно
если речь идёт о таком мыслителе, как Шеллинг, творчество которого развивается
с повторами, возвратами, переходами от философии к мифологии, религии,
искусству и т. п. Пестрота процесса скрывает ариаднину нить развития, затрудняет
раскрытие логики творчества и его периодизации. Такой большой знаток Шеллинга,
как А.В.Гулыга, пишет: «Условно в творчестве Шеллинга, на наш взгляд, можно
выделить три периода: ранний (до 1801 г.), средний и (начиная с 1832 г.)
поздний, «закатный»[467].
Условно можно, ибо так развивается любой живой организм, однако, в силу
всеобщности, это не выражает специфики данного феномена.
Ведь до 1801 г. Шеллинг пережил уже несколько периодов, характеризующихся
особыми принципами, хорошо известными и А.В.Гулыге. До 1796 г. он следует
субъективному принципу Фихте, анализирует «Я», субъект как принцип философии. С
1797 г. обращается к принципу объективному, начинает разрабатывать
натурфилософию. В 1800 г. Шеллинг их объединяет, строит более широкую систему,
в которую входят две основные философские науки – трансцендентальный идеализм и
натурфилософия. Целое здесь состоит как бы из двух частей, но между ними есть и
внутренняя связь. Главная задача первого состоит в показе, прослеживании того,
каким образом и по каким ступеням совершается развитие от субъективного к
объективному, аналогичная задача второй – обратное восхождение объективного в
субъективное. Этот двойной переход наталкивает его мысль на вывод, что обе
противоположности и оба до сих пор порознь рассматривающихся принципа едины в
своей основе, и мышление приближается к этой основе.
Так подготавливается следующий период и характеризующий его принцип
тождества идеального и реального, субъективного и объективного. В 1801 г.
Шеллинг предлагает
270
«Изложение моей философской системы», в которой две основные науки
уже образуют одно целое, которое и строится на новом принципе – тождества.
Последнему посвящён, далее, диалог «Бруно, или О божественном и природном
начале вещей» (1802), а затем курс лекций, прочитанных в Вюрцбурге (1804), в
которых новое изложение системы содержит уже три части: всеобщая философия
(изложение принципа тождества), натурфилософия и «конструкция идеального мира».
К «философии тождества» относятся и «Штутгартские беседы» (1810).
В этом процессе есть живая логика. До тех пор, пока субъективное и
объективное существовали как бы рядом, их единство лишь просматривалось, но ещё
не было раскрыто и сформулировано, главный интерес состоял в том, чтобы их
объединить. Такое объединение требовалось указанными переходами субъективного в
объективное и обратно. Они же образовали тот путь и способ, по которому Шеллинг
продвинулся в их единую основу. Но теперь, когда последняя открыта, интерес
становится обратным. Он направлен на исследование того, каким образом, в каком
виде в этой основе, принципе, присутствуют снятые противоположности. Ведь тождество
не может означать, что обе они есть одно и то же. Такое прямое отождествление
умертвило бы живую реальность, и природу, и дух. Иначе говоря, раньше Шеллинг,
исходя из различий, искал их тождество, теперь в тождестве он ищет различия,
или зародыши различий, которые затем развиваются в явлениях мира. Он сводил
субъективное и объективное к тождеству. Теперь, напротив, он выводит их из
него. «Абсолютная идентичность не может сама по себе бесконечно познавать, не
полагая сама себя бесконечно в качестве субъекта и объекта»[468].
То, что единство идеального и реального существует, есть факт. Его можно
наблюдать в человеке, в животных, где он
271
представлен в их двойственном, материально-духовном строении. Такое
единство не наблюдается в неорганической природе, но это может быть из-за
слабого развития идеального начала. Но оно имеется в действительности. Шеллинг
здесь стоит на той же точке зрения, правда, оформленной иначе терминологически,
что и П.Т.Шарден в «Феномене человека», согласно которому на всех стадиях
эволюции мира есть материальное и психическое, только в разной степени
концентрации и сложности. У французского мыслителя, разумеется, эволюция –
более разработанное понятие, чем у Шеллинга.
Понятие тождества идеального и реального – одно из самых сложных в учении
Шеллинга, да и в целом. Кроме того, сам термин вводит в заблуждение. Шеллинг
писал, что он лишь один раз, в предисловии к первому изложению своей системы,
назвал её системой абсолютного тождества, для того чтобы указать на то, что
здесь пойдёт речь не об односторонне реальном или односторонне идеальном, а об
их единстве. «Однако и это наименование было дурно истолковано, и те, кто
никогда не пытался проникнуть во внутреннюю сущность системы, воспользовались
этим для того, чтобы сделать вывод или внушить недостаточно образованной части
общества, будто в этой системе уничтожаются все различия, в частности различие
между материей и духом, добром и злом, даже между истиной и заблуждением, будто
в этой системе в обычном смысле всё одинаково»[469].
А в трактате о свободе Шеллинг пишет: «Принцип закона тождества выражает не то
единство, которое, вращаясь в сфере одинаковости, не способно к продвижению и
поэтому само бесчувственно и безжизненно. Единство этого закона непосредственно
творческое»[470].
Поскольку такое тождество, возьмём ли мы его в шеллинговском или
шарденовском смысле, непосредственно не дано в
272
опыте, оно допускает множество толкований, а в зависимости от этого
меняется и характер системы, которая на нём строится. Выявить и привести в
порядок многообразие этих смыслов является ещё нерешённой (да и не
поставленной) задачей изучения философии Шеллинга. Укажем лишь на следующее. В
«Изложении моей системы философии» Шеллинг полагает, что «между субъектом и
объектом никакой противоположности в себе (an sich) (в отношении к абсолютной
идентичности) не имеется», что «между субъектом и объектом (вообще) никакое
другое, кроме количественных различий, невозможно», а ...«в отношении
абсолютной идентичности немыслимо никакое количественное различие»[471].
Это – обновление точки зрения Фихте, который также пришёл к количественному
пониманию противоположностей, – в начале системы в виде их делимости, а в
конце, чтобы их полностью синтезировать, – в виде их количественных различий.
Именно в этой работе Шеллинг и употребил название «система абсолютного
тождества», а универсум является её объектом. Шеллинг универсумом называет
абсолютную тотальность и утверждает, что «количественная дифференциация
возможна лишь вне абсолютной тотальности»[472],
то есть в её раздвоении на субъект и объект. Всё конечное определяется
перевесом субъективности или объективности и качественного различия последних[473].
Само тождество предстаёт как нечто неопределённое. Всё, что о нём говорится,
есть отрицание. Оно напоминает бога в негативной теологии Дионисия-Ареопагита.
В диалоге «Бруно» (1802) он использует термин «абсолют» и утверждает, что в
нём нет никакой двойственности, что он совершенно един, абсолют не есть ни одна
из противоположностей, а чистое тождество; он есть именно тождество идеального
и реального, мышления и бытия. Эти противоположности содержатся в нём только
потенциально, а не дейст-
273
вительно, не актуально. Поэтому к нему помимо тождества Шеллинг
применяет термины «неразличённость» и «безразличие». Познание абсолюта всегда
совершалось односторонне, откуда и возникли два главных направления в
философии. Двойственность не в нем, а лишь в рассмотрении его. Ибо если в нем
рассматривают реальное, то возникает реализм, если идеальное – идеализм. А в
нем самом они неразличимы, ни одно не имеет перевеса. И Шеллинг предлагает иное
понимание философии, в котором она лишена какого бы то ни было противоречия.
Она представляет абсолютное познание. Тех же, кто превращает мышление как
таковое в начало и противополагает ему бытие, он называет новичками в философии[474].
Мы привыкли к тому, что вся история философии развивается в борьбе
материализма (реализма) и идеализма, что сам Шеллинг идеалист и т. п. Поэтому
кажется странным, что он оба направления считает односторонними, возражает
против превращения мышления в начало, основу действительности. Для него истиной
является единство двух начал. Как противоположности они даны в явлении – в
познании и деятельности человека, в мире конечных вещей. В основе мира, в
абсолюте, они полностью слиты в единое начало, которое Шеллинг характеризует,
как сказано, негативным образом.
Чтобы понять своеобразие Шеллинга, нужно немного отвлечься от шумихи борьбы
материализма и идеализма и посмотреть на него в более широком плане, в
контексте всей истории европейской философии. Тогда мы увидим, что до него,
действительно, материалисты за начало брали материю вообще или какие-либо
вещественные образования (воду, огонь, атомы и т. п.), идеалисты – субъективный
или объективный дух, мышление и т. п. Шеллинг был первый, кто пытался
преодолеть такие односторонности, и хотя он в конечном счете является
идеалистом, постановка и разработка проблемы некоего более общего начала мира –
его выдающаяся заслуга.
274
Его учение составляет большой поворот, перелом в осмыслении основной
проблемы философии.
Такая позиция объясняется, на наш взгляд, и теоретическими причинами, ибо в
Новое время были проработаны все основные варианты реализма и идеализма, и ни
один не дал удовлетворительного решения названной проблемы. Объективной основой
здесь стало общее состояние эпохи, когда было достигнуто некоторое равновесие
субъективного и объективного, идеального и реального, сознательного и бессознательного
в человеческой деятельности. Это прямо выражается в системе Шеллинга:
деятельность у него – главное понятие, у него не только человек, но и природа
есть субъект. Во «Введении к наброску системы натурфилософии» он старается
постичь природу как продуктивность, производящую без конца и поэтому постоянно
эволюционирующую. В «Системе трансцендентального идеализма» весь процесс
познания и истории совершается через борьбу двух деятельностей –
бессознательной и сознательной, реальной и идеальной, а всё сущее покоится на
их равновесии. Эта равновесность всех противоположных характеристик
деятельности в мире, а в его основе их неразличённость, безразличие
свидетельствуют о том, что всё учение Шеллинга, во всех его вариантах есть
философское выражение соответствующих особенностей своего времени. В этом
отношении он более последователен, чем Гегель, который исследовал мышление до
природы и объективировал понятия. «Понятия как таковые в самом деле существуют
только в сознании. Следовательно, они суть объективно после природы, а не до
неё. Гегель лишил их естественного места, поместив в начало философии»[475].
Сам Шеллинг постепенно осознал оригинальность своей философии тождества, и в
«Штутгартских беседах» (1810) он характеризовал принцип тождества как
совершенно своеобразный, которого никогда ещё не было в истории философии[476].
И это правильно, именно данный принцип составляет главную
275
отличительную черту Шеллинга, даже по сравнению с его ближайшими предшественниками
– Кантом и Фихте.
Новый образ тождество идеального и реального получает в трактате
«Философские исследования о сущности человеческой свободы» (1809). Проблема
свободы порождается проблемой зла и связана с тем, что Бог создал мир и
человека. Бог не может быть причиной зла. И если свобода есть способность ко
злу, то она необходимо имеет независимую от Бога основу. А это может привести к
дуализму[477].
Здесь не могут помочь общие места идеализма, и Шеллинг разрабатывает идею,
согласно которой «Бог есть нечто более реальное, нежели простой моральный
миропорядок, и несёт в себе совсем иные и более живые движущие силы, чем те,
которые приписывают ему абстрактные идеалисты с их скудоумной утончённостью»[478].
Боязнь реального затемняет и происхождение зла. Шеллинг считает общим
недостатком всей новой европейской философии то, что для неё природа не
существует и она лишена живой основы. Такой живой основой является Бог, но не
Бог абстрактных идеалистов. Без Бога нет ничего, нет ничего и вне его; значит,
он сам в себе имеет основу своего существования, но основа эта отличается от
него: «Она есть природа в Боге»[479].
Основа вещей содержится в том, что в самом Боге не есть он сам. Это стремление
порождать самого себя. Такое стремление хочет порождать Бога. Оно есть воля,
его стремление и вожделение, в которых ещё нет света разума, поэтому данная
основа есть тёмное начало в Боге и первое проявление его бытия. Всякое рождение
есть рождение из тьмы, и это относится ко всем вещам, всей природе[480].
Каждое существо, в том числе и человек, есть единство мрака и света, слепой
воли и идеального начала. Но эти противоположности в Боге нераздельны, в
человеке – разделены. Тёмное начало приобретает самостоятельность, самость и
становится злом. Зло, грех – это
276
похоже на болезнь, когда какая-либо сила стремится быть для себя[481].
Зло не есть простое лишение или недостаток, как считали Августин и Лейбниц, оно
– положительная противоположность и так же реально, как добро. Оно появляется
из частной воли, из обособления, нарушения целого, и по отношению к добру есть
негативное. «Положительное есть всегда целое, или единство; противостоящее ему
– разъединение целого, дисгармония, атаксия (беспорядок) сил»[482].
В разъединённом целом содержатся те же элементы, что и в едином целом;
материальное (содержание) в них одинаково, но формальное совершенно различно.
Шеллинг подчёркивает, что дисгармония – это не отсутствие всякого единства, а
ложное единство. «С полным уничтожением единства уничтожается и противоречие.
Со смертью приходит конец болезни, а отдельный звук для себя никогда не
образует дисгармонию»[483].
Трактат о свободе есть и трактат о Боге. Последний есть основа всего сущего,
а в своей собственной основе он – слепая воля. Человек генетически связан с
Богом и содержит в себе два начала: «В человеке содержится вся мощь тёмного
начала и в нём же – вся сила света»[484].
Шеллинг предстаёт как критик абстрактного идеализма и разума, отделённого от
реальности. «Ибо, как мы ни чтим разум, мы тем не менее не верим, например, в
то, что с помощью чистого разума можно стать добродетельным, героем или вообще
великим человеком; не верим даже в то, что – повторяя известное утверждение –
человеческий род продолжается благодаря разуму. Только в личности есть жизнь; и
всякая личность покоится на тёмной основе, которая, следовательно, должна быть
и основой познания»[485].
И Бога Шеллинг трактует как личность.
277
Анализ трактата позволяет сделать несколько выводов. Во-первых, у Шеллинга
не было какого-то резкого перехода от собственно философии к позднейшему учению
– философии мифологии и откровения. Интерес к мифологии у него был тесно связан
с его философией искусства, определялся самой личностью Шеллинга, в высшей
степени художественной. Первая опубликованная его статья называлась «О мифах,
исторических сказаниях и философемах древности» (1793). Религия же была как
ступень эволюции духа представлена в «Системе трансцендентального идеализма», а
в рассматриваемой работе становится главным объектом анализа, и доминирующей
она остаётся и дальше.
Во-вторых, выше уже было сказано, что вся обширная система идеализма 1800 г.
построена на принципе единства и противостояния бессознательной и сознательной
деятельности. В данном сочинении Шеллинг добирается до бессознательного слепого
воления как основы мира, которая стала исходным пунктом «философии
бессознательного» А.Шопенгауэра и Э.Гартмана. При этом шеллингианский анализ
данной проблемы не есть эпизод в его творчестве. Он осмысливает её место в
структуре всей своей философии. О натурфилософии Шеллинг пишет, что «в качестве
чистой физики она могла бы существовать и для себя, но в рамках философии в
целом всегда рассматривалась только как одна, а именно реальная её часть,
способная подняться до подлинной основы разума, лишь будучи дополнена идеальной
частью, в которой господствует свобода. В ней (в свободе) ... находится
последний потенцирующий акт, посредством которого вся природа преображается в
ощущение, в интеллигенцию, наконец, в волю. В последней, высшей инстанции нет
иного бытия, кроме воления. Воление есть пра-бытие, и только к волению
приложимы все предикаты этого бытия: безосновность, вечность, независимость от
времени, самоутверждение. Вся философия стремится лишь к тому, чтобы найти это
высшее выражение»[486].
Если учесть, что сочинение
278
А.Шопенгауэра «Мир как воля и представление» появилось в 1819 г.,
следует согласиться с мнением Куно Фишера, что учение Шопенгауэра в этом
отношении не имеет оригинального характера[487].
Правда, это касается принципа, разработка же его у обоих мыслителей
своеобразная. Есть и точка зрения, что более поздняя философия Шеллинга –
вторична. Это выражено в названии сочинения Э.Гартмана «Положительная философия
Шеллинга как единство философии Гегеля и Шопенгауэра» (Берлин, 1869). Но с
точки зрения принципиальной приоритет Шеллинга в этом вопросе несомненный. И
этим принципом и его разработкой он выходит далеко за пределы собственно
немецкой классической философии, ибо в ней преобладает культ разума,
теоретического или практического; воля к бытию, жизни, а тем более к власти
стала одной из ведущих тенденций послеклассической философии. Шеллинг, таким
образом, является представителем двух разных эпох философского развития. Он не
только представляет первую эпоху, которая в лице Гегеля сделала разум высшим
началом всего сущего и его познания, но и критикует его абсолютизацию. Данная
критика – лейтмотив его курса лекций «К истории новой философии». Здесь же он
сформулировал идею двух философий – отрицательной и положительной, которая
стала предельным обобщением данной критики, обозначила выход за пределы всей
философии Нового времени.
Чтобы понять философию позднего Шеллинга, надо иметь в виду основные этапы
европейской истории философии. Таких этапов три. На первом преобладает
философия познания, сознания, разума. Он продолжается от античности до первой
трети XIX в. Затем начинается второй этап, когда философия начинает
ориентироваться на более практические и жизненные проблемы; это находит своё
выражение в философии жизни, позитивизме, марксизме. А с 20-х гг. XX в.
доминирующей становится философская антропология.
279
На первом этапе наибольшей абсолютизации философия разума достигла в учении
Гегеля, согласно которому «задача философии – постичь то, что есть, ибо то, что
есть, есть разум»[488].
За этот принцип Шеллинг и критикует Гегеля, который сделал понятия единственным
предметом философии. «Полагая, что начинать философию следует с ухода в чистое
мышление, Гегель прекрасно выразил сущность подлинно отрицательной или чисто
рациональной философии, и за его определение мы можем быть ему благодарны»[489].
Но такое чистое мышление о мышлении недействительно, как недействительна
абстрактная поэзия о поэзии романтиков[490].
Согласно Шеллингу, предмет мыслей не одни понятия, но действительность, а она
не тождественна с разумом. Логика выражает лишь необходимые формы и виды
связей, то, без чего ничто не может существовать. Однако этим самым
логическое выступает как только отрицательная сторона существования, как то,
без чего оно не может быть, но из этого «не следует, что всё существует лишь посредством
его. В логической идее может находиться всё без того, чтобы это что-либо объясняло,
подобно тому, как, например, в чувственном мире всё выражено в числе и
мере, хотя ни геометрия, ни арифметика чувственный мир не объясняют. Весь мир
лежит как бы в сетях рассудка или разума, но вопрос состоит именно в том, как
он в эти сети попал, ибо в мире, очевидно, есть ещё и нечто другое, нечто большее,
чем просто разум, даже нечто стремящееся выйти за эти пределы»[491].
Логические понятия имеют общий и необходимый характер, поэтому они не
схватывают своеобразия вещей и природы в целом, а если бы мы сделали их
порождающей причиной, то они не могли бы создать в вещах то, что выходит за
пределы их понятий, не улавливается ими. Однако, согласно Шеллингу, они такой
причиной и не являются. Понятия как
280
таковые существуют только в сознании, следовательно «после природы,
а не до нее»[492].
Логика имеет дело с содержанием того, что существует, но она не решает и не
может решить вопроса о бытии вещей, об источнике их происхождения. Поэтому
Шеллинг особенно резко критикует «переход» от логики Гегеля к его философии
природы, где логическая идея «отпускает» природу. «Выражение «отпустить» – идея
отпускает природу – относится к числу самых странных, двусмысленных и поэтому
смутных выражений, к которым эта философия прибегает в затруднительных
положениях. Яков Беме говорит: божественная свобода изрыгается в природу.
Гегель говорит: божественная идея отпускает природу»[493].
Из сочинения Шеллинга о свободе мы уже знаем, что бытие природы и человека
порождает Бог. У Гегеля Бог появляется лишь в конце его отрицательной,
логической или рациональной философии. На деле же он есть первоначало, по
уверению Шеллинга, и если бы Гегель мог показать это, «то он сам создал бы
наряду со своей первой философией ещё одну, обратную первой, которая была бы
близка тому, что являет собой предмет нашего стремления, именуемый
положительной философией»[494].
Таковой является философия мифологии и философия религии (откровения), ибо
главная проблема в них всегда та же – как создается мир волей божеств или
божества.
У Шеллинга главным было различение между сущностью и существованием. Что
представляют собой вещи в их сущности – этому учит логика, разум, а что они
существуют – учит опыт. Негативная философия идёт от мышления к бытию,
позитивная – от бытия к мышлению. Опыт у Шеллинга растворялся в религиозном
опыте. По утверждению К.Фишера, «понятие положительной философии имеет у
Шеллинга очень растяжимый характер. В узком смысле слова она складывает-
281
ся из философии христианства, а в более широком смысле – это вторая
философия, основанная на отрицательной философии, то есть на введении в
философию откровения. Наконец, в самом широком смысле слова – это философия
религии вообще, охватывающая философию мифологии и откровения. Шеллинг называет
ее также философской религией или исторической философией; она обнимает его
философию религии и философию истории»[495].
Корни этой позднейшей системы К.Фишер усматривает в работах Шеллинга,
написанных между 1809 и 1815 гг.: в учении о свободе, в сочинении о Ф.Г.Якоби,
в «Штутгартских беседах», «Мировых эпохах» и «О самофракийских божествах».
Как видим, Шеллинг не отбрасывал рациональной или отрицательной философии,
он только ограничил ее позитивной. Это напоминает Канта, который ограничил
знание, чтобы дать место вере. И действительно, две философии Шеллинга являются
далеким развитием идей Канта. Принцип их один: невыводимость бытия из мышления.
Следует добавить, что логику Гегеля он считал образцом отрицательной философии.
В системе Шеллинга ее не было. И рациональной наукой он называл натурфилософию,
хотя она включала в себя историю и человека. Задачей её было исследование
эволюции природы и ее познания, продолжавшееся до той поры, пока не откроется
Бог как основа мира. Это создавало переход к положительной философии, в которой
раскрывалась история творения мира, отпадения человека от Бога и возвращения к
нему.
Структурно система позднего Шеллинга была объединением двух философий: к
«Философии мифологии» он написал два введения. Одно было историко-критическое,
оно замечательно тем, что здесь впервые в истории науки Шеллинг опроверг
поэтическое и аллегорическое толкование мифов, которые, считалось, были
измышлены сознательно с целями художественными или для морального назидания.
Применив свою идею о бессознательной деятельности к
282
процессу создания мифов, мыслитель сделал открытие, что мифы
создавались стихийно, независимо от сознательной воли, как это и было в
действительности. Миф был истолкован не как форма сознания, но как форма бытия.
Вторым было философское введение, оно называлось «Изложение чисто
рациональной философии». На него Шеллинг потратил массу усилий, но с малым
успехом, и оно так и осталось незавершённым. Было разработано и введение в
философию откровения под названием «Обоснование положительной философии». О
философском аспекте его сказано достаточно. Что касается аспекта религиозного,
то его подробное освещение можно найти в цитированной книге К.Фишера[496].
Здесь же мы сделаем три замечания.
Первое касается исторического факта. В 1832 г. Шеллинг впервые прочёл курс
позитивной философии. В 1830-1842 гг. опубликован в 6-ти томах «Курс позитивной
философии» О.Конта (1798-1857). Между Шеллингом и Контом есть не только
различие, но и известное сходство. Различие в том, что позитивная философия
Конта сводится к математике, естествознанию, социологии, в общем к
специально-научному знанию. Социально-историческое и духовное развитие он
подчинил «закону трёх стадий»: теологической, метафизической и позитивной.
Первая объясняет сущее сверхъестественными силами, вторая заменяет их
«сущностями» и «причинами»; задача же позитивной философии – познавать законы
явлений, их сходства и последовательности, не стараясь проникнуть в сущность
вещей. Такова установка Конта в первый период его творчества, до середины 40-х
гг., и она значительно отличается от шеллинговской точки зрения, которая ни
метафизики (отрицательной философии), ни религии не отбрасывает. Но и здесь
есть некоторая общая тенденция у обоих мыслителей. И тот и другой приходят к
позитивной философии вследствие недовольства чисто рациональной философией, так
что отталкивались они от одного явления, но результат получился различный.
283
Однако во второй период жизни и творчества О.Конт впал в «религию
человечества» и мистицизм; помимо теоретического обоснования новой позиции (в
«Системе позитивной политики», 4 тома, 1851-1854) он сочинял молитвы, установил
84 праздника в год, составил «библиотеку позитивиста» из 100 книг, всю
остальную литературу предлагал сжечь, и т. п.[497]
Таким образом, Конт преобразовал философию в религию, проделав путь,
аналогичный развитию Шеллинга, но в своём итоге духовно бесконечно более
бедный, чем у немецкого философа. Это была тенденция эпохи – отказ от
самодостаточности разума, который уже показал свои слабости в социальной
истории (в отношении к природе он проявит их позже, когда «чистый разум»
окончательно загрязнит её и породит экологические проблемы). С 30-х гг. XIX в.
в Европе начинается процесс, который также выражается законом трёх стадий,
однако в обратной последовательности: наука – метафизика – религия.
Второе наше замечание касается оценки религии. Её можно признавать или не
признавать, но в обоих случаях она является таким же фактом
социально-исторического и духовного развития, как и всякий другой. В качестве
такого факта её и следует изучать и в религиеведении, и в философии религии.
Шеллинг в этом плане внёс много нового. Как и в философии мифологии, так и
здесь он исходил из принципа бессознательной деятельности, который противостоял
упрощённому рационалистическому представлению XVIII в. о религии как
сознательном обмане и концепции трёх обманщиков (Будды, Христа и Магомета),
изобретателей мировых религий. Полемизируя с Кантом, он был не согласен с
идеей, выраженной в названии одного из его трудов «Религия в пределах одного
разума», правильно считал, что на основе одного разума она не строится.
Религиозный дух отличается и от философии, и от морали, он совершенно
284
своеобразен – мотив, детально разработанный С.Кьеркегором
(1813-1855).
Третье замечание – о характере развития Шеллинга. С современной точки
зрения, следует отказаться от мысли Гегеля о том, что он беспорядочно бросался
от одной формы развития своих мыслей к другой. Из нашего анализа видно, что в
развитии Шеллинга была глубокая жизненная логика. Переход от принципа к
принципу и, соответственно, от системы к системе лишь по видимости, на
поверхности казался беспорядочным, тем более в начальные периоды созревания
Шеллинга. Взятое в целом (а при жизни Гегеля его ещё не было), оно представляет
скорее процесс присоединения разработанных предшествующих частей к последующим.
В 1836 г. на вопрос писателя Н.А.Мельгунова, исключена ли натурфилософия из его
новой системы, Шеллинг ответил отрицательно, пояснив, что она составляет пятую
часть системы вместе с историко-философским введением, позитивной философией,
философией мифологии и философией откровения[498].
Можно сомневаться в частностях этого сообщения, но преемственность в развитии
немецкого философа является несомненной. А её специфику следует искать прежде
всего в характере, в личности, а не только в чисто философском разуме.
Принципы философии природы
Шеллинг исходил из положения, что всякое знание зиждется на соответствии
между объективным и субъективным. Совокупность всего чисто объективного он
называл природой, а совокупность всего субъективного – «Я» или интеллигенцией
(не в смысле сословия, а в смысле интеллекта). Понятия эти противоположны друг
другу; в субъективном имеем дело с осознанием, а в объективном, природе – с
бессознательным – «и вот задача в том, как объяснить это сочетание»[499].
285
Поскольку в знании эти факторы нераздельны, нельзя одно считать
более первичным, чем другое. Поэтому в целях объяснения их единства можно
исходить или из одного, или из другого. Если за первичное принять субъективное,
тогда задача будет в выяснении того, откуда берётся согласующаяся с нею
объективность. Её решает трансцендентальная философия. Если же за первичное
принимается объективное, природа, тогда спрашивается, как привходит сюда
субъективное, согласующееся с нею. Решить этот вопрос – задача натурфилософии.
Таким образом определяются две необходимые первонауки философии[500].
Чтобы уяснить значение натурфилософии, важно знать её место в системе, ибо,
по мнению Шеллинга, место в системе есть единственное объяснение явлений. В
системе Шеллинга такое место ясно из сказанного. Но философия природы имеет и
более широкий смысл как определённый способ познания. Она занимает
промежуточное положение между эмпирическим знанием и теорией и представляет собой
систему знания, построенную на недостаточном фактическом основании, вследствие
чего оно дополняется умственными конструкциями.
Философия природы образует необходимую ступень познания. В отношении истории
это ясно (натурфилософия ионийцев, Платона, пифагорейцев, Дж.Бруно, Б.Телезио и
др.).
Но то же, с видоизменениями, касается и современности. Мы привыкли считать
философию природы далёким прошлым. Но если взять развитие какой угодно
современной теории, то обнаружим в ней натурфилософскую ступень. Опыт познания
может только лишить её самостоятельного значения, но не устранить вообще.
Вспомним такую передовую теорию, как теория относительности, и те модели мира
(расширяющиеся, цилиндрические, конечные, бесконечные), которые построены на
ней, и мы увидим натурфилософский характер этих моделей. Примеров можно было бы
набрать
286
много. Дело не в них, а в том, что мышление не плетётся за фактами,
оно строит на них теории, опережает их и всегда быстро или медленно пробегает
ступень философии природы. Это ясно: если бы в теориях не было ничего ложного,
внесённого мышлением и воображением, то они были бы неизменны, абсолютны,
совершенно объективны. На деле каждая из них есть сплав фактов и мышления,
воображения.
Можно отметить ещё, что, поскольку сейчас натурфилософия потеряла
самостоятельное значение, какое имела у Шеллинга, Гегеля и других философов,
она рассматривается не как абсолютная форма знания, а как относительная,
условная, преходящая. Она поэтому, как правило, сливается с гипотезой, является
предположительным знанием. Автор заранее знает, что развиваемая им система
мыслей есть ещё умственная конструкция, требующая подтверждения. У Шеллинга и
других она имеет, наоборот, характер противоположности гипотетическому знанию.
Философия (в том числе и натурфилософия) имеет у них абсолютный характер.
Сказанного, однако, недостаточно для понимания специфики натурфилософии.
Основной вопрос или (если рассматривать его не отдельно от других вопросов, а
как закон, который своеобразно действует и в них) принцип философии есть
единство мышления и бытия. Поэтому и натурфилософия исследует его. Она именно
изучает это единство в историческом плане: «как природа приводит к разуму», как
она приходит к осознанию самой себя. Этим она резко отличается от «философских
вопросов естествознания», которые имеют дело просто с общими темами той или
иной науки. Только философские вопросы «наук о духе» – психологии, антропологии
– обсуждают ту же проблему. Собственно же естественные науки – физика, химия,
механика – совершенно не касаются таких вопросов. На наш взгляд, это
объясняется ещё слабым развитием естествознания. Мы выросли настолько, что
отбросили натурфилософию шеллинговского типа, но не настолько, чтобы научно
решать поставленные ею вопросы. Между тем ясно, что если «дух» свалился не с
потолка, а развился в хо-
287
де развития материи, то надо исследовать историю развития природы от
низших её форм к высшим, в плане становления человеческого духа, найти, что
есть в фундаменте самой материи такого, что является основанием и возможностью
духовной жизни. Без этого, так или иначе, сознание, мышление людей будет
оставаться чудом.
Большая заслуга Шеллинга в том, что он поставил этот вопрос. Не сумев его
решить, Шеллинг всё же открыл несколько важных диалектических закономерностей,
касающихся природы, и имеющих значение принципов его натурфилософии. Каковы эти
принципы?
I. Принцип тождества сознания и бытия. Природа, – пишет Шеллинг, –
как в целом, так и в частях, «должна представляться в качестве сознательно
созданного произведения и одновременно с этим – результатом самого слепого
механизма...». В работе «Всеобщая дедукция динамического процесса или категорий
физики» (1800) он пишет: «Употребляя наш способ выражения, мы можем сказать
таким образом: все качества суть ощущения, все тела – воззрения природы, сама
же природа со всеми своими ощущениями и воззрениями является, так сказать,
оцепеневшим мышлением». Природа – продукт, создаваемый бессознательно, а потому
объективный и, по-видимому, не зависит от мышления. На деле, как уже говорилось,
это может относиться только к продуктам труда человека. Шеллинг, следовательно,
воспринимает всю природу «в форме труда». Приведём ещё яркие его высказывания:
«все силы вселенной сводятся в конце концов к силам представляющим»[501],
«на деле материя не что иное, как дух, созерцаемый в равновесии своих
деятельностей»[502].
Шеллинг видит различие духа и природы лишь в том, что дух – деятелен, природа
же выступает как нечто внешне устойчивое. Этот покров надо сорвать и тогда
предстанет истина. «Именуемое нами природой – лишь поэма, скрытая под оболочкой
чудесной
288
тайнописи. Но таинственность эта станет доступной для разоблачения,
если только мы постигнем Одиссею духа, который, влекомый изумительными
наваждениями, себя же теряет»[503].
Постичь Одиссею духа значит постичь историю, становление от начала до конца.
Шеллинг пришёл к идеалистическому трактованию тождества мысли и бытия,
исходя из вопроса: как возможно познание? Познание есть факт мира. Задача
философии – показать условия его возможности. Он пришёл к выводу, что если
природа – не продукт духа, то она не может быть и объектом духа, не может быть
познаваема. Он полагал, что если бы, скажем, в «Я» изначально не было «не-Я»,
то после его вхождение было бы необъяснимо. Шеллинг правильно мыслил, что точка
зрения дуализма не даёт возможности установить связь субъекта и объекта. Но
надо сказать, что дуализм был не простой выдумкой. Исторически сознание
возникает из развития природы. Так что они не изначально тождественны, хотя
здесь остаётся проблема в том, какова предпосылка сознания в бессознательной
природе. Кроме того, человек, выделившийся из природы, противостоит ей также и
внешним образом; отделяется от неё и мышление, что выражается в способности
абстрагирования и т. д. На этом и возникает дуализм. Поэтому на протяжении всей
истории философии стоит вопрос: как относится наш дух к миру, природе,
как они связаны?
Факт таков: сознание и мир связаны друг с другом. Проблема в следующем: как
возможна такая связь? Решение Шеллинга сводится к тому, что факт
увековечивается: эта связь изначальна. Вообще всякая натурфилософия заменяет
реальные связи (часть из них) умственными конструкциями. Когда Эмпедокл
старается из четырёх стихий построить мир, он свои мысли превращает в нечто
объективное, делает самим миром, хотя и не осознаёт этого (у Шеллинга это
выражается как бессознательное творение природы); то же делает Б.Теле-
289
зио, строя природу из тепла и холода. То же делает и Шеллинг.
Однако, несмотря на это, его философия природы существенно отличается от их
натурфилософии. Первая имеет материалистический характер (исходит из
материальных элементов действительности), вторая – идеалистический (само
мышление рассматривается в качестве основы мира).
Если согласиться с принципом древних философов, согласно которому из ничего
ничто не возникает, то бесспорно, что не будь материального мира изначально, он
и не возник бы, потому что, как правильно полагал И.Кант, в пустом времени нет
предпочтительного момента для возникновения мира. С идеальным или психическим
дело обстоит сложнее, поскольку оно является как свойство тела, которое
исчезает с его разложением. Но вопрос остаётся: может ли возникнуть психическое
в материи, если в ней нет каких-либо зачатков, сходных с ощущениями? Д.Дидро,
Э.Геккель, П.Т. де Шарден и другие негативно отвечают на этот вопрос. Их предположение
напрашивается логикой рассуждения, однако его пока нельзя ни доказать, ни
опровергнуть, и человек выбирает возможности в соответствии с положением Фихте:
каков человек, такова и его философия.
Понять, что такое дух и его связь с материей, значит открыть его Одиссею.
Это ведёт нас к следующим принципам Шеллинга.
II. Принцип полярности. Натурфилософия Шеллинга имеет не только
идеалистический, но и диалектический характер. Основным диалектическим
принципом является принцип полярности. Первый принцип философского учения о
природе, полагал Шеллинг, состоит в том, чтобы сводить всю природу к полярности
и дуализму. С его точки зрения, «закон полярности есть всеобщий закон
мироздания»[504];
поэтому «всеобщий дуализм в качестве принципа всякого объяснения природы –
столь же необходим, как и понятие самой
290
природы»[505].
Он называет данный принцип «способом действия природы» и считает его
универсальным законом мира. В соответствии с этим Шеллинг зафиксировал и описал
все основные противоположности природы: а) притяжение и отталкивание в
механике; б) полюсы магнита (сам принцип берёт начало в основном от
магнетизма); в) положительное и отрицательное электричество; г) кислород и
радикал, кислота и щёлочь, ассоциация и диссоциация – в химии; д) возбуждение и
усталость, чувствительность и раздражимость в живом организме, поглощение и
выделение кислорода (животное и растение).
Согласно учению Шеллинга, противоположности возникают из единого и стремятся
к объединению. Тождественное противополагает себя, раздваивается (пример
электричества и магнетизма), а противоположное стремится к объединению.
Он выделяет три основных формы борьбы противоположных сил:
а) борьба угасает в продукте, силы приходят в равновесие; б) равновесие
нарушается, и тела, выведенные из покоя, стремятся восстановить равновесие сил;
в) равновесие не восстанавливается, а всё вновь нарушается, и потому борьба сил
остаётся постоянною.
Продукт первой формы борьбы – мёртвое тело; второй – химический процесс;
третьей – жизнь. «Равновесие этих сил закрепляется в телах, оно нарушается и
восстанавливается, оно нарушается и постоянно встречает препятствие к
восстановлению; в первом случае продукты имеют механический, во втором –
химический, в третьем – органический характер»[506].
На вопрос, почему природа создаёт равновесие сил (продукт) и снова его
нарушает, ответ Шеллинга таков: силы
291
возникли из единого через раздвоение. Природа поэтому всё время
стремится к этому единству. Но каждый продукт – не абсолютное единство, а
относительное, поэтому происходит новое нарушение единства, и т. д. Единство до
раздвоения на противоположности Шеллинг называет тождеством, после –
индифференцией. Посредине же находится дифференциация на противоположности. Вся
история природы движется, в соответствии с этим, через три основных этапа: 1)
тождество, 2) дифференциация, 3) индифференция.
Так как основные противоположности у Шеллинга – субъективное и объективное,
то вся действительность в её движении выглядит так:
Здесь А – субъективное,
В – объективное,
+ – перевес того или другого,
+
(А = В) – реальный ряд – природа,
+
(А = В) – идеальный ряд – дух.
Развитие идёт от реального ряда к идеальному, от
+ +
(А = В) к (А = В).
Всё в мире – единство субъективного и объективного. Различия проистекают
из-за количественного перевеса того или другого элемента. Но если взять всё, то
перевеса нет, получается, по Шеллингу, тождество. Приведённая выше схема –
основная формула системы Шеллинга[507].
Её диалектическое развёртывание называется методом потенцирования.
292
Потенция – это единство субъективного и объективного с перевесом того или
другого. Потенцированное по сути значит дифференцированное, раздвоенное.
Потенцирование идёт от максимума объективности к максимуму субъективности.
Между ними обратно пропорциональное отношение – чем больше одной, тем меньше
другой. Таким образом, у Шеллинга мы имеем количественное понимание диалектики
как у Фихте. В этом пункте Шеллинг в принципе не преодолел ограниченности
фихтеанской диалектики. Мир, по его учению, – ряд потенций, возвышение от
минимума субъективности к максимуму её. Формула Шеллинга изображает весь процесс
мира. Ряд ступеней или потенций начинается материей и кончается истиной и
красотой – познающей и создающей мир субъективностью. Весь мир – магнит, у
которого два полюса: материя и произведение искусства. Поэтому когда Шеллинг
говорит, что магнетизм – общее свойство тел, то здесь фиксируется не только
диалектичность магнита наряду с электричеством и т.д., но магнетизм оказывается
диалектическим принципом всего мира, в том числе и других форм (вроде
электричества).
У Шеллинга мы видим абсолютизацию количества. Весь мир – совокупность
количественных различий. Это высокая точка зрения. Контрастные цвета, например,
оказываются, если взглянуть глубже, количественными различиями световых
колебаний. Также громкость и тихость, свет и темнота. В этом смысле уже Фихте
между тьмою и светом видел различие количества. Качество – первая ступень
постижения явлений. Постольку мысль Шеллинга – ступень более глубокая. Но ещё
выше мера, а тем более сущность. В диалектике последняя есть диалектическое
отрицание, которое отсутствовало ещё у Фихте и которого нет пока и у Шеллинга.
Диалектика отрицательности – это специфически гегелевская форма диалектики.
В методе потенцирования Шеллинга надо отметить сторону, которую подверг
критике Гегель. Потенция – это ступень. Развитие идёт от ступени к ступени.
Каждая потенция есть
293
основание высшей. Первая снимается во второй, то есть в известной
мере сохраняется. Поэтому у Шеллинга магнетизм и электричество имеют место и в
организме, субъективное и объективное тоже есть везде, но в разных потенциях.
Это привело Шеллинга и особенно его последователей к формализму, к чрезмерной
абсолютизации аналогий, когда говорили, что «рассудок есть электричество»,
«животное есть азот», «раздражимость есть электричество» (на основе
гальванизма) и т. п., или же: музыка есть субъективное, живопись – объективное
и т.п., – причём забывали своеобразную природу той или иной вещи и воображали,
что если наклеили ярлык «субъективность» или «магнетизм», то предмет познан.
Гегель дал суровую критику этих «поверхностных аналогий», требуя изучения
внутренней жизни и самодвижения вещей, а не схематического «раскладывания всего
по полочкам», он считал такое познание искусственной конструкцией, таблицей,
схемой, не добирающейся до сути дела, скользящей по поверхности[508].
Впрочем, сам Гегель не всегда мог избежать аналогий и внешнего
схематизирования.
Шеллинг выделял абсолютное и относительное тождество противоположностей.
Последнее имеет место в видимом мире, первое – в его основе – абсолюте.
Абсолютное единство противоположностей – потенциальное, имеющееся в
возможности, а не актуально, не действительно. Абсолютное знание стремится к
снятию противоположностей. Абсолютный идеализм возвышается над
противоположностью: это – философия без всякой противоположности, абсолютная
философия. То есть в тенденции абсолютная философия метафизична, а не
диалектична. Да, для Шеллинга это естественно; мышление, которое раздваивает
всё, обусловливает и т.д., не может охватить абсолют. На это способно лишь
интеллектуальное созерцание и воображение. Иррациональное для него выше
рационального. Здесь заложен корень борьбы Шеллинга с гегелевской
294
логикой, которую он считал «отрицательной системой» и в противовес
которой стремился создать позитивную (христианскую), основанную на вере
философию.
Всё же, несмотря на указанные выше недостатки Шеллингова учения, он сделал
много для распространения диалектики на понимание всей действительности. В
работе «Мировые эпохи» он писал: «Конструирование этой противоположности
(идеального и реального) составляет высшую задачу науки. Поэтому упрёк в том,
что наука начинается с противоречий, нисколько не беспокоит философа; он
относится к подобным упрёкам так же, как автор трагедии, которому зрители,
познакомившись со вступлением, заметили бы, что такое начало может привести
только к страшному концу, жестоким деяниям и кровавым событиям, именно он ответил
бы, что таково и было его намерение»[509].
Шеллинг был не первым, кто пытался исследовать противоположности в природе.
Вспомним Николая Кузанского и Дж.Бруно, Спинозу и др. Особенность Шеллинга
заключается в том, что его диалектика не статична, а динамична. Принцип
полярности, распространённый на весь мир, описывает его не как готовый, а как
становящийся, переживающий историю. Диалектика Шеллинга имеет исторический
характер.
III. Принцип историзма. Поскольку для Шеллинга природа не дана, а
создана, она имеет историю. Вся природа, с его точки зрения, должна быть единым
всевозникающим продуктом. «...Природа в качестве бесконечной продуктивности
должна ... мыслиться находящейся в процессе бесконечной эволюции», а
«устойчивое пребывание продуктов природы, например, органических, пребывание их
в покое следует представлять не как абсолютный покой, а как эволюцию с
бесконечно малой скоростью...»[510].
У Шеллинга понятие истории резко отличается от прежних его толкований.
«Естественная история» Плиния Старше-
295
го означала описание множества явлений часто без связи друг с
другом, подобно тому как «истории» Геродота и др. означали просто «рассказы» о
событиях, повествование. Ещё у Канта можно встретить отождествление истории,
исторического и эмпирического. Только в его работе «Естественная история и
теория неба» (1755) история получает смысл становящегося, развивающегося
явления. Эта тенденция поднята Шеллингом на уровень принципа.
«Противоположность между эмпирией и наукой покоится на том, что первая
рассматривает свой объект в бытии как нечто завершённое, произведённое, вторая,
напротив, видит свой объект в становлении как нечто такое, что ещё только
должно быть произведено»[511].
Это и есть «подлинная история природы»[512].
Образно он пишет об этом: «На большом обелиске в Риме можно увидеть изображение
всей мировой истории; так же и в каждом продукте природы. Каждый минерал –
фрагмент летописи Земли. Но что такое Земля? Её история вплетена в историю всей
природы; и единая цепь тянется от окаменелости через всю неорганическую и
органическую природу вплоть до истории универсума»[513].
В истории природы Шеллинг выделяет три этапа: 1) абсолютное тождество
субъективного и объективного; 2) дифференциация его и 3) индифференция. Если
освободить это движение от абсолюта, получим историю мира и человека: 1)
природа «в себе» (до человека), полное безразличие (отсутствие) субъекта и
объекта (ибо природа здесь не является предметом деятельности); 2)
самораздвоение (дифференциация) природы на самое себя и свою противоположность
(человеческое общество); 3) рано или поздно человек с его сознанием исчезнет
(«всё, что возникает, достойно гибели», – говорит Гёте), раздвоение сменится
индифференцией.
IV. Принцип системности. Уже из понятия натурфилософии вытекает, что
она есть вид систематизирующего знания.
296
Она берёт действительность не в виде агрегата, суммы, кучи вещей,
свойств, законов и т. д. – так поступает эмпирическое знание, а в виде
целостного образования, в необходимом единстве. В известной мере надо сказать,
что системность натурфилософского характера тяготеет к абсолютности; в отличие
от науки, она подавляет фактическую сторону дела или заменяет её. Прогресс
знания состоит, как правило, в устранении абсолютности системы, в согласовании
её с эмпирией.
Но было бы ошибочно считать, что попытки строить системы в философии вообще,
в логике, в учении о природе были чем-то произвольным. Создание систем
диктовалось самим развитием науки. До XVIII в. знание имело собирающий, то есть
эмпирический характер. Но за два тысячелетия был собран огромный фактический
материал. Уже раньше были попытки привести его в порядок. Сошлёмся на
классификацию растений и животных К.Линнея. Эти попытки имели, однако,
метафизический смысл, так как виды, роды и т. д. живого и неживого брались как
готовые, от века данные.
Между тем, в науки постепенно проникала идея развития. Декарт ввёл её в
геометрию, Ньютон и Лейбниц – в математический анализ; Кант создал первую
космогоническую гипотезу и изобразил мир как исторически развивающийся. В
работах Жоффруа Сент-Илера, Гёте, Ламарка идея развития начала проникать в
биологию.
Этот поток эволюционных идей изменил и представления о связи вещей.
Систематика была заменена системой, то есть принцип единства тех или иных форм
был соединён с идеей историзма. Большой заслугой немецких философов было
стремление проанализировать понятие системы; этому посвящена специальная работа
Фихте «О понятии наукоучения или так называемой философии», работы Шеллинга,
отчасти Канта (который свои «Метафизические начала естествознания» построил на
основе системы категорий), а особенно Гегеля с теорией вопроса (понятие системы
он трактует во всех крупных сочинениях), и её практической реализацией. Много
сделал, особенно в плане постановки вопроса, Шеллинг, чтобы
297
прежняя история (то есть описание) природы возвысилась до степени
системы природы.
V. Принцип единства сил природы. Система знания предполагает, что в
действительности всё связано, едино. Собственно, две основные идеи Шеллинга
провозглашали единство сил природы и единство жизни. В 1827 г. он писал: «В
сущности предмет философии не отличается от предметов других наук, она только
видит их в свете более высоких отношений и постигает отдельные предметы этих
наук – например, систему мироздания, растительный и животный мир, государство,
всемирную историю, искусство – как члены одного великого организма, который
возвышается из бездны природы, где находятся его корни, до мира духа»[514].
Общие силы природы – это магнетизм, электричество, химизм, тяготение, свет,
теплота, притяжение, отталкивание. Шеллинг везде старается проследить их связь,
единство. Так, он находит, что свет есть единство электричества и магнетизма
(также и тяготение). Химизм содержит в себе тоже магнетизм и электричество. Во
«Всеобщей дедукции динамического процесса или категорий физики» (1800) Шеллинг,
обрисовав общие связи сил природы, формулирует общий закон: «Как тот же самый
магнетизм, который проявляется исключительно в линии, непосредственно в
результате того, что он превращается в плоскостную силу, преобразуется в
электричество, так же в результате того, что электричество преобразуется из плоскостной
силы в проникающую, оно непосредственно переходит в химическую силу.
Следовательно, теперь можно в качестве доказанного положения зафиксировать, что
все эти явления вызывает одна и та же причина и что только благодаря различным
условиям она способна и на различные действия. То, что до сих пор было одним
только предчувствием, скорее одной только надеждой – быть в состоянии свести
все эти явления к одной общей теории – теперь сияет перед нами как
298
нечто достоверное...». Итак: магнетизм, электричество, химизм – а)
проявления одной причины; б) связаны друг с другом; в) переходят друг в друга.
Здесь мы несомненно имеем общую идею закона сохранения и превращения энергии,
открытого в средине XIX в. Майером и Джоулем. Работа Шеллинга написана в 1800 г.
и предвосхищает указанное открытие на 50 лет. Разумеется, здесь ещё нет речи об
экспериментальном обосновании «общей теории», хотя Шеллинг исходил из
естественнонаучных фактов (открытия Гальвани, Вольты и др.). Принцип единства
сил природы был мощным орудием исследования. Руководствуясь идеями Шеллинга,
Эрстед (1777-1851), профессор физики в Копенгагене, открыл отклонение магнитной
стрелки под влиянием электричества (1820). Окен (1779-1851) близко подошёл к
открытию клетки. Сам Шеллинг развил несколько крупных идей, имевших большое
значение для науки, такие как единство материи и силы, всеобщность магнетизма
(во времена Шеллинга его считали свойством особых тел), сохранение количества
силы и массы, свет как единство магнетизма и электричества (ср. Д.К.Максвелла).
Динамический подход к явлениям позволил Шеллингу увидеть односторонность
корпускулярной (Ньютона) и волновой (Гюйгенса-Эйлера) теорий света. По мысли
Шеллинга, свет – и вещество, и колебания среды. Обе теории надо объединить.
Природа света двойственна. Кроме того, Шеллинг считал свет инертным и весомым
(ср. Лебедева и Эйнштейна). Все эти конкретные положения, предвосхищавшие
научные открытия XIX и XX вв., были возможны в результате диалектического
понимания природы.
VI. Антимеханицизм Шеллинга. Все немецкие философы были противниками
механицизма. Впервые границы этого типа понимания природы были ясно осознаны
Кантом. О мироздании в работе «Всеобщая естественная история и теория неба»
(1755 г.) он писал: «Мне думается, здесь можно было бы в некотором смысле
сказать без всякой кичливости: дайте мне материю, и я построю из неё мир, т. е.
дайте мне материю, и я покажу вам, как из неё должен возникнуть
299
мир»[515].
Но ниже добавлял: «А можно ли похвастаться подобным успехом, когда речь идёт о
ничтожнейших растениях или о насекомых? Можно ли сказать: дайте мне материю, и
я покажу вам, как можно создать гусеницу? Не споткнёмся ли мы здесь с первого
же шага?.. Поэтому пусть не покажется странным, если я позволю себе сказать,
что легче понять образование всех небесных тел и причину их движений, короче
говоря, происхождение всего современного устройства мироздания, чем точно
выяснить на основании механики возникновение одной только былинки или гусеницы»[516].
Это краткое замечание, сделанное в 1755 г., в «Критике способности суждения»
(1790) выросло в целую теорию «телеологической способности суждения». Ядром её
является антиномия данной способности суждения:
«Первая максима её – это положение: всякое возникновение материальных вещей
и их форм надо рассматривать как возможное только по механическим законам.
Вторая максима – противоположное положение: некоторые продукты материальной
природы нельзя рассматривать как возможные только по механическим законам (суждение
о них требует совершенно другого закона каузальности, а именно закона конечных
(целевых) причин)»[517].
Вывод Канта: «некоторые порождения [природы] невозможны по одним лишь
механическим законам» имеет исторический характер, ибо здесь впервые в истории
мысли так чётко, в виде принципа сформулировано это положение. Правда, Кант не
смог правильно решить указанной антиномии, но его заслуга в выдвижении
проблемы.
Шеллинг решил её организмически. Если раньше абсолютизировали механизм, он
абсолютизировал организм. – «Не вещи суть начала организма, а, напротив,
организм есть нача-
300
ло (основа) вещей»[518].
Под организмом, или организацией, Шеллинг понимает «внутреннюю
целесообразность». Основные моменты его учения об органическом следующие:
органическое и неорганическое неразрывно связаны друг с другом. Решая вопрос об
основании жизни, Шеллинг выставляет три возможные точки зрения: а) основание
жизни или в ней, или в) вне её, или с) соединяет оба утверждения[519].
Рассуждения по этому поводу таковы: соединение и разделение веществ есть
химический процесс. Без него нет жизни (она тоже соединяет и разделяет). Это –
отрицательное условие жизни, её нет без химизма. Основание же химического
процесса – нарушенное равновесие. Химическое в органическом или неорганическом
– одно и то же.
Каково же положительное условие жизни (придающее химическим процессам
постоянство)? Это – раздражимость. Ассимиляция и диссимиляция веществ
осуществляется химически, из них нельзя понять, почему они суть и суть
постоянно. Вопрос: «откуда берётся раздражимость?» – у Шеллинга открытый
вопрос. Возникновение жизни, несмотря на прогресс знания, непонятно до сих пор.
У Шеллинга проблема по сути снимается указанием на мировую душу; жизнь, по его
учению, вечна. Всё есть жизнь. Механические, химические и т. д. процессы – это
«угасшая жизнь»[520].
Органическое – основа механического. Не организм объясняется из механизма, а наоборот.
Поскольку мир – целостность, то вообще нет механизма без организма. Первый –
всегда подчинённый момент второго. Отсюда – вражда Шеллинга к механистическому
материализму и его тезис: мировая организация необъяснима материалистически.
Она есть результат деятельности мировой души. Таким образом, проблему Канта
Шеллинг решил идеалистически. Факт жизни увековечен – и этим будто бы даётся
решение.
301
Верно, что механизм подчинён организму, но только там, где последний
существует. Верно, что из механизма, как говорил и Кант, непонятно
возникновение живого. Верно, наконец, что механическое и химическое – «угасшая
жизнь», но, опять-таки, там, где она есть. Не только живое возникает из
неживого (Шеллинг считал возможным синтезировать органическое из неорганического),
но и наоборот, живое гибнет, разлагается и переходит в низшие формы. Это второе
отношение преобладает в его учении. Шеллинг развил дальше кантовскую критику
механицизма. Если тот считал недостаточными законы механики для объяснения
живого, то Шеллинг подверг критике и абсолютизацию химии, сторонники которой
утверждали, что жизнь есть химический процесс и ничего больше. Для Шеллинга
такой процесс – отрицательное (необходимое), но не положительное (не
достаточное) условие жизни.
Если оценивать взгляды Шеллинга на природу в целом, то основное в них –
противостояние механистической науке и философии и опыт построения более
жизненного понимания природы. Она для него живое развивающееся целое, весь «мир
есть организация, а всеобщий организм сам – условие (и тем самым положительное)
механизма»[521].
Жизненность природы он видит в её продуктивности, действенности. «Взгляните на
самые прекрасные формы – что останется, если вы мысленно устраните из них
действенное начало? Ничего, кроме несущественных свойств, таких, как
протяжённость и пространственные соотношения»[522].
Начало же действенности составляет всеобщая двойственность, дуализм и
полярность природы, в общем все те принципы, которые мы рассмотрели выше. Из
противоположностей идеальной и реальной деятельности Шеллинг конструирует всё
сущее, в том числе и природу. Выводя её в конечном счёте из идеализированной
302
гармонии, тождества идеального и реального, он и природу
рассматривает как художественное произведение, а универсум – как «абсолютное
произведение искусства»[523].
Такое представление возвышает не только природу, но и человека, и оно намного
более истинно и желательно, чем современное научно-техническое её умерщвление.
Шеллинг и Гегель: содержательные и психологические аспекты оппозиции
Критика одних философов другими – обычное явление в истории мысли.
Аристотель критикует Платона, Плотин – Аристотеля, Спиноза – Декарта и т.д.
Аналогично и в немецкой классической философии: Фихте полагал, что Кант не
понимал самого себя, и именно его, Фихте, наукоучение есть правильно понятая
система критической философии; Шеллинг со своей точки зрения вскрывает
недостатки у обоих своих предшественников. Закономерностью является то, что
последующие мыслители оценивают предыдущих.
Но в случае с отношением Шеллинга и Гегеля мы имеем уникальное явление. Они
отчасти взаимно не согласны друг с другом, так как значительные промежутки их
жизни по времени совпадают, отчасти же Шеллинг, который был теоретически
предшественником Гегеля и который пережил его на 23 года, неутомимо критикует и
разоблачает своего последователя, «позднее пришедшего», как он его называл.
Борьба, то скрытая, то явная, продолжается более сорока лет. Причины её каждый
истолковывает по-своему. Мы можем объективно, как бы со стороны, объяснить их.
И с нашей точки зрения данные причины двоякого рода – содержательные,
познавательные и психологические. В этой борьбе проявилось не только различие
двух мыслителей, интеллектов, но и двух личностей, характеров.
Начало положила «Феноменология духа» Гегеля (1807), в Предисловии к которой
он подробно и ядовито раскритиковал
303
метод Шеллинга, не называя последнего по имени. Как мы видели,
принципом Шеллинга было единство или тождество субъективного и объективного,
идеального и реального, мышления и бытия. Гегель был с этим согласен. Различие
обнаруживалось в способе его постижения и в той познавательной способности,
которая должна его раскрыть. Шеллинг считал такой способностью интеллектуальное
созерцание, Гегель – логическое мышление. По Шеллингу, чтобы соединить
противоположности, воображение как бы переходит от одной к другой и обратно, и
в этом витании между ними связывает их в целое. С точки зрения Гегеля,
подлинное доказательство истинности этого тождества субъективного и
объективного могло бы быть дано лишь таким образом, что «каждое из них будет
подвергнуто исследованию само по себе, в его логических, то есть существенных
определениях. В результате этого исследования должен был бы получиться тот
вывод, что природа субъективного заключается в превращении себя в объективное и
что объективное не должно оставаться таковым, а делается субъективным»[524].
У Шеллинга их единство устанавливается наперёд, без логического доказательства.
Это привело к тому, что между ними и различными ступенями их развития
проводились внешние, поверхностные аналогии; преобладал схематизм,
раскладывание по готовым схемам триадической структуры явлений природы и духа, требовалось
от философа наличие особого художественного таланта или гения, особого
душевного состояния, обладание которыми провозглашалось чем-то случайным,
выпадающим на долю родившимся в рубашке счастливчикам[525].
Гегель считал, что философия по своей природе способна сделаться общим
достоянием, ибо её почвой является мышление, а оно – отличительная особенность
человека.
304
Шеллинг знал, что Гегель пишет большую работу, и с нетерпением ожидал её.
Гегель сообщал: «Моё сочинение наконец готово. Мне интересно, что ты скажешь об
этой первой части, которая по существу является введением, так как я не вступил
ещё за пределы этого введения в самую суть дела... В предисловии ты обнаружишь,
что я не слишком иду навстречу плоскому стилю, который особенно употребляет во
зло твои формы и сводит твою науку к простому формализму... Я не знаю никого,
кто бы лучше тебя мог рекомендовать это сочинение и высказать мне самому
суждение о нём»[526].
В последних словах содержится приглашение написать рецензию. По-видимому,
Гегель в этом письме был искренен, считая, что он критиковал не своего друга, а
его последователей. Такое же различие он упоминал и в лекциях по истории
философии. Но сравнение последних с Предисловием показывает, что критика
Шеллинга и шеллингианцев во всём существенном совпадает. Поэтому Шеллингу было
не до рецензии. Он был глубоко оскорблён и недоумевал. Он ответил только в
ноябре того же года и, ссылаясь на отсутствие времени, писал: «По этой причине
я до сих пор прочитал только предисловие. Поскольку ты сам обратил моё внимание
на его полемическую сторону, то я должен был думать о себе слишком скромно,
чтобы отнести эту критику за свой счёт, хотя я и так умеренного мнения о самом
себе. Твоя полемика поэтому, возможно, направлена против злоупотреблений и
болтунов, насколько я могу судить по твоему письму. Тебе нетрудно представить,
как был бы я рад когда-нибудь избавиться от них»[527].
Далее, отвлекаясь от личностей, Шеллинг затрагивает основное содержание своего
расхождения с Гегелем: «То, в чём мы действительно придерживаемся различных
убеждений и точек зрения, следовало бы нам выявить и разрешить без всякого
примирения. Ведь примирить можно, конечно, всё, кроме
305
одного. Так, я признаюсь, что я не понимаю смысла того, почему ты
противопоставляешь понятие интуиции (Anschauung). He можешь ведь ты
подразумевать под понятием нечто иное, чем то, что мы с тобой называем идеей,
которая, с одной стороны, является понятием, а с другой – интуицией»[528].
Данным письмом, как и критикой Гегеля, уже вполне выявлено различие и по этому
вопросу между ними никогда так и не произошло примирения. Это понимали оба
философа. Ибо их оппозиция по этому вопросу сохранилась и дальше. Что касается
Гегеля, это видно из цитированных лекций. Шеллинг подробно обсуждает этот
вопрос в 1827 г. в своих лекциях по истории новой философии. Он указывает, что
у него интеллектуальное созерцание применяется иначе, чем у Фихте, чего Гегель
не заметил. «Однако если я и отвергаю интеллектуальное созерцание в том смысле,
в каком мне приписывает его Гегель, то из этого не следует, что оно не имело
для меня иного значения, которое оно ещё и теперь сохраняет»[529].
И поясняет суть дела: мышление раскрывает определения предмета, помимо них в
предмете есть некая материя, которая не мыслится. «Когда мышление занято
определением этой материи, оно мыслит не саму эту основу, а лишь то определение
понятия, которое оно в неё полагает (подобно отношению скульптора к своему
материалу), следовательно, она есть то, что по существу не мыслится в мышлении».
Шеллинг усматривает функцию созерцания в том, чтобы воспринимать материю, или
основу объектов. Поэтому через «всю... философию проходит интеллектуальное
созерцание, так же как оно проходит через всю геометрию, где внешнее созерцание
фигуры, нарисованной на чёрной доске или ещё где-нибудь, всегда лишь носитель
фигуры внутренней и духовной. Это мы считаем нужным сказать в противовес
действительно не знающей созерцания философии»[530].
306
В этом вопросе история разрешила спор в пользу Шеллинга: не может быть
чистого мышления, совершенно независимого от созерцания и представления.
Первый, кто подверг Гегеля систематической критике в данном плане, был
Ф.А.Тренделенбург (1802-1872). В своих «Логических исследованиях» он построил
опровержение логики Гегеля на доказательстве того, что логический процесс у
него опирается на представление и интуицию.
Тренделенбург приводит положение Гегеля «чистое бытие есть чистое
отвлечение». Значит, есть другое, от чего отвлекаешься, говорит Тренделенбург.
Он хочет показать, что мысль Гегеля – не чистая мысль. Чистое бытие – покой, и
ничто – покой. Как же из них возникает движение? «Последнего и не было б, не
предшествуй им движение, как вечно живое созерцание». И делает вывод: «Итак, та
самая диалектика, которая ничего не хочет предполагать, предполагает на первом
же шагу движение без всякой оговорки»[531].
Далее, если чистое бытие тождественно ничто, то откуда берётся переход? Что
толкает мысль? Чистое мышление не может тронуться с места... Диалектический
метод, полагает критик, с самого начала прихватывает втихомолку движение с
пространством и временем. И резюмирует: «Так вот что именно предполагает
беспредположительная логика... Привносится всё богатство математического
созерцания, вся ясность всегда готового на услуги чувственного образа»[532].
Подобным же образом анализирует он и другие категории, и приходит к выводу, что
логика – «выпаренное созерцание... Потребуй созерцание назад всё то, что им
дано, чистая мысль осталась бы просто с нищенской сумою»[533].
Важной вехой в осмыслении данной проблемы явилось неогегельянство. Особенно
значителен здесь немецкий философ Р.Кронер (1884-1974). Его фундаментальная
работа «От Кан-
307
та к Гегелю» посвящена рассматриваемой проблеме. Исследуя всю плеяду
немецких идеалистов, он обосновывал положение: заслуга Гегеля в том, что он
стремился освоить иррациональное жизненное содержание с помощью логических
понятий; но чтобы схватить в рациональном понятии иррациональное, последнее
нужно было ввести в само понятие и таким образом расколоть его. Диалектическое
понятие и есть это объединение противоположностей, тождества, единства
рационального и иррационального. По Кронеру, это означает, что «рационализм
гегелевского мышления содержит иррационализм в самом себе», что «Гегель
иррационалист, так как он диалектик», а сама диалектика – «иррационализм,
сделанный методом»[534].
Кронер доказывает, что эстетическое созерцание, которое Шеллинг считал
единственным смыслом своей философии, находится, содержится в логическом мышлении,
строящем систему как произведение искусства[535].
Аналогично едины понятие и представление в религиозном сознании. Такое
истолкование – в духе Шеллинга, согласно которому идея с одной стороны понятие,
а с другой – созерцание. Проанализировав ход категорий в «Логике» Гегеля,
Шеллинг пишет, что «можно с полным основанием заметить, и сделать это открытие
нетрудно, что Гегель с первых шагов своей «Логики» предполагает созерцание и
без подведения его под своё построение не может двинуться с места»[536].
И это верно, ибо, чтобы мыслить предмет, он должен быть дан. Способ, каким он
даётся, есть созерцание. Если же речь идёт о предметах не чувственных, а
всеобщих, интеллектуальных, и созерцание будет таким же.
Второй основной пункт расхождения между философами – вопрос о методе.
Несмотря на то, что «Феноменология духа» вызвала негативные эмоции у Шеллинга,
она, однако, оказала большое стимулирующее влияние на его дух. Это
308
заметно по его трактату о свободе (1809), который отличается
особенной глубиной рефлексии. В этом трактате Шеллинг начал писать о
диалектике. Это, по крайней мере терминологически, было с его стороны новостью.
Мы приводили уже его слова о том, что только в личности есть жизнь, и всякая
личность покоится на тёмной основе, которая должна быть и основой познания.
«Однако только разум формирует и возвышает до акта то, что скрыто в этой основе
и содержится в ней лишь потенциально. Это может произойти только посредством
разделения, следовательно, посредством науки и диалектики, которые, как мы
убеждены, одни лишь утвердят и навсегда упрочат в сознании систему,
появлявшуюся чаще, чем мы думаем, но постоянно исчезавшую, носившуюся перед
взором всех, но никем ещё полностью не охваченную»[537].
Здесь диалектика – принцип разделения, необходимый для того, чтобы расчленить и
выявить ту тёмную основу, о которой идёт речь. У Гегеля диалектика –
синтезирование противоположностей через их двойной переход друг в друга. У
Шеллинга её суть – в разделении, ибо он исходит из первоначального единства
субъективного и объективного. Её функция здесь та, которую Гегель приписывает
обособляющему рассудку. Поэтому отличается и их понимание разума. Характерную
его черту Шеллинг видит в неразличаемости идеального и реального: разум – некая
обитель истины, покойная обитель, которая, как мир идей у Платона, содержит
образцы, по которым созидает ум. «Если лишить философию диалектического
принципа, т. е. обособляющего, но именно поэтому органически упорядочивающего и
созидающего ума вместе с первообразом, на который он ориентируется, и она не
будет больше содержать в самой себе ни меры, ни порядка, то ей действительно не
остаётся ничего другого, как искать опору в истории и руководствоваться
традицией...»[538].
Нельзя думать, что диалектика
309
сводится у Шеллинга только к разделению первичной основы, обратный
момент, связность, не отрицается, но предполагается изначально, ибо основа есть
неразличённое тождество субъективного и объективного. Акцент поэтому – на
разделении, тогда как для Гегеля эти противоположности даны в обыденном
сознании и задача состоит в их синтезе.
И ещё важное различие: Гегель считал диалектику движением чистой мысли и
через полагание противоположностей и их снятие, или связывание в новом
единстве. Поскольку именно противоположности коррелятивны, неразрывно связаны
друг с другом, диалектическое движение, или развитие, есть процесс необходимый
и чисто интеллектуальный. Шеллинг, напротив, подчёркивает в нём аспект
эстетического. «...Действенным началом каждого порождающего и творящего
искусства и науки является вдохновение... Каждое вдохновение выражается
определённым образом; существует и такое вдохновение, которое находит своё
выражение во влечении к искусству диалектики, подлинно научное вдохновение.
Поэтому существует и диалектическая философия, определённая как наука, т. е.
отделённая от поэзии и религии и являющая собой нечто полностью для себя
пребывающее, отнюдь не тождественное всему подряд, как утверждают авторы столь
многих работ, в которых делается попытка перемешать всё, что можно»[539].
Такую философию, отделённую от религии, позже Шеллинг назвал негативной
философией.
При этом диалектика претерпела существенную трансформацию, о чём
свидетельствуют лекции по истории новой философии. В этом сочинении Шеллинг
уделил диалектике много места. Причиной было то, что философия Гегеля приобрела
большую популярность и вызвала ревность у Шеллинга. Он доказывает своим
слушателям, что уже в «Системе трансцендентального идеализма» был полностью
применён «тот метод, который позже использовался лишь в большем масштабе. Найдя
уже здесь тот метод, который впоследствии стал душой
310
независимой от Фихте системы, он [слушатель. – М.Б.] убедится
в том, что упомянутый метод свойственен именно мне, причем настолько
естественно, что я даже затрудняюсь гордиться им как своим открытием; однако
именно поэтому я не могу и допустить, чтобы его у меня украли или чтобы другой
похвалялся, будто ему принадлежит открытие этого метода»[540].
Другим является Гегель.
Шеллинг, несомненно, значительно разработал диалектику. Суть его метода
состояла в следующем. Исходное начало, тождество субъективного и объективного,
содержит в себе различные возможности или потенции. Они раскрываются в процессе
развертывания абсолюта в виде ступеней природного и исторического процесса.
Наиболее общие потенции, выявляемые из тождества, – субъективное и объективное,
идеальное и реальное. Они присутствуют всегда на всех ступенях, но в разной
степени интенсивны с перевесом того или другого. Так, в природе перевешивает
реальное, в истории – идеальное. Понятие потенции содержит, следовательно, три
смысла: возможность, ступень, степень развития или интенсивности. Вследствие
решающей роли этого понятия Шеллинг называл свой метод методом потенцирования.
Помимо сказанного, он имеет две главные черты. Процесс совершается через
противоречие субъекта и объекта, и, кроме того, здесь (в работе 1800 г.) он
«впервые пытался применить в философии историческое развитие»[541].
Сначала философия предстала перед ним как история самосознания, а затем
охватила и остальной мир. В общих чертах первую ее ступень образовала
натурфилософия, в которой имелись три потенции – материя, свет, организм, а
первой и вторым связаны три основные «категории физики» – магнетизм,
электричество и химизм. Природный процесс завершается рождением человека, и
начинается второй большой этап – история человечества. Здесь главными
потенциями выступают познание (идеальное), реальная диалек-
311
тика свободы и необходимости в действительной истории и, наконец,
единство их, представленное тремя видами или ступенями – искусство
(объективное), религия (субъективное), философия (их равновесие). В религии и
философии появляется Бог как высшая реальность. Таким образом, все сущее
предстает как исторический процесс, движущийся в противоположностях.
Характерной чертой этой диалектики Шеллинга была ее объективность[542].
Но тут он обнаружил противоречие в своей системе. В самом деле, если система
выражает объективный процесс, то Бог появляется лишь в конце как результат, и
получается, что раньше, до этого его как Бога и не было. Между тем, люди
понимают его иначе: он всегда есть, он вечен, не возникает и не изменяется.
Таким образом, философия вступает в конфликт со «всеобщим человеческим
сознанием», тогда как она должна быть в согласии с ним, и к этому стремится
«каждая философия»[543].
Чтобы разрешить данное противоречие, Шеллинг кардинально меняет свою точку
зрения: описанный процесс вовсе не объективный, «все происходило лишь мысленно,
и это движение было лишь движением мышления»[544].
Философия должна отказаться от претензии на объективность, признать, что о
существовании в ней нет речи, что в ней «рассматриваются лишь отношения,
занимаемые предметами в чистом мышлении»[545]
и т. д. Так Шеллинг и приходит к размежеванию отрицательной и положительной
философии. Вместе с тем его же объективная диалектика становится диалектикой
субъективной. Этим подготовлено то ее понимание, которое в конце XIX – в начале
XX в. нашло наиболее масштабное выражение в английском «абсолютном идеализме».
Итак, если в отношении мышления и созерцания спор между Шеллингом и Гегелем
состоял в размежевании точек
312
зрения, то в данном случае речь идёт о приоритете в разработке
диалектического метода. Несомненно, что приоритет за Шеллингом, ибо он раньше
разработал свой вариант метода. Но верно и то, что Гегель пошёл значительно
дальше его в данном вопросе, он создал разветвлённую концепцию данного метода,
целую науку логики, которой у Шеллинга не было. И упрёки последнего в плагиате
неосновательны: здесь имеет место преемственность развития. Нападки же Шеллинга
исходят из тёмной основы личности, они мотивированы завистью к успехам «позднее
пришедшего», беспокойством духа мыслителя из-за отсутствия у него системы.
Поэтому в заключение уместно сказать несколько слов о психологических
аспектах разногласий по данным проблемам.
Различие характеров и дарований двух философов проявляется в известном
факте. Шеллинг на 5 лет моложе Гегеля, как самостоятельный мыслитель заявил о
себе работами по натурфилософии, то есть уже в 22 года, а в 25 опубликовал
«Изложение моей философской системы». Гегель начал изложение своей системы в
1807 г., когда ему было 37 лет. Таким образом, старший по возрасту в истории
новой философии занял место после своего более молодого друга, а затем
соперника.
Хронологически разница в созревании очень значительная, но значительны и
различия результатов. «Феноменологии духа» предшествовала однотипная с нею
«Система трансцендентального идеализма», Гегель создал такой вариант жанра,
который затмил предшественницу и не смог быть превзойдён в последующем. То же
касается и всей системы: «Энциклопедия философских наук» вышла в 1817 г.,
Шеллинг ещё далеко не завершил разработку своих принципов.
Такое различие объясняется прежде всего психологическими особенностями
данных людей. Гегель – флегматик, Шеллинг – сангвиник. Гегель развивался
медленно, но углублённо; его мысль напоминает ровный поток, который расширяется
и углубляется со временем. Мысль Шеллинга – это
313
течение с водоворотами и разветвлениями, она более импульсивна и
капризна, особенно на поверхности. Оба – гении, Шеллинг более яркий, Гегель –
более глубокий. С точки зрения выдвижения основных идей, Шеллинг не уступает
Гегелю, но последний намного превосходит его в разработке, ибо для этого
необходима методичность мысли. Только в личности жизнь, всё личное основывается
на врождённых свойствах характера, который определяет и специфику
познавательных способностей.
Каков человек, такова и его философия, писал Фихте. Девиз самого Фихте:
действовать, действовать – вот наше призвание. Гегель мало деятелен, вся его
активность – в мышлении. Поэтому он поднялся на такой уровень философской
рефлексии, который ставит его рядом с немногими личностями в истории мысли –
Аристотелем, Платоном, Плотином. Шеллинг занимает среднее место между Фихте и
Гегелем – не только хронологически, но и по типу личности.
Второе различие, связанное с мышлением, касается психологии построения
систем философского знания. Медлительность и методичность Гегеля, которые
выражали его характер, в то же время оказывали позитивное влияние на его
душевное состояние: они создавали уверенность в правильности развития своего
философского метода. У Шеллинга в ранний период уверенность в себе очень
высока, но постепенно она уменьшается. В известной мере отрицательную роль
сыграла критика Гегелем его метода, а общее самочувствие понизила смерть жены
Каролины в 1809 г. Блестящие исследования по философии мифологии он без конца
переделывал, и они изданы только посмертно. Но и независимо от этих факторов
следует обратить внимание на то, что системотворчество имеет очевидный
психологический смысл. Гегель после выхода «Феноменологии духа» обрёл твёрдую
почву, он нашёл метод и увидел в общих чертах систему, которую нужно было
только построить. Шеллинг завершение её нашёл только в последней фазе своего
творческого развития, но отрицательную философию он так и не довел до конца.
Какой бы ни была
314
система, но она даёт уверенность и успокаивает дух. Шеллинг до конца
жизни остался духом мятущимся.
Третий аспект их отношений составляет различие психологии мировоззрений. Оно
также основано на особенностях их личностей, но имеет обобщённый характер. Для
Гегеля стихией философии является теоретическое, или чистое, мышление. Для
Шеллинга она – в такой же степени искусство, как и наука. У него искусство и в
ранних, и в поздних работах было завершением натурфилософии или общей
философии.
Здесь следует подчеркнуть, что обычно к типам мировоззрения относят
мифологию и религию, философию и науку. Но роль мировоззрения, особенно
элитарного, играло нередко и искусство – в античности, в эпоху Возрождения, в
романтизме. Мировоззрение Шеллинга находилось под влиянием романтизма, хотя он
в полной мере романтиком и не был. Отсюда его культ искусства, эстетического
созерцания как способа познания, вследствие которых в некоторых отношениях он
уступал Гегелю, в других превосходил его, так что своеобразие их личностей, их
борьба прояснили многие вопросы и обогатили духовную культуру больше, чем если
бы они были повторением друг друга.
315
Литература
Кант И. Сочинения: В 6 т. – М., 1963-1966.
Кант И. Сочинения 1747-1777 гг.: В 2 т. – Т. 2. – М., 1940.
Кант И. Трактаты и письма. – М., 1980.
Кант И. Критика чистого разума // Сочинения: В б т. –Т. 3. – М.,
1964.
Кант И. Критика практического разума // Сочинения: В 6 т. – Т. 4. –Ч.
1. –М., 1965.
Кант И. Критика способности суждения // Сочинения: В 6 т. – Т. 5.
–М., 1966.
Кант И. Антропология с прагматической точки зрения // Сочинения: В 6
т. – Т. 6. – М., 1966.
Кант И. Идея всеобщей истории во всемирно-гражданском плане //
Сочинения: В 6 т. – Т. 6. – М., 1966.
Кант И. К вечному миру // Сочинения: В 6 т. – Т. 6. –М., 1966.
Кант И. Предполагаемое начало человеческой истории // Трактаты и
письма. – М., 1980.
Фихте И.Г. Избранные сочинения. – Т. 1. – СПб., 1916.
Фихте И.Г. Сочинения: В 2 т. – СПб., 1993.
Фихте И.Г. Сочинения. Работы 1792-1801 гг. – М., 1995.
Фихте И.Г. Назначение человека / Пер. Н.Лосского. – СПб., 1905.
316
Фихте И.Г. О назначении человека / Пер. И.Панаева. – СПб., 1880.
Фихте И.Г. О назначении учёного. – М., 1935.
Фихте И.Г. О понятии наукоучения или так называемой философии //
Избранные сочинения. – Т. 1. – М., 1916.
Фихте И.Г. Основа общего наукоучения // Избранные сочинения. – Т. 1.
– М., 1916.
Фихте И.Г. Основные черты современной эпохи. – СПб., 1906.
Фихте И.Г. Факты сознания // Труды Санкт-Петербургского философского
общества. – Вып. 10. – СПб., 1914.
Шеллинг Ф.В.И. Сочинения: В 2 т. – М., 1987-1989.
Шеллинг Ф.В.И. Бруно, или О божественном и природном начале вещей //
Сочинения: В 2 т. – Т. 1. – М., 1987.
Шеллинг Ф.В.И. Введение к наброску системы натурфилософии // Сочинения:
В 2 т. – Т. 1. – М., 1987.
Шеллинг Ф.В.И. К истории новой философии // Сочинения: В 2 т. – Т. 2.
– М., 1989.
Шеллинг Ф.В.И. О мировой душе // Сочинения: В 2 т. –Т. 1. – М., 1987.
Шеллинг Ф.В.И. Об отношении изобразительных искусств к природе //
Сочинения: В 2 т. – Т. 2. – М., 1989.
Шеллинг Ф.В.И. Первая лекция в Мюнхене // Сочинения: В 2 т. – Т. 2. –
М., 1989.
Шеллинг Ф.В.И. Письмо Гегелю 2 ноября 1807 г. // Гегель Г. Работы
разных лет: В 2 т. – Т. 2. – М., 1971.
Шеллинг Ф.В.И. Система трансцендентального идеализма. – М., 1936.
Шеллинг Ф.В.И. Философские исследования о сущности человеческой
свободы // Сочинения: В 2 т. – Т. 2. –М., 1989.
Schelling F.W.I. Darstellurg meines Sistem der
Philosophie // Werke. Auswahl in drei Bänden. Zweiter Bd. – Leipzig, 1907.
Гегель Г. Сочинения: В 14 т. – М.; Л., 1929-1959.
317
Гегель Г. Лекции по истории философии. Кн. 3 // Сочинения: В 14 т. –
Т. 11. – М.; Л., 1935.
Гегель Г. Лекции по истории философии. Кн. 3. – СПб., 1994.
Гегель Г. Наука логики // Сочинения: В 14 т. – Т. 5. – М., 1937.
Гегель Г. Наука логики // Сочинения: В 14т. –Т. 6. – М., 1939.
Гегель Г. Наука логики. – Т. 1. – М., 1970.
Гегель Г. Наука логики // Энциклопедия философских наук: В 3 т. – Т.
1. – М., 1974.
Гегель Г. Письмо Шеллингу 1 мая 1807 г. // Работы разных лет: В 2 т.
– Т. 2.
Гегель Г. Феноменология духа // Сочинения: В 14 т. – Т. 4. – М.,
1959.
Гегель Г. Философия права // Сочинения: В 14 т. – Т. 7. – М.; Л.,
1934.
Гегель Г. Философия права. – М., 1990.
Гегель Г. Энциклопедия философских наук: В 3 т. – М., 1974-1977.
Feuerbach L. Entgegnung an R.Haym // Sämtliche Werke. – Bd. VII.
– Stuttgart, 1903.
Аристотель. О софистических опровержениях // Сочинения: В 4 т. – Т.
2. – М., 1978.
Аристотель. Физика // Сочинения: В 4 т. – Т. 3. – М., 1981.
Асмус В.Ф. Иммануил Кант. – М., 1973.
Асмус В.Ф. История античной философии. – М., 1965.
Бауэр Б. Трубный глас страшного суда над Гегелем. – М., 1933.
Больаи Я. Appendix (Приложение, содержащее науку о пространстве
абсолютно истинную). – М.; Л., 1950.
Бородай Ю.М. Воображение и теория познания (Критический очерк
кантовского учения о продуктивном воображении). – М., 1966.
318
Брандес Г. Главные течения в литературе XIX века. Немецкая литература
// Сочинения: В 12 т. – Т. 4. – К., 1903.
Булатов М.О., Загороднюк Б.П., Малеєв К.С., Солонько Л.А. Діалектика
без апології: філософсько-антропологічні аспекта. – К.: Стилос, 1998.
Булатов МА. Диалектика и культура. – К., 1984.
Булатов МА. Ленинский анализ немецкой классической философии:
логико-диалектические и историко-философские проблемы.
Булатов МА. Основные проблемы теории категорий // Философия: Учебное
пособие. – К., 1994.
Виндельбанд В. История новой философии в её связи с общей культурой и
отдельными науками: В 2 т. – Т. 2: От Канта к Ницше. – СПб., 1905.
Винделъбанд В. Философия Канта. – СПб., 1905.
Владиславлев М.И. Логика. – СПб., 1872.
Габричевский А.Б. Предисловие // Гёте И.В. Сочинения: В 13 т. – Т. 2.
– М.; Л., 1932.
Гайденко П.П. Философия Фихте и современность. – М., 1979.
Гайм Р. Романтическая школа. – М., 1891.
Ганс Э. Предисловие издателя [Гегель Г. Философия истории] // Гегель
Г. Сочинения: В 14 т. – Т. 8.
Гейне Г. К истории религии и философии в Германии // Полное собрание
сочинений: В 12 т. – Т. 9. – М.; Л., 1936.
Гейне Г. Романтическая школа // Полное собрание сочинений: В 12 т. –
Т. 9. – М.; Л., 1936.
Гёте И.В. Избранные философские произведения. – М., 1964.
Гёте И.В. Родственные натуры. – Л., 1952.
Геттнер Г. История всеобщей литературы XVIII в. – Т. 3. – М., 1875.
Гулиан К.И. Метод и система Гегеля. – Т. 1. – М., 1962.
Гулыга А.В. Немецкая классическая философия. – М., 1986.
319
Гулыга А.В. Философское наследие Шеллинга // Шеллинг. Сочинения: В 2
т. – Т. 1. – М., 1987.
Гусев B.І. Західна філософія нового часу XVII-XVIII ст. – К., 1998.
Дидро Д. Избранные философские произведения. – М., 1941.
Дробницкий О.Г. Теоретические основы этики Канта // Философия Канта и
современность. – М., 1974.
История диалектики: Немецкая классическая философия. – М., 1978.
Кант и кантианство: Критические очерки одной философской традиции. – М.,
1978.
Категории диалектики, их развитие и функции. – К., 1980.
Cohen H. Logik der reinen Erkenntnis. – Berlin, 1914.
Критические очерки по философии Канта. – К., 1975.
Kroner R. Von Kant bis Hegel. – Bd. 2. – Tubingen, 1924.
Лазарев B.B. Шеллинг. – M., 1976.
Lessing G.E. Die Erziehung des Menschengeschechts // Deutsche
Geschichtsphilosophie von Lessing bis Iaspers. – Bremen, 1959.
Линьков Е.С. Диалектика субъекта и объекта в философии Шеллинга. –
Л., 1973.
Маркс К. Капитал. Т. 1 // Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. – Т. 23.
Меринг Ф. Легенда о Лессинге // Литературно-критические статьи. – Т.
1. – М., 1934.
Миллъ Дж.Ст.О. Конт и позитивизм // Конт и позитивизм: Статьи
Дж.Ст.Милля, Г.Спенсера и Л.Уорда. – М., 1897.
Нарский И.С. Западноевропейская философия XIX века. – М., 1974.
Ойзерман Т.И. Главный труд Канта // Кант И. Сочинения: В 6 т. – Т. 3.
– М., 1964.
Панич А.О. История диалектики: Диалектика в западноевропейской
культуре. – Донецк, 1998.
320
Советский энциклопедический словарь. – М., 1988.
Стефанов И. Диалектика на Фихте. – София, 1982.
Stiehler G. Dialektik und Praxis. Untersuchungen zur «tatigen Seite»
in der Vormarxistischen und marxistischen Philosophie. – Berlin, 1968.
Stiehler G. Der Idealismus von Kant bis Hegel. Darstellung und
Kritik. – Berlin, 1970.
Тевзадзе Г. Иммануил Кант. – Тбилиси, 1983.
Теплое Б.М. Проблемы индивидуальных различий. – М., 1961.
Тренделенбург ФА. Логические исследования. – Ч. 1-2. – М., 1968.
Философия Канта и современность. – М., 1974.
Фишер К. История новой философии. – Т. 4-5: Кант. – СПб., 1901, 1906.
Фишер К. История новой философии. – Т. 6: Фихте. – СПб., 1906.
Фишер К. История новой философии. – Т. 7: Шеллинг. – СПб., 1905.
Шиллер Ф. Стихотворения // Собрание сочинений: В 8 т. – Т. 1. – М.;
Л., 1937.
Шинкарук В.И. Логика, диалектика и теория познания Гегеля. – К.,
1964.
Шинкарук В.И. Теория познания, логика и диалектика Канта. – К., 1974.
Шинкарук В.И., Булатов М.А. Социальные и теоретические предпосылки
формирования философии Канта // Критические очерки по философии Канта. – К.,
1974.
Широков И. Шеллинг и его «Система трансцендентального идеализма» //
Шеллинг Ф.В.И. Система трансцендентального идеализма. – М., 1936.
Штанге К. Ход мыслей в «Критике чистого разума»: Руководство для
чтения (Серия руководств к изучению философии Канта. Вып. 1.). – М., 1906.
321
Шульце И. Разъясняющее изложение «Критики чистого разума» (Серия
руководств к изучению философии Канта. Вып. 2.). – М., 1910.
Энгельс Ф. Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии //
Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. – Т. 21. –С. 273.
Юнг К.Г. Аналитическая психология. – СПб., 1994.
[Вернуться к содержанию]
Научное издание
БУЛАТОВ М.А.
Немецкая классическая философия.
Часть I.
Кант. Фихте. Шеллинг
Художник Соловьев В.
Технический редактор Шалашенко Г.
Корректор Бахмацкая А.
Подп. к печати 22.09.2003 г. Формат 60x84/16.
Бумага офс. Печать офс. Гарнитура BookUkr.
Усл. печ. л. 20,1. Уч.-изд. л. 18,2.
Издательство «Стилос»
04070, Киев-70, Контрактовая пл., 7. Тел.: (044) 416-54-39.
Свидетельство Госкоминформа Украины
(серия ДК №150 от 16.08.2000 г.)
Напечатано ЧП «Клёц А.А.»
03057, Киев, проспект Победы 44,
к/с им. А. Довженко. Тел: (044) 459-05-77.
[1] Ясперс
К. Философия в будущем // Феномен человека: Антология. –М.: Высшая школа,
1993. – С. 217-218.
[2] Энгельс
Ф. Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии // Маркс К.,
Энгельс Ф. Сочинения. – Т. 21. – С. 273.
[3]
Цит. по: Гайм Р. Романтическая школа. – М., 1891. – С. 276.
[4]
Там же.
[5]
См.: Геттнер Г. История всеобщей литературы XVIII в. – Т. 3. – Кн. 3. –
Отд. 1. – М., 1875. – С. 18.
[6]
Там же. – С. 248.
[7]
Цит. по: Брандес Г. Собрание сочинений: В 12 т. – Т. 4. – К., 1902. – С.
40.
[8] Геттнер
Г. История всеобщей литературы XVIII в. – Т. 3. – Кн. 3. – Отд. 1. – С. 8.
[9] Кант
И. Критика практического разума // Сочинения: В 6 т. – Т. 4. – Ч. 1. – С.
468.
[10]
«Обязанность, – по Гегелю, – есть некоторое долженствование, обращенное
против особенной воли, против эгоистического вожделения и произвольного
интереса» (Гегель Г. Наука логики // Сочинения: В 14 т. – Т. 5. – М.,
1937. – С. 134).
[11]
Там же. – С. 131.
[12]
Гегель Г. Наука логики // Сочинения: В 14 т. – Т. 5. – М., 1937. – С.
131.
[13]
Там же. – С. 135.
[14]
См.: Меринг Ф. Легенда о Лессинге // Литературно-критические статьи. –
Т. 1. – М., 1934. – С. 453-454.
[15]
Подробно о нём см. предыдущую лекцию: Социальные и теоретические предпосылки
формирования философии Канта.
[16]
См.: Меринг Ф. Легенда о Лессинге // Литературно-критические статьи. –
Т. 1. – М., 1934. – С. 429.
[17]
Брандес Г. Главные течения в литературе XIX века: Немецкая литература //
Собрание сочинений: В 12 т. – Т. 4. – С. 29.
[18]
Там же. – С. 28.
[19]
Гегель Г. Сочинения. – Т. 7. – С. 15.
[20]
Там же. – С. 8.
[21]
Там же. – С. 16.
[22]
Брандес Г. Цит. соч. – С. 185.
[23]
Брандес Г. Цит. соч. – С. 167.
[24]
Гайм Р. Романтическая школа. – С. 444.
[25]
Там же. – С. 340.
[26]
Брандес Г. Цит. соч. – С. 183.
[27]
Брандес Г, Цит. соч. – С. 83.
[28]
См.: Гайм Р. Романтическая школа. – С. 660 и след.
[29]
См.: Фишер К. История новой философии. – Т. 7. – С. 561.
[30]
Предисловие к Собранию сочинений Гёте: В 13 т. – Т. 2. – М.; Л., 1932. – С. 19.
[31]
Цит. по кн.: Фишер К. История новой философии. – Т. 7. – С. 885-886.
[32]
Ср. с этим «Избирательное сродство» – § 3 в разделе о «Реальной мере» в первой
книге «Науки логики» Гегеля.
[33]
Гете И.В. Родственные натуры. – Л., 1952. – С. 34.
[34]
Гайм Р. Романтическая школа. – С. 278, 313.
[35]
Цит. по: Фишер К. История новой философии. – Т. 7. – С. 372.
[36]
Дидро Д. Избранные философские произведения. – М.: Госполитиздат, 1941.
– С. 131.
[37]
См.: Гулиан К.И. Метод и система Гегеля. – Т. 1. – М., 1962. – С. 160.
[38]
Гайм Р. Романтическая школа. – С. 716.
[39]
Там же. – С. 719.
[40]
Там же. – С. 717.
[41]
Гулиан К.И. Цит. соч. – С. 164.
[42]
Гегель Г. Сочинения. – Т. 4. – С. 9.
[43]
Там же. – С. 10.
[44]
Кант И. Мысли об истинной оценке живых сил // Сочинения: В 6 т. – Т. 1.
– М.: Мысль, 1963. – С. 63.
[45]
Там же. – С. 64.
[46]
Кант И. Мысли об истинной оценке живых сил // Сочинения: В 6 т. – Т. 1.
– М.: Мысль, 1963. – С. 79-81.
[47]
Там же. – С. 82.
[48]
Там же. – С. 71.
[49]
Кант И. Мысли об истинной оценке живых сил // Сочинения: В 6 т. – Т. 1.
– М.: Мысль, 1963. – С. 76.
[50]
Кант И. Исследование... // Там же. – С. 91.
[51]
Кант И. Вопрос о том, стареет ли Земля с физической точки зрения // Там
же. – С. 97.
[52]
Там же. – С. 98.
[53]
Кант И. Всеобщая естественная история и теория неба // Там же. – С. 123.
[54]
Кант И. Всеобщая естественная история и теория неба // Там же. – С.
123-124.
[55]
Кант И. Всеобщая естественная история и теория неба // Там же. – С.
126-127.
[56]
Там же. – С. 205.
[57]
Там же. – С. 209.
[58]
Там же. – С. 206.
[59]
Кант И. Всеобщая естественная история и теория неба // Там же. – С.
201-218.
[60]
Там же. – С. 135.
[61]
Кант И. Новое освещение первых принципов метафизического познания // Там
же. – С. 271.
[62]
Аристотель. Физика // Сочинения: В 4 т. – Т. 3. – М.: Мысль, 1981. – С.
61.
[63]
Кант И. Новое освещение первых принципов метафизического познания //
Сочинения: В 6 т. – Т. 1. – М.: Мысль, 1963. – С. 273.
[64]
Там же. – С. 274.
[65]
Кант И. Новое освещение первых принципов метафизического познания //
Сочинения: В 6 т. – Т. 1. – М.: Мысль, 1963. – С. 297-304.
[66]
Там же. – С. 304.
[67]
Там же. – С. 308.
[68]
Там же. – С. 308-309.
[69]
Кант И. Опыт введения в философию понятия отрицательных величин //
Сочинения: В 2 т. – Т. 2. – М.: Соцэкгиз, 1940. – С. 137.
[70]
Там же. – С. 139.
[71]
Кант И. Опыт введения в философию понятия отрицательных величин //
Сочинения: В 2 т. – Т. 2. – М.: Соцэкгиз, 1940. – С. 141.
[72]
Там же. – С. 142.
[73]
Кант И. Опыт введения в философию понятия отрицательных величин //
Сочинения: В 2 т. – Т. 2. – М.: Соцэкгиз, 1940. – С. 143.
[74]
Там же. – С. 147-155.
[75]
Кант И. Опыт введения в философию понятия отрицательных величин //
Сочинения: В 2 т. – Т. 2. – М.: Соцэкгиз, 1940. – С. 161-165.
[76]
Кант И. Грезы духовидца, поясненные грёзами метафизика // Собрание
сочинений: В 2 т. – Т. 2. – М.: Соцэкгиз, 1940. – С. 324.
[77]
Там же. – С. 330.
[78]
Там же. – С. 341.
[79]
Кант И. Грезы духовидца, поясненные грезами метафизика // Собрание
сочинений: В 2 т. – Т. 2. – М.: Соцэкгиз, 1940. – С. 355.
[80]
Там же. – С. 342-343.
[81]
Там же. – С. 343-344.
[82]
Там же. – С. 344.
[83]
Кант И. Грезы духовидца, поясненные грезами метафизика // Собрание
сочинений: В 2 т. – Т. 2. – М.: Соцэкгиз, 1940. – С. 346.
[84]
Кант И. Грёзы духовидца, поясненные грёзами метафизика // Собрание
сочинений: В 2 т. – Т. 2. – М.: Соцэкгиз, 1940. – С. 354.
[85]
Кант И. Письмо М.Мендельсону // Там же. – С. 378.
[86]
Кант И. Грёзы духовидца... // Там же. – С. 361-362. Ср. в письме к
М.Мендельсону о «границах, положенных природой нашего разума или, скорее,
опыта...» (Там же. – С. 380).
[87]
Там же.
[88]
Кант И. Грёзы духовидца... // Там же. – С. 366.
[89]
Там же. – С. 369.
[90]
Кант И. Письмо М.Мендельсону // Там же. – С. 378-379.
[91]
Кант И. Критика чистого разума // Сочинения В 6 т. – Т. 3. – М.: Мысль,
1964 – С. 86.
[92]
Кант И. Критика чистого разума // Сочинения: В 6 т. – Т. 3. – М.: Мысль,
1964. – С. 111-112.
[93]
Там же. – С. 117.
[94]
Там же. – С. 118-120.
[95]
Кант И. Критика чистого разума // Сочинения: В 6 т. – Т. 3. – М.: Мысль,
1964. – С. 121.
[96]
Ойзерман Т.И. Главный труд Канта // Там же. – С. 17.
[97]
Кант И. Цит. соч. – С. 340.
[98]
Кант И. Цит. соч. – С. 127.
[99]
См.: Там же.
[100]
Там же. – С. 128.
[101]
Кант И. Цит. соч. – С. 128.
[102]
Теплов Б.М. Проблемы индивидуальных различий. – М.: АПН РСФСР, 1961. –
С. 220.
[103]
См.: Категории диалектики, их развитие и функции. – К.: Наук. думка, 1980. – С.
44-50.
[104]
Кант И. Критика чистого разума. – С. 129.
[105]
Там же. – С. 130.
[106]
Там же. – С. 135.
[107]
Там же.
[108]
Кант И. Критика чистого разума. – С. 144.
[109]
Там же. – С. 135.
[110]
Кант И. Критика чистого разума. – С. 101.
[111]
Feuerbach L. Entgegnung an R.Haym // Samtliche Werke. – Bd. VII. –
Stuttgart, 1903. – S. 516.
[112]
О категориях как формах созерцания см.: Категории диалектики, их развитие и
функции. – С. 146-169.
[113]
См., например: Владиславлев М.И. Логика. – СПб., 1872. – С. 93-95.
[114]
По этому вопросу см.: Булатов М.А. Основные проблемы теории категорий //
Философия: Учебное пособие. – К.: Фiта, 1994. – С. 273-298.
[115]
Кант И. Критика чистого разума. – С. 154.
[116]
Там же. – С. 155.
[117]
Там же. – С. 189.
[118]
Кант И. Критика чистого разума. – С. 175.
[119]
См.: Там же.
[120]
Там же. – С. 174.
[121]
Кант И. Критика чистого разума. – С. 175.
[122]
Там же. – С. 176.
[123]
Там же. – С. 173.
[124]
Там же.
[125]
Кант И. Критика чистого разума. – С. 174.
[126]
Кант И. Критика чистого разума. – С. 215.
[127]
Гегель Г. Энциклопедия философских наук. – Т. I. – Наука логики. – М.:
Мысль, 1974. – С. 157.
[128]
Гегель Г. Наука логики. – Т. I. – М.: Мысль, 1970. – С. 419.
[129]
Кант И. Критика чистого разума. – С. 178.
[130]
Там же. – С. 210.
[131]
Кант И. Критика чистого разума. – С. 210.
[132]
Там же. – С. 190-191.
[133]
Там же. – С. 191.
[134]
Кант И. Критика чистого разума. – С. 195.
[135]
Кант И. Критика чистого разума. – С. 192.
[136]
Там же. – С. 196.
[137]
Там же. – С. 197-198.
[138]
Там же. – С. 199.
[139]
Кант И. Критика чистого разума. – С. 204.
[140]
Там же. – С. 205.
[141]
Там же.
[142]
Кант И. Критика чистого разума. – С. 207.
[143]
Там же. – С. 206.
[144]
Там же.
[145]
Кант И. Критика чистого разума. – С. 205.
[146]
Там же. – С. 206.
[147]
Там же. – С. 207.
[148]
См.: Юнг К.Г. Аналитическая психология. – СПб.: МЦНК и Т. «Кентавр»,
1994. – С. 3-25.
[149]
Кант И. Критика чистого разума. – С. 210.
[150]
Кант И. Критика чистого разума. – С. 211.
[151]
Там же.
[152]
Кант И. Критика чистого разума. – С. 212.
[153]
Кант И. Критика чистого разума. – С. 214.
[154]
См.: Там же. – С. 216-220.
[155]
Кант И. Антропология // Сочинения: В 6 т. – Т. 6. – М.: Мысль, 1966. –
С. 434-435.
[156]
Там же. – С. 395.
[157]
Кант И. Антропология // Сочинения: В 6 т. – Т. 6. – М.: Мысль, 1966. –
С. 372.
[158]
Кант И. Критика чистого разума. – С. 221.
[159]
Кант И. Критика чистого разума. – С. 225.
[160]
Там же. – С. 226-227.
[161]
Там же. – С. 224.
[162]
Кант И. Критика чистого разума. – С. 223.
[163]
Кант И Критика чистого разума. – С. 205.
[164]
Кант И. Критика чистого разума. – С. 223.
[165]
Там же.
[166]
Там же.
[167]
Там же. – С. 224.
[168]
Кант И. Критика чистого разума. – С. 222.
[169]
Там же. – С. 223.
[170]
Советский энциклопедический словарь. – М., 1988. – С. 828.
[171]
Кант И. Критика чистого разума. – С. 204.
[172]
Кант И. Критика чистого разума. – С. 205.
[173]
См. подробно об этом в кн.: Бородай Ю.М. Воображение и теория познания
(Критический очерк кантовского учения о продуктивном воображении). – М.: Высш.
школа, 1966.
[174]
Кант И. Критика чистого разума. – С. 189.
[175]
Кант И. Критика чистого разума. – С. 228.
[176]
Кант И. Критика чистого разума. – С. 240.
[177]
Там же. – С. 241.
[178]
Там же.
[179]
Там же. – С. 248.
[180]
Кант И. Антропология. – С. 403.
[181]
Кант И. Критика чистого разума. – С. 248.
[182]
Там же.
[183]
Кант И. Критика чистого разума. – С. 252.
[184]
Там же. – С. 258.
[185]
Там же. – С. 274.
[186]
Кант И. Критика чистого разума. – С. 251.
[187]
Кузнецов В.И. О системности категориального аппарата конкретно-научного
знания // Категории диалектики, их развитие и функции. – С. 350-351.
[188]
Кант И. Критика чистого разума. – С. 280.
[189]
Кант И. Критика чистого разума. – С. 285.
[190]
См.: Там же. – С. 290.
[191]
Кант. И. Критика чистого разума. – С. 281.
[192]
Там же. – С. 280, 300, 305.
[193]
Больаи Я. Appendix. – М.; Л.: Госиздат, 1950. – С. 115.
[194]
Кант И. Критика чистого разума. – С. 287.
[195]
Кант И. Критика чистого разума. – С. 285.
[196]
См.: Там же. – С. 309, 332.
[197]
Там же. – С. 310.
[198]
Кант И. Критика чистого разума. – С, 320.
[199]
См.: Там же. – С. 315-316.
[200]
См.: Там же. – С. 316-317, 321-322.
[201]
Кант И. Критика чистого разума. – С. 317, 322-323, 328.
[202]
Там же. – С. 317, 330.
[203]
Там же. – С. 318.
[204]
Кант И. Критика чистого разума. – С. 320.
[205]
Кант И. Критика чистого разума. – С. 340-342.
[206]
Кант И. Критика чистого разума. – С. 358-359.
[207]
Там же. – С. 354.
[208]
Там же. – С. 86.
[209]
Кант И Критика чистого разума. – С 336.
[210]
См. об этом: Асмус В.Ф. История античной философии. – М.: Высш. школа,
1965. – С. 242-245.
[211]
Кант И. Критика чистого разума. – С 336.
[212]
Кант И. Критика чистого разума. – С. 337.
[213]
Там же. – С. 338.
[214]
Аристотель. О софистических опровержениях // Сочинения: В 4 т. Т. 2. –
М.: Мысль, 1978. – С. 541.
[215]
Кант И. Критика чистого разума. – С. 375-376.
[216]
Кант И. Критика чистого разума. – С. 375.
[217]
Кант И. Критика чистого разума. – С. 399-400.
[218]
Кант И. Критика чистого разума. – С. 468-472.
[219]
Кант И. Критика чистого разума. – С. 501.
[220]
Кант И. Критика чистого разума. – С. 502.
[221]
Там же. – С. 524.
[222]
Кант И. Критика чистого разума. – С. 516.
[223]
Кант И. Критика чистого разума. – С. 551.
[224]
Кант И. Критика чистого разума. – С. 95.
[225]
Кант И. Критика практического разума // Сочинения: В 6 т. – . Т. 4. –Ч.
1. – С. 315.
[226]
Цит. по кн.: Бауэр Б. Трубный глас страшного суда над Гегелем. – М.,
1933. – С. 90.
[227]
Кант И. Критика практического разума. – С. 334.
[228]
Там же. – С. 339.
[229]
Там же. – С. 340.
[230]
Кант И. Критика практического разума. – С. 347.
[231]
Там же. – С. 332.
[232]
Кант И. Критика практического разума. – С. 352.
[233]
Шиллер Ф. Собрание сочинений: В 8 т. – Т. 1. – М.; Л., 1937. – С. 164.
[234]
См.: Гегель Г. Сочинения. – Т. 4. – С. 235 и сл., 322 и сл.
[235]
Кант И. Основы метафизики нравственности // Сочинения: В 6т. –Т. 4. – Ч.
1. – С. 269, 270.
[236]
Кант И. Основы метафизики нравственности // Сочинения: В 6 т. –Т. 4. –
Ч. 1. – С. 279.
[237]
Там же. – С. 279.
[238]
Кант И. Критика практического разума. – С. 407.
[239]
Там же. – С. 411.
[240]
Кант И. Критика практического разума – С. 445.
[241]
Кант И. Критика практического разума. – С. 455.
[242]
Там же. – С. 463.
[243]
Кант И. Критика практического разума. – С. 468.
[244]
Там же. – С. 452.
[245]
Там же. – С. 454.
[246]
Кант И. Идея всеобщей истории во всемирно-гражданском плане //
Сочинения: В 6 т. – Т. 6. – С. 7.
[247]
Там же. – С. 7-8.
[248]
Там же.
[249]
Кант И. Идея всеобщей истории во всемирно-гражданском плане //
Сочинения: В 6 т. – Т. 6. – С. 9.
[250]
Кант И. Идея всеобщей истории во всемирно-гражданском плане //
Сочинения: В 6 т. – Т. 6. – С. 11.
[251]
Кант И. Идея всеобщей истории во всемирно-гражданском плане //
Сочинения: В 6 т. – Т. 6. – С. 12.
[252]
Там же.
[253]
Кант И. Идея всеобщей истории во всемирно-гражданском плане //
Сочинения: В 6 т. – Т. 6. – С. 13.
[254]
Там же. – С. 14.
[255]
Кант И. К вечному миру // Сочинения: В 6 т. – Т. 6. – С. 267.
[256]
Кант И. К вечному миру // Сочинения: В 6 т. – Т. 6. – С. 267-268.
[257]
Там же. – С. 269.
[258]
Там же. – С. 269-270.
[259]
Там же. – С. 270.
[260]
Кант И. К вечному миру //' Сочинения: В 6 т. – Т. 6. – С. 269.
[261]
Кант И. К вечному миру // Сочинения: В 6 т. – Т. 6. – С. 279.
[262]
Там же. – С. 287.
[263]
Кант И. К вечному миру // Сочинения: В 6 т. – Т. 6. – С. 285-287.
[264]
Кант И. Критика способности суждения // Сочинения: В 6 т. –Т. 5. – С.
102.
[265]
Кант И. Критика способности суждения // Сочинения: В 6 т. –Т. 5. – С.
106.
[266]
Подробно об этом см.: Булатов М.А. Поняття діяльності в класичній
німецькій філософії // Філософська думка. – 1971. – № 2.
[267]
Кант И. Критика способности суждения // Сочинения: В 6 т. – Т. 5. – С.
107.
[268]
Кант И. Критика способности суждения // Сочинения: В 6 т. – Т. 5. – С.
110-111.
[269]
Там же. – С. 112.
[270]
Кант И. Критика способности суждения // Сочинения: В 6 т. – Т. 5. – С.
108.
[271]
Там же. – С. 108.
[272]
Кант И. Критика способности суждения // Сочинения: В 6 т. – Т. 5. – С.
108.
[273]
Там же. – С. 109.
[274]
Там же.
[275]
Кант И. Критика способности суждения // Сочинения: В 6 т. – Т. 5. – С.
114.
[276]
Кант И. Критика способности суждения // Сочинения: В 6 т. – Т. 5. – С.
115.
[277]
Там же. – С. 118.
[278]
Там же. – С. 116.
[279]
Кант И. Критика способности суждения // Сочинения: В 6 т. – Т. 5. – С.
120.
[280]
Там же. – С. 119-120.
[281]
Там же. – С. 120.
[282]
Кант И. Критика способности суждения // Сочинения: В 6 т. – Т. 5. – С.
222.
[283]
Там же. – С. 121.
[284]
Там же. – С. 121.
[285]
Там же. – С. 122.
[286]
Кант И. Критика способности суждения // Сочинения: В 6 т. – Т. 5. – С.
393.
[287]
Кант И. Критика способности суждения // Сочинения: В 6 т. – Т. 5. – С.
123.
[288]
Там же. – С. 123.
[289]
Кант И. Критика способности суждения // Сочинения: В 6 т. – Т. 5.
[290]
Кант И. Критика способности суждения // Сочинения: В 6 т. – Т. 5. – С.
125.
[291]
Там же.
[292]
Кант И. Критика способности суждения. – С. 203.
[293]
Эти моменты Кант нашел, руководствуясь таблицей категорий.
[294]
Там же. – С. 212.
[295]
Кант И. Критика способности суждения. – С. 204.
[296]
Там же. – С. 41.
[297]
Там же. – С. 204.
[298]
Там же. – С. 310.
[299]
Кант И. Критика способности суждения, – С. 212, 222.
[300]
Кант И. Критика способности суждения. – С. 230.
[301]
Там же. – С. 237.
[302]
Кант И. Критика способности суждения. – С. 240.
[303]
Там же.
[304]
Там же. – С. 243.
[305]
Кант И. Критика способности суждения. – С. 250.
[306]
Там же. – С. 253.
[307]
Там же. – С. 256.
[308]
Кант И. Критика способности суждения. – С. 258.
[309]
Там же. – С. 257.
[310]
Там же.
[311]
Там же. – С. 262.
[312]
Кант И. Критика способности суждения. – С. 273.
[313]
Там же. – С. 278, 284.
[314]
Там же. – С. 318.
[315]
Кант И. Критика способности суждения.
[316]
Там же. – С. 319.
[317]
Там же.
[318]
Кант И. Критика способности суждения. – С. 321.
[319]
Там же.
[320]
Там же. – С. 322-323.
[321]
Кант И. Критика способности суждения. – С. 326.
[322]
Там же. – С. 329.
[323]
Кант И. Критика способности суждения. – С. 328.
[324]
Там же. – С. 330.
[325]
Кант И. Критика способности суждения. – С. 337.
[326]
Там же. – С. 338.
[327]
Там же. – С. 344.
[328]
Там же. – С. 349.
[329]
Кант И. Критика способности суждения. – С. 401.
[330]
Кант И. Критика способности суждения. – С. 428.
[331]
Там же. – С. 413.
[332]
Кант И. Критика способности суждения. – С. 414.
[333]
Там же. – С. 427.
[334]
Фихте И.Г. О понятии наукоучения или так называемой философии // Избр.
соч. – СПб., 1916. – С. 13, 33.
[335]
Там же. – С. 11.
[336]
Фихте И.Г. О понятии наукоучения или так называемой философии // Избр.
соч. – СПб., 1916. – С. 32.
[337]
Там же.
[338]
Там же.
[339]
Фихте И.Г. Основа общего наукоучения // Избр. соч. – С 67.
[340]
Фихте И.Г. Основа общего наукоучения // Избр. соч. – С. 70, 72.
[341]
Там же. – С. 71.
[342]
В таком плане это основоположение совпадает с началом «Логики» Гегеля.
[343]
Фихте И.Г. Там же. – С. 72.
[344]
Там же. – С. 75.
[345]
Там же. – С. 72.
[346]
Действие – известная форма движения, дело, помимо этого, охватывает и «материю»
действия.
[347]
Фихте И.Г. Там же. – С. 75.
[348]
Фихте И.Г. Назначение человека. – СПб., 1905. – С. 26.
[349]
Фихте И.Г. Основа общего наукоучения. – С. 78.
[350]
Там же. – С. 78.
[351]
Фихте И.Г. Основа общего наукоучения. – С. 79.
[352]
Там же. – С. 80.
[353]
Гегель Г. Сочинения. – Т. 5. – С. 482-491.
[354]
Фихте И.Г. Основа общего наукоучения. – С. 82-83.
[355]
Там же. – С. 84.
[356]
Там же. – С. 84-85.
[357]
Фихте И.Г. Основа общего наукоучения. – С. 85.
[358]
Там же.
[359]
Гегель Г. Сочинения. – Т. 4. – С. 45.
[360]
Фихте И.Г. Основа общего наукоучения. – С. 88-89.
[361]
Фихте И.Г. Основа общего наукоучения. – С. 89-90.
[362]
Там же. – С. 90.
[363]
Там же. – С. 91-92.
[364]
Там же. – С. 92.
[365]
Фихте И.Г. Основа общего наукоучения. – С. 91.
[366]
Фихте И.Г. Основа общего наукоучения. – С. 89.
[367]
Гегель Г. Сочинения. – Т. 6. – С. 304. См. также: С. 313.
[368]
Фихте И.Г. Основа общего наукоучения. – С. 102-103.
[369]
Там же. – С. 103-104.
[370]
Фихте И.Г. Основа общего наукоучения. – С. 121.
[371]
Там же. – С. 122.
[372]
Фихте И.Г. Основа общего наукоучения. – С. 121.
[373]
Там же. – С. 122.
[374]
Там же. – С. 121-122.
[375]
Фихте И.Г. Основа общего наукоучения. – С. 160.
[376]
Маркс К. Капитал. – Т. 1 // Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. –Т. 23. – С.
62.
[377]
См.: Ганс Э. Предисловие издателя. – К «Философии истории» Гегеля //
Гегель Г. Сочинения – Т. 8. – С. 427.
[378]
Там же. – С. 425.
[379]
См.: Фихте И.Г. О назначении учёного. – М.: ОГИЗ, 1935. – С. 101-106.
[380]
Кант И. Критика чистого разума // Сочинения: В 6 т. – Т. 3. – М.: Мысль.
1964. – С. 682.
[381]
Фихте И.Г. О назначении учёного. – С. 58.
[382]
Там же. – С. 62.
[383]
Фихте И.Г. О назначении учёного. – С. 63-64.
[384]
Там же. – С. 64.
[385]
Фихте И.Г. О назначении учёного. – С 65.
[386]
Там же. – С. 66.
[387]
Там же. – С. 66.
[388]
Там же. – С. 67.
[389]
Фихте И.Г. О назначении учёного. – С. 68.
[390]
Фихте И.Г. О назначении учёного. – С. 70.
[391]
Там же. – С. 75.
[392]
Там же. – С. 77.
[393]
Там же.
[394]
Там же.
[395]
Там же. – С. 78.
[396]
Фихте И.Г. О назначении учёного. – С. 78-79.
[397]
Там же. – С. 81-82.
[398]
Там же. – С. 84-85.
[399]
Фихте И.Г. О назначении учёного. – С. 88.
[400]
Там же. – С. 89.
[401]
Там же. – С. 90.
[402]
Там же. – С. 96.
[403]
Фихте И.Г. О назначении ученого. – С. 92-93.
[404]
Там же. – С. 97.
[405]
Фихте И.Г. О назначении учёного. – С. 101.
[406]
Там же. – С. 104.
[407]
Там же. – С. 104.
[408]
Там же. – С. 105.
[409]
Там же. – С. 105-106.
[410]
Фихте И.Г. О назначении учёного. – С. 106.
[411]
Там же.
[412]
Там же. – С. 107-108.
[413]
Фихте И.Г. О назначении учёного. – С. 109-114.
[414]
Там же. – С. 118.
[415]
Там же.
[416]
Там же. – С. 119.
[417]
Там же. – С. 123-125.
[418]
Фихте И.Г. О назначении учёного. – С. 129.
[419]
Там же. – С. 130.
[420]
Там же. – С. 131.
[421]
Там же. – С. 132.
[422]
См.: Фихте И.Г. Основные черты современной эпохи / Пер. с нем. Под ред.
Н.Лосского. – СПб.: Изд. Д.Е.Жуковского, 1906. – С. 3-6.
[423]
См.: Фихте И.Г. Основные черты современной эпохи / Пер. с нем. Под ред.
Н.Лосского. – СПб.: Изд. Д.Е.Жуковского, 1906. – С. 6-9.
[424]
Там же. – С. 64-66.
[425]
См.: Фихте И.Г. Основные черты современной эпохи / Пер. с нем. Под ред.
Н.Лосского. – СПб.: Изд. Д.Е.Жуковского, 1906. – С. 115-119.
[426]
См.: Фихте И.Г. Основные черты современной эпохи / Пер. с нем. Под ред.
Н.Лосского. – СПб.: Изд. Д.Е.Жуковского, 1906. – С. 120-121.
[427]
Фихте И.Г. О назначении учёного. – С. 75-76.
[428]
Кант И. Предполагаемое начало человеческой истории // Кант И. Трактаты и
письма. – М.: Наука, 1980. – С. 43.
[429]
Кант И. Предполагаемое начало человеческой истории // Кант И. Трактаты и
письма. – М.: Наука, 1980. – С. 43.
[430]
Там же. – С. 44-49.
[431]
Цит. по: Фишер К. История новой философии. – Т. 6. – СПб.: Издание
Д.Е.Жуковского, 1909. – С. 535.
[432]
Цит. по: Фишер К. История новой философии. – Т. 6. – СПб.: Издание
Д.Е.Жуковского, 1909. – С. 664.
[433]
Фихте И.Г. О назначении ученого. – С. 66.
[434]
Фихте И.Г. О назначении учёного. – С. 67.
[435]
Фихте И.Г. О назначении человека / Пер. И.Панаева. – СПб., 1880. –С.
240.
[436]
Там же. – С. 241-243.
[437]
Там же. – С. 247.
[438]
Там же.
[439]
Фихте И.Г. О назначении человека / Пер. И.Панаева. – СПб., 1880. С. 248.
[440]
Там же. – С. 248-249.
[441]
Там же. – С. 251.
[442]
Там же. – С. 251-252.
[443]
Там же. – С. 252-253.
[444]
Фихте И.Г. О назначении человека / Пер. И.Панаева. – СПб., 1880. –С.
254.
[445]
Там же. – С. 254.
[446]
См.: Там же. – С. 255-260.
[447]
Там же. – С. 261.
[448]
Там же.
[449]
Там же. – С. 262.
[450]
Фихте И.Г. О назначении человека / Пер. И.Панаева. – СПб., 1880. – С.
262.
[451]
Там же. – С. 263-264.
[452]
Там же.
[453]
Там же. – С. 322-328.
[454]
Фихте И.Г. О назначении человека / Пер. И.Панаева. – СПб., 1880. – С.
265-266.
[455]
Там же. – С. 266.
[456]
Там же. – С. 267.
[457]
Фихте И.Г. О назначении человека / Пер. И.Панаева. – СПб., 1880. – С.
303.
[458]
Там же. – С. 307.
[459]
Там же.
[460]
Там же. – С. 281.
[461]
Там же.
[462]
Фихте И.Г. О назначении человека / Пер. И.Панаева. – СПб., 1880. – С.
322.
[463]
Цит. по: Широков И. Шеллинг и его «Система трансцендентального
идеализма» // Шеллинг Ф.В.И. Система трансцендентального идеализма. –М.:
Соцэкгиз, 1936. – С. 8.
[464]
Гегель Г. Лекции по истории философии. – Кн. 3. – СПб.: Наука, 1994. –
С. 542.
[465]
Там же. – С. 543.
[466]
См.: Булатов М.А.. Диалектика и культура. – К.: Наук. думка, 1984. – С.
150-204.
[467]
Гулыга А.В. Философское наследие Шеллинга // Шеллинг Ф.В.И. Сочинения: В
2 т. – Т. 1. – М.: Мысль, 1987. – С. 11.
[468]
Schelling F.W.I. Darstellung meines Sistems der Philosophie. Werke.
Auswahl in drei Bänden. – Zweiter Band. – Leipzig, 1907. – S. 327.
[469]
Шеллинг Ф.В.И. К истории новой философии // Сочинения: В 2 т. –Т. 2.–М.:
Мысль, 1989. – С. 480.
[470]
Шеллинг Ф.В.И. Философские исследования о сущности человеческой свободы
// Сочинения: В 2 т. – Т. 2. – С. 96.
[471]
Schelling F.W.I. Op. cit., S. 327. 329.
[472]
Там же. – С. 329.
[473]
Там же. – С. 340.
[474]
Шеллинг Ф.В.И. Бруно, или О божественном и природном начале вещей /
Сочинения: В 2 т Т. 1. – М.: Мысль, 1987. – С 578-584.
[475]
Шеллинг Ф.В.И. К истории новой философии. – С. 508.
[476]
См.: Гулыга А.В. Философское наследие Шеллинга. – С. 24.
[477]
Шеллинг Ф.В.И. Философские исследования... – С. 104.
[478]
Там же. – С. 105.
[479]
Там же. – С. 107.
[480]
Там же. – С. 107-111.
[481]
Шеллинг Ф.В.И. Философские исследования... – С. 109-114.
[482]
Там же. – С. 118.
[483]
Там же.
[484]
Там же. – С. 112.
[485]
Там же. – С. 156.
[486]
Шеллинг Ф.В.И. Философские исследования... – С. 101.
[487]
Фишер К. История новой философии. – Т. 7. – СПб.: Изд. Д.Е.Жуковского,
1905. – С. 761.
[488]
Гегель Г. Философия права. – М.: Мысль, 1990. – С. 55.
[489]
Шеллинг Ф.В.И. К истории новой философии. – С. 508.
[490]
См.: Там же. – С. 509.
[491]
Там же. – С. 511.
[492]
Шеллинг Ф.В.И. К истории новой философии. – С. 508
[493]
Там же. – С. 520.
[494]
Там же. – С 522-523.
[495]
Фишер К. История новой философии. – Т 7 – С. 852.
[496]
Фишер К. История новой философии. – С. 794-879.
[497]
См.: Милль Дж.Ст. О.Конт и позитивизм // О.Конт и позитивизм: Статьи
Дж.Ст.Милля, Г.Спенсера и Л.Уорда. – М., 1897. – С. 133-214.
[498]
См.: Гулыга А.В. Философское наследие Шеллинга. – С. 17-18.
[499]
Шеллинг Ф.В.И. Система трансцендентального идеализма. – Л.: Соцэкгиз,
1936. – С. 11.
[500]
Шеллинг Ф.В.И. Система трансцендентального идеализма. – Л.: Соцэкгиз,
1936. – С. 11-15.
[501]
Шеллинг Ф.В.И. Система трансцендентального идеализма. – С. 23.
[502]
Там же. – С. 162.
[503]
Шеллинг Ф.В.И. Система трансцендентального идеализма. – С. 393.
[504]
Шеллинг Ф.В.И. О мировой душе // Сочинения: В 2 т. – Т. 1. – М.: Мысль,
1987. – С. 119.
[505]
Шеллинг Ф.В.И. Введение к наброску системы натурфилософии // Там же. –
С. 187.
[506]
Фишер К. История новой философии. – Т. 7. – СПб.: Изд. Д.Е.Жуковского,
1905. – С. 392.
[507]
Schelling F.W.I. Darstellung meines Sistems der Philosophie. –S.
341-343.
[508]
Гегель Г. Феноменология духа // Сочинения: В 14 т. – Т. 4. – М.:
Соцэкгиз, 1959. – С. 26-28.
[509]
Фишер К. История новой философии. – С. 744.
[510]
Шеллинг Ф.В.И. Введение к наброску системы натурфилософии // Сочинения:
В 2 т. – Т. 1. – М.: Мысль, 1987. – С. 196-197.
[511]
Шеллинг Ф.В.И. Введение к наброску системы натурфилософии // Сочинения:
В 2 т. – Т. 1. – М.: Мысль, 1987 – С. 192.
[512]
Там же. – С. 213.
[513]
Там же. – С. 199.
[514]
Шеллинг Ф.В.И. Первая лекция в Мюнхене // Сочинения: В 2 т. –Т. 2. – М.:
Мысль, 1989. – С. 381-382.
[515]
Кант И. Всеобщая естественная история и теория неба // Сочинения: В 6 т.
– Т. 1. – М.: Мысль, 1963. – С. 126.
[516]
Там же. – С. 126-127.
[517]
Кант И. Критика способности суждения // Сочинения: В 6 т. –Т. 5. – М.:
Мысль, 1966. – С. 413.
[518]
Шеллинг Ф.В.И. О мировой душе. – С. 125.
[519]
Там же. – С. 122-128.
[520]
Там же. – С. 125.
[521]
Шеллинг Ф.В.И. О мировой душе. – С. 91.
[522]
Шеллинг Ф.В.И. Об отношении изобразительных искусств к природе //
Сочинения: В 2 т. – Т. 2. – С. 59.
[523]
Шеллинг Ф.В.И. Философия искусства. – М.: Мысль, 1966. – С. 86.
[524]
Гегель Г. Лекции по истории философии. – Кн. 3. – СПб.: Наука, 1994. –С.
551.
[525]
См.: Гегель Г. Феноменология духа // Сочинения. – Т. 4. – М., 1959. – С.
26-28, 36-38; Его же: Лекции по истории философии. – С. 546-547.
[526]
Гегель Г. Письмо Шеллингу 1 мая 1807 г. // Работы разных лет: В 2 т. –
Т. 2. – М.: Мысль, 1971. – С. 271.
[527]
Шеллинг Ф.В.И. Письмо Гегелю 2 ноября 1807 г. // Там же. – С. 283.
[528]
Там же.
[529]
Шеллинг Ф.В.И. К истории новой философии. – С. 517.
[530]
Там же.
[531]
Тренделенбург Ф.А. Логические исследования. – Ч. I и II. – М.: Изд.
Солдатенкова, 1868. – С. 44.
[532]
Там же. – С. 47.
[533]
Там же. – С. 81.
[534]
Kroner R. Von Kant bis Hegel. – Bd. II. – Tubingen, 1924. – S. 272.
[535]
Ibid. – S. 292-295.
[536]
Шеллинг Ф.В.И. К истории новой философии. – С. 506-507.
[537]
Шеллинг Ф.В.И. Философские исследования о сущности человеческой свободы.
– С. 156.
[538]
Там же. – С. 157-158.
[539]
Шеллинг Ф.В.И. Философские исследования о сущности человеческой свободы.
– С. 157.
[540]
Шеллинг Ф В И. К истории новой философии. – С. 469-470.
[541]
Там же. – С. 470.
[542]
Шеллинг Ф.В.И. К истории новой философии. – С. 469-493.
[543]
Там же. – С. 493.
[544]
Там же. – С. 494.
[545]
Там же.