СОЦИОЛОГОС
Общество и сферы смысла.
Выпуск 1.
Составление и общая
редакция В. В. Винокурова и А. Ф. Филиппова
ББК 60. 5 С 69
Научно-издательский совет серии:
Н. Луман, К. Гольдаммер (Германия), М. Деги, В. Козовой, М. Маффесоли
(Франция), Т. Боттомор (Великобритания), Р. Мак-Ларен (США), Б. В. Орешин
(СССР)
Редакционная коллегия серии:
М. Маффесоли (Франция), У.
Аутвейт, Дж. Роуз (Великобритания), Р. Крамме, Б. Вальденфельдз (Германия), X.
Козакевич (Польша), В. В. Винокуров, А. Ф. Филиппов (ответственные редакторы),
Ю. Л. Качанов, А. В. Рубцов, В. В. Сербинен-ко, М. К. Башаратьян (СССР)
Издательский редактор серии
— О. Н. Кессиди
СОЦИО-ЛОГОС: Пер.
с англ., нем.,
франц. / Сост., С 69 общ. ред. и предисл. В. В.
Винокурова, А. Ф. Филиппова. — М.: Прогресс, 1991. — 480 с.
Предлагаемый читателю сборник работ
представляет собой первый выпуск нового международного издания по
социально-философским проблемам. Как указывает подзаголовок, его тематика —
социология, антропология и метафизика. Сборник открывает серия выпусков по
истории и теории самопознания человека и общества. В книге три раздела:
«Социум», «На пути к Логосу», «Космос и Теос», в которых представлены как
оригинальные исследования, так и публикации русских и зарубежных авторов.
Впервые на русском языке публикуются работы современного классика западной
социологии Никласа Лумана, крупнейшего религиоведа Ф. Хайлера и др. Публикуются
также главы из последней рукописи Н. Д. Кондратьева и неизданные материалы П.
Сорокина. Сборник предназначен не только для специалистов, но и для широкого
круга интеллектуалов.
001584—26 Редакция литературы по гуманитарным наукам
© Оригинальные тексты,
перевод на русский язык. Составление, предисловие и комментарии — издательство
«Прогресс» 1991
От редакторов
Основные принципы русской
философии никогда не выковывались на
медленном огне теоретической работы мысли, а извлекались в большинстве случаев
уже вполне готовыми из темных недр внутренних
переживаний.
«Логос», Книга первая. От редакции.
Русская
философская мысль, кажется, вторично проснулась к самостоятельной жизни.
Впрочем, может статься, она никогда и не засыпала? Но тех восьмидесяти лет, что
прошли после первого выпуска «Логоса», словно бы и не было вовсе. В журналах мы
находим имена лучших сегодняшних авторов: Бердяева, Булгакова, Розанова,
Флоренского. Недавно появился «Чаадаев» Гершензона, «Заратустра» в переводе
Антоновского. Только что вышли «Вехи».
Велик был
соблазн и для нас, если уж и не переиздать заново весь «Логос» (заметим,
кстати, что такая работа начата теперь в Германии
и ведется на социологическом факультете Билефельдско-го университета),
то по меньшей мере возобновить авторитетную традицию. Даже в рамках предисловия
нам не пришлось бы тогда сильно отклоняться от того направления, которое задано
было в первом издании. Кто бы усомнился в необходимости написать о современном
культурном распаде и современном философском распаде, в
настоятельной надобности дать сжатый и подчеркнуто критический обзор
предшествующего философского развития. Кто взялся бы спорить, вздумай мы
повторить суждение о том, что и сейчас наша философская мысль ищет синтеза, что
и сейчас он слишком часто оказывается не заданной целью, но основой
рассуждений, что нам необходима систематическая работа и что при этом далеко не
лишним будет «постоянно держать русского читателя в курсе современных
философских учений Запада».
Если бы, если
бы, если бы...
Если бы у нас
хватило смелости поставить себя вровень с Гессеном, Метнером и Степуном. Если
бы нынешние философские новинки были бы и подлинно таковыми. Если бы усилия,
преимущественно просветительские, не отождествлялись с собственно работой
мысли. Если бы натужное дыхание тех, кто — в который уж раз — пытается схватить бога за бороду, можно было
спутать с мощным и ровным дыханием свободной философии. «Не тот это город, и
полночь не та». Героическая эпоха русской философии невозвратима. Даже
отдаленный намек на некую нашу особую прикосновенность к тому, что является
общим неотчуждаемым Достоянием, мы бы сочли для себя притязанием неумным и неуместным.
I
«Логос», конечно же, не мог не стать образцом для нашего издания, но
возникло оно по совершенно иным причинам, нежели из желания заново этот образец
воссоздать. Все началось с некоторого количества
текстов, которые мы хотели сделать доступными нашему читателю. Тексты
эти — сообразно интересам каждого из редакторов — были, во-первых,
теоретико-социологическими, а во-вторых, религиоведческими и богословскими.
Казалось, что между ними нет ничего общего и любая попытка свести их под одной
обложкой могла бы считаться лишь проявлением беспринципности, неуемного
издательского зуда. Однако постепенно, с появлением у нас новых текстов, мы
стали обнаруживать все больше точек соприкосновения между ними. Книга стала
обретать черты обычного сборника, интересного не столько замыслом или
организацией материала, сколько самим материалом, в нем содержащимся. Поддержка
издательства «Прогресс» позволяла рассчитывать на осуществление наших планов.
Тогда же родилось и название серии — «Социо-Логос». Тем самым мы хотели
обозначить сразу несколько важных моментов. Во-первых, нашу сознательную
ориентацию на традицию «Логоса» в том смысле, что и мы собираемся сводить под
одной обложкой сочинения западных и отечественных авторов. Во-вторых, наше
стремление ограничиться областью высшей проблематики, «последних» вопросов.
В-третьих, намерение издавать наш сборник по возможности и на других языках.
В-четвертых, акцентирование не просто философской проблематики, но именно
социально-философской, логическое прояснение социологии. Выделить эти моменты
нам было тем легче, что и в самих материалах, которые мы во все большем
количестве начали получать из самых разных стран, стала — иногда неожиданно для
нас — обнаруживаться именно такого рода перекличка.
II
И только спустя некоторое время мы выяснили, что здесь есть нечто
большее. Оказалось, что собранные нами статьи образуют как бы единство
последовательно углубляющейся проблематики, словно бы дух последовательно
проходит ступени самопросветления; только
процесс этот не логический, в нем нет строгости и чистоты, а
самопознание духа бесконечно, как бесконечна его жизнь.
Мы выделили «социум» как начальную стадию, ибо наше время — это время
релятивизма, а релятивизм социологический тут наиболее силен. Отнесение смысловых
содержаний к тем или иным социальным обстояниям как их истоку, их объяснение
через социальное происхождение давно уже перестало быть научным приемом и
превратилось в рутинную социальную процедуру; это одна из ипостасей духа
времени. Дух времени отравляет саму науку, но — «как от болей мрачится дух, так от болей и
прояснится». Самопреодоление социологизма, устремленность к объективным
смысловым содержаниям, но одновременно и, увы, чаще всего трагические срывы на
этом пути к Логосу — вот вторая стадия, вторая часть этой книги. Будь это
законченный труд, философская система, мы могли бы представить читателям
искомый результат неустанной работы духа,
сладкий плод завершенного синтеза. К этому предстоит идти еще бесконечно
долго. Проклятье эпохи лежит на всех. Предощущение значит больше результата,
постановка проблемы ценится выше ее
разрешения. «И Эрос есть. И Логос есть. Нет Космоса — как сверхидеи», —
сказал поэт. И потому третья часть отдана сочинениям тех авторов, кто без этой
сверхидеи обойтись не может. Это высшая стадия самопросветления духа, но смысл
ее раскрывается лишь в единстве с первыми двумя. Такое членение текстов не было сконструировано составителями. Оно
естественно прорисовалось в совокупности текстов. Но оно же отвечает и
собственной позиции тех, кто взял на себя смелость представить читателю это
новое издание.
III
В обстановке беспринципности и эклектики собственная
позиция редакторов
должна быть заявлена достаточно определенно. Однако здесь мы постарались по
возможности этот вопрос обойти. Все, что мы хотели сказать содержательно, сказано
нами в наших статьях. Как редакторы мы старались соблюдать максимальную
нейтральность. Тому есть важная причина.
Мы не можем сказать сейчас, что эклектика и беспринципность
преодолеваются резко определенной позицией издания и издателя. Ибо положение много хуже. В сущности, наши (и, к
сожалению, не только наши) философы делятся на три неравные по величине группы:
образованные, необразованные и полуобразованные. И в то время как образованные
(ничтожное меньшинство) ведут между собой
принципиальные споры, говорливое большинство остальных заполонило собой
все. В этой ситуации гибнет уже не истина — сама возможность ее появления.
И потому мы решили отказаться от споров. От того, чтобы наше издание
освятил своим присутствием или прикрыл своим авторитетом какой-нибудь наш
влиятельный автор или чиновник. Во главу угла мы поставили качество работы и
интерес читателя — насколько то и другое было верно уловлено, судить уже не
нам. Если наше представление о движении и
задачах духа верно, то и мы своим изданием служим истине — именно в том
смысле, что снова пытаемся содействовать условиям для ее появления. Если же мы заблуждаемся, то пусть наше бескорыстное
просветительство обогатит тот культурный слой, без которого дальше и
жить невозможно.
В. В. Винокуров, А. Ф. Филиппов
Раздел I. СОЦИУМ
Альбрехт Веллмер.
МОДЕЛИ СВОБОДЫ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ*
I
Вопрос, как
свобода может осуществиться в современном мире, мучил и воодушевлял европейскую
политическую философию веками. Это верно, по меньшей мере, для политических
мыслителей, принадлежащих к традиции Просвещения в самом широком смысле слова,
если только оставить в стороне противосовременные и антилиберальные теории в русле контрреформации и контрпросвещения.
Политические философы в традиции Просвещения, как я ее понимаю, — это, например, Локк, Руссо, Кант, Гегель, Маркс, Милль,
Токвиль, а в наши дни — Юрген Хабермас, Чарлз Тейлор и Джон Ролз. Для этих
философов свобода — универсалистское понятие, т. е. понятие, неразделимо
переплетенное с концепцией всеобщих прав человека. Но здесь согласие и
кончается — мыслители расходятся, в основном, по вопросу, как надо развивать
идею свободы: с точки зрения индивида или с точки зрения коллектива преимущественно.
В зависимости от того, какая из этих ориентации господствует в политической философии, можно провести различие между
«индивидуалистской» и «коллективистской» концепциями свободы в современных
политических теориях. Но поскольку термин «коллективизм» стали использовать
для обозначения особой современной формы подавления индивидуальной
свободы, я предлагаю говорить об индивидуалистской и «коммуналистской» концепциях свободы соответственно1**.
*© Albrecht W е 11 m e r. Models of Freedom in the Modern World. The Philosophical Forum. Vol. XXI, No. 1—2,
Fall-Winter, 1989—1990.
** Несмотря на предостережение автора, далее его
термин «communal freedom» переводится как «коллективная свобода», а не как
«коммунальная» или «общинная» (по нашему мнению, последние слова в русском
языке имеют еще более явный смысловой оттенок отчуждения и поглощения личного
начала духом общин-ности, коммуны и т. п.). Надо только помнить, что
«коллективная свобода» значит НЕ «свобода-для-коллектива», а выступает как
социальная и личная одновременно во взаимной относительности этих начал.
Простой перевод «социальная (общественная) свобода» потерял бы важный для
автора оттенок камерности, отнесенности к группам любого размера, а не только к
масштабам всего общества. — Прим. перев.
Индивидуализм и ком-мунализм не
просто противоположны — в каком-то важном смысле они скорее дополняют друг
друга. И соответственно этому наиболее значительные политические теории
современной Европы содержат элементы обеих ориентации. Радикальный
индивидуализм и радикальный коммунализм — это крайности, которые трудно
подыскать. Вероятно, Маркса можно бы назвать радикальным коммуналистом, а
Роберта Нозика — радикальным индивидуалистом. Но обычно индивидуалистские
теории ведут (хотя и не в случае Гоббса или Нозика) к какой-то концепции
демократической самоорганизации коллектива («коммуналистский» элемент), тогда
как коммуналистские теории ео ipso должны претендовать на выдвижение
концепции индивидуальной свободы, более жизнеспособной, чем это могут сделать индивидуалистские теории. Это
ясно, например, в случае Маркса, чья идея царства свободы представляет
собой коммуналистскую концепцию почти
неограниченной свободы индивида.
Хотя разграничительные линии между
индивидуалистскими и коммуналистскими
теориями свободы не всегда ясны, существует, я думаю, очень четкая граница
между важнейшими ориентациями, лежащими в их основе. Ибо индивидуализм и коммунализм
исходят из двух резко противоположных
антропологических концепций, как указал на это, к примеру, Тейлор2.
Индивидуалистские теории берут в
качестве исходного пункта изолированных индивидов, - характеризуемых
/определенными естественными правами и целе-ориентированной
рациональностью: эти теории стремятся истолковать политические институты (поскольку их можно считать законными) как результат некоего договора
(контракта) между автономными индивидами. Вряд ли нужно говорить, что
термин «договор» не следует воспринимать
здесь слишком буквально. Имеется в виду не действительное происхождение
политических институтов, но их законность
(легитимность): они законны, если о
них можно помыслить как о результате договора между свободными и равными индивидами. Свобода здесь есть,
по существу, свобода делать то, что я хочу (каким бы ни было то, что я хочу
делать), а естественные права можно понимать в смысле определения права Кантом
в его «Метафизических началах учения о праве»: «Прав любой поступок, который
или согласно максиме которого свобода произвола (Freiheit der Willkur) каждого
совместима со свободой каждого в соответствии со всеобщим законом»3.
Свобода в смысле кантовской Freiheit der Willkur — это то, что часто называют
«отрицательной» свободой. Отрицательная свобода, определяемая общим законом,
который гарантирует равную свободу для каждого, составляет основное содержание
естественных прав. И главное достижение общественного договора в том, что
всеобщий закон, упомянутый в определении Канта, становится; положительным законом,
обеспечиваемым политической властью,, которая имеет силу наказывать, кто бы ни
нарушил права других. Не стоит и говорить, что основными образцами этих
«нерушимых» прав всегда были права собственности (но, конечно, и право на
собственную жизнь).
В
противоположность этому, комму налистские теории не только оспаривают основную
антропологическую предпосылку индивидуалистских теорий, но вместе с нею и
индивидуалистское понятие индивидуальной свободы как таковой4.
Оспариваемая антропологическая предпосылка — это понятие человеческого
индивида вне общества, индивида, который, не быв конституирован как индивид
путем социализации в качестве участника некоей интерсубъективной формы жизни,
принимается за подходящую отправную точку для политической теории. Если,
однако, человеческие индивиды по сути своей являются социальными индивидами,
если в самой своей индивидуальности они конституированы и, так сказать, пропитаны культурой, традициями и институтами
общества, к которому принадлежат, то их свобода также должна иметь социальный характер.
Даже как индивидуальная свобода эта свобода должна иметь коллективный характер или, по меньшей
мере, существенный коллективный аспект, выражающий и проявляющий себя в
способе, каким индивид участвует и вносит вклад в коллективную практику своего общества. Тогда первоначальным вместилищем
свободы будет не изолированный индивид, а общество, которое есть среда индивидуации через социализацию; свобода должна
мыслиться как в конечном счете
коренящаяся в структурах, институтах, практике и традициях более
крупного социального целого. Но поскольку это целое является тем, что оно есть,
только благодаря тому, что поддерживается живым, «воспроизводится» и истолковывается индивидами, которые составляют часть
его, индивидуальная и общая свобода неразделимо переплетаются. И это
значит, как опять же показал Тейлор, что само понятие свободы предполагает
нормативный смысл, которого оно не имеет в индивидуалистских концепциях. Ибо
это понятие уже не просто выражает отсутствие внешних препятствий, которые
могут помешать субъекту делать то, что он хочет; до некоторой степени оно
означает здесь также и особый путь, каким действующие лица приходят к решению о
том, что они хотят делать. Идея свободы как идея
индивидуально-коллективного самостановления имеет неустранимое нормативное
измерение, потому что она понятийно связана с
идеей рациональности. Под «рациональностью» я не просто подразумеваю рациональность по схеме «цели —
средства», или «стратегическую» рациональность. Скорее, следуя Хабермасу, я беру
понятие рациональности в широком смысле, обозначая путь рассмотрения
интерсубъективных общезначимых притязаний всевозможных сортов. Рациональность
в этом смысле проявляется в практике размышления, аргументации и критики, где
то, о чем спорят, может быть эмпирическими,
оценочными, моральными, эстетическими или герменевтическими притязаниями
на истину. Для коммуналистских концепций свободы не только сама идея свободы,
но и идея рациональности становится «коллективным» понятием: мы не сможем
объяснить, что такое рациональность, если не обратимся к интерсубъективности
жизненных форм, мысленно представленной в интерсубъективности символического
посредника, языка, благодаря которому формы жизни приобретают законное бытие.
Таким образом, индивидуалистская и коммуналистская концепции политической свободы противостоят друг другу по
трактовке тех «рациональных» действующих
субъектов, свобода которых входит в игру сил. Индивидуалистские
концепции, первым классическим представителем которых, конечно же, был Гоббс,
можно охарактеризовать как антропологический «атомизм»5 и
«инструмента-листскую» концепцию
рациональности; гносеологически они близкородственны объективистской («механицистской»,
«физикалист-ской») и
антиаристотелевской традиции современной науки; политически они отражают
перспективы, интересы и самоистолкования того революционного класса, который
стал господствовать в современной Европе — буржуазии. Коммуналистские теории,
напротив, уходят корнями в аристотелевскую
традицию, которой часто жертвовали в современных индивидуалистских
теориях естественного права и в радикальной
критике Нового времени, начатой Руссо и ранним романтизмом. Хотя эти две
традиции — аристотелевская и та, что может быть названа «романтической»
традицией радикальной, моральной и эстетической критики современного общества,
— во многих отношениях несопоставимы, они имеют определенные точки схождения,
явно проявляющиеся в той парадигматической роли, которую греческий полис (или
идеализированная память о нем) играют в коммуналистской традиции. В то время
как индивидуалистские теории очень прочно ассоциируются с великими буржуазными
революциями, а тем самым и с узаконением современного
капиталистического хозяйства, коммуналистские концепции почти неизменно критически
относились не только к антропологическим
предпосылкам современных теорий естественного права, но и к действительности
современного буржуазного общества. Это показывает, конечно, что не
философская, а политическая критика
«собственнического индивидуализма»6 была главным интересом коммуналистов; и что для них
антропологические предпосылки индивидуалистских концепций, хотя и глубоко
ложные, до некоторой степени стали
истинной реальностью в современном буржуазном обществе. Тем самым
спор между индивидуалистами и ком-муналистами всегда был и еще есть
политический спор о роли, которую буржуазное общество играет в продвижении свободы
в современном мире.
II
В моем идеально-типическом очерке двух взаимно противоположных типов
политической философии я уже показал, что, поскольку речь идет об
антропологических и гносеологических предпосылках,
я на стороне коммуналистов. Каждый коммуналист, однако, пока он явно
хочет быть сторонником традиции Просвещения, должен согласиться с фактом, что
современное буржуазное общество — это образцовое общество Просвещения в
современном мире: единственное общество, в котором права человека, правление
закона, гражданские свободы и демократические институты до известной степени
установились надежно. Вероятно, это опыт, подобный тому, который заставил
Гегеля, начинавшего как радикальный романтический коммуналист, стать
коммуналистским защитником того, что он называл «гражданским обществом». Поскольку
гегелевская постановка вопроса, как свобода может быть реализована в
современном мире, в некотором смысле еще остается непревзойденной (несмотря на ошибки в конкретных ответах), я хочу чуть
больше сказать о его попытке навести мосты между индивидуалистской и
коммуналистской концепциями свободы.
Как хорошо
известно, основная стратегия Гегеля состояла в том, чтобы внедрить традицию
теорий естественного права в ком-муналистскую
концепцию «нравственности», «нравственной жизни» (Sittlichkeit). To, что
Гегель называет «гражданским общест-вом>>) — это по своим основным характеристикам общество
владетелей собственности, которые, несмотря на религиозные, расовые,
политические и др. различия, равны перед законом; которым в соответствии с
общим для всех законом разрешено преследовать личные интересы и реализовывать
своеобычные представления о счастье; и, наконец, которые свободны выбирать
карьеру, профессию, занятие по найму или места проживания и работы. «Гражданское общество» внутренне связано с рыночной
экономикой, которую можно бы назвать «капиталистической» в Марксовом смысле.
Это общество приблизительно соответствует картине современного общества, набросанной теоретиками естественного права вроде
Локка и политэкономами типа Адама Смита. Это общество, в котором
«отрицательная» свобода закреплена в социальных институтах, — общество всеобщих прав человека и всеобщего антагонизма.
В моральном отношении, с коммуналистской точки зрения, это общество должно
казаться глубоко противоречивым: как общество
всеобщих прав человека, оно есть реализация того conditio sine qua поп, которому должна
соответствовать любая современная концепция
нравственной жизни (т. е. любая коммуналистская концепция свободы в современном мире), если она не желает соскользнуть в контрпросвещение, репрессии или
террор; но как общество всеобщего социального антагонизма оно в то же время
является отрицанием не только конкретных (например, досовре-менных) форм нравственой жизни, но и самой
категории нравственности (в смысле общечеловеческой абсолютной морали или этики). Ибо, покуда это общество пребывает в
«свободном движении» (Гегель описывает это «свободное движение» в терминологии,
очень похожей на ту, что позднее использовал Маркс), никакие коммунально-общинные связи между индивидами, никакая заинтересованность
в общественном благе и никакие моральные сожаления
не помешают социальному опустошению, жертвами которого становятся проигравшие во всеобщей гонке за богатством, властью
и счастьем.
Коммуналистским
ответом Гегеля на эту глубокую двойственность современного гражданского
общества является теория государства. Для Гегеля государство означает ту сферу
нравственной жизни, в которой антагонизм гражданского общества «снят» — не уничтожен, но преодолевается, становясь относительным.
Главная идея Гегеля здесь состоит в том, что вопреки теоретикам естественно-правового направления гражданское
общество не может быть понято и, вероятно, не могло бы существовать на
своих собственных основаниях. Фактически, Гегель утверждает, что гражданское
общество изначально, всегда значит больше того, чем оно кажется, пока его
рассматривают только в собственных его условных категориях, которые суть также
категории теорий естественного права и классической политической экономии. Ибо
сама идея общества равных индивидов, в качестве собственников
стратегически взаимодействующих на рынке в соответствии с общими для всех законами, не только предполагает,
что эти индивиды морально признают друг друга свободными и равными, но и достаточно
уверенно, в силу сказанного, предполагает также существование политических и
юридических институтов, функционирование которых нельзя объяснить
исходя из одних условий стратегической рациональности, характерной для
индивидов как членов собственно
гражданского общества. Именно в этих институтах политического общества
находит свое место рациональная свобода в коммуналистском смысле слова:
рациональная свобода, действительно связанная с заинтересованностью в общем
благе, гражданских добродетелях,
общественной деятельности, публичных дебатах и политическом контроле над
экономикой. Гражданское общество предстает теперь как лишь одно измерение в
содержании нравственной жизни современного государства, а именно, измерение, благодаря которому право особенного лица,
«отрицательная» свобода индивида стала институционной (закрепленной в
социальных институтах) реальностью. Это измерение отрицательной свободы
с ее всеобщими соозначениями составляет
существенный аспект любого
жизнеспособного современного понятия политической свободы; «эмансипированные» индивиды могут быть
свободными в полном смысле словосочетания «рациональная свобода» только
как граждане политического сообщества, как граждане государства. Прежде чем
перейти к недостаткам гегелевского построения, я хотел бы чуть подробнее сказать о «субъективном праве особенного» в
его воззрении на современное государство. Для Гегеля, как и для многих его современников, греческий полис всегда
был образцовой моделью политической институации (воплощения в
институтах) свободы. Одновременно греческий полис служил ему моделью для
иллюстрации тезиса, что политическая свобода может быть реальной только как
форма нравственной жизни. Гегель использовал термин
«нравственность» (Sittlichkeit), чтобы охарактеризовать нормативную структуру
интерсубъективной формы жизни. Нравственная
жизнь народа (в отличие от того, что Гегель называл «моралью») неотделима от
его институтов, его коллективных истолкований мира, его путей к самосознанию,
его обычаев, традиций и ценностей. Если индивиды суть то, что они собой
представляют, только как участвующие в определенной форме нравственной жизни,
как сознающие себя и свои общественные отношения в соответствии с этой формой,
тогда даже их индивидуальные интересы, устремления,
их чувство самоуважения и достоинства, чувства стыда и вины должны
формироваться в своей глубинной структуре «объективным духом» их общества. Это
значит, другими словами, что идея свободы может найти точку опоры в обществе,
если только свобода станет формой нравственной жизни. Именно это случилось в греческом полисе прежде всего в
великую эпоху афинской демократии. Ибо здесь дух целого есть в то же
время дух свободной индивидуальности;
государство-полис, семья, право, религия как определения общих целей
являются в то же время целями
индивидуальности, и она, по Гегелю, является индивидуальностью лишь
благодаря этим целям.
Гегель назвал
греческую форму нравственной жизни «прекрасной». Это дань неповторимому
соединению мифа, искусства и политики в греческом полисе, но также и указание
на существенные ограничения греческой формы свободы. Эти ограничения
проявляются для Гегеля в институтах рабства
и оракулов8. Если разобрать гегелевские возражения против этих
институтов, мы лучше поймем, что он
вкладывал в понятие права или освобождения «особенного». Что касается
рабства, то эти возражения очень знакомы. Они очевидны для нас и были таковыми
для большинства людей уже во времена Гегеля. Рабство противоречит нашему
пониманию человека как разумного, рационального существа. С этим возражением
соотносится универсалистская концепция прав человека, которая, как мы видели,
была для Гегеля существенной составляющей всякой плодотворной современной идеи
нравственной жизни, и в юридическом и в институционном развитии которой он в
значительной степени продолжил традицию
естественноправовых теорий. Права человека в этой традиции
сосредоточены вокруг прав собственности и их
скрытых юридических и моральных последствий. Но субъективное право
особенного не исчерпывается для Гегеля данными типами прав. Это станет ясным,
если мы рассмотрим его возражения против института оракулов. С точки зрения
Гегеля, данный институт указывает на некое
структурное ограничение кругозора возможных рациональных рассуждений в
греческом полисе.
Основывая свои решения в важных политических или
частных делах на голосе оракула, индивиды еще не берут на себя полную
ответственность за собственные решения. Полная самостоятельность, по Гегелю, требует детерминации
субъективностью разумной воли
в преобладающей степени. Следовательно, тип самостоятельности,
реализованный в греческом полисе, не был еще рациональной самостоятельностью в
полном смысле слова. Но эти пределы рационального самоопределения в полисе
только отражали неустранимый догматический аспект греческой нравственности:
идейно они связаны с еще нерасчлененной мифологической формой миро- и
самопонимания (которые как таковые не были объектом рациональной критики или
рациональной оценки), т. е. связаны именно с теми сторонами греческой нравственности,
которые нам кажутся прекрасными. По этой причине греческое просвещение,
достигшее вершины в фигуре Сократа, означало гибель греческого полиса, ибо оно
вносило начала рефлексивного и дискурсивного анализа в нравственную жизнь
полиса, против чего он не смог устоять. Так только поверили в идею, что ничего
не должно принимать в качестве общезначимого, если его нельзя доказать, так
сразу зашатались устои, на которых был построен греческий полис. И не только
софисты, но и сам Сократ внес вклад в разложение основ полиса. В этом смысле
афиняне были правы, приговорив Сократа к смерти. Однако самый «принцип
самостоятельной особенности», как его называет Гегель и, обнаруживает себя в
духе Сократа и с другой стороны, а именно как «величайшее право субъекта... не
признавать ничего такого, разумности чего я не усматриваю...»».
Это право требует формы узаконения, которая была неприемлемой внутри полиса. Поэтому попытка Платона еще раз
восстановить красоту и истину греческой нравственной жизни в философской мысли
была парадоксальной с самого начала и только и смогла привести к чрезвычайно
репрессивной концепции идеального общества. «Платон в своем
государстве, — пишет Гегель, — изображает субстанциальную нравственность
[полиса] в ее идеальной красоте и истине, но он не может
справиться с принципом самостоятельной особенности, ворвавшимся в его время в
греческую нравственность, иным путем, как противопоставляя этому принципу лишь
свое субстанциальное государство и совершенно исключая его из этого государства
в самих его начатках, каковыми являются частная собственность и семья...»12
Как можно теперь
понять, принцип самостоятельной особенности имеет здесь для Гегеля внутренний
и внешний аспекты. В своем полном смысле «принцип самостоятельной внутри себя
бесконечной личности единичного человека, субъективной свободы» — это принцип, который, согласно гегелевской
философии истории, во
всемирно-историческом плане проявился с возникновением христианства, с одной стороны, и римского
права — с другой13. Он взорвал границы греческого мира.
III
Из того, что я
сказал до сих пор о посылках, на которых Гегель пытался построить идею
современного государства, кто-то мог бы
предположить, что дальше он попробует развить концепцию демократической, универсалистской и секулярной
формы нравственной жизни для современных обществ. Как хорошо известно,
этого он не сделал. В некоторых отношениях
Гегель приближается к такой концепции в тех частях своей теории
государства, где говорится о самоуправлении коммун и корпораций, об общественном
мнении и свободе печати или о парламентском представительстве. Но частичные его уступки демократическому духу
современного западного мира всегда соединены у него с принципиальными
возражениями против идеи демократии в применении к современному миру.. Гегель отвергает именно политическое толкование
принципов естественного права как принципов демократического участия и
принятия решений в современном обществе. Его философские доводы против этого
весьма сложны, но в конечном счете не очень убедительны. Основные аргументы Гегеля — это: (1) «коммуналистское»
возражение против индивидуалистской антропологии теорий естественного права; и
(2) аргумент, относящийся к дифференциации
и сложности современных обществ. Согласно первому аргументу, идея
демократии, как она развита в теориях естественного права, «абстрактна», потому
что антропологические предпосылки и принципы отрицательной свободы, которые входят в
состав общественного договора,
слишком слабы, чтобы обосновать демократию
как форму нравственной жизни. Согласно второму аргументу, сложность и
функциональная дифференциация современных обществ и, в особенности, появление
деполитизированной сферы гражданского общества не допускают ничего похожего на
все-проникающую прямую демократию в
современном государстве. Если первый довод улавливает сложность
определенной формы нравственной жизни по
сравнению с простотой принципа «абстрактного» права, то второй констатирует сложность современных обществ
рядом с простотой прямой демократии. Но обе эти «посылки» вместе с «заключением» Гегеля не образуют правильного силлогизма: Гегель никоим образом не доказал,
почему невозможно «перевести»
универсалистские принципы естественного права в жизнеспособную концепцию демократической
формы нравственной жизни для современных обществ. Это своего рода
«слепое пятно» в гегелевской «Философии
права». Я думаю, что его частично можно объяснить тем, что
Гегель, хотя и был «коммуналистским» политическим философом, в конечном счете
воспринимал «дух» как субъективность, а не как интерсубъективность1*.
Но другая часть объяснения состоит в том, что гегелевская сова Минервы
начала свой полет немного рано: Гегель не имел личного опыта демократических традиций, а Америка была пока еще
очень далека. Прусская же монархия, даже в своей идеализированной
версии, очевидно, не была последним словом европейской истории.
Соответственно
сказанному, прав был Маркс в своей критике гегелевской
теории государства, настаивая на демократическом существе европейской истории. «Демократия, — пишет
он, — есть сущность всякого государственного строя». И далее:
«Демократия относится ко всем остальным
государственным формам как к своему Ветхому завету»15. К
несчастью, однако, разработка Марксом этой идеи
осталась «абстрактной» точно в гегелевском смысле. Его концепция свободной ассоциации производителей,
которые коллективно регулируют свой
обмен веществ с природой после того, как капитализм преодолен, на деле
означает утопическую перспективу коллективного жизненного процесса, единство и гармония которого спонтанно
возникает из социального взаимодействия полностью освобожденных индивидов. Эта благородная анархистская утопия представляет
собой внеполитическую трактовку идеи демократии. Но против такой
трактовки еще остаются в силе аргументы Гегеля, о которых я говорил выше. В Марксовой концепции нет ни «отрицательной»
свободы, ни политических институтов, ни функциональной и системной
дифференциации. Следовательно, можно утверждать, что Маркс вместо решения проблемы
институации свободы в современном мире,
которая так и осталась нерешенной Гегелем, просто изгнал ее16.
Маркс поставил на ноги не Гегеля, а Руссо. Как мы знаем, цена, уплаченная за
пренебрежение политическим измерением свободы в марксистской мысли, была
высокой. Государства, пытавшиеся воплотить его утопию в практику, оказались
гораздо более репрессивными, чем
государство, которое когда-либо мог вообразить Гегель.
Не Маркс, а
Токвиль был тем мыслителем, кто всерьез занялся гегелевской проблемой, как
можно представить себе современную демократическую форму нравственной жизни.
Конечно, эта терминология не принадлежит Токвилю, как и его анализ
американской демократии не является откликом на «Философию права» Гегеля. Но поскольку дело идет о понимании основной
исторической проблематики и прояснении проблемы свободы, книгу Токвиля
«Демократия в Америке» можно считать очень
хорошим соответствием и дополнением гегелевской «Философии права». Для обоих
авторов французская революция с ее внутренней диалектикой освобождения и подавления человека была решающим историческим
опытом. И главный их интерес сосредоточен на том, как возможна политическая
институация свободы в эгалитарном гражданском обществе, которое они оба считали
необратимым результатом буржуазных революций. И для Гегеля и для Токвиля
гражданское общество воплощало разрушение старого (феодального или
аристократического) политического порядка. Оба видели в его учреждениях эгалитарный
порядок отрицательной свободы, сконцентрированной на правах собственности. Оба признавали освободительное содержание гражданского
общества с его универсализацией прав человека. Наконец, и тот и другой ясно
видели, что эгалитаризм гражданского общества не только не был еще равноценным
с институацией политической свободы, но и, с одной стороны, был пока совместим
с различными формами деспотизма (например, с бюрократическим деспотизмом
централизованного современного государства, деспотизмом неограниченного правления большинства и т. д.), а с другой стороны,
этот эгалитаризм, все вобравший в себя, мог быть равносилен распаду всякой
социальной солидарности. Гегель выразил эту интуицию в своих возражениях
политическому, т. е. демократическому, толкованию теорий естественного права.
Сердцевиной этих возражений была мысль, что
рациональная общая воля, вероятно, не могла бы возникнуть из
столкновения атомарно представленных
собственников, чьи социальные отношения, в основном, характеризуются распадом
всех коммунально-общинных связей солидарности, которые удерживали людей
вместе в предыдущих типах обществ. Токвиль,
хотя и менее теоретичный, чем Гегель, в сущности, использовал тот же аргумент с единственным заметным отличием терминологического
характера: поскольку для него термин «демократия» в первую очередь обозначал
эгалитарную реализацию «отрицательной» свободы в современном гражданском
обществе, поэтому его проблемой стал вопрос: как свобода может быть осуществлена в демократическом обществе?
Хотя отправной точкой для размышлений
и Гегеля и Токвиля был исторический опыт упадка духа и институтов
политической свободы в послереволюционной франции, они пошли разными путями в
поисках альтернатив: Гегель думал, что нашел
жизнеспособную альтернативу в несколько идеализированной прусской
монархии; Токвиль, напротив, повернул к изучению второго великого
революционного общества своего времени — американского общества. И здесь он
нашел нечто такое, чего недоставало не только послереволюционному французскому
обществу, но и всем великим континентальным державам Европы того времени: дух
свободы, который стал формой нравственной жизни.
Раньше я уже
называл эту форму нравственной жизни «демократической». Этот термин можно
понимать здесь как в ток-вилевском, так и в более традиционном гегелевском
смысле: ибо демократия есть форма нравственной жизни эгалитарных обществ («демократические» общества в смысле Токвиля); и
она есть форма жизни, опирающаяся на всеобщий принцип индивидуальной и коллективной самостоятельности. Остается еще пояснить
смысл высказывания, что демократия стала формой «нравственности» в
смысле Гегеля. Попробуем дать это
объяснение, напомнив некоторые ключевые аспекты токвилевского анализа.
Сперва скажем
несколько слов о концепции свободы у Токвиля и о ее отношении к тому, что я
называю демократией. Его концепция свободы
— «коммуналистская». Она неотделима от (1) идеи индивидов, согласованно
действующих при распределении и решении дел, представляющих общий
интерес; (2) идеи публичного доказательного обсуждения как средства прояснения,
изменения и критики личного выбора мнений и
толкований; и, наконец, (3) идеи равного права индивидов участвовать в
процессе формирования и выбора своей коллективной жизни. «Отрицательная»
свобода, материализованная в структурах
гражданского общества, преобразуется здесь в «положительную» свободу
согласованно действующих граждан. Эта «положительная»
или «рациональная» свобода равносильна некоей форме восстановления тех
общественных связей между индивидами, отсутствие которых определяет их
существование как чистых независимых собственников. «Одна свобода, — пишет
Токвиль, — может извлечь граждан («буржуа») из того состояния изолированности,
в котором удерживает их самая материальная обеспеченность, и заставить их
приблизиться друг к ДРУгу, она... ежедневно будет их соединять
необходимостью понять, убедить друг друга и уступать друг другу при
выполнении общего дела. Она одна... доставляет честолюбию более значительные цели, чем приобретение богатств, и
творит свет, дающий возможность видеть и судить пороки и добродетели людей»17.
Теперь многое из
этого кажется очевидным: свобода в таком смысле может существовать только как
форма нравственной жизни, т.е. как коллективная практика, пронизывающая
институты общества на всех уровнях, характер, обычаи и моральные чувства его
граждан. Это нечто очень похожее на то, что Токвиль открыл в институтах и повседневной жизни
послереволюционной Америки. Я думаю, что Токвиль прав, приписывая
глубокие различия между ходом французской и американской революций тому факту,
что Constitutio Libertatis в США началось не сверху, как революция во Франции,
но, так сказать, с низов общества. В конце концов, американская революция была революцией только против колониальной
власти, т. е. против британской короны, тогда как политические и социальные
структуры, сформированные на локальном и
региональном уровне за время колониального режима, представляли собой
наиболее радикальные освободительные традиции самой метрополии. Таким образом,
форма демократической республики долгое время была реальностью на уровне
самоуправляемых общин, местечек и
региональных союзов, прежде чем она стала принципом федерального союза
американских штатов. Длительная традиция
местного самоуправления породила тот политический опыт, установки и
интуиции, без которых американская революция не смогла бы привести к
государственному строю эгалитарной демократической республики. «Произошла
американская революция, — констатирует Токвиль. — Догмат верховной власти
народа вышел из местной общины и овладел
государственным правлением»18. И еще: «Революция в
Соединенных Штатах произведена была зрелым и обдуманным стремлением к свободе,
а не неясным и неопределенным инстинктом независимости. Она не опиралась на страсть к беспорядку,
но, напротив, развивалась с
любовью к порядку и законности»
Я не буду здесь
углубляться в подробности блестящего анализа Токвиля и потому не скажу ничего
об институтах самоуправления на местном уровне, о его размышлениях по поводу воспитательной роли суда присяжных или о
разделении и децентрализации власти в американском государственном
устройстве. Как хорошо известно, Токвиль не был некритичным к американской
демократии и не рассматривал ее просто как образец для европейских государств.
Более того, за полтора века после выхода его книги накопилось множество
оснований не идеализировать американскую демократию: история американской
демократии оказалась также историей политического, социального и
экономического ограничения прав меньшинства и частично историей
империалистической эксплуатации и
вмешательства в дела других государств. И все же к этому надо добавить,
что вердикт Гегеля о гражданском обществе,
где «человек обладает значением, потому что он человек, а не потому, что
он иудей, католик, протестант, немец, итальянец и т. д. и т. д.» , — нигде в
мире не стал истиной как принцип гражданских прав, т. е. как принцип политической
свободы, в большей степени, чем в Соединенных Штатах Америки. Все это, однако, в известном смысле не имеет отношения к
тем философским вопросам, которые я здесь ставлю. Ибо я обратился
к Токвилю лишь с целью показать, что, несмотря на возражения Гегеля, нет оснований утверждать, будто универсалистские
принципы естественного права не
«переводимы» в коммуналистскую концепцию политической свободы. Токвиль фактически учит тому, что свобода в современном мире мыслима только как
демократическая форма нравственной
жизни.
Анализ Токвиля имеет одно особенно интересное
следствие. Если
попытаться сделать «обратный перевод» этого анализа в более последовательную систему категорий гегелевской
«Философии права», то станет
очевидным, что пограничные линии между гражданским и политическим обществом (уже у Гегеля отнюдь не четкие) должны
рассматриваться как весьма подвижные. Ибо дух демократической формы
нравственной жизни, если она вообще существует, будет пропитывать все институты общества. Следовательно, нельзя провести никакой твердой границы, которая раз и
навсегда отделила бы сферу
«отрицательной» свободы от сферы «положительной», общественной свободы. Иными словами,
демократическая форма нравственной
жизни будет влиять на пути, в каких может развиваться и проявляться отрицательная свобода владетелей собственности.
Возьмем наиболее очевидный пример: обобществление средств производства всегда есть (и всегда должно быть) одной из возможностей выбора для демократического
образа правления. Значит ли это, что
коммуналистская концепция политической свободы
включает в себя все истинное содержание естественно-правовых теорий? Или мы должны допустить, что
теоретическая стратегия Гегеля, которая de facto (хотя и в менее систематическом виде) является также стратегией Токвиля и даже
Милля и согласно которой
«отрицательная» свобода буржуазного индивида есть сфера прав sui generis, не подпадающих под контроль
демократически порожденной общей воли, —
опирается на свое собственное, иное понятие права? Это те вопросы, с которыми я
хочу вернуться назад к моим исходным размышлениям о противостоянии индивидуалистских и коммуналистских концепций свободы
в современном мире.
IV
Чтобы повысить
остроту моих вопросов, я хочу сравнить два относительно
новых образца индивидуалистской и коммуналистской концепций свободы. Соответственно защитником
первой у меня будет Нозик, сторонником второй — Хабермас. Я выбрал
Хабермаса потому, что его теория — это наиболее глубокая и оригинальная на сегодня перестройка коммуналистской концепции
свободы, и выбрал Нозика, так как его книга «Анархия, государство и
утопия», хотя, быть может, и не самая глубокая, дает самую радикальную защиту
индивидуалистской концепции, какую я знаю. Я не собираюсь обсуждать здесь
никаких деталей и вдаваться в антропологические и гносеологические посылки
двух авторов. Поскольку речь зашла об этих
посылках, то я думаю, что Хабермас, в основном, прав, а Нозик глубоко
ошибается. Все, что я хочу, — это рассмотреть интересную формальную аналогию
между двумя теориями.
И Нозик, и Хабермас работают с некими .мегапринципами свободы, т. е. с принципами, которые определяют только
формальные условия свободного общества без какого-либо конкретного содержания в
виде институционных структур, форм жизни, форм объединения и т. д. У Нозика эти
метапринципы суть принципы отрицательной свободы, сосредоточенной на правах
собственности. У Хабермаса они — принципы рационального рассуждения. В обоих
случаях метапринципы свободы определяют не утопическое состояние общества, а,
как говорит Нозик, некий «каркас для утопий», «мета-утопию»21. У обоих формальные условия свободы определяют условия
по существу плюралистического общества: метапринципы говорят, какие условия должны быть выполнены, чтобы конкретные содержания
общественных отношений были признаны законными. И поскольку эти условия выполнены,
любое содержание (институционные механизмы, формы жизни, индивидуального
выбора, формы действий и т. д.) будет законным.
В этом пункте
аналогия кончается, ибо форма и содержание, очевидно, будут связаны друг с
другом очень по-разному в зависимости от того, связывают ли их в соответствии
с принципами рационального рассуждения или согласно принципам права собственности. Метапринципы рационального
рассуждения суть, прежде всего, принципы построения институтов,
обеспечивающих общественную свободу и
демократическое принятие решений. В свете этих метапринципов права собственности предстают как возможное содержание
демократического согласия (консенсуса). Напротив, метапринципы
индивидуальных прав в первую очередь суть принципы негативной свободы. С точки
зрения этих метапринципов демократическое
участие является возможным содержанием соглашения (договора,
контракта) между членами определенной группы общества.
Как живописует Нозик: «Визионеры и помешанные, маньяки и святые, монахи
и распутники, капиталисты, коммунисты и демократы, защитники фаланг (Фурье),
дворцов труда (Флора Тристан), общинных деревень и кооперации (Оуэн), коммун
взаимопомощи (Прудон), временных распределителей (Джозайя Уоррен), BruderhofoB, киббуцизма, ашрам кундалини йоги
и т. д. — все имеют право на попытку
осуществить свою мечту и внести в мир соблазнительный пример» . По сравнению с
Хабермасом точка зрения Нозика, представляющая постмодернистскую версию либеральной утопии, совершает головоломную
перестановку формы и содержания. Но почему считать это головоломкой, а
не просто абсурдом? Я думаю, можно было бы легко показать, что это нелепо во
многих отношениях на основании антропологии, социологии и теории рациональности
и особенно нелепо потому, что Нозик даже не задается вопросом, а как граждане
его утопического государства могут быть
уверены, что метапринципы их свободы правильно
воплощены в практику? Это именно тот этап, на котором Локк и Кант стали
бы развивать теорию представительного правления (а Гоббс — концепцию
государства-Левиафана). На первый взгляд и
с философской точки зрения, все говорит против либеральной утопии
Нозика. Кажется очевидным, что коммуналистская перспектива в духе Хабермаса гораздо более последовательна в
обрисовке формальной концепции свободы, если такая вообще нужна. Причина, по
которой я тем не менее нахожу нечто проблемное
(а не просто нелепое) для «коммуналиста» в построении Нозика, состоит
в том, что оно может быть понято как некое описание гражданского общества в
смысле Гегеля. Но если это построение понять таким образом, т. е. как
узаконение сферы отрицательной свободы в современном государстве, сферы,
которая структурно отлична и в некотором смысле независима от коллективной сферы публичных дебатов и формирования
демократической воли, тогда возникает вопрос, можно ли конструкцию типа
нозиковой рассматривать в том же духе, как Гегель рассматривал теории естественного
права: как способ выражения одного основного измерения свободы в современном мире,
именно, отрицательной свободы, которая, разрывая узы солидарности между
индивидами, есть в то же время непременное условие для того рефлексивного
(универсалистского и демократического)
восстановления солидарности, которое только и адекватно современному
государству. Затем следует спросить, способна ли коммуналистская концепция
свободы в духе Хабермаса сама учесть все содержание этого измерения отрицательной
свободы, или либеральная идеология имеет независимое истинное содержание, которое надо в явном виде воплотить («снять»)
в коммуналистской концепции свободы.
Чтобы пояснить,
в чем тут дело, возьмем три разных пути, какими возможно рассматривать проблему
легитимации (узаконения) сферы отрицательной свободы с коммуналистских
позиций. Первые два вида легитимации совсем не оспаривают первичность
коммуналистской перспективы, т. е. прерогативы демократически понятой общей
воли. Только при третьем виде легитимации эта первичность,
хотя и не оспаривается как таковая, предстает в новом свете.
Первый вид легитимации касается потенциала управления, присущего свободному рынку. Единственная альтернатива
экономическому управляющему механизму свободного рынка, которую мы знаем, —
это бюрократическая регуляция, но на сегодня существует почти всеобщее
согласие, что она далеко уступает рыночному механизму, поскольку нас интересует
экономическая эффективность. Под «экономической эффективностью» я подразумеваю
результативность производства и распределения товаров (потребительных
стоимостей) с точки зрения нужд потенциальных потребителей этих товаров. В
экономической «подсистеме» современных
(западных) обществ деньги как «обобщенное средство сообщения
(коммуникации)» обусловливают такой тип взаимодействия и принятия
решений относительно производства и распределения материальных благ, который
оказался гораздо более гибким и эффективным, чем любой «политический» тип.
Поскольку в современных обществах это
стало почти частью экономического здравого смысла, можно легко
истолковать ее и как часть содержания реального (или по меньшей мере
потенциального) демократического согласия. Первичность коммуналистской
перспективы утверждается здесь в прямом смысле, поскольку передача функций
управления рынку как сфере отрицательной свободы может рассматриваться как, по
крайней мере, потенциально вытекающая из демократического процесса принятия
решений и ограниченная им. Этот вид легитимации сферы «стратегического»
экономического действия встроен в
хабермасовскую теорию коммуникативного действия.
Второй вид
легитимации весьма тесно связан с первым, хотя прямо относится только к
проблеме распределительной справедливости. Я разумею здесь нечто вроде второго
принципа справедливости Ролза, согласно которому неравное распределение богатства
и возможностей законно («справедливо»), если оно служит ко благу наименее
обеспеченных и преуспевших23. Так как этот принцип явно имеет особое отношение к тем неравенствам, которые связаны
с рыночными системами, прежде всего с капиталистическим хозяйством, его
[принцип] тоже можно рассматривать как часть коммуналистского оправдания сферы
отрицательной (экономической) свободы.
И только третий
вид аргументации в пользу сферы отрицательной свободы ставит перед
коммуналистской позицией определенную проблему. Я думаю о той аргументации,
которую использовал Гегель, прямо ссылаясь на традицию теорий естественного
права. Этот вид аргументации, хотя и не вовсе несовместимый с двумя другими способами рассуждения, упомянутыми
мною, отличается от них тем, что сосредоточен, говоря парадоксально, на положительной стороне отрицательной
свободы. Отрицательная или, как называл ее Гегель, «абстрактная» свобода
видится здесь как «момент» (и, тем самым, как предварительное условие) для
такого рода коллективной свободы, которая основана на признании прав индивида.
Это тот род свободы действовать (Freiheit der Willkiir Канта), который теоретически следовало бы предусмотреть заранее, если коллективная, т. е. рациональная свобода
возможна как форма свободы, основанной на понимании и добровольном согласии. Отрицательная свобода, в смысле
универсального учреждения (институации) абстрактного права, есть
предварительное условие коллективной свободы в современном мире в той же самой
степени, в какой она есть также условие, при котором индивиды имеют право не быть полностью
рациональными. Ибо, только если люди обладают правом не быть вполне
рациональными в смысле коллективного представления о рациональности, их
коллективная рациональность может стать выражением их индивидуальной свободы.
Отрицательная свобода как право человека на самостоятельность включает право быть, в определенных
пределах, эгоистичным, безумным,
эксцентричным, безответственным, отклоняющимся в поведении, одержимым, самоубийцей, мономаном и т. д. и т. д. Надо только
добавить, что кажущееся другим людям по одним соображениям
безумным, эксцентричным, отклоняющимся и т. д., и даже эгоистичным, может в
ином отношении показаться, даже с точки зрения коллективной рациональности,
разумным и оправданным. Для Гегеля гражданское общество как сфера
институированной отрицательной свободы было
разновидностью нравственной жизни, заблудившейся в своих крайностях. Оно
олицетворяло для него ту сторону разлада, разобщения
(Entzweiunng) в современной жизни (бывшего главным грехом в глазах Руссо,
ранних романтиков и, позднее, Маркса),
которую сам Гегель считал ценой, которая должна быть уплачена за
восстановление коллективной свободы в условиях современности, т. е. в условиях
появления полностью освобожденной
человеческой индивидуальности, всеобщих прав человека, освобождения
науки, искусства и профессиональной деятельности
от политических и религиозных ограничений досовременного общества. Эта
необходимая цена одновременно является предварительным условием для
той современной формы коллективной свободы, которая, в противоположность
классической греческой форме нравственной жизни, не потерпела бы любых ограничений
рационального рассуждения и рационального исследования. Ибо гражданское общество как сфера разобщенности было для Гегеля
также и школой обучения, просвещения, образования (Bildung) индивидов в практическом,
познавательном, моральном и эстетическом
смыслах. Следовательно, оно играло положительную роль в формировании
людей, которые обладали бы интеллектуальными
и моральными качествами, необходимыми гражданам современного государства. Гегель фактически утверждает, что упадок нравственности, объективированный в
антагонистической структуре гражданского общества, в конечном счете, т.
е. с точки зрения нравственной жизни
полностью рационального государства, оказывается только видимостью. Заметим, что, поскольку речь идет о его
собственной теории, Гегель определенно избегал (и Маркс был прав, указывая на
это) проблемы, связанной с последним утверждением.
Однако Маркс, перевернув гегелевский порядок действительности и
видимости (по Марксу, гражданское общество — действительность,
а элементы коллективной свободы — только видимость в современном
государстве), пропустил гегелевскую ме-такритику
романтической критики современности. Общезначимость этой метакритики не
зависит от конкретного построения Гегелем теории современного государства. Даже
радикальные демократические концепции нравственной жизни как формы
коллективной свободы в современном
государстве должны усвоить истинное содержание гегелевской критики
романтических утопий всеобщего примирения. Это истинное содержание его критики
состоит в том, что никакая коллективная
свобода в современном мире невозможна, если она не опирается на
закрепленное в общественных институтах признание равной отрицательной свободы
для всех. Остается ответить еще на два вопроса: (1) Каково взаимоотношение между отрицательной свободой и правами
собственности? (2) Как третий вид аргументации относительно
отрицательной свободы влияет на коммуналистское понимание
демократически порожденной общей воли?
1. По первому вопросу названное взаимоотношение совершенно ясно у Гегеля: отрицательная свобода может
существовать, только если она имеет внешнюю сферу своего реального
проявления по отношению к отдельному лицу24; следовательно, она
может существовать только в форме индивидуального права каждого на вещи и
объекты, которые являются исключительно моими. Если права человека
мыслятся присущими индивидам как личностям, права собственности тоже
должны быть индивидуализированными, личными — вот суть аргументации Гегеля. Это
очень далеко от оправдания чего-то подобного капиталистическому хозяйству.
Необходимо добавить аргументы иного рода,
например аналогичные первому и второму видам легитимации, упомянутым мною,
чтобы оправдать определенную форму организации
такого хозяйства. По этим соображениям было бы крайне трудно провести
четкую границу между теми индивидуальными
правами собственности, которые, по-видимому, подразумеваются входящими в
саму идею отрицательной свободы, с одной стороны, и с другой — теми правами
собственности, признание и институация которых могли бы рассматриваться как
содержание демократического консенсуса в конкретном обществе. Более того, как
правильно указывает Нозик, в законный путь реального использования
индивидуальных прав собственности входит отказ отдельных лиц от собственности
или отмена ими прав собственности в пользу, допустим, коммунальной
(коллективной) формы собственности. Значит ли это, что добровольное согласие, т. е. «рациональный консенсус»,
вообще составляет окончательный критерий, определяющий законный объем
индивидуальных прав собственности? И, если так, не будет ли это в конце концов
равносильно безусловному подтверждению первичности коммуналистского подхода? С
такими вопросами я хочу перейти к проблемам,
связанным с этой первичностью, т. е. ко второму вопросу, поставленному в
начале данного раздела.
2. Мои предыдущие рассуждения показывают, что ясно определенных пределов возможному содержанию
рационального консенсуса относительно институации прав собственности не
существует (по крайней мере до тех пор, пока мы придерживаемся убеждения, что,
конечно, никакой консенсус нельзя назвать рациональным, если он ставит под вопрос сами условия, при которых может
быть достигнуто рациональное согласие среди граждан). Можно попытаться сформулировать
эти условия в виде метапринципов рационального рассуждения. В таком пути обоснования первичности коммуналистской перспективы
интересно то, что метапринципы рационального рассуждения по крайней мере не
закончены для спора в том смысле, как принципы распределения прав
собственности. Консенсус по этим
принципам не является критерием их общезначимости. Скорее, поскольку они
могут быть обоснованы независимо, то консенсус, который свелся бы к их
отрицанию, не мог бы, априори, называться
рациональным. Далее, я
полагаю (и пытался
показать это в другом месте25), что те метапринципы
рационального рассуждения, которые
действительно могут быть оправданы априорно (с использованием аргументации от
«прагматического самопротиворечия»),
слишком слабы, чтобы полностью исчерпать общезначимое содержание современной концепции коллективной
свободы. Но это значит, что никакое чисто формальное описание (ни даже
описание типа процедурной концепции
рациональности в духе Хабермаса) не достаточно, чтобы самостоятельно
передать все общезначимое ядро некоей
современной концепции коллективной рациональности или коллективной свободы. То есть, насколько я
могу видеть, общезначимое требование равных человеческих прав не
следует прямо (в любом
понятном смысле слова «следовать») из
априорных принципов рационального рассуждения. Ведь именно в связи со всеобщностью прав человека Гегель, следуя долгой
традиции, придает особую важность сфере «отрицательной» свободы. Но
тогда должны существовать дополнительные
условия, формирующие возможную рациональность демократического консенсуса,
которые, подобно
метапринципам рационального рассуждения, не
могут получать свою общезначимость от самого
демократического консенсуса. Я думаю, что этот аргумент весьма похож на тот,
который составляет сердцевину
гегелевской
антиформалистической стратегии.
Если он верен, то отсюда следует, что необходимо нечто большее, чем «абстрактное» понятие рационального доказательства или
разумного согласия, чтобы выразить базисные условия возможного рационального консенсуса
в современных обществах. Поэтому Гегель, возможно, был в конечном счете прав в отношении
теорий естественного права
в двойном смысле:
(1) в попытке
сохранить верное содержание «атомистической» концепции естественных
прав; и (2) в отказе просто превратить идею естественных прав в трансцендентальный принцип коммунальной
(коллективной) рациональности и свободы. Причина, по которой из такого
рода принципа (даже если он сформулирован в виде процедурной концепции рациональности) нельзя прямо
получить универсальную концепцию
отрицательной свободы, состоит в том, что права отрицательной свободы в
известном смысле, как я показал раньше, суть права
еще и против требований коллективной рациональности. Если это
звучит как парадокс, то может быть он смягчится, когда мы примем в расчет, что
требования коллективной рациональности в любом конкретном контексте и в любой
данный момент исторического времени будут обладать некоторого рода публичной
определенностью через социальные институты, моральные убеждения, общественное мнение и т. д. — публичной
определенностью, которая Должна быть открыта для критики и возможной
ревизии и должна оставлять пространство для разногласий. Отрицательная свобода,
увиденная под таким углом, будет, по меньшей мере, свободой расходиться во
мнениях и действовать как инакомыслящий, раскольник. Кажется очевидным,
однако, что признание соответствующих прав
должно быть существенным компонентом любой жизнеспособной концепции коллективной свободы в современном мире. Безусловно,
«коммуналист» типа Хабермаса легко согласится с этим. В таком случае возникает
единственный спорный вопрос: необходимы ли те виды «промежуточных»
философских доводов, которые я пытался
здесь набросать, следуя гегелевской линии рассуждений, если мы хотим
дать философское описание наших совершенно бесспорных интуиции
относительно бытия свободы в современном мире; т. е. верен ли мой тезис, что
всеобщий принцип отрицательной свободы не может рассматриваться понятийно как
часть коммуналистской концепции рациональности в смысле Хабермаса. Для
подкрепления этого тезиса я сделаю к нему два пояснения.
1. С точки зрения процедурной концепции
рациональности можно понять всеобщие
принципы прав человека либо как моральные нормы, которые мы сами полагаем
содержанием возможного рационального консенсуса, либо как уже
содержащиеся в самих метапринципах рациональности. В первом случае надо быть
готовым к тому, что наши универсалистские моральные интуиции могут оказаться
ошибочными, поскольку возможен такой рациональный консенсус, который отрицает
эти принципы. Я думаю, что это толкование, независимо от глубины своего
контринтуитивизма, было бы неприемлемо для Хабермаса. Согласно логике его
позиции, универсализм, общезначимость должны быть встроены в «необходимые
нормативные предпосылки» рационального суждения, т. е. должны быть частью
метапринципов рациональности. Но как мог бы принцип рациональности (даже если
это принцип «коммуникативной» или «дискурсивной» или той и другой
рациональности вместе) сказать что-нибудь о праве не быть рациональным?
Смысл принципа рациональности в том, чтобы определять границы рациональной
коммуникации и рационального дискурса как бы изнутри; этот принцип
напоминает нам, что мы не имеем никакого явного права не быть рациональными, и говорит лишь о том, чем мы
не имеем права быть (каковы те нормы, которые не имеем права нарушать).
Далее, если этот принцип априорный, он должен быть общезначимым для любого
возможного субъекта во всякое время — принцип не может допускать исключений.
Следовательно, если существует нечто подобное праву не быть рациональным,
это должно быть правом иной природы. К примеру, оно не может быть моральным
правом, с которым субъект мог бы притязать нарушить
требования коллективной рациональности (ибо таких прав быть не может).
Поэтому, если вообще заходит речь о моральном праве, это должно быть моральное
право, которое можно объяснять только на основе моральных обязательств других
людей относительно моей сферы отрицательной свободы, т. е. некоего
морального обязательства уважать мою сферу отрицательной свободы, даже если я
осуществляю соответствующие права иррациональным
способом. Соответствующий принцип отрицательной свободы не может быть
частью какого-то метапринципа рациональности, если бы даже удалось
правдоподобно доказать, что рациональный консенсус на подобном принципе должен
быть возможен. Но, как мы видели, этот выход кажется неприемлемым с точки
зрения процедурной концепции рациональности. Любопытно, что он становится
возможным выходом, как только мы поймем отношение
между принципом отрицательной свободы и возможностью рационального согласия по-другому. Это подводит
нас к моему второму пояснению.
2. Ролз истолковал свой первый принцип справедливости (который можно
понимать в качестве универсалистского принципа отрицательной свободы) как содержание рационального консенсуса среди индивидов, которые, овладевая тем, что
он называет «исходной позицией»,
скрытой под «маской неведения», и опираясь на чисто стратегические
целенаправленные выкладки, будут пытаться «вычислить», какого рода основной
общественный уклад был бы наиболее выгоден им. Понятие «исходной позиции»,
являющееся теоретической фикцией, — это
прием, используемый Ролзом, чтобы убедить,
будто целенаправленные, стратегические расчеты индивидов осуществляются в условиях ограничений,
поставленных универсалистской
моралью26. По этой причине первый принцип справедливости Ролза очень близок к кантовскому
определению «права», которое я цитировал ранее, и еще ближе к
гегелевской концепции «абстрактного права».
Интересно, что подразумеваемый здесь консенсус — это
«трансцендентальный» консенсус: при наличии множества индивидов каждая отдельная индивидуальность, рационально
рассчитывающая под маской неведения собственные интересы, придет к одному и
тому же заключению. Никаких рациональных переговоров или дискурса между индивидами
не требуется. Это и есть «трансцендентальная» аргументация иного рода, чем та,
которая присутствует в оправдании
метапринципов рационального дискурса в смысле Хабермаса; т. е. принцип,
искомый Ролзом, не является ни метапринципом такой дискурсии, ни специальной
моральной нормой, что могла бы стать содержанием возможного рационального
консенсуса (опять же в смысле Хабермаса). Скорее это метапринцип справедливости
для индивидов, которые хотят максимального
расширения сферы отрицательной свободы для себя и готовы гарантировать равную сферу отрицательной свободы любому
другому. Эти индивиды суть «абстрактные» индивиды, и потому их свобода есть
«абстрактная» свобода.
Далее интересно
наблюдать, как Ролз пытается следовать процедуре,
в некотором смысле аналогичной той, которую избрал Гегель. Ибо Ролз
стремится показать, что его «бедная» концепция справедливости, если продумать
все ее смысловые связи и «выводы»
относительно возможной институации, приведет к универсалистской
концепции коммунальной (коллективной) свободы в том духе который я назвал демократической формой
нравственной жизни. Конечно, процедура Ролза, если она сводится к
частному «переходу» от «абстрактного права» к «конкретной нр. зственной жизни»,
резко отличается от гегелевской. Наиболее важное отличие состоит в том, что
для Ролза первый принцип справедливости, т. е. принцип равной свободы, прямо
ведет к принципу равных прав на политическое участие»». Здесь я не хочу
защищать никакич деталей в теории Ролза, но нахожу достойным внимания в ней,
что для подобного построения, видимо, не
существует внутренних пределов возможному концептуальному и антропологическому
обогащению «абстрактной» концепции справедливости как
отправной точки всей конструкции. На известном этапе можно бы даже
ввести идею коммуникативной рациональности. Отсюда следует, что как будто не
должно быть проблем с возвращением в лоно коммуна-листской концепции
свободы. Однако в этой последней изначально подразумевается, что она
предназначена для современного мира, ибо вся конструкция берет начало в
самой сердцевине современного сознания, так сказать, с Канта, т. е. с универсальной
концепции права и морали. Поэтому остается и известного рода дуализм
гражданского общества и государства, встроенный в эту конструкцию с самого
начала, — дуализм, который имеет нормативное содержание. И этот нормативный
дуализм, возможно, составляет также общее истинное содержание в политических
философиях Гегеля, Милля и Токвиля.
Напротив, концепция коллективной свободы, которая строится исключительно
на идее коммуникативной рациональности, не содержит такого нормативного
дуализма именно потому, что никакой принцип отрицательной свободы в нее не
встроен. В этом, конечно, и причина, почему «атомистические» аспекты гражданского общества получают признание в
теории Хабермаса только с точки зрения необходимой «редукции сложности», т. е. в рамках «проблемы управления» для
сложных обществ. Кто-то мог бы возразить, однако, что с точки зрения
принципа отрицательной свободы не редукция, а созидание сложности есть
искупительная черта той стороны «разобщения», которая присуща современному гражданскому обществу.
Мои оговорки
относительно возможности обоснования современной
концепции свободы исключительно на процедурном понятии «коммуникативной»
или «дискурсивной» рациональности не надо понимать неправильно. Ибо я думаю,
что Хабермас прав, рассматривая такую
концепцию рациональности как нормативное ядро любой возможной
постметафизической идеи разума. В некотором важном смысле эта концепция
схватывает основную нормативную структуру современного сознания. Я хотел
показать только то, что сама по себе она недостаточна, чтобы дать полное
представление о нормативном содержании
современной концепции свободы. Универсалистский
принцип равных человеческих прав — это моральный принцип, который можно
бы защищать вместе с Ролзом и Хабермасом как единственно возможное содержание
всеобщего рационального согласия относительно прав человека. Поскольку,
однако, самая категория «абстрактной» или «отрицательной» свободы и,
следовательно, важный аспект того, что мы разумеем под правами человека, не может быть частью принципа рациональности,
то оказывается, «то принцип прав человека не может прямо вытекать из
принципа рациональности. Это самостоятельный (субстантивный) моральный принцип, обоснование которого должно отличаться от обоснования самого принципа рациональности.
В то же время принцип прав человека
не есть принцип тех специальных норм, которые возможно оправдать существованием рационального демократического
согласия: как некий меташринцип прав
он весьма близок к метапринципу морали и, следовательно, определяет ограничивающее условие того, чем могло бы стать
правильное (законное) содержание демократического консенсуса. И именно в том
смысле, что принцип прав человека
определяет условие возможной рациональности демократического
консенсуса. Мне кажется, что это и есть устойчивое
ядро истины в традиции современных теорий естественного права от Гоббса
до Ролза. Это твердо установленное ядро в
самом деле необходимо дополнить понятием «коммуникативной» и
«дискурсивной» рациональности, если ему суждено стать «абстрактным» зародышем современной концепции
«положительной», коллективной
свободы, т. е. универсалистской концепции демократической формы
нравственной жизни. Принципы равных свобод и коммуникативной рациональности
«нуждаются» друг в друге, но они ни в каком простом смысле «не следуют» друг из
друга. И в этом смысле свобода и разум не совпадают в современном мире, даже
если потребность в свободе — рациональная потребность и цель («телос») отрицательной свободы —
рациональная, коллективная свобода.
VI
До сих пор я скорее предполагал заранее, чем доказывал наличие внутренней связи между хабермасовскими
понятиями коммуникативной и дискурсивной рациональности, с одной стороны, и
идеей коллективной свободы — с другой. Конечно, в известном смысле эта связь
очевидна: идея демократического самоопределения (самостоятельности) требует
социального пространства для неограниченной сообщительности (коммуникации) и
публичного рассуждения (дискурса), а также институционных форм рассудочного
волеобразования. Права индивидуальной свободы «переводятся» здесь в права
политического участия, отрицательная свобода «снимается»
в коллективном самоопределении. Поэтому мы могли бы Утверждать, что
коллективная свобода — это попросту рассудочная рациональность, которая стала формой «нравственности», если еще раз
воспользоваться термином Гегеля. Посмотрим сперва, в каком смысле эта идея
правдоподобна, а в каком нет (что все должно оьггь гораздо сложнее — следует
уже из моего обсуждения темы отрицательной
свободы).
Правдоподобием своим
тезис, будто процедурная
концепция рациональности в смысле Хабермаса, содержит идею коллективной
свободы, обязан тому обстоятельству, что он описывает посттрадиционный тип
«нравственного» соглашения, а именно соглашение по метанормам рационального
ведения публичного спора (рациональной аргументации) и, тем самым, и по форме
(единственной) восстановления нравственного соглашения между свободными и
равными индивидами, раз распалась традиционная нравственная ткань. Через
процедуру аргументации свободу возможно связать с понятием солидарности и
рациональности. В таком случае процедурная концепция рациональности описывала
бы нормативное ядро посттрадиционной формы коллективной свободы. Следовательно,
мое парадоксальное предположение, что формальная концепция рациональности
могла бы определить сущность, некую содержательную первооснову демократической
формы нравственной жизни, оказалось бы оправданным.
Однако прежде я
утверждал, что никакой универсалистский принцип
«отрицательной» свободы реально, в любом понятном смысле, не содержится
в и не выводим из процедурной концепции рациональности. Если это верно,
то такая концепция тоже не сможет
обеспечить нас посттрадиционной (держащейся не на рутине обычаев) идеей
солидарности («братства»). Солидарность в посттрадиционном смысле требует,
чтобы мы хотели какого-то пространства отрицательной свободы для каждого
другого, — пространства, которое является предварительным условием для самоопределения
и принятия на себя ответственности за собственную жизнь и которое, тем самым,
есть также пространство свободы говорить
«нет» и действовать соответственно. Лишь на основе такой свободы мыслимы
равноценные, симметричные формы взаимного
признания добровольных соглашений и рациональный консенсус среди
равных. И только если бы процедурная концепция рациональности содержала в себе
предвосхищение или «проект» формы жизни, которая была бы воплощением
коммуникативной и дискурсивной рациональности в идеальном смысле
(«идеальное сообщество для сообщения»,
«коммуна коммуникации»), смогли бы мы построить концепцию коллективной
свободы исключительно на идее рациональности. Однако я убежден и старался
показать в другом месте28, что такая идеализация не имеет смысла.
Этим я хочу сказать не то, что сама идея рациональности содержит трансцендентальную
иллюзию (как, например, аргументировал бы Жак Деррида), т. е. что она
опирается на идеализации, которые также неизбежны, как и иллюзорны. Скорее я имею в виду, что такие идеализации, будучи
концептуально несвязными, реально не
включены в понятие рациональности. По этой причине идея коллективной
свободы хотя и нуждается в определении и поддержке рациональными аргументами,
хотя и предоставляет рациональной
аргументации почетное место в связи с проблемой восстановления и
продолжения нравственного соглашения, все же не может быть сведена к
процедурной концепции рациональности.
Коллективная свобода есть свобода, которая, благодаря институтам и практике общества, благодаря
самосознанию, заинтересованности и
привычкам его граждан, стала общей целью. Отрицательная свобода изменяет свой характер, когда она становится
делом всех. Ибо тогда она не только наша собственная свобода, которую мы хотим для себя, но и максимум
самостоятельности для каждого
индивида и коллектива. Но такое общее и общепризнанное пространство для проявлений этой самостоятельности может существовать
только в том случае, если признана, институирована сфера публичной, общественной свободы, в которой мы, ограниченные требованиями рациональности и справедливости,
коллективно (т. е. в условиях публичных дебатов и действуя «в согласии»)
проявляем наше право на самостоятельность и
самоопределение как политическое право. И поскольку отрицательная
свобода преобразуется в коллективную
свободу посредством институтов и практических обычаев коллективного
самостановления, такая коллективная
свобода, там, где она существует, необходимо оказывается самосознающей: она становится своей собственной
целью, самоцелью. В известном смысле
это было верно уже для греческого полиса,
по крайней мере, если мы поверим тем философам от Гегеля до Ханны Арендт,
которым он служил первым образцом политической
свободы. Институты, практические обычаи и привычки коллективной свободы становятся своей собственной
целью, делаясь частью
самоистолкования, «самости» и практических ориентации индивидов. Ибо, когда это случается, содержание
демократического формирования воли
больше не обусловлено только теми дополи-тическими тревогами, интересами и конфликтами, которые вторгаются в политическую сферу извне (как материал
для «справедливых» регуляций);
скорее сама коллективная свобода делается содержанием политики — не
только в революционном акте Constitutio
libertatis, который для Арендт всегда был образцом политического действия, но
и в практике обеспечения, новоистолкования, защиты, видоизменения и расширения
объема публичной свободы. Constitutio libertatis — это продолжающаяся,
непрерывная проблема политического действия в условиях общественной свободы. И
здесь — момент истины в иначе парадоксальном убеждении Арендт, что сфера
политического действия имеет своим содержанием саму себя.
Отличает эту форму самосознания коллективной
свободы, которую мы
можем приписать уже греческому полису, от самосознания любой современной формы коллективной свободы не только то, что последняя должна опираться на
(универсалистское) признание «прав
особенного», но и то, что она самосознающая еще и в другом смысле: а именно, в смысле осознания того
факта, что никакое точно определенное
нормативное содержание, никакие специальные толкования, на которые могли бы
опираться эти права, не защищены °т
возможности рациональной критики. В известном смысле (и это истинное
содержание хабермасовской трактовки коллективной сво-ооды) любое конкретное нормативное содержание, любой специальный вид институционной регуляции и
любая конкретная система объяснений открыта для спора и рационального
пересмотра. Следовательно, процедурная концепция рациональности определяет
важное структурное условие любой современной формы коллектив ной свободы. Что
она только определяет условие и не дает собственно «определения» коллективной
свободы, можно теперь выразить и по-другому, а именно, что процедурная
концепция рациональности в состоянии сказать нам лишь о том, чем хочет быть рациональная
свобода, но не о том, чем рациональная свобода будет.
VII
Если свобода в современном мире опирается на нормативный дуализм
«отрицательной» по сравнению с «положительной», т. е. коллективной свободой, тогда диалектическое напряжение встроено в
саму универсалистскую идею свободы. Я думаю, что это то самое диалектическое напряжение между отрицательной и
положительной свободой, которым вплотную и всерьез начали заниматься и
Гегель и Токвиль. Мы можем истолковать его как напряжение между индивидуализмом
и коллективизмом (коммунализмом) в современной идее демократии. Хотя отрицательная свобода — непременное условие
коллективной свободы в современном мире, она выступает также как потенциальная
причина дезинтеграции, источник конфликтов, потенциальная угроза узам
солидарности между индивидами. Отрицательная свобода несет, как ее видел
Гегель, начало разъединения, разобщения, которое является неотъемлемым элементом
любой современной формы коллективной свободы. В этом, я полагаю, состоит
основное верное содержание критики Гегелем романтических идей всеобщего
примирения, критика которых может быть ретроспективно прочитана даже как
метакритика Марк-совой критики буржуазного
индивидуализма. «Проект современности», истинное содержание гегелевской
критики, не имеет утопической цели. Гегель, однако, был глубоко неправ,
отвергая политическое истолкование принципов естественного права, ибо, как
показал Токвиль, демократическая форма нравственной жизни есть единственно
возможная форма «примирения», «согласия» для современных обществ. Проект современности — это в некотором смысле
проект такого примирения между отрицательной и коллективной свободой. Следует
сказать, вопреки Марксу и Гегелю, что этот проект — продолжающийся проект без окончательных решений, который
временами, по случаю, преобразует утопические энергии в конкретные новые
решения. Против либерализма тоже должно быть сказано, что без реализации
рациональной коллективной свободы, некоей демократической формы нравственной
жизни, отрицательная свобода неизбежно обернется карикатурой или кошмаром.
Проект
современности, как я истолковал его здесь, очень тесно связан с
универсалистской идеей свободы. Свобода, однако, — не такая вещь, которую
когда-либо смогли бы реализовать в окончательном или совершенном смысле.
Поэтому проект современности тоже не тот тип проекта, который когда-либо будет
«закончен». Единственный путь, на котором этот проект мог бы когда-нибудь
завершиться, — это путь истощения и самоуничтожения человечества — возможность,
как мы теперь знаем, более не невообразимая. Открытый, без определенного
конца, характер проекта современности подразумевает конец утопии, если утопия
означает «завершение» в смысле окончательного осуществления идеала или цели
истории. Конец утопии в таком смысле — это не чувство, что мы никогда не будем
способны полностью осуществить идеал, но
глубокое понимание того, что самая идея окончательного воплощения
идеального состояния не имеет смысла применительно к человеческой истории. Но
конец утопии в этом смысле не равносилен концу радикальных освободительных
порывов морального универсализма и демократических ожиданий, что является
частью проекта современности. Конец утопии
скорее надо осмыслить как начало
нового самосознания современности, нового понимания радикальных
устремлений современного духа, как современность, вступающую в свою постметафизическую фазу. Такой конец утопии не
перекрыл бы путей утопическим энергиям. Скорее он их перенаправил бы,
преобразовал, плюрализовал, ибо ни человеческая жизнь, ни человеческая страсть, ни человеческая любовь, по-видимому,
невозможны без утопического горизонта. «Метафизическим» можно назвать только
воплощение этого утопического горизонта человеческой жизни в концепцию
конечного состояния всеобщего примирения. И поскольку утопический радикализм в
сфере политики связан с такими «воплощениями», его также можно назвать «метафизическим». В политической сфере только
«конкретные» утопии занимают законное место. Но универсалистская идея
коллективной свободы не является ни
«абстрактной», ни «конкретной» утопией. Скорее уж она обозначает
нормативный горизонт для конкретных утопий,
так как определяет непременное условие того, что можно назвать
добропорядочной жизнью в условиях современности.
Мое различение между индивидуалистской и коммуналистской концепциями свободы имеет, естественно, определенное сходство с
различением между «отрицательной» и «положительной» концепциями свободы Исайи
Берлина. Поскольку, однако, моя концептуальная стратегия весьма расходится со
стратегией Берлина, наши два различения, в известной степени, тоже оказываются
несоизмеримыми. (См.: Berlin I. Two concepts of
liberty // Four essays on liberty. N. Y.: Oxford. 1969)
1
Тау1ог Ch. Atomism // Philosophy and the human sciences.
Philosophical Papers. Vol. 2. N. Y.: Cambridge. 1985.
2
Кант И.
Метафизика нравов. Ч. 1 // Соч. в 6-ти тт. Т. 4. Ч. 2. С. 140. м.
"Мысль". 1965.
3
См.: Тау1ог Ch. Op. cit.
4
Термин
заимствован у Тейлора (см. там же).
5
MacPherson С. В. The political theory of possesive individualism. N. Y.: Oxford. 1962.
6
Гегель Г. В. Ф. Философия истории
// Соч. Т. 8. С. 213. М.—Л.: Соцэкгиз. 1935.
7
Там же. С.
239—240.
8
Там же. С. 239.
9
Гегель Г. В. Ф. Философия права
// Соч. Т. 7, § 185. С. 213. М.—Л.: Соцэкгиз.
1934.
10
Там же, § 132. С.
150.
11
Там же, § 185. С.
213.
12
Там же. С. 214.
Как показал Витторио Хесле, Гегель перешел к концепции «духа» как интерсубъективного феномена только на уровне
«философии действительности», но не в своей «Логике». Это, согласно Хесле,
объясняет неснятые напряжения и
несоответствия между «Логикой» и «философией действительности» Гегеля. Но
это могло бы также объяснить, почему на уровне самой «философии действительности», т. е. в «Философии права», сфера
интерсубъективности остается подчиненной ограничениям философии
абсолютного субъекта и поэтому не может быть
выражена в категориях демократической концепции нравственной жизни. (См.:
Hosle V. Hegels System. 2
vols. Hamburg: Meiner. 1987.)
13
Маркс К. К критике гегелевской
философии права // Соч., 2-е изд. Т. 1. С. 252.
14
См.: W е 11 m e r A. Reason, Utopia and the dialectic of
Enlightenment // Praxis International. 1983 (July). Vol. 111. № 2.
15
Токвиль А. Старый порядок и
революция. М.: И. Н. Кушнерев и К». 1905.
С. 15—16.
16
Токвиль А. О
демократии в Америке. М.: Книжное дело. 1897. С.
42.
17
Там же. С. 53.
18
Г е г е л ь Г. В. Ф. Философия права, § 209. С. 229.
19
Nozick R.
Anarchy, state and Utopia. N. Y.: Basic
books. 1974. P. 312.
20
Ibid., P. 316.
21
Rawls J. A
theory of justice. Cambridge: Harvard.
1971. PP. 60, 302.
22
Гегель Г.
В. Ф. Философия
права. § 41.
С. 69 и далее по
тексту.
25
Wellmer A. Ethik und Dialog. Frankfurt: Suhrkamp. 1986. S. 69, passim.
26
«Мое предложение
сводится к тому, чтобы рассматривать исходную позицию как точку зрения, с
которой ноуменальные «Я» видят мир». (R awls J. A theory of justice. P. 255.)
27
Ibid. P. 221.
28
We11mer P. Ethik und Dialog. Sects. 7, 8.
29
См. также: Arendt H. On revolution. N. Y.: Viking. 1963. Фактически Арендт не всегда занимает крайнюю
позицию, которую я ей приписываю. См. ее интересные ответы на ряд вопросов по
этой тематике, заданных ей на конференции в ее честь в Торонто в 1972 г. The
recovery of the public world / Melvyn A. Hill (ed.). N. Y.: St. Martin's. 1979.
PP. 315—318.) Здесь Арендт начинает определять как «политические» такие всех
затрагивающие общие проблемы, для которых никакого четкого технического решения
не существует и которые, поэтому, составляют подходящий предмет для публичного
обсуждения (Р. 317).
М. С. Ковалева.
О КНИГЕ Н. Д. КОНДРАТЬЕВА «ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СТАТИКИ И ДИНАМИКИ
(Предварительный эскиз)» *
Предлагаемые
здесь две главы из неизвестного, ранее не издававшегося труда русского ученого-обществоведа Николая Дмитриевича
Кондратьева (1892—1938) следует предварительно представить нашему читателю. До
недавнего времени имя Кондратьева в большей степени было известно за рубежом, в
нашей же стране оно было предано забвению после шумной кампании-травли начала
30-х годов, получившей название «разоблачение кондратьевщины». Кроме того, его
научное творчество обычно относили к сфере экономических наук и как таковое оно
интересовало достаточно узких специалистов, особенно на Западе и особенно в
связи с «длинными волнами» экономического развития, или с «кондратьевскими
циклами». Однако данная книга (и две первые главы ее, предлагаемые в настоящем
сборнике, в полной мере подтверждают это) характеризует ученого как
социального мыслителя самого широкого диапазона, интересы которого выходят
далеко за пределы его экономической
специальности.
Даже сегодня в
потоке изданий еще недавно запрещенной (а изданные в свое время труды
Кондратьева были запрещены), спец-храновской социально-философской литературы,
материалов «из стола», эта рукопись из семейного архива ученого является уникальной.
Уникальной прежде всего потому, что именно эту рукопись (о существовании
которой общественность уже знает из нескольких недавних публикаций** —
реабилитирован Н. Д. Кондратьев только в 1987 г.) он писал в тюрьме, находясь
под следствием по делу о так называемой «трудовой крестьянской партии».
* Полностью книга готовится
к печати в издательстве «Наука»; текст подготовлен М. С. Ковалевой.
** Прежде всего из
очерка Л. Пияшевой в журнале «Дружба народов» (1988, 7, с.
179—197) и сборника
произведений Кондратьева Н. Д.
«Проблемы экономической динамики» (М.: «Экономика», 1989).
Естественно, что
публикация такого материала требует к себе особого отношения. Редколлегия
настоящего издания совместно с дочерью ученого, чл.-корр. АН СССР Е. Н.
Кондратьевой, любезно предоставившей рукопись, пришли к решению о том, что
последняя должна издаваться как исторический документ, как памятник истории
науки. Это означает прежде всего, что текста в том виде, как от дается здесь,
не коснулась современная редактура. Это подлинный текст Н. Д. Кондратьева,
написанный им в условиях тюремного
заключения. В нем могут встретиться повторы, стилистические
шероховатости и т. д. Однако, по моему глубокому убеждению, работа Н. Д. Когдратьева представляет собой блестящий
образец научного исследования и способа выражения языковыми средствами
достаточно сложных теоретических положений. Имей ученый возможность вернуться к своим первичным записям, он, несомненно, сам усовершенствовал бы их. Но
наша задача — сохранить и показать современному обществоведу живую ткань
повествования выдающегося представителя
научного поколения, не отгороженного
от мира рамками «своей» научной дисциплины, не боящегося выйти за ее пределы. Поэтому настоящей публикации
предшествовала лишь большая текстологическая работа и правка текста в соответствии с современной орфографией,
пунктуацией и уточнение
библиографических сведений. В начале каждой главы даны схемы, найденные в
рукописи, которые позволяют показать направление мысли ученого, хотя в
самих текстах они реализованы не полностью
и иногда в ином порядке. Каждая глава снабжена комментариями. В конце данного предисловия читатель найдет
перечень условных обозначений, которыми снабжен текст.
Сказанное здесь о предлагаемой рукописи Н. Д. Кондратьева характеризует
ее лишь с одной стороны, но она ценна для нас не только в связи с тем, как и
где она создавалась. Это — плод многолетних
внутренних размышлений ученого о том, как возможна адекватная
экономическая теория. Для него этот вопрос равнозначен вопросу о том, как вообще возможно социальное познание или
теоретическая социология. В своем труде Н. Д. Кондратьев предпринял своеобразную попытку создания
синтетической системы социального знания на основе всего, что было
наработано в этой области мировой науки XIX — начала XX в. В истории официального советского обществоведения, пожалуй, не
найдется работы сходного замысла и
уровня мысли. Но подобные попытки в мировом научном сообществе все же
предпринимались. Вспомним хотя бы «Структуру
социального действия» Т. Парсонса (1937).
Важно отметить еще одну особенность предлагаемых материалов, которая самым непосредственным образом
связывает книгу и представляющие ее
здесь две главы с настоящим изданием. Она состоит в том, что подход Н.
Д. Кондратьева к проблеме обоснования социологии
и экономики (и социальных наук вообще), к вопросу о предмете этих наук
очень близок современным поискам философии
и социологии науки, и особенно в части обсуждения онтологического их обоснования. И здесь размышления
русского ученого попадают в самый центр новейших международных
теоретических дискуссий по «вечным» вопросам: что такое социология и общество, которое она изучает.
Условные
обозначения, принятые в тексте
( )
круглые скобки употребляются по своему прямому назначению,
использованному самим автором;
[ ] в квадратные скобки взяты слова или
части слов, сокращенные автором,
неразборчиво написанные или по той или иной причине пропущенные в
рукописи, но необходимые по смыслу и
дописанные редактором-составителем;
< ? > угловые скобки со знаком вопроса
ставились редактором-составителем в случае, когда расшифровка рукописи оставляет
сомнение;
<...> обозначение обрыва рукописи или пропуска; «<нрзб.>
обозначение оставшегося нерасшифрованным слова;
х обозначение мест
в рукописи, где
автор предполагал
дать сноску;
1 цифрами отмечены наличные сноски, которые даются
здесь общепринятым сегодня образом;
* звездочкой
отмечены места, к которым даны современные комментарии.
Н. Д.
Кондратьев.
ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
СТАТИКИ И ДИНАМИКИ
(Предварительный эскиз)
Содержание
Часть первая: ОБЩЕСТВО И ХОЗЯЙСТВО
Глава 1.
Совокупность, общество и общественные явления
Глава 2.
Строение общества и
основные категория общественных
явлений
Глава 3.
Хозяйство и хозяйственные явления
Глава 4.
Основные экономические категории
Часть вторая: ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ МЕТОДОЛОГИИ ИЗУЧЕНИЯ
СОЦИАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
Глава 5.
Познавательные задачи и проблемы метода социально-экономических наук
Глава 6.
Категории целесообразности, необходимости и случайности в
социально-экономических науках
Глава 7. Природа
закономерности экономической жизни и проблема номографии и идиографии в
социально-экономических науках
Глава 8.
Категория сущего и должного в социально-экономических науках
Глава 9.
Экономическая статика, динамика и генетика
Часть третья: ТЕОРИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СТАТИКИ
Глава 10.
Теория цены и равновесия товарного рынка
***
Глава 1. Совокупность, общество и общественные
явления
Схема
1. Многообразие мира и задача его изучения. Отношения и вещи. Относительность того и другого. Необходимость вещей.
Дифференцирование области бытия и области
познания. Конт. Позднейшие исправления. Raison d'etre отдельных наук. Общество как особая область бытия. Гумплович.
Социология и социальные науки.
2. Общество есть
совокупность. И все науки в конечном счете имеют дело с совокупностями. Доказательство. Строение мира. Необходимость
исследования совокупности. Общее
понятие совокупности. Множество и совокупность. Количеств [енный]
момент <?>. Родовое понятие и совокупность. Совокупность объемлющая и
объемл [емая]. Аналогия с объемом и содержанием понятия.
3. Связь.
Реальные и мнимые совокупности. Рюмелен, Кетле, Knapp, Reinish, Чупров,
Кистяковский. Критерий разграничения. Связь вообще и связь в данном отношении. [Совокупности,] объемлющие и
объемлемые. Объект и метод.
4. Дискретные и
конкретные совокупности. Наглядные представления и аналогия< ? >.
Предметы и совокупности. Предмет как частный случай совокупности.
5. Совокупность
и целая и аморфная < ?
>. Критерий. Примеры.
Целое-система и целое-единство.
6. Элементы,
слагающие совокупность, и ее природа. Первоначальная совокупность как наиболее
объемлющая. Строение мира. Пространственно-временные категории в применении
< ? > к совокупности.
7. Общество как
совокупность.
8. < ... >
1
Непосредственной
задачей науки как таковой служит задача познания мира. Причем, по самому
существу своему наука рассматривает свой объект познания или мир, как
объективно данную ей действительность, т. е. стоит на реалистической точке
зрения. Реализм научной точки зрения на объект познания нередко и особенно
в начальных фазах развития науки является даже реализмом наивным. История
развития науки показывает, что с течением времени наивность реализма научной
точки зрения ослабевает и отпадает, однако самый реализм ее устойчиво
сохраняется.
В конкретном
своем виде объективная действительность бесконечно
изменчива и многообразна. Однако явления действительности обладают не
только различными, но в той или иной мере тождественными свойствами. Процесс
научного познания в первую очередь и
состоит в дифференцировании объективной действительности, в сравнении
явлений между собой, в установлении их тождественных и различных свойств в
классификации явлений и образовании научных понятий, адекватных установленным
классам явлений. Эти классы явлений имеют различную широту, начиная от наиболее узких вплоть до наиболее широких и
объемлющих. Причем, если в понятиях одни классы явлений всегда строго
отграничены от других, то в действительности
дело обстоит иначе. Отдельные классы явлений находятся в различной
степени близости к другим, а степень этой близости их бесконечно варьирует. И
во всяком случае сопредельные классы явлений не имеют строгих разграничительных линий между собой. Переход от
явлений одних классов к явлениям других совершается здесь путем
постепенного и часто неуловимого
нарастания тех или иных свойств. Поэтому в действительности различия в
свойствах сопредельных классов мы с ясностью видим лишь тогда, когда берем
явления этих классов в наиболее законченном и определившемся виде.
При современном
своем состоянии наука различает следующие пять
наиболее широких и общих классов явлений действительности: мир величин,
мир физико-химических явлений, явления органической, психической и социальной
жизни. Каждый из этих общих классов разлагается, далее, в свою очередь и
последовательно на разветвляющуюся систему постепенно сужающихся более частных
и специальных классов и подклассов. Но все
же каждый из них объединяет в себе группу явлений, обладающих
определенными признаками, которые сближают явления данного класса между собой,
сообщают в силу этого данному классу известную внутреннюю однородность и
вместе с тем отличают его от всех других классов*1*.
Явления этих классов не существуют в действительности совершенно
раздельно и независимо. Наоборот, они связаны между собой. Границы между примыкающими друг к другу
классами, как правило, весьма неясны: так, например, неясны границы между физико-химическими явлениями и явлениями
органической жизни. Явления одних классов зависят, далее, от явлений
других классов. Причем степень зависимости нарастает по мере перехода от мира физико-химических явлений к явлениям
социальным.
Такое нарастание
зависимости обусловлено тем, что каждый предыдущий член ряда указанных выше
классов характеризуется большей простотой,
большей общностью и более широким распространением.
Но каковы бы ни
были связи явлений различных классов, явления
каждого из них обладают своими общими специфическими свойствами и притом
свойствами, которые не сводятся к свойствам явлений других классов и, во
всяком случае, не сведены до сих пор. Иначе говоря, явления каждого из
указанных классов обладают качественным
своеобразием.
Наличие у
каждого класса явлений своих общих, специфических и несводимых признаков
делает их явлениями sui generis, делает объектом изучения особой науки или,
точнее, группы наук. Поскольку явления каждого класса обладают свойствами,
общими всем этим явлениям, они служат объектом изучения общей науки, исследующей
данный класс явлений. Поскольку же, далее, внутри каждого класса выделяются свои подклассы и каждый из них может при
этом изучаться с различных точек зрения, постольку каждый класс служит объектом изучения специальных наук.
В соответствии с этим мы имеем группы
наук математических, физико-химических, биологических, психологических и
социальных.
Ввиду
специфического характера изучаемых ими объектов, каждая из этих групп наук
работает в той или иной мере своими методами, образует свои понятия, свои
классификации, устанавливает свои закономерности. И поскольку это так,
поскольку изучаемые той или иной отдельной группой наук явления специфичны и
не сведены к явлениям других классов явлений, данная группа наук, очевидно,
имеет бесспорное право на самостоятельное существование, так как их понятия и
установленные ими законы не могут быть выражены в понятиях и законах
каких-либо других наук. Нужно заметить,
однако, что даже и сведение явлений данного класса (скажем, класса А) к
свойствам явлений другого или других классов явлений (скажем, В, С...) не
лишило бы специальные науки, посвященные классу А, всякого смысла и не доказало
бы полной ошибочности выводов и законов этих наук. Оно открывало бы лишь
возможность двоякого способа изображения и интеграции свойств и закономерностей
явлений класса А: во-первых, в терминах специальных наук, посвященных этому
классу, во-вторых, в терминах наук, посвященных классам В, С... Второй способ
был бы более общим и в этом смысле более совершенным, в то время как первый
способ был бы более конкретным и более наглядным. Итак, сложный характер
объективной действительности и разложение ее на определенные внутренне
однородные классы явлений служит отправным
(но, как мы увидим ниже, не единственным и не исчерпывающим) основанием для
классификации наук и в частности для разделения их на основные группы.
Нужно, однако, в полной мере подчеркнуть, что такое распределение наук по группам
не означает их полной независимости и оторванности друг от друга. Различные
категории явлений мира, который изучается науками, как мы отмечали, связаны
друг с другом и находятся между собой в зависимости. Эта связанность всех
категорий и классов явлений свидетельствует о единстве и целостности мира. И
поскольку это так, постольку и различные группы наук, изучающих различные
категории явлений, не могут не иметь внутренней связи между собой и не зависеть друг от друга. Внутреннее единство
мира служит конечным и глубочайшим основанием и для внутреннего единства
научного знания о мире. Полное осознание этого положения методологически
приводит к принципу единства знания, т. е.
к требованию внутреннего соответствия и непротиворечивости всех наук. И
этот принцип принимается современной теорией знания и методологией в качестве
первого и одного из основных критериев истинности научного знания.
2
Выше мы указали,
что мир социальных явлений представляет собой один из основных общих и
специфических классов явлений действительности. Однако простое указание это
само по себе еще совершенно не дает представления о том, каковы же характерные
специфические черты социальных явлений, выделяющие их из совокупности всех
других явлений. Иначе говоря, указание это еще не определяет понятия общества и общественных явлений. Построение
такого определения и является нашей ближайшей задачей.
К настоящему
времени в общественных науках и прежде всего в наиболее общей из них — общей
теории социальных явлений или в социологии имеется очень большое число попыток
дать определение общества и общественных явлений и тем выявить их специфические
особенности. И если возникает вновь и вновь потребность останавливаться на
вопросе о самом понятии общества и общественных явлений, то это значит, что
достаточно общепризнанного и
удовлетворяющего понятия о них общественные науки, и в частности социология, еще не имеют. Такое
положение свидетельствует не только о трудности задачи, но и об
относительно низком уровне развития общественных наук. Вместе с тем обилие уже существующих
попыток дать удовлетворяющее определение общества и общественных явлений
делает эту задачу мало обещающей и мало привлекательной, так как трудно
освободиться от сознания, что работа в этом направлении может кончиться простым
увеличением числа уже существующих и недостаточно удовлетворяющих попыток.
И тем не менее
интересы дальнейшего исследования все же требуют преодоления этих опасений и
того или иного, но определенного разрешения задачи. Совершенно бесспорно, что
если исследование по самому существу своему имеет дело с известной, основной категорией явлений, то оно нуждается в
достаточно мотивированном и
определенном понятии о природе этой категории явлений. Оно необходимо
уже для того, чтобы сделать ясной и недвусмысленной на протяжении исследования
позицию автора, и именно в силу многообразия
существующих попыток дать определение общества и общественных явлений
эту потребность игнорировать нельзя. Но дело, разумеется, не только и даже не
столько в этой потребности: достаточно мотивированное и определенное понятие
здесь, как и всегда в подобных случаях, способствует выбору правильных методов
исследования и получению в результате его научно ценных положительных выводов.
Основная
трудность определения всякого сколько-нибудь общего понятия, как и понятия
общества, состоит в том, что на первый взгляд разрешение этой задачи
наталкивается на явный круг: для того, чтобы дать определение понятия,
необходимо получить соответствующие знания относительно данной категории
явлений, а для того, чтобы получить соответствующие знания о данной категории
явлений, необходимо иметь достаточно обоснованное
и отвечающее действительности понятие о них. В действительности этот
круг, как и многие подобные ему, является кажущимся. Он был бы подлинным
кругом лишь в том случае, если бы сумма наших знаний о той или иной категории
явлений и понятие о них были бы неизменными и не подвержены развитию. Но это не
так: как понятия о явлениях, так и общая сумма знаний о них находятся в
процессе непрерывного развития. Необходимо различать прелиминарные и окончательные понятия о явлениях. Мы никогда не имеем окончательного, адекватно точного
понятия о явлениях. Такое понятие выступает перед научным мышлением лишь
как предельно идеальное состояние в развитии понятия. То, с чем реально наука
имеет дело, это понятия прелиминарные. И они изменяются, совершенствуются,
приближаются к окончательному предельно
точному состоянию их. Эта эволюция понятий и переход их из одной фазы
точности к другой совершаются вместе и в меру Развития положительного знания о
данной и о других категориях явлений. И, наоборот, развитие знания о явлениях
продвигается вперед вместе и в меру того, как уточняются понятия об этих
явлениях. Когда начинается исследование какой-либо категории явлений, мы всегда
имеем пусть смутное, не точное, но все же какое-то
предварительное понятие о них. Это понятие соответствует наличному, пусть весьма бедному и в значительной мере ошибочному, но все же знанию о данных явлениях.
Наше предварительное понятие о них как бы конденсирует в себе основные итоги этого начального знания, полученного из
опыта, независимо от того, в чем состоит этот опыт: в практике, в
развитии смежных отраслей знания или в чем другом. И это предварительное понятие, как и вся совокупность полученных знаний,
ориентирует наше дальнейшее
исследование данных явлений. Оно способствует выбору надлежащих методов и получению новых, более богатых научных
результатов. Но вместе с таким расширением знаний о явлениях эволюционирует, уточняется, совершенствуется наше первоначальное
понятие. Оно вступает в новую фазу своего развития, хотя и остается в указанном выше смысле все же прелиминарным. В дальнейшем совершается в том же порядке новый
цикл восхождения общего запаса знаний о явлениях и понятия о них на
следующую, более высокую ступень.
Т [аким] о [бразом], в каждый данный момент интересующее нас понятие
может конденсировать в себе результаты накопленного знания, имеющего отношение
к данной категории явлений. Возможная
степень точности и обоснованности понятия измеряется уровнем развития
уже добытого знания. С другой стороны, интересы дальнейшего развития науки требуют, чтобы образуемые нами понятия,
с которыми мы приступаем к дальнейшему исследованию, максимально строго отвечали уже достигнутому уровню научного знания.
Полученные выводы из анализа о трудностях и путях образования научных понятий мы должны иметь в виду и
при определении понятия общества и
общественных явлений. Совершенно очевидно, что при определении этого
понятия мы не должны идти путем спекулятивно
умозрительным. Как бы ни был низок уровень развития социологии и отдельных специальных общественных наук, но их существование есть объективный факт. Как бы ни
были спорны словесные определения
общества и общественных явлений, даваемые отдельными авторами, но социальные
науки имеют определенное объективное содержание и последнее прямо,
открыто или косвенно и неосознанно
предполагает известное понятие общества и общественных явлений. Очевидно ггоэтому, что определение понятия общества и общественных явлений должно быть
ориентировано прежде всего на
фактическое содержание общественных наук, т. е. социологии, экономики,
теории права, теории религии, истории и т. д. При этом, разумеется, должны быть
учтены и имеющиеся многочисленные
специальные интерпретации и определения понятия общества и общественных
явлений, так как эти определения, хотя в различных случаях, в различной степени
и с различным успехом, но все же неизбежно и
уже в готовом виде конденсируют в себе
и накопленный опыт общественных наук. Наконец, поскольку, как было отмечено уже и выше, социальные науки
связаны с другими науками и образуют
вместе с ними единство, при образовании интересующего нас понятия мы должны также, по возможности, учесть и
выводы других наук.
Мы уже выяснили, что понятия, образуемые любой данной наукой, если брать ее как таковую, как продукт
коллективного опыта, в каждый данный период имеют прелиминарный, незаконченный характер. Поэтому они всегда содержат в
себе элемент гипотетического,
подлежащего дальнейшему выяснению, проверке и уточнению. Это положение с известной модификацией можно применить и к
отдельному, индивидуальному исследованию. Когда исследователь еще
только приступает к исследованию, он, конечно, имеет для себя известное
гипотетическое представление о понятиях, которыми он будет пользоваться и
которые, по его мнению, являются научно наиболее правильными. В процессе
исследования он проверяет это свое гипотетическое представление о понятиях,
уточняет и совершенствует его. И фактически только в конце исследования он
получает то определение общих понятий, с которым он считает возможным выступить
открыто, предложить его как элемент, подлежащий включению в науку. С такой
точки зрения индивидуальный исследователь должен был бы, следуя за процессом исследования, давать определение общих
понятий, которыми он пользуется, лишь в конце исследования. Однако если
не всегда, то, как правило, процесс
изложения не следует за процессом исследования и с систематической точки
зрения в большинстве случаев оказывается более целесообразным формулировать
общие определения основных понятий и дать их интерпретацию в начале
исследования. Так мы поступаем и в данном случае с понятием общества и
общественных явлений.
3
Если учесть
итоги развития основных групп наук, упомянутых
выше, и вдуматься в общую природу объекта, изучаемого каждой из них, то
нужно сказать, что объект этот во всех случаях представляет собой прежде всего
совокупность определенных элементов1. В силу этого особенности
отдельных наук, своеобразие применяемых ими методов, устанавливаемых связей и
закономерностей объясняется в первую очередь своеобразием тех совокупностей,
которые составляют объект их исследования. Общество равным образом является
своеобразной совокупностью. И для того, чтобы уяснить себе ее своеобразие и
тем самым подойти к Установлению понятия
общества и общественных явлений, мы должны остановиться прежде всего на
вопросе о совокупности.
1 <... >
Бухарин Н. Теория
исторического материализма. М.,
1921, 8—89*2*.
Под
совокупностью в самом общем и широком смысле слова мы понимаем большое число тех или иных элементов. Из приведенного
определения видно, что одним из признаков совокупности мы принимаем количественный признак—«большое число».
На первый взгляд может показаться, что такой путь определения понятия
неудовлетворителен. Логика, как известно, не рекомендует пользоваться для определения понятий количественными
признаками, так как они, при отсутствии более точной фиксации их, вносят неясность
в самые понятия.
Однако в данном случае такое опасение не имеет под собой почвы. Мы пользуемся здесь термином «большое число»
принципиально в том техническом смысле, в каком он употребляется теорией
вероятности и теоретической статистикой. Как будет выяснено ниже,
употребляемый в этом смысле термин «большое число» имеет достаточно
определенное значение и глубокий гносеологический и методологический смысл.
Этот термин говорит не о каком-то определенном
большом числе, которое нужно еще фиксировать, а о строении объекта
знания, о строении, при котором в силу сочетания достаточно большого числа
элементов и событий последние утрачивают свой случайно хаотический характер и в
среднем обнаруживают закономерные тенденции своего хода. Фактически же число
этих элементов и событий, как правило,
оказывается почти всегда достаточно большим, хотя в различных случаях и
в различной мере.
Исходя из приведенного определения совокупности легко видеть, что действительно объект всех основных групп наук, по
существу, является прежде всего совокупностью и что, следовательно, категория совокупности выступает в качестве одной из
самых центральных категорий*3*
Так, известно,
что с точки зрения физики и атомистической теории весь материальный мир, по
существу, является грандиозной совокупностью
атомов, вступающих между собой в многообразные связи и комбинации.
Долгое время атом считался последним неделимым элементом, совокупность которых
и составляет вселенную со всеми ее цветами, красками и т.д. Однако новейшая
физическая теория в результате успехов своего развития отказалась от этой точки
зрения. Оказалось, что каждый атом вовсе не является последним неделимым элементом, а в свою очередь
представляет собою целый микрокосм, состоящий из совокупности элементов,
которые обладают электрическим зарядом различных знаков . Однако на этом
процесс анализа микрокосма, по-видимому, не остановился. За самое последнее
время была развита волновая теория материи, согласно которой элементы, в свою
очередь, представляют собой сложную совокупность еще более микроскопических
элементов. К сказанному нужно заметить, что электронная теория, разумеется, не
опровергла, а лишь уточнила, расширила и углубила то представление о мире,
которое опиралось на атомистическую теорию. Закономерности, установленные на
основе последней, в основе сохраняют свою силу. Но принципиально они могут
теперь выражаться или в терминах атомистической теории или в более общих
терминах и формулах электронной теории. То же нужно сказать о взаимоотношении
электронной и волновой теорий.
Если теперь от
указанных сфер реальности перейти к иным, более
сложным сферам, то мы можем сказать следующее. Совокупность специфических видов атомов и молекул и
своеобразная, пока еще неразгаданная, связь их между собой дает
простейшее живое существо—клетку. Совокупность клеток
является основой организма. Совокупность и
взаимодействие специфических клеток, составляющих
мозговую и нервную систему организма, пока также невыясненными путями служит основой мира психических явлений. Продолжая
этот анализ, можно, наконец, сказать, что общество в самом широком смысле представляет собой совокупность организмов,
и в частности человеческое общество — совокупность людей.
Исходя из
сказанного, структуру реального мира можно представить себе в следующем
схематическом виде*4*:
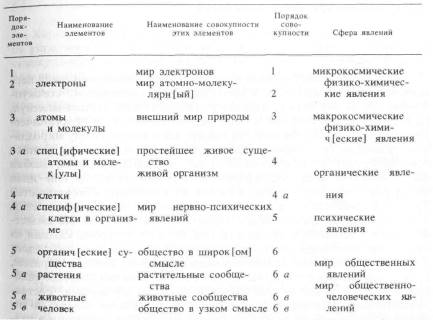
Отсюда видно,
что выделенные совокупности не лишены внутренней
связи или известной преемственности друг в отношении друга. Легко заметить, что одни более общие и
широкие совокупности, слагающиеся из определенных элементов, или,
точнее, некоторые части этих совокупностей,
выступают в качестве элементов совокупностей
следующего порядка. Поэтому мы не знаем элементов, слагающих совокупности, которые в свою очередь не
были бы совокупностями. Исключение, по крайней мере на данном уровне
знаний, вставляют простейшие, не разложенные
элементы, слагающие электроны.
Вместе с тем мы не знаем совокупностей, которые в свою очередь не служили бы
элементами иных совокупностей более высокого порядка и соответственно
более сложного строения. Исключение в этом отношении составляет общество и в
частности человеческое общество, которое замыкает собой сверху ряд последовательных элементов—совокупностей.
Таким образом, общество и, в частности, человеческое общество, стоит как бы на вершине все усложняющегося
переплетения слагающих сил мироздания, уходя корнями своими в его глубины.
Однако
предыдущее изложение лишь самым суммарным образом намечает место общества в системе мироздания. Для того, чтобы
стало яснее само предыдущее изложение, а также чтобы получить больше оснований
для выявления специфических особенностей общества, нам необходимо остановиться
несколько подробнее на вопросе о структуре и многообразии совокупностей, с
которыми приходиться иметь дело науке.
4
Прежде всего
необходимо установить разграничение между первичной, первообразной и
вторичной, или производной, совокупностью. Если мы берем, например,
совокупности атомов-молекул, то в качестве таковой мы можем рассматривать весь
неорганический макрокосм. Как таковой, он вводит нас в новую сферу мироздания,
отличную от атомов и молекул, взятых в отдельности. Однако совокупностью атомов-молекул будет и любой
отрезок, любая часть внешней природы, например млечный путь, та или иная
масса газа, жидкости и т.д. Каждая из последних совокупностей будет,
разумеется, отлична от составляющих ее атомов-моле кул, и в этом отношении она
будет характеризоваться теми же свойствами, что и внешняя природа в целом. Но
в то же время каждая из них составляет лишь
часть неорганического макрокосма и обладает в той или иной мере
отличительными чертами. Равным образом, беря
совокупность клеток, мы можем рассматривать в качестве таковой организм
в целом. Но отдельный орган организма, составляющий часть последнего, есть
тоже совокупность клеток, и мы можем рассматривать ее в известных, в различных
случаях и в различных пределах как
таковую. В тех случаях, когда речь идет о совокупности данных элементов,
взятой в целом и, следовательно, в наиболее широких, оправдываемых
действительностью границах, мы говорим о
первичной совокупности. С этой точки зрения неорганический макрокосм,
отдельный организм, отдельное общество суть первичные совокупности. Наоборот,
когда речь идет о совокупности данных элементов, составляющей ту или иную части
первичной совокупности, мы говорим о
вторичной или производной совокупности. С такой точки зрения млечный
путь, данный объем газа, нервная система, рабочий класс и т.д. будут вторичными
совокупностями первичных совокупностей
различного порядка. Из предыдущего ясно, что может существовать
несколько и даже очень большое число первичных совокупностей данного порядка. Мы не знаем,
является ли макрокосм единым или,
наоборот, существует множество миров,
лишенных какой-либо связи между собой. В последнем случае мы должны были
бы говорить о большом числе макрокосмических совокупностей. Но мы видим, что
существует большое число таких первичных
совокупностей, как организм, как растительные сообщества и т.д.
Совершенно бесспорно, далее, что в пределах каждой
первичной совокупности существует или может существовать множество
производных совокупностей различного порядка. Обратимся теперь к дальнейшим
чертам строения совокупностей, позволяющим уяснить их многообразие и тем самым
понять специфические особенности общества.
5
Характер
совокупности очевидно зависит в значительной мере от того, из каких элементов
она слагается. Элементы, слагающие совокупности,
могут быть качественно глубоко различны, обладать различными свойствами и соответственно различной
степенью сложности. Мы видели, что такими являются или атомы-молекулы, или клетки, или целые организмы, в частности
люди. Иначе говоря, как уже было отмечено выше, элементами совокупности
данного порядка являются совокупности предшествующего порядка. Но совокупность элементов представляет собой
категорию явлений всегда принципиально иного и притом более сложного
характера, чем сами элементы. Вот почему
совокупности, слагающиеся из элементов, которые являются в свою очередь
совокупностями, но лишь иного, более низкого порядка, глубоко различны между собой и притом различны качественно и
принципиально. Вот почему, говоря об этих совокупностях, мы
рассматриваем их как особые области или категории объективной действительности,
рассматриваем как мир электронов, как атомно-молекулярный космос, как внешнюю
природу, как органический мир и т.д.
Итак, различие
свойств элементов, слагающих совокупность, является основанием особенностей в
свойствах самой совокупности. В связи с этим среди особенностей свойств,
принадлежащих элементам, одно необходимо отметить особо. Будучи включены в
состав совокупности, элементы могут испытывать воздействие со стороны последней
и подвергаться той или иной более или менее глубокой трансформации. Однако это
свойство, эта способность к трансформации
присуща элементам различных категорий в различной степени. Если атомы и молекулы обладают такой способностью в
сравнительно ограниченной мере, то клетки организма, например растения2,
в особенности же организмов с развитой нервно-психической системой, обладают
таковой уже в гораздо более высокой степени. И различие этого свойства
элементов, т.е. различная степень их эластичности, равным образом находит
выражение в свойствах соответствующих совокупностей. Чем более эластичны в указанном отношении элементы, тем более эластичны и
подвижны образуемые ими совокупности. И хотя в данном случае мы имеем
дело лишь с количественными различиями их, с различиями по степени, тем не
менее эти различия весьма важны для понимания особенностей отдельных видов
совокупностей, и в частности общества.
2 Ср.: Морозов Г. Ф.
Учение о лесе. Л.—М. 1925. С. 2 и ел.*5*
6
Принято различать реальные и логические или мнимые совокупности. Отдельными авторами указываются различные
характерные признаки тех и других. Но в основном под реальными совокупностями
все понимают те совокупности, между элементами которых существует та или иная
связь или зависимость, а под мнимыми те, между
элементами которых никакой связи нет3. Это разграничение совокупностей,
как мы убедимся еще ниже, имеет очень большое познавательное
значение. Вместе с тем на первый взгляд оно кажется очень ясным и, если
так можно здесь выразиться, абсолютным. Однако при более пристальном анализе
вопроса оно оказывается гораздо сложнее.
С широкой точки
зрения и строго говоря, все элементы мироздания так или иначе связаны между
собой. С такой точкой зрения все
существующие совокупности являются реальными совокупностями. Прежде
всего и во всяком случае реальными совокупностями
представляются те основные первичные совокупности, которые были указаны выше (см. с.64). Реальными
совокупностями по существу оказываются и те, которые обычно указываются
в качестве примеров мнимых совокупностей. Так, в качестве примера мнимой
совокупности указывают на кучу песку. Однако нет никаких оснований отрицать,
что между элементами такой совокупности, т.е. между отдельными песчинками,
существует самая несомненная и прямая, непосредственная взаимная связь. В
качестве примера мнимой совокупности приводят, далее, такую, как совокупность
новорожденных (умерших, самоубившихся и т.п.), зарегистрированных в том или ином году в данной стране, в данном районе или городе. Разумеется, непосредственной и в
частности непосредственно материальной связи между элементами таких
совокупностей, как правило, нет. 3
3 < ... > Б у х а р и н Н. Цит. соч. С. 66
Но несомненно,
что элементы этих совокупностей находятся в определенной и во многом общей для
них социально-экономической, правовой, политической и религиозной среде, в
определенных условиях климата, температуры и т.д. И эти общие условия социальной и естественной среды связывают их между
собой, определяют их судьбы и поведение. Поэтому говорить об отсутствии между
ними всякой связи, говорить, что они образуют действительно мнимую
совокупность, не приходится.
Исходя в
значительной мере из приведенных или близких соображений, некоторые ученые вносят в определение понятия реальной
совокупности, в отличие от мнимой, дополнительный ограничивающий признак, а именно признак устойчивости
связи. С такой точки зрения реальной совокупностью является лишь та
совокупность, между элементами которой существует устойчивая связь4.
Однако этот критерий страдает прежде всего
неопределенностью и поэтому не может удовлетворительно служить целям
ясного разграничения того и другого вида совокупностей. Действительно,
совершенно невозможно сказать, где начинается неустойчивая и где начинается
устойчивая связь? Нет такой объективной единицы, при помощи которой было бы
можно измерить степень устойчивости связей в совокупности и ответить на поставленный
вопрос. Кроме того, вводя признак устойчивости, мы неизбежно относим к группе
мнимых совокупностей как те совокупности, между элементами которых нет связей,
так и те, где связи есть, но лишены устойчивости, то есть объединяем в одну
группу явления явно и существенно разнородные. Ввиду сказанного критерий устойчивости связей между
элементами может служить не для принципиального разграничения реальных и
мнимых совокупностей, а, как будет указано ниже, лишь в качестве
вспомогательного и вторичного признака для установления подразделений в
пределах класса реальных совокупностей.
Что же касается
разграничения реальных и мнимых совокупностей, то его правильнее всего можно
конструировать так. Хотя с широкой и общей точки зрения все элементы мироздания
и связаны между собой, но в некоторых
случаях связь эта столь отдаленна и слаба,
что практически неуловима и во всяком случае неуловима при данном
состоянии нашего знания. Исходя из этого положения, все те совокупности, которые мы берем, но между элементами которых, по крайней мере при современном уровне
знания, мы не в состоянии установить каких-либо связей и зависимостей,
мы относим к группе мнимых совокупностей.
Все прочие совокупности, наоборот,
должны рассматриваться как реальные. С такой точки зрения совокупность в
1 000 000 бросаний монеты или игральной кости, совокупность экземпляров одуванчика,
взятых в различных, отдаленных друг от друга местах (и следовательно, не в
одной и той же растительной совокупности) и т.п. будут мнимые совокупности. Из
предыдущего ясно, что установленное разграничение реальных и мнимых совокупностей лишено абсолютного
характера, а граница между
ними—совершенной неподвижности. Но в основе этого Разграничения лежит
объективный критерий, связанный с состоянием
положительного знания, а само разграничение при этих условиях сохраняет свой
познавательный смысл, в частности для изуче-них многообразных
производных или вторичных совокупностей.
4 Морозов
Г. Ф. Цит. соч. С. 28.
7
Итак, реальные совокупности в строгом смысле слова предполагают наличие объективно уловимой связи между
элементами. Но связи эти могут быть глубоко
различны и притом в различных отношениях. В силу различия связей между
элементами будут также различны и реальные совокупности как таковые.
В соответствии с особенностями природы входящих в совокупность элементов, связи эти могут быть прежде всего или
чисто материальными (понимая материальное в широком смысле, как нечто не
психическое и не идеальное), или материально-психическими. Вместе с тем они
могут [быть] непосредственными, могут предполагать
непосредственный контакт между элементами данного рода, непосредственное
физическое соприкосновение их между собой. Таковы,
например, все связи в различных областях неорганического мира, в значительной мере связи, существующие в
организме, лишь в очень малой степени в обществе, даже в обществе,
понимаемом в самом широком смысле. Но они
могут быть опосредствованными, косвенными.
Это имеет место в тех случаях, когда связь и даже материальная связь
между элементами существует без прямого материального
соприкосновения этих элементов друг с другом. Примером таких связей
может служить связь между отдельными экземплярами растений, входящих в
растительное сообщество. Растения могут материально и непосредственно не
соприкасаться друг с другом, но тем не менее связь между ними и притом связь
материальная в их борьбе за ограниченные
средства существования будет, несомненно, существовать5. Однако
особенно широкое значение такие опосредствованные связи имеют там, где
эти связи носят в значительной мере психический характер, то есть в
человеческом обществе. По самому существу
своему осуществление психической связи предполагает наличие различных
материальных проводящих посредников.
5 Ср.: Морозов Г. Ф. Цит. соч. С. 9 и ел. 68
В тесной
зависимости от предыдущих различий в характере связей стоит и следующее
различие их. Связи между элементами совокупности
могут быть материально фиксированными, как бы застывшими, такими, что они достаточно определенно
координируют относительное пространственное расположение элементов в
совокупности и придают совокупности или ее частям определенную пространственную
форму конкретного тела. И, наоборот, связи могут быть лишены такой
фиксированности и не определять твердо относительное пространственное
расположение элементов в совокупности.
Тогда совокупность или ее части будут лишены определенной формы конкретного
тела и будут иметь дискретный характер. С этой точки зрения различные
совокупности имеют различное строение. Так, например, отдельные части
неорганической природы имеют форму конкретных вещей (твердые тела, в меньшей
степени—жидкие), наоборот, другие имеют дискретное, прерывистое строение (газы, свет). Организмы как совокупности
имеют структуру конкретных тел, а все виды общества, наоборот, структуру
дискретных совокупностей.
Наконец, как уже
отмечалось выше, связи между элементами реальной
совокупности могут обладать различной степенью устойчивости и, соответственно, сами совокупности
могут быть более или менее устойчивыми. Так, все первичные совокупности
обладают исключительно высокой, хотя и
различной степенью устойчивости. Некоторые
из них, как неорганический макрокосм, вечны. Наоборот, многие
производные совокупности обладают весьма низкой степенью устойчивости. Таковы,
например, совокупности в виде дюн степного
песку, сохраняющих свою конфигурацию и состав до ближайшего ветра, в виде стаи птиц, толпы людей и
т.п. Ясно, что степень устойчивости
совокупностей имеет бесконечный ряд градаций и, как говорилось уже выше, мы не можем установить определенные границы
более или, наоборот, менее устойчивых совокупностей. Но и не имея такой
возможности, мы все же можем всегда определенно сказать, имеем ли мы дело с
весьма устойчивой или, наоборот, с средне
устойчивой и даже с совершенно неустойчивой совокупностью. Вот почему признак устойчивости связи элементов различных совокупностей сохраняет свое
познавательное значение.
При всех
указанных различиях и связях между элементами, в силу внутреннего строения
реальная совокупность или будет представлять собой целое или, наоборот, не
будет таковым. Совокупность представляет
собой целое лишь при таких связях элементов, лишь при таком строении,
когда в ней есть внутренняя организованность, когда имеет место определенная
дифференциация ее частей и каждая часть
выполняет известную функцию, соподчиненную жизни всей совокупности, когда,
наконец, совокупность как таковая обладает в тех или иных границах свойствами
замкнутости, самодовления, хотя, разумеется, и не полной независимости в отношении других совокупностей и вещей. Таковы
прежде всего, хотя и с различной
степенью ясности, все первичные совокупности. Мы рассматриваем атом как нечто целое, хотя бы и микроскопическое.
Как целое рассматриваем мы весь неорганический макрокосм, отдельный организм и
каждое данное сообщество, в частности и особенно человеческое общество. Но
целым являются и многие вторичные
совокупности. Так, целым является совокупность небесных тел, входящих в состав
солнечной системы, земной шар; целым является система кровеносных
сосудов в организме, город, армия, хозяйственное
предприятие и т.п. в человеческом обществе. Наоборот, имеется огромное количество вторичных
совокупностей, лишенных свойств целого и не
являющихся таковыми. Целым не является, например, какой-либо
оторвавшийся от скалы камень, та или иная
масса газа, воды, отдельный участок леса, группа людей, пришедших на
рынок или в театр и т.д.
Однако и
совокупность-целое по структуре своей далеко не всегда однородна. Элементы и
части целого могут быть не только координированы
между собой, но и соподчинены в своих функциях в какой-то данный момент
единому руководящему центру и служить
единой системе задач. И, наоборот, они могут быть координированы без
такого соподчинения единому центру. В первом случае перед нами будет
совокупность, представляющая собой не только целое,
но одновременно и телеологическое единство. Во втором случае мы будем
иметь совокупности, представляющие собой целое лишь в виде системы6. Наиболее ярким видом совокупности как
целого и одновременно телеологического единства является организм, далее хозяйственное предприятие,
государство, политическая партия и т.д.*6* Отличительной чертой такого
единства, как организм, является при этом
его неделимость. Примером единства как системы могут служить такие
совокупности, как солнечная система, растительное сообщество, например лес
и т.д.
6 Бух[арин] Н.
Цит. соч. С. 89 и ел.
8
Заканчивая
анализ совокупностей, необходимо поднять еще один методологически весьма важный
вопрос. До сих пор мы рассматривали совокупность как бы с одной определенной
стороны. Мы говорили об элементах,
слагающих совокупность, о связях между этими элементами, о характере
этих связей. Иначе говоря, мы рассматривали совокупность под углом зрения ее
морфологии или своего рода «анатомии». Но
такого анализа для достаточно полного уяснения вопроса недостаточно. Та
или иная совокупность, раз она дана, не только имеет определенное строение, но
и живет, функционирует. Ее элементы, если только она является реальной совокупностью,
не только связаны между собой, но в результате своей активности в условиях связи и комбинаций с массой других подобных
элементов кладут начало явлениям, которые немыслимы вне этой совокупности, но
которые сами по себе в то же время уже не являются
ни элементами, ни просто связями между ними. Их можно было бы обозначить
как продукты или функции совокупности. Возьмем простейший пример. Известно, что
кинетическая теория газов рассматривает каждую данную массу газа как
совокупность большого числа соответствующих атомов-молекул. Эти атомы-молекулы находятся в постоянном движении. Двигаясь,
они ударяются друг о друга, т. е. находятся в определенных
специфических связях между собой. Если газ заключен в сосуд определенного
объема, то при данной температуре он будет оказывать известное давление на
стенки сосуда. Несомненно, это давление есть продукт молекулярного строения газа и ударов молекул его о стенки сосуда,
ударов, которые возникают в результате первоначального движения молекул
и их взаимодействия между собою. Но несомненно также и то, что это давление
само по себе не есть ни молекулы газа, ни их взаимодействие
или связь. Оно есть некоторое новое явление, есть результат
функционирования совокупности, немыслимый вне ее. Наличие таких новых
результатов функционирования и притом в гораздо более широких пределах
наблюдаем мы и в случаях иных, более сложных совокупностей. Таковы, например,
явления дыхания, обмена веществ, восприятия и т.п. в организме. Таковы явления
угнетения классов, деформации ствола, кроны и лиственного покрова в
растительных сообществах, явления языка, денег, права, религии и т.д. в человеческих обществах. Все эти явления, возможные на
почве связи и взаимодействия элементов совокупности, будучи не
мыслимыми вне соответствующей совокупности, в свою очередь, как правило, служат
средством, формой, факторами связи элементов совокупности. Но в то же время
сами по себе, как уже отмечалось, они не являются ни элементами, ни просто
связями элементов совокупности. И все это
показывает, что анализ совокупности
только с точки зрения ее морфологии или «анатомии» не охватывает ее с
достаточной полнотой. Необходим анализ и с точки зрения ее функционирования или, выражаясь образно, с точки зрения ее
физиологии, с точки зрения уяснения тех новых результатов, которые возникают на почве связи и взаимодействия
элементов данной совокупности. Благодаря различной природе и различной сложности
элементов различного порядка, благодаря особенностям в возникающих между ними
связях и те новые явления, которые представляют собой продукт связи и
взаимодействия этих элементов, оказываются
в совокупностях разного порядка глубоко и принципиально различными. Это
их различие особенно подчеркивает своеобразие отдельных первичных, а через них
и относящихся к ним производных
совокупностей, выступая в качестве нового и весьма существенного
основания взгляда на них, как на объект специальных
групп научных дисциплин*7*.
Все сказанное в
настоящем параграфе позволяет нам уточнить данное выше определение понятия
реальной совокупности. В конечном счете
под реальной совокупностью следует понимать большое число так или иначе связанных между собой элементов и явления,
возникающие в условиях связи этих элементов.
В обычном словоупотреблении имеется тенденция понимать под совокупностью собственно только большое число
элементов как таковых, в крайнем случае—большое число элементов плюс связи
между ними. С такой точки зрения результат или продукт, возникающий на почве
связи между элементами данной совокупности, уже не входит в состав понятия
совокупности. Его склонны называть просто явлениями в сфере совокупности,
например, органические, общественные и т.
д. явления. Для такого разрыва понятия совокупности и явлений в сфере
данной совокупности, однако, нет оснований. С одной стороны, сама совокупность
и связи между ее элементами суть тоже явления и притом явления иного порядка,
чем отдельно взятый элемент явления, неразрывно связанные с теми
явлениями, которые возникают на почве связи элементов совокупности, родственные им. И это тем более, что включенность в
совокупность налагает на сами ее элементы
глубокую печать, модифицирует их, и эта модификация их в значительной
мере обязана тому, что выше было названо
явлениями совокупности. Это особенно ярко наблюдается в сфере
органической и общественной жизни. С другой стороны, т[ак] наз[ываемые] явления в сфере данной совокупности, как правило,
являются средством, формой и факторами связи ее элементов, т.е. неизбежно
входят в состав строения совокупности,
понимаемой в указанном суженном смысле. Отсюда для существования двух
понятий и двух терминов, а именно,
совокупность и явления в сфере данной совокупности, имеется лишь следующее основание. Понятие и термин
реальная совокупность, как было указано выше, охватывают всю сумму
относящихся к вопросу объектов или
явлений, то есть большое число связанных
между собою элементов, самые связи между ними и продукт, возникающий на
почве этих связей. Но употребляя термин данная реальная совокупность, мы,
во-первых, подчеркиваем, что берем ее в целом, во-вторых, отмечаем ту
генетическую реальную преемственность явлений данного класса с явлениями
предшествующего класса более простых явлений. Однако в действительности нам
нередко приходится фиксировать внимание не на той или иной совокупности в
целом, а на отдельных сторонах ее жизни и функционирования. В таком случае
термин «данная реальная совокупность»
будет уже слишком общ и широк. Равным образом часто нет надобности
фиксировать упомянутую генетическую связь между классами явлений. С такой точки
зрения термин «явления в сфере данной или
данных реальных совокупностей» представляется вполне удобным и
законным. По существу и логически он означает то или иное или те или иные
частные, специальные стороны жизни и функционирования
совокупности в целом. В этом смысле можно было бы сказать, что
исчерпывающая сумма явлений в сфере данной реальной совокупности адекватно
совпадает с понятием самой реальной
совокупности. Итак, понятия реальной совокупности и явлений в сфере
данной реальной совокупности говорят об одном и том же объекте, но обладают различным объемом и содержанием. Второе
всегда составляет часть первого.
Опираясь на предыдущее изложение, нетрудно дать общее определение понятия общества, в частности человеческого
общества и общественных явлений.
Общество в самом
широком смысле этого слова есть реальная совокупность
организмов. Но организмы распадаются прежде всего на две основные
категории: растительные и животные*8*. Мы знаем уже, что различие в элементах
совокупности является одним из глубочайших оснований для разграничения видов
самих совокупностей. Указанное подразделение рода организмов достаточно
серьезно. В соответствии с этим мы различаем растительные общества или
сообщества, т. е. реальные совокупности растительных организмов7, и
животные сообщества или общества, т. е. реальные совокупности животных или индивидуумов.
7 Ср.: Морозов Г. Ф.
Цит. соч. С. 9, 28, 36, 46. Ср.: Бухарин Н. Цит. соч. С. 90 и сл.*10*
Животные
организмы, в свою очередь, распадаются на значительное число видов. Но среди
[н] их нас в особенности интересует вид Homo sapiens, человек как организм, достигший,
насколько нам
известно, наивысшего органического развития и представляющий собой по своей природе и организации
достаточно и глубоко своеобразный вид среди
видов животных организмов. Поэтому мы можем подразделить все животные
организмы на два основные класса: животные в тесном смысле слова и человек. В
соответствии с таким подразделением и
животные сообщества распадутся на
две основные категории: животные сообщества, т. е. реальные совокупности животных организмов в
тесном смысле слова и человеческие сообщества или общества.
Исходя из
вышеизложенного, мы можем сказать: человеческое общество есть реальная совокупность людей8.
Может показаться
странным и наперед спорным, что мы рассматриваем
человеческое общество лишь как вид общества в целом наряду с обществами
животных в тесном смысле и даже с растительными
сообществами. Однако в этом нет ничего ни странного, ни спорного. Если
мы желаем понять ту или иную область действительности как она есть, мы должны и
брать ее как она есть. Но это факт, что существуют
растительные общества и общества животных в тесном смысле слова. Мы
видим, что растут специальные отрасли
знания — фитосоциология и зоосоциология, посвященные изучению таких сообществ.
Строго говоря, и основной закон дарвинизма, играющий столь большую роль
в познании живого мира, а именно закон борьбы за существование, является
законом не столько и во всяком случае не только биологическим, а и законом
жизни общества в широком смысле слова, и в частности общества растений и
животных. Но человек есть живой организм, в частности животное, хотя бы и
высшее. Это факт, на котором твердо стоит современное естествознание. И если
это так, то очевидно, что законы, которым подчинено живое существо, и в частности животное, имеют силу с теми или иными
модификациями и для человека. Отсюда очевидно также, что и общественная
жизнь растений, животных и людей не может не иметь общих корней, сходных черт,
не может не рассматриваться как категория родственных явлений. С такой точки
зрения взгляд на человеческое общество как на особый вид общества в широком
смысле есть лишь вполне законный вывод из данных положительных наук, есть
стремление понять человеческое общество в его реальных и глубоких генетических основах.
Однако при всем
том было бы не меньшей ошибкой, увлекшись сходством человека и других живых
существ, преувеличивать близость человеческой общественной жизни и жизни
растительных и животных сообществ, подпадать под власть аналогий и забывать о
том своеобразии, которое таит в себе человеческое общество.
Мы не будем
указывать здесь черт этого своеобразия: они будут ясны из следующей главы,
посвященной специальному рассмотрению структуры человеческого общества и
характеристике различных явлений в нем.
Здесь же, в pendant к данному выше определению общества, дадим определение общественного
явления. Под общественным явлением в широком смысле мы понимаем всякое явление, возникающее на почве или в результате жизни общества, как
реальной совокупности. Мы подчеркиваем, что не всякое явление, наблюдающееся в
обществе, будет общественным явлением. Организмы, и в частности люди, живущие в
обществе, умирают. Но это не значит, что смерть, явление смерти, есть
общественное явление. Оно будет общественным явлением тогда и лишь в той мере,
когда и в какой мере будет обязано своим возникновением, формами и следствиями
условиям жизни общества. Как уже было отмечено выше, разграничительные линии
между сопредельными классами явлений действительности всегда очень не ясны.
Поэтому часто нелегко разграничить эти явления и практически. Но это не значит,
что их нельзя разграничить принципиально и что не ясен теоретически самый
критерий их разграничения.
В соответствии с приведенным определением общественного явления в широком смысле под человеческим общественным
или социальным явлением мы понимаем всякое явление, возникающее на почве или в
результате жизни человеческого общества.
В дальнейшем для
краткости вместо человеческого общества и человеческих общественных явлений мы
будем употреблять термины общество и общественное явление. Всюду, где речь
идет об обществе и общественном явлении в каком-либо ином смысле, это будет отмечено в терминологии. Термин
«социальный» будет употребляться как синоним термина «общественный».
Глава 2.
Строение общества и основные категории общественных явлений
Схема
1. Человек, как
элемент обществ [енной] совокуп [ности]. В каком смысле. Человек и его психо-физич [еская] организация.
Влияние на нее со стороны общества.
Мы знаем челов[ека] только в условиях общества. Двойственность природы
человека. Потребности.
2. Поведение человека. Определение. Классификация актов поведения. Материальная, психическая и идеальная стороны в
поведении человека. Все ли акты поведения
социальны? Возможность ответа только в связи с послед [ствиями].
3. Связи между
людьми и их значение для бытия общества и социальных явлений. Сущность связи.
Виды связи. Материальная, психическая и идеальная стороны связей. Связи и их массовый характер. Гетероген [ность] общест
[ва]. Коллективно-психические явления. Идеи, объективация в идеях. Роль языка.
Материализация. Устойчивость.
Процесс связей и объективный результат. Двойственность человека.
Обращение вопроса: от результата к связям и человеку.
4.
Коллективно-психический ряд. Его
состав. Можно ли говорить о коллективном
духе ндивидивидуально]-псих [ический] и
коллективно-психич[еский] ряд.
5.
Идеологический ряд. Его связи с коллективно-психич [еским]. Его особен-
6. Вещный ряд.
Вещи и их социальные функции.
7.
Организация или морфология
общества.
Группы-совокупности мнимые и реальные. Структура групп. Группы, их
потребности, их взаимодействие. Первичные вторичные совокупности.
Институты. Институт групп
и не групп.
В чем же сущность организации общества? Понятие об
устойчивых отношениях.
8. Человек и
общество. Человек приходит, когда общество уже сложилось. Социальное
пространство, его координаты и место человека в обществе. Его трансформация.
Человек как завершающее звено. Персональный <?> ряд.
9. Итоги. <
... >
11. Социальное
явление. Два принципа его классификации. Виды социальных явлений.
1
Исходным и
вместе с тем, как будет видно из дальнейшего, конечным элементом общества
является человек. Человек есть прежде всего продукт космического и
органического развития. В общественную жизнь он вступает и затем участвует в
ней, обладая теми способностями и свойствами, которые сложились и складываются
у него в процессе этого развития. Очевидно, анализируя общество и общественную
жизнь, мы должны иметь в виду эти способности и свойства.
Строго говоря,
человека как продукта только природы мы не знаем. Мы знаем его лишь таким,
каким он есть или был в условиях общественной жизни на различных ее этапах.
Условия общественной жизни налагают на психо-физическую организацию человека
свой и весьма глубокий отпечаток. Поэтому человек, как мы его знаем, есть
продукт не только природы, но одновременно и культуры. Чисто естественный
человек, человек как продукт только природы является абстракцией. Мы строим
представление о нем, лишь абстрагируясь от влияния на него общественных условий
жизни и опираясь при этом на соответствующие отрасли знания, т. е. на
биологические и психологические науки, а также на антропологию. Но такое
представление о нем, ориентированное на данные упомянутых наук, мы должны
всегда иметь перед собою, занимаясь исследованием общества и общественных
явлений. Хотя влияние общественных условий жизни на психо-физическую организацию
человека и значительно, и глубоко, но не безгранично. То, что невозможно для
человека в силу естественно-органических условий, очевидно, не может возникнуть
и под влиянием общественных условий. И, наоборот, то, что неизбежно в ходе
жизни человека в силу тех же естественно-органических условий, не может быть
предотвращено и условиями общественной жизни. В этом смысле природа ставит как
бы максимальный и минимальный пределы для культуры, для влияния общественных
условий на человека и соответственно для амплитуды хода самой общественной жизни. Вот почему, рассматривая общество как
реальную совокупность людей, и анализируя
человека как элемент общества, необходимо строго учитывать двойственную
естественно-социальную природу человека.
Нам нет необходимости входить здесь в детали
характеристики такой
природы человека. Это делается другими специальными науками и мы должны лишь
ориентироваться на их выводы. Поэтому здесь в развитие сказанного мы отметим
лишь некоторые стороны вопроса, имеющие значение для ясности последующего изложения.
Как продукт естественно-органической эволюции
человек представляет
собой животный организм. В силу этого он имеет определенное строение и
подвержен определенным внутренним органическим процессам. Он испытывает
воздействия как со стороны этих процессов, так и со стороны внешней среды и,
борясь за свое существование, рефлекторно
или инстинктивно реагирует на такие воздействия. В процессе этой
жизненной борьбы он приспособляется к окружающей среде, подвергаясь в
результате этого медленным органическим
изменениям.
Но человек — не просто живой организм, а организм, обладающий
относительно развитой нервно-мозговой системой. Благодаря этому внутренние
органические процессы его жизни, а также те воздействия, которые он испытывает
со стороны внешней среды, значительно сложнее, чем у животных, лишенных
нервно-мозговой системы, а также чем у животных, не обладающих таким развитием ее.
В непосредственной связи с высоким развитием именно
нервно-мозговой
системы стоит факт относительно высокого и сложного развития психических способностей человека. Он способен не только ощущать, воспринимать, запоминать. Если и
нельзя утверждать, что естественному человеку [доступно] строить сколько-нибудь
общие понятия и мыслить в собственном смысле слова, то во всяком случае зачаточных способностей к построению конкретных представлений и умозаключений за ним
отрицать уже нельзя. Он способен, далее, переживать многообразные
эмоции, способен чувствовать и в тех или иных пределах ставить себе цели2.
1 Современная физиология не видит
различия между рефлексами и инстинктами. Ср.: Павлов И. П. Рефлекс цели; его
же: Рефлекс свободы (та и др[угая| статьи. См. в сб.: Двадцатилетний опыт
объективного изучения высшей нервной деятельности животных. М.—П., Госуд.
издательство, 1923, см. с. 204, 208 и ел. В дальнейшем ссылки на работы акад.
Павлова делаются по только что указанному сборнику.
2 Здесь мы употребляем термины и понятия психологии. Нам придется делать
это неоднократно и ниже. Ввиду этого считаем необходимым отметить следующее
Наука о психических явлениях или психология в обычном ее понимании, ввиду
невозможности объективно наблюдать эти явления, опирается, как на основной, на
метод интроспекции. Этот метод по самому существу своему ставит результаты
исследования в глубокую зависимость от субъективных свойств исследователя и, не
поддаваясь объективному контролю, делает их расплывчатыми, неопределенными и
спорными. Отсюда — печальное состояние малой успешности исследований, которое
мы наблюдаем в обычной, т. е. субъективной психологии и которое открыто признается
самими психологами (ср., например, Simmel G. Soziologie [Berlin, 1908]). <
... >
Такое плачевное положение
субъективной психологии за последнее десятилетие вызвало к жизни направление,
которое в лице одних авторов почти полностью, в лице же других полностью
порывает с традициями прежней психологии и
на место субъективного выдвигает объективный метод изучения психологической жизни
животных и человека. Это направление известно под названием или «бихевиоризма», или объективной психологии, или
рефлексе [логии] и представлено работами Торндайка, Паркера, Уотсона в
Америке, Павлова с его школой и Бехтерева
— у нас, Кал< нрзб. > в Германии. Необходимо иметь в виду, что объективное
направление не отрицает факта существования психики, психической деятельности и психических состояний. «Конечно,
эти состояния есть для нас первостепенная действительность, — говорит один из
самых блестящих и последовательных
представителей этого направления И. П. Павлов. — Они направляют нашу ежедневную жизнь, они обусловливают прогресс
человеческого общежития» (см.: Павлов
И. П. Объективное изучение высшей нервной деятельности животных. Цит. соч., с.
157; см. там же: Первые шаги на пути нового исследования, с. 40. Дальнейшие шаги объективного анализа
сложно-нервных явлений в сопоставлении
с субъективным пониманием тех же явлений см.: с. 64 и ел.). Речь идет лишь 0
Другом, объективном методе изучения явлений. Сущность этого метода состоит в
том, что объективно и экспериментально устанавливаются связи между раздражениями организма со стороны внешнего мира,
деятельностью центральной нервной системы
и условными рефлексами или поведением организма (условными в отличие от безусловных, прирожденных и связанных с
низшей нервной системой Рефлексами). Иначе говоря, связь устанавливается между
явлениями, которые все доступны
объективному наблюдению и анализу. Поэтому все понятия и термины нового
направления вращаются в сфере объективных внешних и физиологических явлений. Что же касается того звена в
цепи этих явлений, которое не поддается объективному наблюдению и которое
называется психическими явлениями, то оно выключается как таковое из
сферы непосредственного анализа «СР» Павлов И. П. Физиология и психология при изучении высшей нервной
Деятельности животных. Цит. соч., с. 193 и
ел. Исследование высшей нервной деятельности.
Цит. соч., с. 160 и ел.). Новое направление в изучении высшей нервной
деятельности животных и человека по всем данным и по тем выводам, которые оно
уже имеет, обещает дать очень значительные результаты. Во всяком случае, нам кажется, что с научной точки зрения
было бы целесообразнее при изложении в соответствующих пунктах встать
целиком на его почву, избегая туманной и общей терминологии интроспективной
психологии. Мы это и делаем в тексте.
Однако мы сознательно делаем это лишь в меру возможности. Возможность же
эта определяется фактическими успехами самого объективного метода. Дело в том, что на данной стадии развития он далеко еще
не располагает уже сложившимся запасом понятий и закономерностей,
которые позволили бы охватить собой все те психические явления, с которыми
приходится сталкиваться нам при изложении. Поэтому там, где это возможно, мы
обходимся совершенно без понятий субъективной
психологии. Там, где для соответствующих психических явлений нет интерпретации их с точки зрения объективного метода и
где это достаточно без специального
исследования, мы интерпретируем сами соответствующие термины в духе
объективного метода. И только там, где такая интерпретация требовала бы
специального исследования, где вместе с тем соответствующих исследований еще не
произведено и где это не влечет за собой неясности в общем изложении, мы
пользуемся понятиями и терминами традиционной психологии.
Несомненно,
психика человека, рассматриваемого как продукт естественно-органической эволюции, мало дифференцирована, синкретна,
но все же в зачаточном состоянии обнаруживает корни всех основных психических способностей, свойственных уже общественному
человеку. Она сложнее психики других животных, не исключая и тех, которые стоят
к нему на лестнице органической эволюции
наиболее близко.
Соответственно,
многообразнее и сложнее и его реакции на воздействия как внутренних
органических процессов, так и внешней среды. Вопрос об этих реакциях человека
или о его поведении имеет огромное значение. Реакции или акты поведения человека
всегда являются ответом на те или иные его потребности. Ниже нам придется
остановиться на вопросе о поведении человека подробнее. И для того чтобы
сделать это последующее изложение достаточно ясным, необходимо уже здесь
осветить вопрос о потребностях, которые
свойственны человеку и удовлетворению которых служат акты его
поведения.
Индивидуальная потребность есть специфическое состояние организма. Организм как целое состоит из частей или
органов, между которыми и между функциями которых имеется определенное соответствие. Наряду с этим организм всегда
находится в определенной среде, которая воздействует на него, его
органы и их функции. Между организмом и средой в общем также существует соответствие. Разумеется как внутри-органическое
соответствие или равновесие, так и соответствие или равновесие между
организмом и средой по своему содержанию и характеру для каждого отдельного
вида организма и для организма данного вида и на каждой стадии его развития
специфично. Но в общем при прочих равных
условиях это равновесие есть всегда такое состояние организма, которое
отвечает потребностям его нормального функционирования
и борьбы за существование3.
3 Ср.: Павлов И. П. Естественнонаучное изучение так
называемой душевной деятельности высших животных. Цит. соч. С. 41 и ел.
Исследование высшей нервной деятельности. Цит. соч. С. 161.
Однако такое состояние соответствия
или равновесия не является абсолютно устойчивым, неизменным. Наоборот, оно
почти постоянно в большей или меньшей мере нарушается. Оно нарушается как
ходом внутренних процессов организма, так и под влиянием новых факторов
влияния со стороны внешней среды. Но если оно нарушается, то тем самым как бы отпадают некоторые силы, наличие которых
было необходимо, чтобы организм находился в безразличном недеятельном состоянии
удовлетворения. Теперь он начинает так или иначе действовать, реагируя на факт
нарушения соответствия, и действует, пока не находит нового, смотря по
обстоятельствам, более или менее отличного от состояния соответствия или
равновесия. Состояние нарушенного
соответствия или равновесия между отдельными частями организма (или их
функциями) или между организмом и внешней средой и вытекающее отсюда состояние
искания путей к восстановлению этого
равновесия мы и обозначим общим понятием потребности. В этом широком смысле потребность является вполне объективным состоянием, которое можно наблюдать у
любого организма, не исключая и растительного. Именно в этом смысле говорят о потребности растения во влаге, тепле,
свете и т. д. Иначе говоря, потребность в широком смысле слова не предполагает
необходимостью психического состояния
неудовлетворенности и позыва устранить это состояние
неудовлетворенности. Даже и у животных, обладающих в той или иной мере
психической жизнью, потребности могут проявляться на чисто органической почве,
не задевая поля сознания. Но совершенно ясно, что чем сложнее организм, чем
более развитой нервно-мозговой системой он располагает, тем сложнее предпосылки его внутреннего и внешнего равновесия,
тем легче они нарушаются, тем шире круг его потребностей, тем, наконец, обычнее, что нарушение равновесия организма
находит то или иное отражение в сознании, выражается в нарушении психического
равновесия его, т. е. сопровождается психическим состоянием
неудовлетворенности и искания путей его устранения. Именно так обстоит дело у
человека как наиболее высоко развитого вида организмов. Его потребности
возникают не только в результате нарушения равновесия между его органами или их
функциями, но и в его нервно-психической системе. Они возникают, далее, не
только в результате нарушения равновесия между его организмом и внешней средой,
но и в результате воздействия этой среды на его психику. Поэтому круг его
потребностей шире, чем у других организмов. И в этом состоит существенное
отличие человека от других животных. Но этого мало. На какой бы почве ни
возникали отдельные потребности человека, большинство из них, и во всяком
случае все важнейшие из них, в силу внутреннего единства организма находят
отражение в его психике, сопровождаются
нарушением ее равновесия и являются поэтому осознанными потребностями. Так как, далее, многие виды
потребностей имеют достаточно регулярный характер или возникают
достаточно часто, то чрезвычайно показательным для характеристики того или
иного вида животного [является] его отношение к будущим потребностям. В связи с
этим, мы, с одной стороны, знаем, что многие животные, стоящие значительно ниже
человека по своему развитию, обнаруживают, правда, по-видимому, в большинстве
случаев чисто инстинктивно, заботу об удовлетворении будущих потребностей (пчелы, муравьи, некоторые птицы). С
другой стороны, насколько нам известно, даже на первых этапах своей уже
общественной жизни [человек] проявляет очень большую беспечность к будущему.
Но все же относительно благодаря более высокому
уровню своей умственной организации человек характеризуется наиболее
высокой способностью к сознательной предусмотрительности в деле удовлетворения
потребностей. Удовлетворение потребностей предполагает со стороны организма
деятельность, какие-то акты поведения. И то, что несомненно особенно отличает
человека от других животных, что, быть может, и имеет наиболее глубокую грань между человеком и прочими животными это
его неизмеримо более высокая, чем у других животных, способность находить
средства удовлетворения потребностей и, в частности, его способность создавать
необходимые для этого орудия.
Несомненно, в
значительной мере именно эта способность его, связанная опять-таки с его более
развитой нервно-мозговой системой,
обеспечила ему не только победу в борьбе за существование, но и то
господство его над миром, которого он достиг. Поэтому представляется чрезвычайно глубокой и по существу верной мысль Франклина, что человек есть животное, умеющее
производить орудия.
Однако выше было
уже со всей определенностью отмечено, что человек вне общества, человек только
как продукт природы — собственно абстракция. Реальный человек и реальные
свойства его, с которыми мы имеем дело, изучая общество, это есть человек, уже
живущий в обществе, это и есть его свойства, которые сложились не только под влиянием природы, но и культуры.
Выше мы пытались
отметить некоторые существенные для нас черты психо-физической организации
человека, рассматривая его именно как продукт
естественно-органической эволюции, и следовательно, сознательно игнорируя
все то, что привносится в эту организацию влиянием условий общественной жизни.
Теперь мы должны восполнить как раз этот пробел и тем самым получить то
представление о человеке, как атоме общества, каким он реально является. По выражению Аристотеля, человек —
животное общественное, он живет в обществе. И если человек является
исходным атомом общества, если без учета его психо-физических свойств нельзя
понять общественную жизнь, то, с другой стороны, сама психо-физическая структура человека меняется под влиянием условий
общественной жизни. Космическая и органическая эволюция совершается медленно.
Медленно меняется под влиянием ее и человек.
В соответствии с этим с точки зрения масштабов длительности
общественно-исторического процесса человек как продукт космической и
органической эволюции и его психо-физическая организация
может рассматриваться как явление данное, достаточно устойчивое и мало
изменчивое. Но то, что дано от природы под именем человека, как мы видели, —
это животное существо, мало отличное от некоторых других видов животных,
существо с примитивным уровнем психики, с
ограниченным кругом переживаний и
потребностей, владеющее лишь простейшими естественными способами их удовлетворения. Однако вместе с
тем естественный или данный от природы человек, как показала его история
жизни в обществе, представляет собой существо с огромными потенциальными
способностями к психо-физическому развитию и усовершенствованию, в
значительной мере tabula rasa, на которой подходящие условия могли выявить продукт сложного содержания, превратив
его в аппарат весьма тонкой и многообразной деятельности. Такими условиями и
явились именно условия общественной жизни
человека. Сложные и изменчивые, именно эти условия по преимуществу
актуализировали огромные потенциальные способности человека к психическому
развитию. Общественные условия, несомненно, оказывают в известных пределах
влияние и на биологические свойства
человека. Но особенно значительно и глубоко их влияние на его
психические способности. Можно считать достаточно установленным, что именно в
условиях общественной жизни и под влиянием
их так дифференцировалась и усложнилась
человеческая психика, развились его познавательные и мыслительные,
чувственно-эмоциональные и волевые способности.
Изменяется под
влиянием общественных условий и строй потребностей человека. Отдельные, чисто
естественные потребности отмирают, другие
теряют свое прежнее значение, третьи трансфор-мируются,
дифференцируясь, меняя свое содержание и формы выражения. В этом отношении для подтверждения достаточно указать
на эволюцию таких потребностей, как потребность в пище, в одежде, половая потребность и т. д. Иначе говоря, влияние общественных
условий испытывает [на себе] весь круг так называемых естественных или
природных потребностей. Но вместе с тем под влиянием тех же общественных
условий возникает и развивается целый ряд
многочисленных новых, в особенности т
[ак] наз [ываемых] духовных потребностей: познавательных, эстетических,
религиозных и т. д. И если с индивидуальной точки зрения борьба за жизнь и за
ее уровень сводится к борьбе за удовлетворение потребностей, то очевидно, что
с развитием общества задачи и содержание этой борьбы чрезвычайно усложняются.
Но условия
общественной жизни меняют не только круг и строй потребностей человека, они еще
в каждый данный период, как мы увидим, в значительной мере определяют то
конкретное содержание, которое вкладывается
людьми в различные потребности каждого данного рода, а также средства и
пути их удовлетворения.
В самом начале
настоящего параграфа мы сказали, что человек есть исходный атом общества.
Теперь мы видим, что в полной мере
оправдывается и другая мысль, высказанная там же, а именно, что в то же
время человек есть и конечный атом ее. Если общество есть реальная совокупность
людей и ее нельзя понять без учета психо-физических свойств человека, то с
другой стороны, этот атом с его психо-физической природой сам испытывает
влияние условий общественной жизни и меняется под воздействием их. Механизм
этого воздействия позднее выясняется с большей определенностью. Но во всяком случае склонность психо-физической природы
человека к изменчивости является одним из глубочайших условий изменчивости и пластичности самого общества.
2
Как было уже
указано, удовлетворение потребностей предполагает со стороны человека
деятельность, те или иные акты. И т[ак] к[ак]
общество есть совокупность, т. е. большое число людей, то по существу мы
имеем здесь дело с массовой деятельностью.
Но общество — не просто совокупность, а реальная совокупность, которая предполагает известные связи и отношения
между ее элементами. В обществе эти связи и отношения между людьми существуют прежде всего на почве их деятельности
или поведения. И чтобы разобраться в
строении общества и уяснить природу существующих
в нем связей и отношений, необходимо рассмотреть вопрос об актах
человеческого поведения.
Акты деятельности человека или, иначе, его поведение (behavior) понимаются здесь в общем и
широком смысле слова. Под ними понимаются
все виды реакций человека на те или иные потребности, откуда бы они ни
исходили.
Акты человеческого поведения весьма многобразны и
вступают между собой
в многообразные сплетения. Поэтому в первую очередь рассмотрим их систематику
в соответствии с различными принципами подразделения. Из предыдущего уже ясно,
что те или иные акты поведения человека
возникают не непроизвольно, а всегда
в силу определенных условий. Иначе говоря, человеческое поведение представляется строго детерминированным
совокупностью соответствующих условий, является звеном цепи, которое, с
необходимостью следуя за предшествующими звеньями и сочетаясь с совокупностью других условий, с такой же
необходимостью влечет за собой
последующие звенья цепи событий.
Если иметь в виду ближайшие условия, непосредственным ответом на которые является тот или иной акт
поведения человека, то, как мы уже
видели, такими условиями или мотивами поведения служат всегда потребности. Мы подчеркиваем, что потребности являются
лишь ближайшими непосредственными мотивами поведения, но никак не конечными и
последними, т [ак] к [ак] очевидно всегда
должны существовать какие-то условия, которые нарушают равновесие организма и порождают его потребности.
В каждый данный момент человек может
испытывать ряд потребностей. Но действовать
он будет в соответствии с победившей или победившими потребностями. Эти действующие потребности
различны и притом в различных
отношениях. Поэтому конкретно будут различны, следовательно, мотивы поведения.
Потребности могут быть осознанными или
неосознанными. К первым
относятся те, возникновение, содержание и влияние которых проходит через тот или иной контроль сознания. Ко
вторым, наоборот, [относятся] те,
влияние которых остается вне поля сознания.
В соответствии с этим все акты поведения можно разделить на сознательные и бессознательные. К группе
бессознательных относится
бесчисленное множество актов поведения, но по самому существу своему они
являются, как правило, простейшими, не затрагивающими обычное течение
жизни человека сколько-нибудь глубоко и
серьезно. Причем к ним принадлежат как различные рефлекторные действия, так и действия, которые когда-то были сознательными, но потом в силу привычки
превратились в бессознательные. Из
последнего положения ясно, что сознательные акты в определенных условиях могут
превращаться в бессознательные. Имеет
место и обратное явление. Акты, бывшие бессознательными, при осложнении обычных
привычных условии их протекания походят до сознания, становятся сознательными.
Обращаясь теперь
к сознательным актам, нужно констатировать, что характер контроля сознания в
возникновении и влиянии потребностей и,
соответственно, мотивов поведения далеко не однороден. Иногда удовлетворение тех или иных потребностей представляется
как ясно осознанная определенная задача. В этом случае акт поведения
совершается по схеме «для того, чтобы», и мотивация
имеет телеологический характер. Причем по своей природе цели, которые
здесь ставятся, могут быть или утилитарными, например
получение наибольшей хозяйственной выгоды, или гедонистическими,
например получение того или иного удовольствия, или, наконец, чисто
объективными, например получение того или иного научного, технического,
художественного и т. д. эффекта. Природа поставленной цели может иметь,
разумеется, и сложный характер, т. е. включать в себя соображения утилитарного
и гедонистического, гедонистического и объективного и т. п. порядка. Но не
менее часто и, строго говоря, может быть даже чаще удовлетворение потребности
не осознается как определенная, ясно поставленная цель. И тогда акт поведения
совершается не по схеме «для того, чтобы», а по схеме «потому, что». Такую
схему мотивации можно назвать, в отличие от
телеологической, консе-кутивной или
еще алогической. Последняя, в свою очередь, не однородна и может быть
разбита на подвиды. Во-первых, акты поведения на основе различных потребностей
могут совершаться так, а не иначе в силу подражания или социального заражения.
Так, нередко люди покупают платье данной моды, носят стрижку данного типа и
даже примыкают к тем или иным политическим, религиозным,
эстетическим течениям не в результате ясно осознанных целей или
продуманных убеждений, а потому, что так делают другие, потому, что это модно,
современно, соответствует духу времени и т.
д.
Этот подвид консекутивной мотивации чрезвычайно распространен и с особой ясностью наблюдается в случаях
образования социальной толпы, возникновения социальных эпидемий, в эпохи революций,
войн и т. д. Его можно назвать предметной мотивацией. Во-вторых, сознательные
акты поведения нередко совершаются не по
телеологическим мотивам и даже иногда вопреки им в силу чисто принципиальных
оснований и потребностей. Сюда относятся все поступки, которые совершаются
независимо от их пользы, удовольствия, объективного эффекта лишь потому, что
этого требует Долг, честь, правосознание и т. д. Такой подвид консекутивной мотивации называется принципиальной мотивацией.
Наконец, в третьих, в огромном
числе случаев сознательные акты поведения соверщаются не по телеологическим и
не по принципиальным соображениям, и притом часто вопреки им, а по соображениям
наличных повелительных и непреодолимых обстоятельств и побуждений. Сюда
относятся акты, совершаемые вопреки рационально-целевым и принципиальным мотивам в силу страха,
голода, зависти, ревности, усталости,
лени и т. д. Нетрудно видеть, что в данном случае речь идет о поступках,
которые в конечном счете базируются на
наиболее примитивных, но и наиболее мощных эмоционально чувственных
переживаниях человека. Этот подвид консекутивной мотивации можно назвать основным *1*.
Т [аким] о [бразом], мы рассмотрели классификацию
актов поведения в
зависимости от того, какое отношение те или иные потребности как мотивы поведения имеют к сознанию и какой психический состав имеет место при проявлении тех
или иных действующих потребностей. Но мы знаем уже, что независимо от этого потребности распадаются по определенным
сферам человеческой жизни. В
соответствии с ними и акты поведения, какова бы ни была схема их мотивации по признаку контроля сознания, распадаются (повтор) на определенные области. Так,
мы различаем акты, связанные с
удовлетворением материальных и духовных потребностей. Первые могут быть связаны
с удовлетворением потребностей в
питании, в одежде, половых потребностей, потребностей в самозащите. Вторые, в свою очередь, могут быть связаны с
удовлетворением познавательных, религиозных, эстетических потребностей, потребностей общения и т. д.
Но с каким бы видом потребностей ни было связано поведение человека,
непосредственно оно может состоять или в самом удовлетворении потребностей или, наоборот, лишь в создании условий, необходимых для их удовлетворения. Это
подразделение актов человеческого
поведения, как мы увидим совершенно отчетливо ниже, имеет огромное познавательное значение. Здесь же лишь заметим, что значительная часть человеческой
деятельности состоит не в
непосредственном удовлетворении потребностей, а именно в создании
условий их удовлетворения, и что, чем выше уровень
культурного развития человечества, тем шире сфера такой посредствующей деятельности.
Акты поведения различаются между собой и по внешней
форме. Они являются
или актами действия (facere) в узком смысле слова или, наоборот, актами недействия, воздержания от
действия (non facere)*2*. При этом последние могут
иметь один из двух оттенков. Или они
являются актами простого воздержания от действия (abstinere), например актом воздержания от
купли, продажи, актом воздержания от потребления алкоголя, от чтения какой-либо
книги и т. д. Или же они являются актами воздержания в сознании задачи и долга терпения (pati). Таковы, например, акты воздержания от действий в случае наносимых оскорблений и
притеснений и притом воздержания в
сознании, что так следует, нравственно и правильно поступ [ать].
Наконец, акты человеческого поведения непосредственно могут быть направлены по различным адресам. Они
могут быть направлены на внешнюю
природу. Многие потребности, в особенности
т[ак] называемые] материальные потребности, могут быть удовлетворены лишь в результате утилизации или,
[говоря] шире, вовлечения в круг действия предметов внешней природы.
Они могут быть
направлены непосредственно на других людей. Это мы наблюдаем, например в
случаях, когда читается лекция, выпускается газета, организуется
профессиональный союз и т. д. Они могут быть адресованы тем или иным
мистическим существам, отвлеченным началам и
т. п., что имеет место при некоторых религиозных,
магических и т. п. ритуалах. Они могут быть, наконец, обращены человеком к самому себе.
Если теперь объединить сказанное о систематике актов поведения, то мы получим следующую общую схему [см.
схему].
Из всего
изложенного выше мы видим, что акты человеческого поведения чрезвычайно многообразны. Если учитывать все их, от
великого до ничтожного включительно, то легко видеть, что всякий человек
ежедневно и еженедельно совершает бесчисленное множество их. Они располагаются
у него при этом сложными связными сериями. Каждый человек известные виды и
формы своего поведения считает как бы основными для себя и более или менее
преемственно возобновляет их изо дня в день, из недели в неделю и т. д. Так почти
каждый человек имеет те или иные регулярные занятия. Каждый человек ежедневно
проделывает известный цикл актов своего домашнего обихода, более или менее
регулярно отдается отдыху, удовольствиям и т. д. Но в то же время каждая из
таких цепей его регулярных актов поведения всегда осложняется и обогащается бесчисленным множеством мелких привходящих иррегулярных актов: например, он
случайно встречает старого знакомого на улице и вступает с ним в
разговор, обнаруживает в трамвае, что забыл кошелек дома и имеет инцидент с кондуктором, делается зрителем или даже
участником какого-либо происшествия на площади, запаздывает на занятия и
получает выговор от начальства и т. д.
Иногда же регулярное течение цепей его поведения потрясается и даже
совершенно прерывается и он становится
участником громадных событий, как стачка, война, революция и т. д.
Не все акты
поведения людей сами по себе имеют социальную природу или только социальную
природу. Многие из них имеют чисто
органические корни и только органическое значение. Актами социальной
природы являются лишь те, которые или имеют социальные условия своего
возникновения, или, имея иные источники происхождения, зависят от социальных
условий по форме своего совершения, или, наконец, те, которые независимо от
двух первых условий
имеют определенные социальные
последствия. И, строго говоря, они будут социальными каждый раз в той
мере, в какой обязаны общественным условиям своим возникновением и своей формой
или в какой оказывают воздействие на эти условия. Социальная или несоциальная природа актов поведения определяется
тем, находятся ли эти акты поведения в связи и взаимодействии с потоками актов поведения других людей данного общества.
3
Раз дана
совокупность людей, раз эти люди совершают многообразные акты поведения, то
неизбежно на почве такого поведения они вступают между собою в различные
связи. Именно в силу таких связей между людьми их совокупность и выступает как
реальная совокупность, выступает как общество.
Характер связей, существующих в обществе, естественно всегда находится в тесном соответствии со структурой
потребностей людей и с типом тех актов поведения, которые они предпринимают для
удовлетворения потребностей. Вместе с тем эти связи в своем конкретном
проявлении столь бесчисленно многообразны, столь обычны для нас, что, как и все
многообразное и обычное, с трудом поддаются анализу и систематизации. Можно
сказать, что связи между людьми могут возникать на почве актов поведения, протекающих
по любой схеме мотивации, в связи с любой сферой потребностей и в любой форме.
Поэтому их можно было бы систематизировать по тем же принципам, что и сами акты
поведения. Однако такой путь был бы не только ненужным повторением, но вместе
с тем не позволил бы выявить некоторые специфические черты строения общественных
связей, т. к. связи на почве актов поведения уже не суть просто акты поведения,
а нечто новое и своеобразное. Между тем выявление специфических сторон строения этих связей имеет решающее значение для
понимания структуры всего общества.

В самом общем
смысле социальная связь сводится к тому, что ее участники на почве актов своего
поведения включаются в новую обстановку, в новую среду, к которой принадлежат
другие участники этой связи с их актами поведения и результатами этого
поведения, испытывают воздействие этой среды, в той или иной мере [воздействуют
на нее]. И весь вопрос анализа сущности социальной связи состоит в том, чтобы
выяснить, как происходит это включение, в чем состоит воздействие на среду и
среды на участников связи. Прежде чем дать общий ответ на эти вопросы,
рассмотрим важнейшие типы социальной связи *3*.
Связь между
людьми, находящимися в данное время в данном месте и, следовательно,
воспринимающими акты поведения друг Друга
непосредственно своими органами чувств, можно считать непосредственной связью.
Такая
непосредственная связь устанавливается на основе актов тРУДа
физического и умственного в виде сотрудничества, на основе борьбы, игр,
совершения ритуальных процессов и т. д. Возьмем Для более пристального анализа
случай сотрудничества простого или сложного. Сотрудничество или выполнение
общей работы на основе простого или сложного разделения труда имеет исключительно широкое распространение и огромный
удельный вес в жизни общества. Легко видеть, что сотрудничество, раз оно
установилось, в первую очередь есть материальная, физическая связь Между
людьми. Выполняя совместно ту или иную работу путем физического воздействия на
вещи, люди физически, материально связываются с ними, а через них и между собою4.
4 Ср.: Бухарин
Н. Цит. соч. С. 93 и сл.*4*
Сотрудничество
при этом представляет собой материально не просто связь, а
связь-взаимодействие. Каждый участник работы оказывает известное воздействие на
других и испытывает в свою очередь их воздействие на себе. Если известное звено
работы выполняется лицом А и выполняется в
определенный момент определенным образом, то это в той или иной мере
уже материально воздействует на то, когда и как выполняются другие звенья работы
лицами В, С, D, и т. д. И обратно. С полной
отчетливостью такое материальное
взаимодействие работающих выступает,
например, при работе по принципу конвейера. Но в той или иной форме оно
имеет место в условиях всякого сотрудничества.
Однако связь-взаимодействие при сотрудничестве имеет не только материальный характер. Факт сотрудничества
создает для каждого участника новую среду,
новую обстановку, которая действует на его психику. На нее действует
самый процесс совместной работы, действу
[ет] движение, жесты, слова, выражение лица окружающих. Все это также
материальные элементы и факторы. Таким образом, мы встречаемся здесь как бы со
второй цепью материальной связи
участников. Однако эта вторая цепь имеет здесь значение не столько как
таковая, сколько как раздражитель определенных психических переживаний у
каждого участника сотрудничества. Эти
переживания состоят в известной системе понятий и представлений о сущности, смысле и задачах выполняемой
работы, о поведении и переживаниях ее участников, а также в известной сумме эмоциональных и чувственных переживаний,
которые сопровождают указанную систему понятий и факт собственного
участия в работе. Вся эта совокупность переживаний, возникающая под влиянием сложившейся обстановки, влияет на
психическое состояние участника работы и отражается на его поведении,
т. е. на процессе его работы. И т. к.
сказанное можно применить к каждому участнику, то можно сказать, что при
сотрудничестве между участниками устанавливается и психическая
связь-взаимодействие. Факты показывают, что эта связь психически сближает
сотрудничающих. В той или иной мере у них
сглаживаются индивидуальные черты в актуальном психическом состоянии и
выявляются общие черты, делающие их
как бы частью какого-то объемлющего целого, создается общий ритм в работе, подчиняющий их. И если
сотрудничество по своему эффекту дает больше, чем соответствующая
простая сумма не связанных индивидов, то это является несомненным результатом
не только чисто материальной связи сотрудничающих и технических преимуществ
сотрудничества, но также и указанной психической связи.
Наконец, связь
участников сотрудничества содержит в себе и некоторые
идеальные элементы. Действительно, мы видим, что между ними существуют
реальные материально-психические связи взаимодействия. Этот факт связи, факт
сопринадлежности каждого из участников сотрудничества к связанной
совокупности, в той или иной мере осознается
ими. Самый процесс осознания является,
как говорилось, психическим процессом и элементом психического взаимодействия. Но получающееся в
результате этого понятие о связи и сопринадлежности отдельных лиц к
совокупности по своему содержанию является уже не психическим, а идеально-логическим феноменом. И ясно, что чем
прочнее реальные связи, тем интенсивнее психический процесс
взаимодействия, тем больше оснований для выявления идей связи в сознании отдельных участников сотрудничества. И обратно, чем
сильнее будет выявлен идеальный момент связи, тем теснее и прочнее может
быть реальная связь.
Итак, анализ приводит нас к заключению, что непосредственные связи при сотрудничестве необходимо и
одновременно содержат в себе материальный, психический и идеальный моменты.
Нужно сказать теперь, что, по существу, то же самое наблюдаем мы и во всех
других случаях непосредственных связей. Основные различия сводятся здесь лишь к
особенности класса актов поведения, на
основе которых возникают связи, к интенсивности связей, к различному
относительному значению отдельных из указанных моментов. Так, если взять,
например, связи на почве выполнения религиозного ритуала, коллективных игр,
политических действий и т. п., то мы увидим, что здесь материальная связь,
названная выше первичной, отсутствует, но вторичная материальная связь имеет
полную силу, так как почти каждый акт участника связи облекается в ту или иную материальную форму и лишь при этих
условиях он отвечает предъявляемому к нему требованию. Однако и в связи со
сказанным, и в силу природы относящихся сюда актов поведения здесь с гораздо
большей силой выступает психическое взаимодействие, взаимообмен идеями и
верованиями, взаимозаражение эмоциями и чувствами. Равным образом яснее
выступает здесь и идеальный момент связи в виде связывающей участников
взаимодействия идеи сопринадлежности к единой системе верований, к тому или иному кругу политических идей и т. д.
Однако люди находятся,
хотя и в то же время, но в разных географических
пунктах или даже в различных пунктах и в различное время. И тем не
менее связь между ними может существовать и существует. В отличие от
рассмотренного выше типа мы назовем ее опосредованной. Причем, она, в свою
очередь, имеет два различных и весьма важных вида. Прежде всего можно говорить
об опосредственной связи между людьми, хотя
и разделенных географически, но действующих в общем в одно и то же
время. Как и в случае непосредственной связи, здесь связь может возникать на
почве любых актов-поведения. Поэтому для ясности возьмем для более детального
рассмотрения связь на почве сотрудничества и разделения труда. Возьмем,
например, крестьян, производящих в деревне лен, рабочих, перерабатывающих его в
городе в пряжу, и рабочих, перерабатывающих пряжу в другом городе в холст.
Совершенно бесспорно, что между всеми этими людьми, хотя и разделенными географически, будет существовать
разделение труда, будет существовать и связь. Связь эта имеет прежде
всего материальный характер. Так, ее существование предполагает материальный
процесс производства как в городе, так и в деревне, материальное передвижение
льна, пряжи и холста. Но эти материальные связи, эти новые условия
существования участвующих в сотрудничестве лиц одновременно предполагают у них
известные психические переживания, состоящие
в понимании механизма связи и его требований, в сопровождающих его
эмоциях, чувствах и волевых усилиях. И
поскольку неизбежен этот психический процесс, поскольку он приводит к
более или менее отчетливому выяснению в сознании участников сотрудничества его
наличия, строения и значения, постольку, очевидно, кристаллизуется самая идея
связи, т. е. имеет место и идеальная сторона ее. Наконец, легко видеть, что
анализируемая связь неизбежно имеет характер двусторонний, представляет собой
опосредственное взаимодействие, т. к. объем, темпы,
качество и т. д. действий любой группы участников сотрудничества теми
или иными путями порождают соответствующую реакцию со стороны других. Эта
реакция выражается в понижении или повышении
цен на продукт, в отказе принимать его или, наоборот, в усиленных
требованиях его и т. п. Очевидно, что такие реакции представляют собой наряду с
основной связью сотрудничества ряд новых цепей взаимодействия, которые в свою
очередь предполагают материальную связь
между людьми (сообщение почтой, телеграфом и т.д.), заявлений и требований, соответствующие психические
процессы на той и другой стороне и те идеи, которые формируются на основе этих
процессов. Таким образом, и в случае сотрудничества
на расстоянии мы вскрываем в составе связи те же три неотделимые
стороны: материальную, психическую и идеальную. Но можно без преувеличения
сказать, что значительная часть всей деятельности в сфере физического труда в
обществе (а эта сфера чрезвычайно велика) опирается на начала сотрудничества
людей, или находящихся вместе или в условиях географического разделения*5*.
Следовательно, все общество как толстыми канатами как бы пронизано
рассмотренными связями. Вместе с тем почти вся область умственного и, в
частности, научного труда в обществе протекает в условиях указанного
опосредствованного взаимодействия. Правда,
здесь не с такой отчетливостью выступает момент материальной связи. Но
все же он, хотя и в иной форме, есть. Работа ученого в лаборатории или у себя в
кабинете протекает в условиях непрерывного наблюдения за тем, что делается другими учеными в данной и в смежных областях. А
это предполагает ряд материальных процессов: процесс написания
соответствующих работ, их публикацию,
передвижение напечатанной литературы, ее чтение и т. д. Вместе с тем
здесь несомненно значительно сложнее
присущие связи психические моменты и отчетливее отделпают идеальные
моменты, так как по самому существу речь идет о распространении и защите той
или иной суммы идей. Но опосредствованную связь в виде взаимодействия мы
находим не только да почве различных видов
сотрудничества, а также на почве актов поведения в области религии,
искусства, политической деятельности и т. д. Иначе говоря, эти связи
охватывают все стороны человеческой деятельности. И именно они делают связанной
совокупностью или обществом не только
людей, которые живут в данное время, в данном месте и, следовательно,
могут непосредственно видеть, слышать друг друга, но и людей, живущих в данное
время в условиях географического разделения. Отсюда с полной ясностью выступают
такие социальные функции различных материальных
средств сообщения, как водные пути, дороги, почта, телеграф, телефон,
радио и т. д. Очевидно, что чем совершеннее эти средства, тем интенсивнее может
быть социальная связь физически
разделенных людей, тем шире могут простираться границы единой реальной совокупности — общества.
Однако сказанным
формы связи между людьми не исчерпываются. Наряду с опосредствованной
связью-взаимодействием необходимо выделить опосредствованную
связь-воздействие. Когда в каждый данный момент живущие люди совершают акты
физического труда, они пользуются орудиями и средствами производства, организационными методами и навыками, перешедшими
от предыдущих поколений. Когда они совершают акты умственного труда,
они опираются на сумму идей, добытых этими поколениями и зафиксированных в
книгах, журналах.
Когда они
проявляют себя в сфере искусства, религии, политики, права и т. д., они отправляются
от совокупности тех верований, тех достижений и духовных течений, которые
перешли от прошлого. Совершенно ясно, поэтому, что каждое данное поколение
людей в своем поведении связано таким образом с поведением предшествовавших
поколений. Эта связь имеет очевидно опосредствованный характер. И т. к. она
состоит неизбежно лишь в действии прошлого на настоящее, то, в отличие от
случая опосредствованной связи между современниками, такую связь мы называем
опосредствованной связью-воздействием. Но что касается ее состава, то он здесь, по существу, тот же, что и в
других рассмотренных случаях. Так же, как и там, мы находим здесь в ней
материальную связь через посредство сохранившихся орудий и средств производства,
печатных произведений, памятников искусства, религии и т. д. Так же, как и там,
эта связь включает в себя те психические процессы, которые вызываются остатками
прошлого, и те идеи, которые выявляются в
этих процессах и которые состоят в понимании Действий прошлых поколений, в понимании преемственности современного
в отношении прошлого, в уяснении сопринадлежности к тем или иным общим духовным течениям и материальным устремлениям.
В дополнение к
сказанному необходимо отметить, что связь между людьми любого из рассмотренных
типов, возникшая на основе тех или иных
видов поведения, может быть более или менее устойчивой. Под более
устойчивой связью разумеется та, которая сложившись на основе определенных
видов поведения, в основном регулярно сохраняется в прежних формах относительно
более продолжительное время. Ясно, что с точки зрения устойчивости связи имеют почти безграничную гамму переходов,
начиная от мимолетных до очень устойчивых, почти постоянных. Человек может
познакомиться с другим человеком случайно в поезде, в театре и затем уже никогда
не встретить его. И тот же человек может почти
всю жизнь работать на одном и том же предприятии, жить в одной и той же
семье и т. д.
Итак, мы видим,
что связи между людьми, возникая на основе самых
различных актов поведения, бывают или непосредственными или
опосредствованными. В первом случае они всегда являются двусторонними, являются
связями-взаимодействиями. Во втором же случае они бывают или
связью-взаимодействия или связью-воздействия. Наличие этих трех основных типов
связи выясняет, почему реальной является не
только совокупность людей, живущих в одном и том же месте, но и людей,
географически разделенных между собой*6*.
Оно выясняет также, почему реальная совокупность людей существует не только в
данный момент, но имеет и длительное существование. Мы видели далее,
что как непосредственные, так и опосредствованные связи имеют различную степень
устойчивости. Ниже будет показано, что устойчивость связей имеет ближайшее
отношение к вопросу об организационном строе общества. По своему составу связь
всегда и одновременно имеет материальный, психический и идеальный характер.
Говоря об
обществе, мы всегда имеем в виду совокупность большого
числа людей, входящих в него. Отсюда в области поведения их мы имеем
дело с явлениями массового поведения. Если учесть большое число действующих лиц
и тот факт, что каждое из них способно в свою очередь произвести большое число
актов поведения, то станет ясным, что по самому существу вопроса в обществе
перед нами развертываются целые потоки актов поведения.
Как мы уже
видели, между людьми на почве их поведения устанавливаются различные связи. Но
если лицо А непосредственно или опосредствованно связано с лицами А', А», А'»
и т.д., то каждое из последних связано
соответственно с какими-либо лицами В', В», В'», ... С', С», С'», ..., D', D», D'» и т.д. Последние связаны с новыми категориями лиц,
часть из которых, быть может, в свою очередь связана с некоторыми из уже
упомянутых лиц А, А', В», С'» и т.д. Этой упрощенной схемой мы хотим
иллюстрировать ту бесспорную мысль, что связи на почве поведения так или иначе охватывают и объединяют всю совокупность
лиц, входящих в данную совокупность или общество. Конкретно между одними лицами
связи эти слабее и имеют преимущественно одни формы, между другими они прочнее, устойчивее и имеют преимущественно иные
формы. Но в той или иной степени, в той или иной форме они существуют между
всеми элементами общества, объединяют все эти элементы в единую объемлющую
первоначальную совокупность, именуемую нами обществом.
То обстоятельство, что акты поведения, на почве которых люди, входящие в состав общества, вступают между собой в
связи различные отношения, имеют в основе
массовый характер, влечет за собой последствия, чрезвычайно важные для
понимания природы общества и общественных явлений. Немецкий философ и психолог
В Вундт формулировал положение, известное под именем закона гетерогонии
целей*7*. Согласно этому закону, под влиянием среды, и в частности общественной
среды, те цели, которые ставятся себе
отдельными лицами, никогда не осуществляются в точном соответствии с
первоначальными предположениями, а всегда с теми или иными уклонениями от них.
Иначе говоря, результат действия человека в общественной среде в той или иной
мере является независимым от самого человека, является, следовательно,
каким-то новым, специфическим продуктом, который не может быть понят исходя из
строя индивидуальной психики человека. Закон гетерогонии целей, сформулированный Вундтом, не вызывает сомнений. Он является прямым указанием на то, что факт связи и
взаимоотношений между людьми в процессе их поведения служит условием, в
силу и на почве которого и возникают явления sui generis — социальные явления, требующие специального изучения. Однако для полного
уяснения вопроса о специфичности социальных явлений от всех других видов
явлений действительности он должен быть
значительно расширен.
Мы знаем, что
человеческие действия протекают не только по схеме целевой мотивации. Но если
целевые действия человека, сталкиваясь с массовым воздействием со стороны
других людей, отклоняются от намеченной цели и приводят к результатам, уже не
зависящим от индивидуальной воли, то очевидно, что и все человеческие действия,
по какой бы схеме они ни протекали, в условиях массовых связей и взаимодействия
приводят к иным, не зависящим от индивида результатам, чем те результаты,
которые получились бы при отсутствии взаимодействия. Иначе говоря, не только
условия, но и всякое поведение человека в условиях массовых связей и
взаимодействия подвержено закону гетерогонии. И оно подвержено не только закону
гетерогонии, но одновременно и закону полной или частичной деперсонализации
результатов. Действительно, если на основе
сотрудничества группой людей воздвигается дом, прокладывается железная дорога и
т. д., то здесь мы сталкиваемся не только с тем фактом, что поступки отдельных участников работы отклонялись от
индивидуальных предположений, но также и с тем, что продукт труда
является продуктом коллективного труда, в котором уже невозможно с определенностью
выделить долю работы каждого участника. Продукт труда Деперсонализировался. И
это станет еще яснее, если мы примем во внимание, что кирпичи, рельсы, стены и
др. материалы для Дома и железнодорожного пути и также те орудия производства, которые употреблялись при их создании, произведены
целою цепью других людей. Если мы возьмем, например, нормы обычного
права народную поэзию и т.п., то, несомненно, они кем-то были созданы. Но они
созданы не одной личностью, а массой в процессе длительного
взаимодействия. И продукт этого массового создания является не только
гетерогенным в отношении действий каждого участника процесса его создания, но и
деперсонифицированным. Если взять литературу, науку, то здесь на отдельных
продуктах творчества стоит печать
индивидуальности художника, ученого. Здесь нет всецелой
деперсонализации. Но история литературы, история науки убедительно показывают,
что каждый художник и каждый ученый есть дитя своей эпохи, есть наследник всего
прошлого литературы и науки и что в его творчестве, в его приемах и результатах
всегда есть значительная доля независимого от индивидуальности. Таким образом,
можно утверждать, что в силу процесса взаимодействия человеческое поведение
подчинено закону гетерогонии его результатов и частичной или полной их
деперсонализации. Эти результаты процесса взаимодействия, гетерогенные и в той
или иной мере обезличенные в отношении отдельного человека, уже не могут быть
поняты исходя из свойств отдельного человека. Они
представляют собой новые специфические явления, свойственные лишь совокупности людей или обществу. Их мы и
рассматриваем как социальные явления. Причем, т [ак] к [ак] процесс
взаимодействия по самому существу имеет массовый характер, не подчиненный
воле отдельных лиц, то в самой основе своей социальные явления имеют черты стихийности, подвержены естественной закономерности,
о чем нам придется говорить подробнее еще ниже.
4
Итак, мы видим,
что жизнь общества представляет собой массовый, стихийный поток связей и
взаимодействия между людьми на основе их действий или поведения. Мы видим также,
что эти связи всегда и с неизбежностью, хотя в различных случаях и в различной
мере, есть и связи на основе тех или иных идей. Нередко, как в случаях связей
на почве познавательной, религиозной, политической и т. п. деятельности, идеи
являются, по существу, даже прямым и
основным объектом связи. Акты массового поведения, приводящие к установлению той или иной связи между людьми, как
таковые совершаются во времени. Возникнув и установив ту или иную связь, они
могут прекращаться с тем, чтобы позднее возникнуть вновь в прежней или в
какой-нибудь иной форме. Иначе говоря, акты
поведения как таковые прерывны. Но те связи, которые возникают на их
основе, в частности связи на почве идей,
раз они возникли, продолжают пребывать, пока они не будут вытеснены
связями на почве каких-либо иных идей. Поэтому если в каждый данный момент мы
произведем как бы поперечный разрез потока общественной жизни и посмотрим на
этот разрез точки зрения наличия в нем
идей, то мы обнаружим, что общество всега располагает известным
строем идей. Если мы произведем далее продольный или временной разрез потока
общественной жизни, то мы увидим, что вместе с ходом общественной жизни,
вместе с ее изменениями меняется и строй коллективных идей. Строй или сумму идей, которая имеется в данном обществе,
можно назвать идеологическим рядом
общества. Идеи, о которых здесь идет
речь, по своей природе различны. Сюда относятся познавательные и в частности научные понятия, суждения,
правовые и нравственные представления, политические понятия и идеалы,
религиозные верования, эстетические
представления и т.д. Но каковы бы ни были эти различные идеи по своему
содержанию, они все характеризуются тем, что являются коллективными идеями.
Последнее положение нельзя, разумеется, понимать в том смысле, что имеется
какое-то коллективное существо, обладающее умственными способностями и
порождающее все эти идеи. Идеи возникают и психически переживаются только в
индивидуальном сознании отдельных людей.
Но, как ясно уже из предыдущего изложения, особенно при формулировке
закона гетерогонии, идеи возникают в индивидуальном сознании всегда при наличии
воздействия на него прошлого и окружающей
общественной среды и, следовательно, при воздействии уже ранее существовавших чужих идей. Поэтому уже в самом
своем зарождении по своему содержанию идеи никогда не являются чисто индивидуальным созданием. Индивидуальным является
в данном случае преимущественно тот био-психический процесс, который
предполагается возникновением идеи. Далее, после своего возникновения идея
через процесс связи и взаимодействия поступает в общественный оборот. Здесь она
сталкивается с другими родственными или, наоборот, враждебными чужими идеями.
В порядке взаимодействия и многообразного жизненного опыта в сознании массы людей различные идеи скрещиваются
между собой, борются и согласуются друг с другом. И в конечном счете
побеждают и выживают те идеи, которые наиболее полно и совершенно отвечают
соответствующему, т.е. научному, эстетическому, религиозному и т.д. коллективному опыту и выживают в том виде, в каком они больше всего отвечают ему. Причем, выжившей
считается именно та идея, которая из
индивидуальной стала в той или иной степени коллективной, то есть
получила признание многих. Эти многие не обязательно
все общество: всеобщее признание получают лишь редкие идеи, за которые говорит
действительно всеобщий, относительно простой и устойчивый опыт. Таковы,
например, некоторые научные, в частности
математические идеи. Как правило же, те или иные идеи получают признание
лишь в известных общественных кругах. Но и в этом случае они оказываются
коллективным достоянием.
Становясь
коллективной, идея или совершенно теряет связь с лицом (или лицами), впервые сформулировавшим ее. В таком случае мы будем иметь перед собой проявление закона
деперсонификации в полной мере. Это имеет место, например, в отношении
различных религиозных догматов, произведений устной поэзии, норм обычного
права и т.д. Или она сохраняет связь с автором, существуя, однако, уже
независимо от него, независимо от того, жив он лично или нет, продолжает он ее
защищать по-прежнему или нет.
В этом отрыве
идей от породивших их лиц, а также от судьбы отдельных
лиц, разделяющих их, проявляется один из самых основных признаков
коллективно-социальной природы идей, живущих в обществе. Действительно, как
лица, формулировавшие идею, так и отдельные лица из разделяющих ее, могут жить
и умереть, могут по-прежнему защищать эту идею или не защищать и даже отказываться
от нее, она продолжает свое бытие, пока существуют соответствующие социальные условия,
пока она отвечает наличному коллективному опыту и, соответственно, пока не
появятся новые идеи, которые ее вытеснят и
заменят. Тогда она отойдет в историю. Так Кант, Маркс и др. умерли,
отдельные кантианцы и марксисты жили и умирали, защищали свои идеи или
отказывались от них. Но идеи Канта, Маркса и др. продолжают жить.
Другим признаком
надиндивидуальной коллективной природы рассматриваемых
идей является то сопротивление со стороны окружающей среды, принимающей
данные идеи, которое встречает попытка со стороны отдельного лица отступить от
них, изменить или упразднить их. Для доказательства достаточно напомнить
события из истории религиозных расколов, политической борьбы, из истории
борьбы новых научных идей, пытавшихся вытеснить прежние господствовавшие идеи.
Эти факты убедительно показывают, что существующая
в данном обществе или в той или иной его части система идей является не чем-то внешним и
иллюзорным, а совершенно объективным фактом, имеющим определенные и
прочные связи со всей системой общественной жизни и поведения людей.
Мы назвали
господствующие в обществе идеи системой идей. Так оно и есть в
действительности. Наличные коллективные идеи*8* на практике представляют собой
не хаотическую сумму, а организованную
систему или, точнее, системы идей. Эта организованность их сказывается прежде
всего в том, что идеи более или менее отчетливо дифференцируются по
специальным областям жизни и деятельности,
к которым они имеют отношение. Отсюда именно мы и говорим о научных, религиозных, правовых,
эстетических и т.п. идеях, учениях и верованиях. С другой стороны, в
пределах каждой такой области они всегда имеют внутреннюю иерархию по степени
общности, важности, актуальности. Причем в одной и той же области, например в области политических или религиозных
идей, мы можем наблюдать две и даже
более сосуществующие мирно или, наоборот, конфликтно системы идей. Такая
организация идей является отражением, с одной стороны, внутренней логики
строения и связи каждой данной сферы идей. Но, с другой стороны, как будет
видно дальше, она является отражением строения самого общества, (повтор) и соответственно организации всего
общественного поведения.
Система идей как
таковых не имеет пространственно временного бытия. Но она находит символическое
отображение в языке, в печати, в памятниках искусства. Здесь они как бы
застывают в неизменном и потенциальном виде. Живыми и действительными они
становятся конкретно лишь тогда, когда индивидуальное сознание человека под
влиянием указанных материальных символов и отображении идей или под влиянием внутренних психических процессов воспроизводит
их. Тогда они выступают как фактор стимулирования, ориентации и связи актов человеческого поведения; тогда, преломляясь через индивидуальную психику, они
становятся социальными силами. Разумеется, каждое индивидуальное
сознание, создавая идею или воспроизводя уже наличную коллективную идею, всегда допускает известную, большую или меньшую
долю индивидуализма и партикуляризма. Но если это индивидуальное
сознание или только наслоение не
превращается в коллективное, оно проходит с общественной точки зрения
более или менее бесследно и исчезает.
Выживает и входит в систему коллективных идей, как мы видели, лишь то, что становится коллективным продуктом
создания или, по крайней мере, признания.
5
Но процесс
взаимодействия имеет не только идеальную, но и психическую сторону. Поэтому,
если бы мы обратили внимание не на самый
процесс и механизм установления и связи, а взяли бы поток связей и
взаимодействия, произвели бы поперечный или продольно-временной разрез его, то
должны были бы обнаружить, что вместе с
идеологическим рядом существует и ряд коллективно-психический. Сюда
относятся коллективные представления, чувства, эмоции, волевые устремления. Как
и о коллективных идеях, о коллективных чувствах, эмоциях, волевых импульсах
равным образом не может быть речи в том
смысле, что есть коллективное существо, переживающее эти чувства, эмоции и т.п. Чувства и эмоции переживают конкретные люди. И если речь идет о
коллективных представлениях,
чувствах, эмоциях, то лишь в том смысле, что в определенных условиях
чувственно-эмоциональные и волевые переживания связанных между собой индивидов
А, В, С, D... оказываются друг Другу близкими, созвучными; они друг друга
усиливают и увлекают, и притом так, что отдельный индивид не в состоянии
противостоять такому общему потоку, не в
состоянии приостановить или повернуть ег°> увлекается им и
увлекает за собой других.
Реальность таких коллективных психических переживаний в условиях общественной жизни оспаривать нельзя. Наиболее
ярко они проявляются в эпохи революций и вообще национальных подъемов Или, наоборот, в эпохи национального упадка, в
сценах религиозного кстаза, сильных действий театра, в явлениях
различных видов толпы и вообще всюду, где
обнаруживается влияние массового гипноза, внушения, заражения и
подражания. Однако в менее ярких формах они имеют место и в обыденной
общественной жизни, т.к. и в ней на каждом шагу обнаруживают свое действие
внушение, заражение, подражание.
Почвой для таких
коллективно-психических переживаний служит
прежде всего в основном единство био-психической организации человека и
отсюда способность ее единообразно реагировать на соответствующие раздражители. Как мы уже говорили и как увидим
еще ниже, био-психическая организация человека находится под сильнейшим воздействием общественных условий
жизни. Следовательно, склонность к коллективизму переживаний
прививается самой био-психической организации человека условиями коллективной
жизни. С другой стороны, та же общественная среда в процессе взаимодействия
людей ставит их в среду общих и сильно действующих
раздражителей, т.к. среди этих раздражителей выступают окружающие люди с их
поведением, с их идеями, радостями и страданиями. Отсюда понятно, почему
в этих условиях и реакции, сначала в виде переживаний, чувств и эмоций, а затем
в виде действий, под влиянием внушения и
заражения со стороны окружающей общественной среды принимают
коллективный характер.
Таким образом, реальность коллективно-психического ряда общества нужно признать. В сущности его изучением и
занимается специальная наука, известная
под именем коллективной психологии.
Однако, если идеи поддаются точному и объективному констатированию и
выражению, то этого нельзя сказать о коллективно-психических переживаниях. И
если тем не менее даже при изучении идей возникают затруднения в связи с
разграничением чисто индивидуальных и
коллективных идей, то при изучении коллективно-психических переживаний
разграничить их от индивидуальных в значительной мере просто невозможно. Это
еще более или менее доступно там и тогда, где и когда коллективно-психические
переживания выступают с большой силой и
яркостью, как в случаях массового экстаза, паники и т.п. Но в
нормальных условиях повседневной жизни общества этого нет и
коллективно-психические переживания, хотя они несомненно имеют место,
неуловимы. Их невозможно ни систематизировать, ни точно описать, ни поставить
в связь с другими явлениями. В этом отношении коллективная психология, пытающаяся исследовать коллективно-психические
явления как таковые субъективным методом, разделяет печальную судьбу
индивидуальной психологии: не будучи в состоянии точно и объективно
констатировать факты, она не в состоянии получить и точных объективных выводов. Как и в случае с субъективной психологией,
выход приходится ожидать от перехода к изучению закономерных отношений между
внешними раздражителями и массовыми акциями или массовым поведением человека,
т.е. от перехода к объективному методу
коллективной рефлексологии. Однако, во-первых, такая дисциплина еще не
сложилась, а во-вторых, она была бы тогда изучением не
коллективно-психического ряда как такового, а ряда социального*9*. Это не было
бы, конечно, отрицанием реальности коллективно-психического ряда, а лишь методологическим преодолением трудностей его
непосредственного изучения. Из сказанного можно сделать во всяком случае
следующий методологический вывод: на данной стадии знания при изучении
общества следует избегать выражать явления в терминах коллективно-психического
ряда, тем более следует избегать объяснения
других явлений через явления этого ряда; но вместе с тем всегда
необходимо учитывать его существование и там, где это безусловно необходимо и по состоянию наших знаний
возможно, следует пользоваться и категориями этого ряда.
6
Человеческие
отношения и связи, как мы видели выше, всегда имеют свою материально-физическую
сторону. Акты поведения и, в частности,
трудовые акты, направленные на вещи природы, материально связывают людей через систему тех самых
вещей, которые подвергаются их физическому воздействию. Связи на почве познавательной,
религиозной, эстетической и т.п. деятельности в силу того, что идеи, представления, чувства и эмоции не могут передаваться
иначе, как при посредстве элементов материального характера, равным
образом предполагают материально-физическое воздействие людей друг на друга
при помощи жестов, звуков, красок и т.д. Вот
почему представляется, казалось бы, понятным и естественным, что в структуру общества входят и вещи с той же
необходимостью, как входят идеи и коллективно-психические переживания5.
5 Ср.: Бухарин Н. Цит. соч. С. 146 и сл.*10*
Однако это
представляется понятным и ясным лишь на первый взгляд. При более внимательном
изучении вопроса оказывается чрезвычайно трудным сказать, входят ли в состав
общества также и вещи, и если входят, то какие именно и в каком смысле. Можно
сказать, большинство социологов и социологических школ или отвечают на этот
вопрос прямо отрицательно или же обходят его молчанием. Однако, по существу,
на него необходимо дать утвердительный
ответ, и вся трудность вопроса состоит, собственно, в том, чтобы
уяснить, какие именно материальные вещи и в каком смысле входят в состав
общества.
Прежде всего те
внешние вещи, которые являются нейтральными в отношении личных или
коллективных потребностей, остаются,
очевидно, совершенно вне круга общественных связей и не имеют никакого
отношения к строению общества. Но и те вещи,
которые имеют прямое или косвенное отношение к удовлетворению этих
потребностей, в каждый данный период резко распадаются на две категории.
Первая из них — это вещи, которые прямо или
косвенно служат удовлетворению потребностей, но Даны от природы практически в неограниченном количестве и притом
в таком виде, что использование их не требует той или иной предварительной их
трансформации. Пример [ами] таких веществ Могут
служить в обычных условиях воздух, солнечные лучи, часто, но далеко не всегда, вода, в ранние исторические
эпохи земля и т. д Такие вещи представляют собой просто данную
естественно-природную среду общества. Люди пользуются данными вещами как элементами природы. В некоторых случаях они
являются естественными
материальными проводниками взаимодействия между людьми. Но такие вещи
не являются ни с какой стороны ни продуктом общественно-человеческой
деятельности, ни объектом, около которого и по поводу которого
завязываются человеческие отношения. И такие вещи равным образом являются в
отношении структуры общества внешними,
посторонними; они не содержат в себе ничего общественного.
Совершенно иное
нужно сказать о второй категории вещей. Прямо
или косвенно они служат удовлетворению потребностей. Но при этом одни из
них от природы даны в ограниченном количестве и поэтому, а также ввиду своей
общепризнаваемой полезности, становятся предметом вожделений и тех или иных
общественных отношений. Например, в некоторых случаях земля, лес, в засушливых
районах — вода и т. д. Другие [вещи] даны природой, быть может, и в
неограниченном количестве, но для своего использования требуют предварительной
трансформации, как добыча из недр земли, передвижение из отдаленных районов,
комбинация с другими вещами и т.д. Наконец, третьи (и таких в данной связи, быть может, большинство) объективно ограничены
количественно и вместе с тем требуют для своего использования
предварительной трансформации. Таковы
различные изделия, продукты потребления, орудия производства и т. д.
Причем в некоторых случаях требуемая
трансформация настолько глубока, что получающиеся в результате ее вещи
не имеют почти ничего общего с составляющими их вещественными элементами.
Признак ограниченности здесь имеет отношение преимущественно к материальным
элементам. Что же касается вещи в целом, то она является не только
количественно ограниченным, но и в прямом смысле редким созданием человека.
Таковы некоторые сложные технические изделия, произведения архитектуры, живописи, скульптуры.
Эти вещи второй
категории, и прежде всего те из них, которые возникают в результате
трансформации элементов природы, есть продукт общественной жизни, возникают в
процессе и на основе отношений и
взаимодействия людей. Они возникают на почве физического и умственного
сотрудничества; в них находят выражение накопленные обществом знания и
технические навыки, в них выражаются существующие или даже господствующие в обществе художественные, религиозные и моральные
воззрения. И не только находят свое выражение, но и фиксируются, как бы
застывают. В силу этого, такие вещи к составу тех физико-химических свойств,
как цвет, вес, объем и т.д., которыми они или их элементы обладали от природы, присоединяют новое свойство,
которое ранее они не имели. Это
свойство получено ими под влиянием общественной жизни и имеет
общественную природу. Благодаря ему они оказываются
в состоянии выполнять в обществе определенную роль, управлять известную
функцию, а именно функцию удовлетворения пределенного круга потребностей — индивидуальных
или коллективных. Но если это так, то очевидно, что обладать и
располагать такими вещами в обществе значит обладать и располагать известной
потенциальной силой, властью, возможностью удовлетворения существующих в
обществе потребностей. Именно поэтому такие вещи
в свою очередь выступают как центры притяжения и вожделения, как
центры, около которых завязываются определенные общественные отношения,
отношения борьбы за их обладание, отношения
между обладающими ими и всеми прочими, отношения дарения, обмена и т.
д. Иначе говоря, вещи эти выступают в качестве точек скрещения общественных сил
и отношений как бы в двоякой степени: с одной стороны, в фазе их формирования
или создания, из которой они и выходят как конденсаторы (?) определенных общественных
качеств и свойств, с другой — в фазе решения вопроса об их обладании.
Все такие вещи,
помимо своего ординарного физического бытия, имеют
еще и бытие социальное. Они входят необходимым элементом в структуру
общества. Причем из предыдущего ясно, что они имеют социальный характер и
входят в строение общества не в силу своих чисто естественных свойств, а в силу
того, что, обладая известными естественными свойствами, они вместе с тем
становятся средоточием общественных отношений и взаимодействия, видоизменяют в
связи с этим в той или иной мере свою чисто природную конфигурацию свойств,
приобретают новые свойства и становятся носителями известных общественных
функций. Следовательно и в них нас интересует не их физическая природа, а
природа общественная. Знание же физической природы, чрезвычайно важное и
необходимое в любой другой связи, здесь при анализе общества и общественных
отношений может иметь лишь вспомогательное
значение для уяснения социальной природы вещей.
Указанные
категории вещей как таковых составляют поэтому материальную сторону
общественной жизни, материальную сторону общественной
культуры. В них, как указывалось уже выше, духовная культура общества находит свое материальное,
вещное, выражение. Эта материализация общественного духа в силу устойчивости
вещного мира сообщает всей жизни общества глубочайшую устойчивость и
преемственность во времени. Именно в силу такой материализации культуры
достижения и завоевания одного поколения переходят к поколениям грядущим. Они
переходят к ним в виде культивируемых полей и лесов, в виде воздвигнутых зданий
и проложенных путей, в виде созданных
орудий производства и предметов
домашнего обихода, в виде книг, музыкальных произведений, воздвигнутых
памятников, картин, храмов, музеев и т. д. Новые приходящие поколения
воспитываются в обстановке унаследованной материализовавшейся культуры отцов,
видоизменяют и Дополняют ее, передавая ее в свою очередь новым поколениям. Таким образом общественная жизнь льется, подобно
реке, то спокойно и плавно, то бурно и стремительно. Причем материальный
строй ее является как бы теми берегами общественной культуры которые удерживают реку в определенном русле,
прочно обеспечивает ее преемственность и целостность.
Факт материализации общественных отношений и духовной культуры общества служит, далее, важнейшей основой
протяженности общества и общественной жизни в пространстве.
Идеально-психические явления, в том числе коллективные идеально-психические
явления как таковые, не имеют пространственного измерения. То обстоятельство,
что конкретным носителем их являются отдельные
люди, имеющие физическую сторону своей организации и ориентирующиеся в физическом пространстве, устанавливает
косвенно известную пространственную ориентировку и для общественных
явлений. Однако наиболее прочно такая связь устанавливается именно тем, что
духовная общественная культура материализуется и вещи, входящие в структуру
общества, всегда имеют твердую ориентировку в физическом пространстве.
Возделанные поля, построенные фабрики, воздвигнутые селения и города занимают определенное пространство и являются очагами
концентрации общественной жизни и ее
духовной культуры. Проложенные линии путей передвижения, почты,
телеграфа, телефона, радио устанавливают связи между этими очагами. В
результате именно на почве факта материализации общественных процессов мы можем
говорить о границах, которые занимает то или иное общество или общественное
образование, и о тех пространственных линиях, по которым идет их связь между
собою. Таким образом, не имея возможности локализовать явления духовной
общественной культуры непосредственно,
косвенно по пространственной ориентировке людей и особенно социальных вещей, мы
всегда можем это сделать. И мы
всегда это делаем, когда устанавливаем границы государств, городов,
селений и т. д.
Вещи, которые,
как показано выше, входят в структуру общества, представляют собой с
определенной стороны общественные явления, выполняют свойственную им
общественную функцию или реально или лишь символически, или в одних случаях
реально, в других — символически, или, наконец, в одно и то же время частью
реально, частью символически. Мы говорим о реальном выполнении ими своей
функции в том случае, когда, выполняя ее, они
тем самым удовлетворяют именно той потребности, на которую опирается
данная функция. Так, железная дорога, которая перевозит людей и грузы, машина,
которая перерабатывает сырье, храм, который дает приют молящимся, одежда и
головной убор, которые защищают тело, — все
они выполняют свои функции реально, т. к,, выполняя их, они
удовлетворяют именно тем потребностям, из которых и вытекают данные функции.
Наоборот, о символическом выполнении функции вещами мы говорим в том случае,
когда они, выполняя данную функцию, удовлетворяют, по существу, не ту
потребность, которая за ней стоит, а иную и притом всегда гораздо более
значительную и важную, чем их прямая функция. Так, когда ценная бумага
выполняет функции товара, когда вождь или царь облачается в присущие ему одежды
покрывает голову короной, когда красный лоскут материи водружается над толпой
в виде знамени, то во всех этих случаях вещи, выполняя данные функции, в
действительности удовлетворяют иным потребностям, чем те, на которые [они]
опираются /повтор). Они выступают здесь в качестве вещей, символически
удовлетворяющих иным потребностям. Ценная бумага выступает в качестве символа
реальных хозяйственных ценностей, одежда и
корона царя выступают не столько в качестве одежды и головного убора в
собственном смысле слова, сколько в качестве символа величия и власти; красный лоскуток в качестве символа революционного
единства и решимости массы и т. д. Нетрудно видеть, что область символической роли вещей в общественной жизни чрезвычайно широка. Особенно значительна и глубока она
в сфере искусства, религии, права, т. е. там, где трудно и часто даже
невозможно найти прямое и адекватное вещное
выражение тех или иных явлений.
Т [аким] о
[бразом], мы видим, что, подобно действиям людей, вещи выполняют известные
социальные функции и притом, как и действия людей, выполняют их реально или
символически. Иначе говоря, функции вещей
как бы отражают функции людей. С другой стороны, в широком смысле слова
все социальные вещи в известной мере
символичны, т. к., являясь точкой пересечения взаимоотношений людей, они
приобретают новые, физически не свойственные им социальные качества. Из
сказанного проистекает чрезвычайно интересное последствие, которое можно было
бы назвать вещным фетишизмом общественной жизни, который сводится к следующему.
В общественной жизни отношения и взаимодействия существуют в конечном счете
между людьми. Но т [ак] к [ак] общественные отношения материализуются, т [ак] к
[ак] вещи в своем движении отображают
движения и взаимоотношения людей, т[ак] к[ак] люди вступают [во
взаимоотношения] между собой всегда при том или ином посредстве вещей, то людям
начинает казаться, что вещи обладают
особыми сверхъестественными свойствами быть ценностью, находить рынок,
обладать прерогативами святости, величия, источника права и т. д. Иначе говоря,
люди начинают наделять вещи физически не
присущими им значительными свойствами, подобно тому, как дикари
приписывали свойства всесильного божества истуканам. И если такой взгляд на
истукана известен под именем фетишизма, то,
очевидно, что элементы фетишизма в той или иной мере пронизывают все
отношения людей к вещам, входящим в структуру общества. Явление фетишизма было
вскрыто Марксом в отношении товарного мира, в отношении взглядов людей на
товары, и было названо им фетишизмом товарного
мира. Однако нет никаких оснований ограничивать его только сРедой
товарного мира, когда оно проникает [в] сферу всей общественной жизни.
Вместе с тем необходимо признать, что взгляд обычного
человека на социальные вещи и наделение их свойствами, Не вытекающими из
физической природы этих вещей, констатирует факты правильно. Он
правильно констатирует, что указанные вещи приобретают
физически не свойственные [им] качества, и он отображает здесь подлинную
реальность. Недостаточность такого взгляда с научной точки зрения начинается
лишь с того пункта где он ограничивается констатированием факта и не хочет увидеть,
что новые свойства вещей есть отражение или проекция на них общественных условий и отношений. Отсюда и преодоление лежит
не в игнорировании его, т. к. он все же социальный факт а в учете его и в
выяснении действительной основы социальной природы
вещей.
7
Итак, мы
убедились, что бытие общества как реальной совокупности предполагает связи и
взаимодействие между людьми на основе их поведения. Образование этих связей и
взаимодействия представляет собой массовый и потому в основе своей стихийный процесс, который, подобно широкому потоку,
движется все дальше и дальше. Этот процесс с необходимостью имеет три
коррелятивные друг другу стороны и потому как бы слагается из трех рядов явлений: идеологического,
коллективно-психического и вещного.
На протяжении
всего предыдущего анализа мы оперировали понятием
человека вообще как атома общественной жизни, понятием актов поведения
этого человека, понятием связи и взаимодействия людей. Но это не значит, что
общество представляет собой реальную
совокупность людей, занимающих в нем одинаковое исходное положение при своем поведении, не значит, что общество является
вполне однородной и аморфной совокупностью. В действительности общество
является в той или иной мере не только реальной, но и организованной
совокупностью. Организация эта может быть одна или другая, она может быть
схематична или детальна, плоха или совершенна. Но та или иная организация имеет
место во всяком обществе, как имеет место в нем деятельность и взаимодействие людей, идеологический и вещный ряд проявления
этого взаимодействия. И именно наличие организации лишает общество характера аморфной бесформенной совокупности.
Сущность всякой
организации сводится к известному порядку, к
порядку в отношении положения (людей, вещей, идей) и функций. Именно в
этом смысле мы находим все признаки организации в обществе. Начало организации
вносится в общество прежде всего тем фактом, что оно всегда в большей или
меньшей степени не однородно, а дифференцировано по группам или по группам и специальным целевым объединениям. Это значит, что
люди, входящие в состав общества, как бы расставлены по упомянутым группам и
связаны с теми или иными целевыми объединениями. Степень дифференциации
общества по группам на различных исторических этапах
глубоко различна. Но основная тенденция развития, наблюдавшаяся в этом
отношении до сих пор, состояла в росте и расслоении общественных группировок.
Если взять современное сколько-нибудь
развитое общество, то мы увидим в нем множество группировок. Так, можно
говорить о группах общества по полу и возрасту, по семейному положению, о
группах по районам жизни и деятельности, о социальных классах как общественных
группах, о профессиональных группах, о
группах по общности религиозных, научных, эстетических и политических
воззрений и т. д.
Достаточно,
однако, приведенного перечня тех группировок, которые легко обнаружить в
обществе, а перечень этот далеко не полный, чтобы заметить, что общественные
группы по своей природе во многих
отношениях глубоко различны. Совершенно ясно прежде всего, что группы
эти различны по основаниям и причинам своего происхождения. В то время, как
одни из них имеют свои корни в биологических, естественных условиях и,
следовательно, как бы навязаны обществу извне (группировки по полу, возрасту), другие имеют сложные био-социальные основы (по
семейному положению, по расовым признакам), третьи, наконец, возникают в
ходе жизни самого общества под влиянием общественных условий (классы и
профессии, религиозные, научные и другие группы). Нетрудно далее видеть, что
одни из этих групп как таковые представляют собой в свою очередь реальные
совокупности. Это значит, что между их
членами существует реальная связь и взаимодействие и притом в пределах
данной группы на основе тех форм и видов
деятельности, которые характеризуют именно данную группу. Такими группами — реальными совокупностями
можно считать, например, классы, профессии, религиозные, научные и т.
п. группы. Общество может иметь и, как правило, имеет не одну, а ряд таких
групп данного рода, т. е. оно имеет ряд классов, ряд профессий и т. д. Причем,
каждая такая группа — реальная совокупность в свою очередь обычно делится по
тому или иному признаку на подгруппы, т. е.
имеет известную внутреннюю структуру. В этом отношении нужно различать
группы с оформленной внутренней
организацией (политические партии, религиозные группы) и группы, у
которых такая оформленная организация может быть, но может и отсутствовать
(профессии, научные группировки и т. п.). В известной связи с этим одни из
таких групп — реальных совокупностей —
представляют собой не только определенное целое, но вместе с тем и
телеологическое целое, телеологическое единство,
т. е. целое, субординированное в конечном счете единому Руководящему центру. Таковы, например,
политические партии, Религиозные группы *11*. Наоборот, другие группы
хотя и являются Реальной совокупностью, но при наличии лишь неоформленной внутренней
организации представляют собой лишь целое в виде системы (классы, профессии) или даже вообще не являются Целым,
как, например, неорганизованные группы, связанные общностью научных и эстетических воззрений, общностью национальных
признаков, общностью языка. В отношении общества в целом рассматриваемые группы
являются вторичными совокупностями, т.е. по своему охвату и содержанию они
являются не объемлющими, а объемлемыми совокупностями второго, третьего и т. д.
порядка. По размерам, устойчивости и длительности своего существования они
обнаруживают очень значительный диапазон колебаний. Государственная группировка, например, охватывает в сущности в
специальном разрезе все общество и имеет чрезвычайно устойчивый характер и
длительное существование. Классовое деление рассекает общество на
крупнейшие части и имеет исторически столь же устойчивый характер. Религиозные
группировки могут охватывать значительную
часть общества и одновременно вторгаться в пределы других обществ,
обнаруживая столь же высокую и, может быть, даже большую степень устойчивости и
длительности существования, как и государство и классы. С другой стороны
какая-либо группа на основе общности научных или эстетических воззрений может
объединять очень небольшое число членов. Современная семья обнимает всего
несколько человек. Группы могут быть не только малочисленными, но (текст
обрывается).
КОММЕНТАРИИ
Глава
1
*1* Кондратьев, таким
образом, не просто обосновывает концепцию реализма в принципе. Он становится на
точку зрения, разделяемую многими философами и социологами, которые пытаются
обосновать онтологический подход. У Кондратьева, как и Н. Гартмана, А.
Уайтхеда, X. Дриша (если говорить о философах) или как у Т; Парсонса, Н. Лумана
(если говорить о социологах), речь идет о слоистой реальности. Это, судя по
всему (ср. рассуждения современных английских теоретиков реализма в философии
и социологии Р. Бхаскара и У. Аутвейта), вообще неизбежный в таких случаях ход
мышления.
*2* Отсылка дана на § 25
«Понятие о совокупностях. Совокупности логические и реальные» главы IV
указанного труда Н. И. Бухарина. Далее из текста явствует, что Кондратьев
вкладывает в понятие «совокупность» более глобальный и глубокий смысл, делает
его одним из основных в социальном познании. Деление совокупностей на
логические и реальные у Бухарина не совпадает с делением на мнимые и реальные у
Н. Д. Кондратьева.
*3*
То, что Кондратьев называет
тут «совокупность», весьма близко современному понятию системы. Параллели к
этим его рассуждениям можно в той или иной мере найти почти у любого сторонника
системного подхода в социологии.
*4*
Структура реального мира, по
Кондратьеву, представляет собой усовершенствованную «лестницу существ»,
известную еще с античности. В современной ему науке, помимо уже названных
авторов, сходные рассуждения можно обнаружить в философской антропологии (у М.
Шелера и X. Плеснера), а из позднейших построений наиболее примечательна и
интересна для сопоставления парадигма «удела человеческого» в последней книге
Парсонса.
*5*
Здесь и далее Н. Д.
Кондратьев делает отсылки на указанное сочинение Морозова Г. Ф. для
подтверждения своих мыслей, для возможных аналогии.
*6* Понятие
системы оказывается у
Кондратьева более узким,
чем понятие совокупности.
Органицистские аналогии являются у него вполне традиционными, указание на телеологический характер соответствующих совокупностей играет дальнейшем куда
меньшую роль, чем
можно было бы ожидать
при столь последовательном
системно-функциональном подходе.
*7*
Это можно рассматривать как
общую, не-телеологическую и не-организми-ческую формулировку принципа
функционального подхода.
*8*
Сходные рассуждения можно
найти у ряда теоретиков того времени. В частности, исследование нечеловеческих
форм социальной организации — у животных и даже растений — считал частью
«общей социологии» Ф. Теннис. Ср. его «Введение в социологию», изданное как раз
в 1931 г.
*9*
Ссылка на § 26 указ. соч.
Бухарина —«Общество как реальная совокупность или система» — сделана по
существу для определения своего научного оппонента. Несмотря на то, что Бухарин
к этому времени уже не был официальным партийным теоретиком, его труд
оставался пока почти единственным изложением марксистско-ленинского
теоретического обществоведения.
Глава 2
*1*
Это одна из важнейших
перекличек Кондратьева с классической социологией. Типология действия,
проводимая им, заставляет, конечно, вспомнить прежде всего о типологии действия
по М. Веберу. А очевидный приоритет, отдаваемый так сказать «иррациональным»
действиям, ближе всего подводит его даже не к Теннису, но к Парето.
*2* Фактически, тут
Кондратьев перефразировал знаменитое определение М. Ве-бера из § 1 первой главы
«Хозяйства и общества». Однако при этом он устранил важнейшие категории Вебера:
«субъективно значимый смысл» (при определении действия) и «ориентацию на
другого» (при определении социального действия). Это связано в первую очередь
с его реалистским, онтологическим подходом.
*3*
Понятие социальной связи (или
отношения) — тоже важнейшая категория мировой социологии того времени. Наиболее
знаменито «учение о связях», развитое в «Общей социологии» Л. фон Визе.
*4*
На указанных страницах в § 27
«Характер общественной связи» читатель найдет у Бухарина рассуждения на ту же
тему, что и у Кондратьева. Концепция Бухарина выступает в роли адресата
внутренней полемики Кондратьева с воинствующим материализмом.
*5*
Помимо старой идеи разделения
труда, здесь слышится и отзвук того общего «Дя социологов-классиков убеждения,
что основной предмет социологии — «взаимоутверждающие», как сказал бы Теннис,
«кооперативные» связи.
*6*
Тут опять-таки напрашивается сравнение с Теннисом, согласно которому пространственная
и социальная общность не тождественны: например, семья и тогда остается семьей,
когда ее члены живут в разных частях света.
*7*
Закон, или принцип
гетерогонии целей, является у В. Вундта (1832—1920) вариантом более общего
закона творческих производных, который он считал присущим не только явлениям
психического, но и исторического мира. У Вундта можно найти такие формулировки
этого принципа: «Поступок, возникающий из определенного мотива, осуществляет,
кроме предназначенных данным мотивом целей, и другие, непосредственно не
намеченные действия. В то время как эти последние являются в сознании и
вызывают в нем чувствования и влечения, они, с другой стороны, становятся
новыми мотивами, которые или осложняют, или изменяют первоначальный волевой
поступок, или заменяют его другим. По этой главной своей форме упомянутую
модификацию закона производных можно обозначить как принцип гетерогонии целей»
(Вундт В. Введение в психологию. Пер. Н. Самсон ова. М., 1912. С. 132). Иначе
принцип гетерогонии целей выражает, «что достигнутые цели выходят за пределы
поводов или представлений цели, из которых они первоначально вытекли, т. к. на
пути между началом и концом целевого ряда к ним из нежелавшихся побочных
результатов притекает тем больше новых мотивов, чем обширнее самый ряд» (Вундт
В. Естествознание и психология. Пер. А. Ф. К. под ред. Битнера. В. В. Спб.,
1904, С. 92). Еще одну формулировку даем здесь в переводе с нем. Струве П. Б.,
данном в его книге «Хозяйство и цена» (Ч. 1. Спб.—М., 1913. С. 38). Принцип
гетерогонии целей состоит в том, что «везде, где целевые представления вступают
в ход событий, как причинные условия, действующий в качестве причины целевой
мотив отнюдь не вполне совпадает с являющейся следствием этой причины
объективной целью, но последняя в большем или меньшем размере превышает
предшествующее ему целевое представление, или же, под влиянием противодействующих
условий, отстает от него. Всякая воля. поступающая целесообразно, достигает,
поэтому, целей, которые не составляли предмета хотения, потому что не
предвиделись, и в то же время, с другой стороны, отдельные бывшие в
представлении цели, вследствие встречаемого ими сопротивления, не
осуществляются» (W u n d t W. System der Philosophie. 2-te Aufl. Leipzig. 1897.
S. 328).
*8*
Ср. с дюркгеймовским понятием
«коллективные представления».
*9*
Отделение социологии от
психологии было одной из важнейших задач классиков науки. Кондратьев проводит
это различение, во-первых, применительно уже не к просто социологии, но
социальной психологии (это гораздо труднее), а во-вторых, он делает это,
несмотря на акцентированное употребление понятия «методологический», не столько
методологически, сколько онтологически, через различение «рядов», т. е. уровней
реальности.
*10*
Отсылка дана на § 36 «Вещи,
люди, идеи» указанного труда Бухарина. Из дальнейшего текста Кондратьева
становится ясным, что в вопросе о материальной стороне общества он видит и не
приемлет явный «технологический детерминизм» Бухарина.
*11*
Это целесообразно сравнить с
типологией социальных образований у Тенниса во «Введении в социологию».
М. С. Ковалева, А. Ф. Филиппов
Эдмунд Мокшицкий.
МЕЖДУ ЭПИСТЕМОЛОГИЕЙ И СОЦИОЛОГИЕЙ
ЗНАНИЯ *
* © Edmund Mokrzycki. Between Epistemology and the Sociology of
Knowledge.
Эта статья
представляет собой попытку определить теоретическую ситуацию, в которой
оказалась философия науки в результате кризиса 70-х годов. Я действую как
социолог и поэтому принимаю посылку о
социальной природе науки, которую отвергнет большинство философов
науки. Я утверждаю, что философия науки —
теоретически несвязная, рассогласован-ная дисциплина и что это было
предопределено ее глубинными предпосылками.
Обычное мнение, широко поддерживаемое в профессиональной литературе, предлагает нам смотреть на философию науки
как на одну из наук о науке (или, выражаясь более осторожно, одну из
академических дисциплин, предметом которой является наука), т. е. как на область, которая в известном смысле
дополняет историческое или социологическое исследование науки. Это
приводит к выводу, что философия науки и
социология знания взаимодополнительны, даже если допустить, что
последняя имеет дело не только с наукой (положение хотя и верное, но легко
ведущее к ложным заключениям, когда его вырывают из контекста, в котором оно фигурирует в социологии знания). Более того,
некоторые понимают философию науки как дисциплину, занятую определенным,
так сказать, философским аспектом науки (хотя ему дают разные названия), тогда
как прочие «науки о науке» изучают другие стороны
ее, двигаясь собственными путями. Это простое представление о
разделении труда в исследованиях науки гармонирует с исходными посылками неопозитивизма, и вот почему классические Руководства
по философии науки рассматривают как выражение таких взглядов. Едва ли это
означает, что они не встречаются в работах иной ориентации или что они слабеют.
Напротив, совсем недавно были сделаны попытки провести четкую границу, разделяющую сферы интересов философии науки и истории
науки (например, в противопоставлении внутренней и внешней истории
науки), а также философии науки и социологии знания (например, в принципе
арациональности Л. Лодана)1.
С другой
стороны, часть ученых придерживается точки зрения, выраженной однажды Маннгеймом: «Философы слишком долго интересовались
своим собственным мышлением» 2. Позднее о том же более решительно и ясно сказал П. Фейерабенд:
«Проблемы науки... суть внутренние проблемы избранной (логической)
системы или множества систем, поясняемые с помощью очищенных примеров из самой
же науки» 3. Марек Семек формулирует наиболее недвусмысленно:
«Современная философия подходит к совершенно новой реальности исторически развивающейся современной науки с определенным старомодным понятием «науки»
и «знания». Из-за этого вопрос о науке в современной-философской мысли
вряд ли ставится так, как она декларирует, ибо
он прежде всего оказывается вопросом не о науке, но о полностью
«внутренних» проблемах самой философии, которые, хотя и существенны для
рассматриваемого вопроса, являются абсолютно имманентными чисто философской
мысли как таковой (курсив мой.—Э. М.)»4.
На этот раз истина не лежит посредине. Марек
Семек прав, но только в упрощенном смысле,
поскольку речь идет о философии науки как
академической дисциплине, процветавшей на протяжении полувека.
Тезис Семека позволяет понять общеизвестную
беспомощность философии
науки перед лицом реальных проблем исследовательской практики, беспомощность, которая вовсе не обязана особой
некомпетентности ее деятелей, но имеет более глубокие корни в самой
природе этой дисциплины. Тот же тезис не помогает, а, напротив, мешает понять ее историю. Это история впечатляющего беспрецедентного развития (если не «прогресса») в
философских дисциплинах, с тех пор как такое развитие явно направлено к возможно более адекватной реконструкции упомянутой
«совершенно новой реальности»
современной науки. Если бы философия науки de facto удовлетворялась решением проблем,
«абсолютно имманентных чисто философской
мысли», то была бы очень маловероятной
эволюция взглядов на язык науки от идеи «протокольных предложений (Protokollsatze)» к идее
несоизмеримости теорий. Что имманентного чисто философской мысли или даже
типичного для философии середины 30-х годов побудило Карнапа написать
«Проверяемость и значение (Testability and Meaning) »> где он отверг
логически отточенную и разработанную до мелочей концепцию языка эмпирических
наук в пользу понятия, которое не только спутывало и затемняло картину (неясный
логический статус редуцируемых предложений), но и открывало путь идеям,
противостоящим основаниям системы? Ответа на этот вопрос нет, и весь этот
эпизод, подобно многим другим, не понятен, если не вести в дело реальность работающей науки, которая неоспоримо является внешней для философской мысли.
В большей части новейшей истории философии философия
науки выступает как
нечто специальное. Оставаясь в кругу философской
мысли по содержанию и методам, она одновременно пытается (и в известном
смысле очень успешно, как я покажу ниже) отойти от этой мысли во имя высших
познавательных ценностей. Здесь я имею в виду не только антиметафизические манифесты, ибо это едва ли больше чем эпифеномен
локального и узко исторического значения. Основополагающим
деянием философии науки, которое
определило направление ее развития, были крайние выводы из опыта сциентизма XIX в.: разум требует
социально-институционной локализации в реальной науке, рациональность
отождествляется — ex principle, а не ex definitione — с научным методом. В этом
не много нового. Нарождающаяся философия науки выразила здесь дух эпохи. Но на
этой базе она с большей последовательностью строила свою исследовательскую
программу, в которой, используя терминологию Семека, закодировано идеологическое
верховенство науки над философией: при такой программе в возможном споре о
разуме последнее слово предоставлено науке.
Именно это идеологическое верховенство определило направление и темп развития философии науки. И пусть ей
никогда не удавалось усвоить проблемы
науки, поставленные реальной исследовательской практикой (что и
невозможно, хотя бы из-за ограниченности собственных методов философии),
именно эта практика стала критерием философских идей. Наблюдение внушительного
расхождения между этими идеями (особенно в их первоначальной форме) и практикой
исследований не могло не стимулировать ускоренное развитие дисциплины, которая,
по крайней мере на поверхностный взгляд,
обладает всеми свойствами, необходимыми для накопления знания.
Таким образом, с
самого начала и по самой своей природе философия
науки была теоретически рассогласованной: отождествляя разум с наукой,
она в то же время ищет его в философии и философскими методами. С одной
стороны, это продолжение традиционных,
можно сказать, многовековых ходов философской мысли. Здесь кстати
высказывание Эрнеста Нагеля: «Хотя термин «философия науки» как название
специальной ветви исследований Употребляют относительно недавно, он охватывает
исследования, преемственные с теми, которые
веками продолжались в таких традиционных разделах философии, как
«логика», «теория познания», «метафизика»
и «моральная и социальная философия»5. Другой стороны,
отождествляя разум (на основании идеологических предпосылок, которые в этом
случае являются внешними к ее собственному теоретическому пространству) с
определенной областью культуры, философия
науки берет на себя обязательство, которое не может выполнить. Ибо оно
предполагает доступ к инструментам
исследования, которых философия не имеет.
Короче, здесь мы имеем примечательный случай противоречия между исследовательской техникой в самом широком
смысле (включая также теоретический
инструментарий) и целью исследования.
Отсюда мы должны заключить, что философия науки является философией науки
не только по названию и даже не только по устремлениям.
Наука, эта социокультурная реальность, есть в полном смысле слова объект исследования указанной
дисциплины, благодаря тезису, отождествляющему рациональность с научным методом, — тезису, внешнему к философии науки как
таковой, но восстанавливающему
интеллектуальную традицию, из которой эта дисциплина вышла. «Вопрос о
науке» здесь и в самом деле оказывается
вопросом о науке, за вычетом того, что он плохо поставлен, ибо помещен в
неправильный теоретический контекст и решается неподходящими
исследовательскими средствами.
Философы науки, должно быть, с самого начала более
или менее сознавали
противоречие между теоретическими приемами и исследовательской техникой, с одной стороны, и целью исследования — с
другой. Часто повторяемые попытки определить предмет философии науки так,
чтобы примирить идеологию с техникой исследования, явно свидетельствуют об
этом. Идеология, как я говорил, указывала, что разум следует искать в науке. Но
это не все. Она также учила, что науку надо
понимать как социальный факт, управляемый законами социальных фактов и
требующий изучения modo facti. Вот как
говорит об этом Г. Рейхенбах: «Любая теория познания должна отправляться от
знания как данного социологического факта. Система знания, воздвигнутая
поколениями мыслителей, методы получения знания в прежние времена и в наши
дни, цели знания, выражаемые самой
процедурой научного поиска, язык, в котором высказано знание, — все это
дано нам так же, как любой другой
социологический факт типа социальных обычаев, или религиозных привычек, или политических институтов. Исходная база
для философа не отличается от базы социолога или психолога. Это следует из того
факта, что, если бы знание не было воплощено в книгах, речах и человеческих
действиях, мы никогда бы не овладели им.
Знание, следовательно, — очень конкретная вещь, и рассмотрение его
свойств означает исследование черт некоего социологического
явления» 6.
Рейхенбах,
однако, сознает, что философия науки (появляющаяся здесь еще под традиционным термином
«эпистемология») не готова изучать
«социологический факт» в этом смысле. Вот почему, говорит Рейхенбах,
она изучает не столько этот факт, сколько его
«логический заменитель»: «Эпистемология не рассматривает процессы
мышления в их фактическом протекании. Эта задача целиком оставлена для психологии. Устремления же эпистемологии в
том, чтобы выстроить процессы мышления в порядке, в котором им следовало
бы протекать, если б они составляли непрерывную систему; или найти логически оправданные наборы операций, которые
можно вставить между исходной точкой и результатом мысли-ельного процесса
вместо реальных промежуточных звеньев его. самым эпистемология рассматривает не
реальный процесс,
некий логический заменитель. Ради него и был введен термин одциональная
реконструкция... Следовательно, против эпистемолоческой конструкции
недопустимо возражение, что действительное мышление
не соответствует ей» 7.
В философии науки идущая от Карнапа «формула»
рациональной
реконструкции получила статус официального истолкования метатеоретической позиции, никогда не будучи
теоретически обоснованной и до сего дня оставаясь тезисом ad hoc. В частности, не была достаточно объяснена базисная проблема
отношения между наукой как «данным социальным фактом» и «логическим заменителем» этого «факта». A fortiori, нет теоретически обоснованного ответа на вопрос о достоверности выводов
об этом «социологическом факте» на
базе исследований его «логического заменителя».
Принятая формула обеспечивает лишь словесное решение этой проблемы, тем самым устраняя ее из рассуждения, но не из исследовательской практики. В последней
же философ науки каждодневно не может
избежать выбора между побуждением защищать свои «конструкции» от обвинения в
несоответствии «действительному мышлению» и своим идеологическим
обязательством изучать науку «как
данный социологический факт». Некоторые философы науки иногда решают эту дилемму согласно второй части тезиса Рейхенбаха, т. е. согласно принципу,
будто «против эпистемологической
конструкции недопустимо возражение, что действительное мышление не соответствует ей». Но философия науки как целое с самого начала последовательно
отвергала этот принцип на практике.
Против последнего положения и вообще против
выдвинутого выше
тезиса о встроенном в исследовательскую программу философии науки противоречии между инструментарием и целью исследования можно привести разные примеры, в
частности конвенционализм Поппера. Поппер expressis verbis отверг то, что он
назвал натуралистической идеей философии, т. е. представление о ней как о
(философской, методологической, логической) реконструкции реальной науки, и
поддержал методологический образ науки, основанной в конечном счете на
конвенции. При такой постановке вопроса Поппер, не прибегая к спорной
диалектике, мог бы утверждать, что против его видения науки никто не сумеет
возразить, Указав на его несоответствие тому, что ученые делают реально. Очень
существенно, что Поппер не воспользовался такой возможностью и не занял эту
линию обороны перед лицом нападок на "фальсификационизм"
и последующих признаков поражения своей Доктрины. И вряд ли это должно удивлять: конвенционализм Чоппера
фактически не пошел дальше программных деклараций, которые, nota bene, были такими же общими и незаконченными, как и формула рациональной реконструкции.
Его исследовательская программа в
действительности была не менее «натуралистической», чем программа Венского
кружка, раскритикованная им. Нет причин, по которым систему Поппера нельзя
считать «предложение к соглашению или
конвенции», пользуясь его собственными словами. Однако сам он толкует свою программу по-другому: как идеализированную, но в этих пределах адекватную
картину «Большой Науки», науки «таких людей, как Галилей, Кеплер,
Ньютон Эйнштейн и Бор (если ограничиться
немногими мертвыми)»8 Здесь
нет сомнений, как выделена область «Большой Науки», что в системе Поппера подвергнуто «суровым проверкам»
и с каких позиций: список людей «Большой Науки» с позиций поппе-ровской методологии, или наоборот. В
действительности конвенция подкрепляла фальсификационизм, но конвенция
типа коллективных представлений Дюркгейма, а не конвенция из философских трактатов9.
Суммируя
аргументацию до этого момента, скажем, что идеология сциентизма, поддерживающая исследовательскую программу философии
науки, играла в ней гораздо более важную роль, чем обычно думают. Мы могли бы утверждать (с некоторым преувеличением,
но не без оснований), что с этой идеологией философия науки становится
эмпирической дисциплиной, хотя и оставаясь до некоторой степени философской.
Отождествление рациональности с научным методом не имело серьезных последствий
до тех пор, пока само понятие науки не приобрело сегодня дополнительного
социального значения. Покуда «наука» означала только «знание» или «познание» (в предельном случае «истинное
знание» или «истинное познание»), отождествление рациональности с
научным методом не было важным. Но когда понятие науки стали связывать с конкретным видом деятельности в общественном
разделении труда, с конкретными социальными ролями и институтами, короче, с
определенной социально порождаемой сферой интеллектуальной жизни —
отождествление рациональности с научным методом, разума с наукой приобрело
смысл далеко идущей содержательной позиции, подразумевающей не столько какие-то
положения о рациональности, сколько мнение
о различных сферах интеллектуальной
деятельности и различных областях культуры. Сциентизм в первую очередь возвышает определенную область
культуры, науку, и умаляет другие, прежде всего религию, и только тогда
выражает свое мнение о знании, занимая
позицию, которая есть лишь следствие (хотя и не прямое, но тем не менее
следствие) этого базового идеологического
суждения. Исследовательская программа в
теории познания, основанная на сциентистской идеологии, должна обернуться
своей противоположностью, т. е. программой эмпирического исследования, в которой главные эпистемологические вопросы
неявно решены и потому все исследование ограничивается показом, изложением этих
решений. Хабермас был прав, когда говорил,
что позитивизм губит эпистемологию, сводя ее к философии науки 10.
Но этот тезис можно распространить на всякую доктрину, которая на манер
позитивизма помещает разум только я науку или в любую другую эмпирически
выделенную область культуры. Прикрепляя разум к той или иной сфере социальной
реальности, подобная доктрина отрекается от своих же эпистемо-логических
притязаний и заранее принимает в качестве общезначимых мнения, порожденные этой сферой реальности. Именно это
случилось с философией науки. Несмотря на программные тезисы разного рода (например, относительно контекста объяснения),
она лишила себя авторитета в суждениях об общезначимости мышления. Ибо нельзя
выдвигать такие претензии, когда наука не только не удалена из
эпистемологического рассуждения, но сверх того
ее собственные внутренние положения наперед считаются универсально
обязательными. Если кто-то, подобно Куну, заявляет, что «допустить, будто мы
располагаем критериями рациональности,
независимыми от нашего понимания главнейших черт научного процесса, значит распахнуть дверь в область туманных гаданий»11, тогда он
отрекается не только от теории познания в классическом смысле, но и от
всякой идеи рациональности, которая не была
бы производной от исследований науки.
Но тем самым
теряются основания, по которым стоило заниматься
«рациональной реконструкцией науки», «контекстом объяснения в науке» и т. д. —
короче, любыми делами, имеющими целью ответить не столько на вопрос, что
есть наука, сколько на вопрос, чем она должна быть, если б была чисто
рациональным занятием. Ибо ответ на второй
вопрос по меньшей мере предполагает логическое предшествование
критериев рациональности по отношению к нашему пониманию науки и,
следовательно, их независимость в этом смысле. Добавим мимоходом, что дверь «в
область туманных гаданий» не обязательно выводит к философскому разуму, т. е., Другими словами, альтернативой науке, исследующей
себя, не обязательно оказывается испытующий себя разум, или, еще иначе,
альтернативой сциентизму не обязательно
служит априоризм. Отсюда не следует, будто «все сойдет» — девиз, который
(в радикальном истолковании, все более
обычном и поддерживаемом статьями
самого Фейерабенда) фактически ведет к непродуктивной форме релятивизма.
Магическая дверь Куна может вывести в более
широкий культурный контекст (во всяком случае много шире науки и
философии вместе взятых). Хотя этот контекст не Дает абсолютно надежной опоры для эпистемологического рассуждения, он предохраняет нас от
эпистемологического бессилия — будь то в форме лозунга «все сойдет» или
в форме сциентизма. По-видимому, современная
антропология и социология знания Движутся именно в этом направлении 12.
Однако такие проблемы выходят за рамки этой статьи, потому вернемся к главной
теме нашего обсуждения.
Как я сказал,
история философии науки непонятна, если не допустить, что эта дисциплина
выходит за рамки эпистемологии и противостоит
традиционным эпистемологическим поискам своей исследовательской
программой, в которой объектом исследования, по
определению, является реальная наука, т. е. социально отличимая область культуры. Одновременно эта программа
вводит ряд оговорок, оберегающих от последствий такого подхода к объекту исследования
и позволяющих данной дисциплине в изучении «проблем науки» долгое время
передвигаться в замкнутом кругу традиционных
эпистемологических проблем и логико-методологических загадок. В этом смысле
оправдана язвительность Фейерабенда: «Логики не в состоянии постичь смысл
науки, но они могут владеть смыслом логики и потому ставят условием,
чтобы наука была представлена в категориях
их любимых логических систем» 13. С другой стороны, эти предосторожности никогда не были полностью
удовлетворительными, а с течением времени стали и вовсе неадекватными.
Раньше или позже должно было произойти столкновение между идеологией и инструментарием исследования и, как
следствие, привести к кризису. Кризис философии науки — это структурный кризис.
Он был запрограммирован в самых основаниях этой дисциплины. Поэтому не
удивительно, что он усиливался вместе с прогрессом исследований и стал
кульминацией быстрого подъема, а не упадка. Кризис достиг своей наивысшей
точки, когда стало ясно, что внешне эффектное развитие философии науки пошло по
старой дорожке теории познания: он принес следующие одно за другим колебания (чуть ли не 180-градусного
размаха) в древний спор об эмпиризме, но это не приблизило философию
науки к ее цели — знанию реальной науки. Следовательно, это очень глубокий
кризис, который дает право и даже обязывает задать вопрос о доводах в пользу
существования этой дисциплины в ее настоящем виде. Этот вопрос уже был задан.
Но характерна его форма: имеет ли философия науки какие-либо резоны для своего
существования в теперешнем виде, т. е. в форме логики науки? Здесь поставлен под вопрос исследовательский инструментарий,
а не идеология. Не оспаривается сама идея занятий философии реальной
исследовательской практикой реальной науки, но лишь возможность выполнения этой задачи существующим способом,
который в данном случае можно оправданно рассматривать по принципу pars pro
toto как tout court философский способ. Идеология и на этот раз оказалась
сильнее, чем исследовательский инструментарий.
Короче говоря,
сциентизм остался необходимым оснащением философии науки, несмотря на то, что
это оснащение излишне, обременительно и
анахронично. Оно излишне, потому что умственная работа, которую
фактически исполняет эта дисциплина (развитие и углубление определенной модели
рациональности), так же хорошо или еще
лучше могла быть исполнена при условии возвращения к источнику ее
происхождения, т. е. к теории познания. Оно обременительно,
так как ставит перед указанной дисциплиной задачи, несовместимые с ее традицией и интеллектуальным профилем.
Наконец, оно анахронично, потому что основано на наивной вере в уникальное
своеобразие науки, вере, которая игнорирует историческую природу этой области
культуры и ее структурные связи с другими
областями культуры, включая такие сциентистские архетипы иррационализма (если не антирационализма), как искусство и
религия 14.
Так или иначе,
кризис философии науки поставил под сомнение исследовательский инструментарий,
а не идеологию 15. Наиболее ясно
это видно у Куна даже в процитированном выше высказывании. К тому же
критика равнодушного отношения к исследовательской практике реальной науки
естественно вела к обращению с этой практикой
(включая и рецепт сциентизма) с преувеличенной почтительностью. С одной
стороны, это усиливало тенденцию считать науку «бесспорной ценностью» (если
воспользоваться определением сциентизма, предложенным Стефаном Амстердамским),
а с другой — склоняло людей отождествлять вопрос о науке с вопросом «Как они
(ученые) ее делают?», понимаемым по канонам стандартной
эмпирической социологии.
Таким образом,
философия науки в конце концов пошла дорогой эмпирической дисциплины. Во всяком
случае к такому заключению приводит анализ ее теоретической ситуации.
Послепопперовская философия науки далее не
способна сохранять себя в неопределенной
зоне между классической эпистемологией и современной наукой о науке.
Очевидно это не значит, что не существует попыток законсервировать status quo. Теоретическая необходимость
настройки инструментов исследования
соответственно его цели не ведет к нужным действиям автоматически, даже если
эта необходимость осознана и включена в программу. Лакатос, Уоткинс и Лодан дают отличные подтверждения этому тезису.
Например, разделение на внутреннюю и внешнюю историю науки оказывается
теоретической операцией, нейтрализующей программный «поворот к истории
науки», который выдыхается в поверхностное дополнение философской конструкции
исторической информацией 16. Операции такого рода надо рассматривать
как понятную и естественную самозащиту против последствий собственного выбора
программы. Сдвиг в исследовательском методе философии науки был навязан не
извне, но имманентным развитием этой дисциплины. Тем не менее он остается в
вопиющем противоречии с традицией философского рассуждения (если не касаться
исследовательского опыта философов науки) и в этом смысле является
искусственной операцией.
Но, по-видимому, этой операции так же трудно избежать как и осуществить ее. В существующих условиях, после
пережитого кризиса, философия науки может либо радикально отступить на позиции классической эпистемологии (что означает
отказ от сциен-тистской идеологии и от лозунгов реконструкции), либо,
совершив подлинную революцию в своих методах, предпринять исследование науки во
всей полноте возможностей современных общественных наук. Трудно сказать,
сознают ли эту дилемму сами философы науки. Все же можно говорить, что в данный
момент их дисциплина подвешена в теоретической пустоте: она не хочет быть
философией, но еще не способна стать наукой.
В самом ли деле
она не способна? А как же Кун и все умственное движение, которое он начал?
Иегуда Элкана пишет, что «»Структура научных революций» Куна важна тем, что это
столько же социология, сколько история или
философия» 17. Барри Барнз, один из ведущих защитников так
называемой «сильной программы» в социологии знания, идет даже дальше,
утверждая, что Кун заложил основы современной социологии знания18. Это неизолированные мнения, и
они не совсем безосновательны.
Исследовательская
программа Куна, содержащаяся в его работах
о науке и в программных размышлениях, поистине революционна, если
понимать научную революцию согласно его, Куна, мысли. Обсуждение этой программы
здесь нецелесообразно, хотя стоит упомянуть,
что ее можно разделить на две неравные части: деструктивную (в лучшем
смысле слова) и конструктивную.
Деструктивная
работа Куна сводится к тезису, что «в деле выбора теории сила логики и
наблюдения в принципе не может быть принудительной» 19, и к
оправданию этого тезиса, равно опирающегося
и на логическую аргументацию, и на конкретный исторический материал. Не
стоит разбирать, больше или важнее вклад в эту область Куна, чем, например,
Фейерабенда. Что бы мы ни говорили об этом, совсем не случайно, что имя Куна
символизирует конец эпохи «логической реконструкции науки» в той или иной форме
(от «логического анализа языка науки» до «логики научного открытия»).
Конструктивная
часть программы Куна много скромнее. Ее сердцевину составляет тезис, который
можно изложить словами Куна же: «Каким бы ни был научный прогресс, мы должны объяснять его, изучая природу научной группы,
узнавая, что она ценит, что только
терпит и что презирает» 20. Этот тезис привел некоторых к
убеждению, что Кун «сводит философию науки к психологии науки»
(Лакатос) или подменяет методологию «законом толпы» (Поппер). С другой
стороны, кто-то видит в работах Куна социологическую
теорию развития науки и программу вывода философии науки из тупика
«логицизма» на широкую дорогу социально-психологических исследований науки. Сам
Кун поощряет интерпретации второго рода.
Сразу после цитированного выше заявления
он пишет: «Эта позиция — сущностно социологическая и, как
таковая, сильно отходит от канонов объяснения, разрешенных традициями, которые
Лакатос называет «фальсификационизмом» и «прямым подтверждением»
(justificationism) и которые обе догматичны и наивны (курсив мой. — Э. М.)»21.
До некоторой
степени это самоопределение верно. Вместо традиционных «канонов объяснения»
исследовательской практики Кун лредлагает объяснение в социальных категориях:
по меньшей мере в этом смысле его подход связан с социологией. Приведем еще
одно из его программных высказываний: «Нам
ясно, что объяснение в конечном счете должно быть психологическим и
социологическим. Т. е. оно должно быть описанием некоей ценностной системы,
идеологии в сочетании с анализом институтов, благодаря которым эта система
передается и проводится в жизнь. Зная, что ученые ценят, мы можем надеяться
понять, какой выбор они сделают и какими проблемами займутся в конкретных
обстоятельствах и конфликтах»22.
Это высказывание Куна, возможно, дальше всего идет в направлении социологии. Даже в языке чувствуется
социологический жаргон. Однако объяснение в этих или других социальных категориях
самих по себе еще не составляет социологического объяснения. Ибо последнее относится не столько к
отдельным социальным категориям,
сколько через эти категории — к полной системе социологического знания. Только
тогда объяснение приобретает известную
ценность.
И здесь мы
касаемся ключевой темы для понимания сущности революции,
которую совершил Кун в философии науки. Это больше поворот «от», чем поворот «к». Это поворот от
ясно определенного и понятного «логического
анализа» к неопределенному социальному анализу. Кун пытается как-то
пояснить последний: это анализ, который открывает черты научных групп, их
системы ценностей, идеологии и т. д. Однако это определение подвешено в пустоте
и, следовательно, социальный анализ
оказывается «объяснением на вере».
Единственный достоверный элемент в куновском повороте к социологии — это
заявленный выбор социологической дискурсии в качестве базиса для
объяснения развития науки.
Это поистине революционный выбор, подразумевающий коренное изменение в интеллектуальном портрете философии
науки. Однако у Куна этот выбор основан, по существу, на негативных
соображениях: мы знаем, почему традиционная философская дискурсия не удалась,
но мы не знаем, почему социологическая дискурсия
открывает лучшие перспективы. Почему, собственно, нахождение таких
характеристик научных групп, как системы ценностей этих групп, позволяет нам лучше понять развитие науки, чем Реконструкция
«логики научного открытия»? Объясняет ли вообще что-нибудь в действительной
природе развития науки обнаружение социальных характеристик научных
групп? Лакатос утверждает, что последовательность парадигм в теории Куна есть
результат некоего мистического обращения в
новую веру и что «Кун, признав несостоятельность и прямого подтверждения и
фальсификационизма в обеспечении рациональных основ научного роста,
теперь, по-видимому, отступает к иррационализму» 23. Лакатос отождествляет
рациональность с логицизмом, и вот почему он толкует работы Куна как поворот к
иррационализму. Хотя, с другой стороны, Кун не дает никаких опор для
отражения этого обвинения. Ибо его работы не содержат ответа (конкурирующего с
логикой науки), почему и на основании каких предпосылок исследовательская
практика вообще и смена парадигм в особенности должны считаться рациональными.
Ответ на этот вопрос не может прийти от социологии, которую рекомендует Кун,
поскольку ее даже при самой благосклонной интерпретации можно в лучшем случае
назвать эмпирической социологией малых (здесь академических) групп. И Кун
оказывается беспомощным перед обвинением в поощрении «закона толпы» и принципа
«истина держится на силе». Он защищается от этого обвинения единственным
оружием, которое имеет, а именно, если перефразировать Лакатоса, отступает на
позиции логики открытия24.
Философия науки
строилась на традиционном допущении, что науку
делает отдельный индивидуальный субъект. Кун, по-видимости, подрывает
это допущение и вместо индивидуального вводит нечто вроде группового субъекта.
Но в его работе нет места общественному субъекту, нет даже предпосылок, которые
открывали бы перспективу введения такой
категории. Групповой субъект есть
некое множество индивидуальных субъектов, вступающих друг с другом в
социальные (более точно, межличностные) отношения конкретного вида. Групповой
субъект в этом смысле является производным
от индивидуального субъекта, а его суждения — производными от
индивидуальных суждений. Куновская научная группа
— эпистемологически лишняя категория: решения группы основаны на
решениях ее членов и получают силу только от них.
Даже если Кун рассуждает на уровне научной группы, он ставит проблему общезначимости знания на индивидуальном
уровне. Он апеллировал и апеллирует к этому уровню (особенно в «Размышлениях о
моих критиках»), чтобы отразить обвинение в иррационализме и поддержке «закона
толпы». Нет, говорит Кун, это ни иррационализм, ни поощрение «закона толпы» или
принципа «сила делает право». Ибо толпа отбрасывает ценности, на которые ее
члены по отдельности вообще ориентируются, тогда как члены научной группы
руководствуются (как это понятно из «Структуры научных революций») партикулярными, частными ценностями и соображениями,
когда они принимают научные решения, например выбирают теорию. Более того, это
те самые ценности, которые обычно описывает философия науки: точность, полнота,
простота, плодотворность и т. п. в терминологии Куна. Заключение в его
защитительной речи красноречиво, и потому стоит привести егополностью: «Итак, я
не отрицаю ни существования хороших намерений (good reasons), ни того, что эти
намерения очень распространенного сорта. Я, однако, настаиваю, что такие
намерения вводят в действие ценности, используемые в самих актах выбора, а не правилах выбора. Ученые, которые
разделяют общие ценности, могут тем
не менее делать различный выбор в одинаковой конкретной ситуации. В глубине здесь действуют два фактора. Первый: во многих конкретных ситуациях различные
ценности (хотя все они участвуют в формировании добрых намерений)
диктуют различные выводы, разный выбор. В таких случаях конфликта между
ценностями (например, одна теория проще, зато другая точнее) относительный вес различных ценностей у разных индивидов может играть решающую роль в индивидуальном
выборе. Более важно то, что, хотя ученые разделяют эти ценности и должны
продолжать действовать соответственно, если науке суждено выжить, не все из
них применяют ценности одинаково. О простоте, полноте,
плодотворности и даже точности разные люди могут судить очень различно
(что не значит судить произвольно). И, кроме того, не нарушив ни одного
принятого правила, они, возможно, будут
отличаться в своих выводах»25.
Какова тогда
сущность отклонения Куна от ортодоксальной философии науки? Он не оспаривает ни
ее занятий, ни ее результатов. Напротив,
он принимает эти результаты в обоих их аспектах: эпистемологическом и описательном. С другой стороны, он оспаривает
веру в то, что философская реконструкция науки объясняет реальную
исследовательскую практику. Какой новый вклад в этом отношении могут сделать «социологические» исследования научной группы,
если философская реконструкция науки (в принципе?) правильно определяет методологические соображения и намерения, которым ученый следует в своей исследовательской
практике? Ответ содержится во втором предложении вышеприведенной цитаты: новизна заключается в трактовке
методологических соображений как ценностей, а не как правил. Это не
точный ответ, но его общий смысл достаточно
ясен: ценности не предопределяют выбора, поэтому нельзя однозначно
предсказать ни конкретных индивидуальных решений, ни, особенно, конкретных
групповых решений. Между ценностями и решениями научной группы имеется еще
некий психо-социальный процесс, который надо принять в расчет, чтобы понять и
адекватно объяснить развитие науки.
Этот психо-социальный процесс, однако, может от хороших ценностей приводить к плохим результатам. Кун не дает
ответа на этот классический аргумент
философии науки. Посему обвинение в иррационализме остается в силе.
Также сохраняется особая версия этого обвинения, которая утверждает, что смена
парадигм у Куна имеет все черты мистического обращения, а развитие науки как
целого подчиняется закону толпы, за исключением того, что, как мы знаем после
куновского разъяснения, члены этой специфической толпы Руководствуются добрыми намерениями. Опровержение этого обвинения
невозможно без использования понятия общества (а не академической группы), т.
е. без введения общественного субъекта Однако
это потребовало бы социологии, далеко выходящей за рамки той основанной
на здравом смысле социологии малых групп, которую фактически продвигает Кун.
Кризис философии
науки не породил новых парадигм. «Поворот к
истории» был нейтрализован 26, методологический анархизм Фейерабенда
не развился в новую теорию познания, поворот к социологии (как я пытался показать
в этой статье) потерпел неудачу. Пределы более социологичной перестройки
философии науки очерчены в работах Куна, и не в самых последних. Наиболее «социологическая» работа Куна — это,
бесспорно, «коперниканская революция», которая в некоторых отрывках
напоминает социологическое монографическое
исследование, основанное на исторических материалах. Со времен
«Структуры научных революций» Кун постепенно отходил на позиции, все более
близкие к ортодоксальной философии науки.
Работы Куна,
Фейерабенда, Тулмина и целого созвездия более или
менее исторически ориентированных философов науки не прошли бесследно.
Напротив, послекризисная философия науки больше не является и не может быть тем, чем она была до кризиса. С другой стороны,
она не стала принципиально иным занятием, она не изменила своей природы, не
решила основных противоречий между своим рабочим инструментарием и
исследовательской целью, несмотря на то, что именно это противоречие привело к
кризису.
Как я пытался
показать, однако, это противоречие есть внутреннее свойство философии науки,
которое означает, что эта дисциплина не может устранить указанное
противоречие, не теряя своего лица. Поппер
был прав, когда утверждал, что критика Куна и Фейерабенда ставит под
вопрос само основание для существования философии науки, а не те или другие из
ее тезисов. Хотя логически философия науки
поставлена перед выбором между возвратом к эпистемологии и эволюцией в
направлении «социальной науки» о науке, практически она обречена на
блокирование своих возможностей развития в обоих направлениях.
Литература прошедшего десятилетия, видимо, подтверждает этот тезис. Судя по всему, этот период в философии
науки закончился «смелыми догадками и
опытами их тщательного опровержения». Пришло время консолидации и попыток
переопределить теоретическое поле дисциплины. Характерно, что теперь так много
усилий уходит на проведение границ между философией, историей, социологией и
психологией науки. Парадоксально, что после полувека блестящего развития
философия науки очутилась в ситуации, подобной положению социологии на заре ее
академической карьеры, в то время, когда
эта дисциплина в поисках своей собственной теоретической сферы пыталась
выделить специфически социологические явления. «Принцип арациональности»
Лодана — это содержательный и функциональный аналог «биосоциальной гипотезы»
Е. де Роберти27
Но проблема
разделения сфер интересов и границ в академических дисциплинах такова, что,
когда к этим границам приближаются, их никто не уважает. И поэтому, ни «принцип
арациональности», ни любые другие демаркационные линии не предохранят философию
науки от назойливых вопросов со стороны различных социальных течений в исследованиях науки, которые исключительно разрослись в недавние годы.
1
L a u d a n L. Progress and its problems: Toward a
theory of scientific growth. LABoston:
Routledge & Kegan Paul, 1977.
2
Mannheim K.
Ideology and Utopia. N. Y.: Brace
&World, 1936. P. 1.
3
Feyerabend P. K. On the critique of scientific reason
// Essays in memory of Imre Lakatos. Ed
R. S. Cohen et al. Dordrecht: Reidel 1976. P. 113.
4
S i e m e k M. J. “Nauka” i “naukowosc” jako
ideologiczne kategorie filozofii // Studia filozoficzne, 1983. No 5—6. PP. 72—73.
5
Nagel E. The structure of science. N. Y.: Harcourt,
Brace, 1961. P. VIII.
6
Reichenbach H. Experience and prediction: An analysis
of the foundations and the structure of knowledge. Chicago, 1961. P. 3.
7
Ibid. PP. 5—6.
8
Popper K. Replies to my critics // The philosophy of
Karl Popper. Book II, P. A. Schilpp ed. La Salle Illinois, 1974. P. 997.
9
«Он думал,
подобно лучшим ученым своего времени, что теория Ньютона, хотя и опровергнутая,
была великолепным научным достижением; что теория Эйнштейна была еще лучше и
что астрология, фрейдизм и марксизм XX века — это псевдонауки. Его задачей было
найти определение науки, которое давало бы эти «основные суждения» относительно
конкретных теорий» (Lakatos I. History of science and its rational
reconstruction, Boston studies in the philosophy of science, 8. P. 110).
10
Habermas J. Erkenntnis und Interesse. Frankfurt am
Main: Suhrkamp Verlag, 1968.
11
К u h n T. S.
Reflections on my critics. // Criticism and the growth of knowledge. Ed. I.
Lakatos and A. Musgrave. Cambridge: Camb. Univ. Press, 1970. P. 264.
12
Здесь я имею в
виду прежде всего некоторые работы Мери Дуглас, Иегуды Элканы, Клиффорда Гирца
и группы ученых, пропагандирующих так называемую «сильную программу» в
социологии знания (Барри Барнз, Дэвид Блур, Стивен Шейнин и др.).
13
Feyerabend P. К. Op. cit. P. 137.
14
Эта тема требует
отдельного обсуждения. Особенно рекомендуем в этом контексте работы Клиффорда
Гирца. См.: G e e r t z С. Interpretation of
cultures. N. Y.: Basic Books, 1973; его же: Local knowledge. N. Y.: Basic Books, 1983. См. также: Science and
cultures. Ed. E. Mendelsohn and Y. Elkana, Dordrecht: Reidel. 1981.
15
Очевидное исключение
здесь — Фейерабенд, который оспаривает
и то и другое и чьи вопросы «Что такого великого в
науке?» и «Что великого в логике?» суть самые
философские вопросы, к
которым шла (но
не дошла) философия науки на протяжении полувека
своего развития. Эти вопросы возмущают, но если прооигнорировать их
социальную провокационность, они
попросту выступают как
вопросы о рациональности науки
и логики, следовательно, как
особые случаи основного эпистемологического
вопроса.
16
Я писал об этом более подробно в: The philosophy of science and sociology. L.:
Routledge & Kegan Paul, 1983. Ch. 2.
17
Elkana Y. A programmatic attempt at an anthropology of
knowledge //Ed E. Mendelsohn and Y. Elkana. Op.
cit. P. 3.
18
В а г n e s В. Т. S. Kuhn and
social science. N. Y.: Columbia Univ. Press.,
19
К u h n T. S. Op.
cit. P. 234.
20
Ibid. P. 238.
21
Ibid. P. 238. В
другом месте Кун определяет свою позицию как социально-психологическую, и одна
из его важнейших статей озаглавлена «Логика открытия или психология
исследования?».
22
К u h n Т. S. Logic of discovery or psychology of research? //
Ed. I. Lakatos and A. Musgrave. Op. cit.
P. 21.
23
Lakatos I. Falsification and the methodology of
scientific research programmes // Ed. 1. Lakatos
and A. Musgrave.Op. cit. P. 93.
24
Ср.: Kuhn T.
Reflections on my critics...
25
Ibid. P. 262.
26
Ср.: Mokrzycki E.
Philosophy of science and sociology. L.: Routledge and Kegan Paul. 1983. Ch. 2.
27
Принцип
арациональности гласит: «Социология знания может вторгаться в объяснение
убеждений, если и только если эти убеждения нельзя объяснить, исходя из их
рациональных качеств» (Laud an L. Op. cit. P. 202).
Ю.Л. Качанов.
РЕЗЕРВЫ И ТУПИКИ МАРКСИСТСКОЙ
СОЦИОЛОГИИ: ЦЕЛОСТНОСТЬ И ТОТАЛИЦИЗМ*
* © Ю. Л. К а ч а н о
в.
Бытие социального процесса есть реальность, данная в мышлении, но тем не менее имеющая доказуемое объективное
значение. Социология усматривает свои
собственные определения в этом бытии.
Предмет социологии обнаруживает себя не как неопределенная в бытийном отношении активность познания, но
как конкретное существование.
Поэтому исходной точкой социологического анализа должен быть не некий фундаментальный принцип, а невыводимая из принципов «фактичность». Началом развертывания
социологической теории выступает
«само непосредственное» — специфическая
определенность социального процесса, как он выделен в качестве предмета социологического познания на данной
исторической стадии развития. То, что мы пытаемся познать, в некоторой
степени нам уже известно, поэтому ориентиром социологической теории является нечто, заключающееся в самом
процессе познания.
Бытие социального процесса не выступает чем-то «положенным» индивидами. Несводимым к полаганию моментом
человеческой коллективности является ее
фактичность. Укорененность общества
в бытии позволяет интерпретировать рефлексивность социологической теории как ее «открытость» этому бытию.
Поэтому бытие социального процесса в
«нормальной» социологической теории не есть
нечто сначала определенное, а потом открываемое: «открытость» означает
возможность единства бытия до разделения на противоположность
субъекта и предмета.
Понятие бытия социального процесса как «прафеномен» социологических понятий доказывает единство общества и
научного знания. Предметом марксистской
социологии фактически является не
«социальный процесс», а определенный вид реальности — система общественных отношений. Конечно, не дело
саморефлексии социологии отвечать на
вопрос, что есть общество. Но ее обязанность — объяснить, как связаны или как должны быть связаны социологические
понятия с фундаментальной онтологией.
Развитие социологических понятий во многом определяет уровень разработки научных проблем, реальные возможности
социологии в анализе социального процесса. По этой причине концептуальный инструментарий социологии нуждается в
постоянном внимании как самих социологов, так и методологов науки. То,
что казалось простым, интуитивно ясным, в результате рефлексии зачастую
оказывается сложным и проблематичным. Мы попытаемся продемонстрировать это на
примере понятия «образ жизни».
Образ жизни
относится к социологическим понятиям, раскрывающим деятельный аспект
социального процесса. В этом плане он отражает формы и способы
жизнедеятельности как общества в целом, так и отдельной личности. Согласно общепринятой
в марксистской литературе точке зрения, необходимость понятия образа жизни
всякий раз ощущается там, где анализ социального процесса развертывается в границах непосредственно фиксируемой картины
общественной жизни как целостного единого потока конкретных действий людей.
Образ жизни придает существованию общества
индивидуальные черты и соединяет личность с обществом, т. к.
непосредственная деятельность людей в значительной мере предопределена
условиями, созданными прошлой деятельностью, среди которых главная роль
принадлежит общественным отношениям. Понятие образа жизни акцентирует единство
деятельности и общественных отношений, способ интериоризации индивидом социальных условий своего существования.
Даже беглое знакомство с обширной литературой, посвященной образу жизни, позволяет сделать вывод о
противоречивости его природы: с одной стороны, проблемным полем данного понятия
служит непосредственное эмпирическое осуществление жизнедеятельности людей, а
с другой — логика познания образа жизни раскрывается на основе теоретического
отражения общества как целостности.
Понятие «целое»
часто встречается в социологическом словаре К. Маркса. Так, предметом
исследования в «Капитале» служит общественно-определенное
«производство индивидов», выступающее
«органическим целым» (Totalitat). Органическая целостность («тотальность») есть такое
конкретно-историческое единство, в котором
каждый из его моментов (предметно-вещественные компоненты общества, индивиды, их деятельность и отношения) обусловлен
в своем существовании другими и конкретно-исторические формы существования
которого предстают как результат взаимо-полагания и соотнесенности как этих
моментов между собой, так и их определенных
состояний во времени. Органическая целостность обладает субстанциональным
характером и не может рассматриваться в отвлечении от своего субстрата. При
этом целое, части которого находятся в
упорядоченной, субординированной связи, обладает такими
характеристиками, которых нет ни у каждого в отдельности, ни у их суммы, но которые
возникают в результате их взаимодействия.
Реальность,
отражаемая понятием «органическая целостность» («тотальность»), есть в первую
очередь множество — единство от-дельностей,
имеющих собственную структуру. «Тотальность» необходима К. Марксу для
следующего: если обществу дается характеристика тотальности, то началом и
основанием мысли об обществе будет само целое;
общество (органическая целостность) мыслится в виде множества связанных
определенным образом частей, его специфика есть главным образом специфика
образующих ансамбль отношений.
Механизм превращения ансамбля общественных
отношений в органическую
целостность предстает в социальной философии марксизма как универсальное разделение труда, обусловленное порождением общественных потребностей и развитием
предметного содержания деятельности. На определенном историческом этапе, в
своем зрелом виде ансамбль
общественных отношений представляет собой существенную и всеобщую форму
деятельности общества, всеобщий способ
организации и функционирования совокупной деятельности людей. В качестве закона организации целостности общества ансамбль отношений есть всеобщий способ
дифференциации и кооперации
деятельности общностей и индивидов, а в качестве закона функционирования целостности он постоянно воспроизводится как необходимое условие и предпосылка
деятельности людей в обществе. В социологической теории ансамбль общественных отношений играет роль своего рода
«кристаллизации», «квинтэссенции»
социума: он выступает как историческая форма, фиксирующая определенную ступень развития человеческой деятельности, выражающая ее специфическую,
историческую определенность.
Иными словами, органическая целостность полагается фундаментальной
реальностью общества, через которую можно объяснить все остальное. В русле такой методологии задача социологии заключается
не в том, «чтобы прийти к целостности общества, исследуя связь отдельных его
сфер, которые при таком подходе полагаются
изначально самостоятельными, но напротив — вывести из движения целого специфику его составляющих...»1.
Использование понятия образа жизни дает возможность
объяснить
органическую целостность во всем многообразии общественных и межличностных отношений людей, которые характеризуют общество как исторически определенный тип и
способ многообразной человеческой жизнедеятельности. Стало быть, образ
жизни отражает личностно-деятельный срез
существования общества и в силу
этого выступает как система жизнедеятельности. В качестве способа жизнедеятельности образ жизни реализуется
посредством определенного отношения
человека к миру и обществу. Основой такого
отношения является трудовая деятельность — практическая, предметно-продуктивная
деятельность, выполняющая функции воспроизводства
условий совместного существования людей.
Трудовая деятельность — источник, предпосылка и
условие существования
общества. Трудовая деятельность является простейшим и исторически первым
моментом по отношению к другим сторонам и
связям общества, ибо эти стороны отношения и связи возникли, развивались и заняли соответствующее
место в общественной целостности под
непосредственным воздействием трудовой Деятельности,
ее изменения и развития. Именно поэтому возможно, выявив трудовую
деятельность как основу и представив ее в развитии, объяснить из нее
другие стороны общественной жизни и установить между ними необходимую
взаимозависимость. Но только объяснить, так как между видами
деятельности не могут быть установлены
отношения «непосредственной выводимости», связи «простого», переходящего
в «сложное». Здесь мы сталкиваемся с
проблемой логически последовательного развертывания одновременно существующих, взаимополагающих определений
образа жизни, между которыми нет и не может быть хронологически измеряемой
абсолютной первичности.
Общественные формы и предметные виды деятельности выступают важнейшими моментами общественного разделения
деятельности, которое развивается в двух направлениях — в направлении
расширения сферы деятельности человека и возникновения новых способов ее общественной организации.
Исследование на этом уровне
абстракции процесса предметного содержания трудовой деятельности, положенной в
границах определенного способа производства, привело К. Маркса к выводу,
что разделение совокупного общественного труда на фиксированные его формы и
виды «постоянно приводится к своей
общественно пропорциональной мере», которая выражает историческую необходимость распределения труда в определенных пропорциях и существует всегда в
определенной общественно-исторической
форме, обусловленной способом общественного производства2. Совокупность типических видов деятельности
общности, общества в целом — моментов естественно выросшего общественного
разделения деятельности — и составляет предмет понятия «образ жизни».
Таким образом, мы видим, что идеализация целостности, присущая исходным положениям социологической теории,
передалась внутритеоретическими отношениями
следования более отдаленным утверждениям: для того, чтобы выделить образ
жизни в качестве самостоятельного предмета исследования, мы вынуждены (вслед за
К. Марксом) прибегнуть к представлениям об «общественно пропорциональной мере»
деятельности, которая, в свою очередь, выражает
всеобщий и универсальный характер разделения деятельности, целостность системы общественных отношений
и т. д.
В литературе
целостный подход к образу жизни обосновывается особенностями социальной жизни,
однако он связан не только с тем, что отражает социологическая теория, но и с
тем, как, в каких концептуальных формах она это делает. В границах тотальности
образ жизни как бы автоматически конституируется в качестве целостности.
Действительно, образ жизни принято определять как целостную систему
повторяющихся, устойчивых способов
жизнедеятельности3. Считается, что его характеристики раскрывают
определения общественной целостности, т. е. определения общественных отношений4. В исследовании
образа жизни речь идет прежде всего о проявлении общественной
целостности в поведении личностей как
социально-типичном, социально-устойчивом в «повседневной действительности» или «обыденной жизни»5.
Каковы же ближайшие следствия того, что образ жизни концеп-«ализирован как целостность? Образ жизни един, включая
в то же пемя в себя многообразие видов деятельности. В нем нет ничего, кроме видов деятельности, и вместе с тем он не
равен их внешнему, механическому сочетанию. Образ жизни существует
только в конкретных видах деятельности и
через конкретные виды деятельности как воплощенный в них; он отражает
определенный класс взаимосвязанного множества деятельности, важным признаком
которого является законченность,
завершенность. Данным понятием подчеркивается относительная
устойчивость системы деятельности в обществе;
оно отображает единонераздельность и внутреннюю взаимозависимость
многообразия видов деятельности.
В
действительности система деятельности в обществе есть не только исторически
сложившаяся цельность, но исторически же сформировавшаяся
расчлененность, различие и отдельность. Целостность выступает как
взаимодействие «жизненных процессов индивидов»,
которое превращает их в моменты единства. В этом понимании образа жизни
центральным элементом является связь, образующая целое из входящих в нее
отдельных деятельностей. Реальность образа жизни, расчлененная на множество
взаимно друг друга дополняющих и взаимно друг от друга зависящих, а поэтому и
скрепленных воедино видов деятельности, — вот целое.
Взаимовлияния и взаимозависимость отдельных моментов фиксируются в понятии образа жизни и прямо — посредством
представлений о дифференциации и кооперации
деятельности, и косвенно — через анализ условий, отражающих конкретную
обусловленность какой-либо деятельности результатами предшествующей деятельности других людей или социальных общностей.
Органическая целостность общества, с которой мы начали анализ, не
исчезла, не нейтрализовалась в
«производном» от нее образе жизни — недаром совокупность типичных видов деятельности раскрывается как обладающая
внутренним единством. Можно сказать, что мы с уровня общих опосредований
перешли к непосредственной жизни, но в качестве предмета исследования
по-прежнему выделяется целостное явление. Вместе с тем необходимо отметить,
что образ жизни не есть именно тотальность: если органическая целостность в процессе
самополагания и самоотнесения создает предпосылки, условия и средства своего
осуществления, то целостность образа жизни представляет собой скорее
необходимое условие и предпосылку,но не источник и причину его существования.
Целостность лишь задает образу жизни структурные рамки, обусловливает его устойчивость:
различные виды деятельности релятивизируются, образуя субординированное и
координированное множество внутри связи. Целостность
образа жизни выступает как бы «системой координат» Для своего объяснения. Она в
себя вбирает: во-первых, конкретный исторический
предмет исследования — образ жизни, которому присущи органичность взаимосвязи, внутренней
взаимообусловленности различных видов
деятельности, что делает применение редукционистских способов исследования неэффективным; во-вторых, представления о полноте охвата явления и вместе с
тем о его сущ, ности, структуре, противоречиях, процессах развития и т. д.
Стало быть, понятие образа жизни вычленяет строго определенный слой
деятельности бытия общества — слой устоявшихся отношений, существенным
признаком которого выступает взаимодействие,
взаимное обусловливание всех составляющих его отдельных деятельностей.
Каждая деятельность в такой модели образа жизни является и предпосылкой, и
результатом всех остальных. Образ жизни предстает как воспроизводящий себя
деятельный процесс, в котором конечный
момент как бы смыкается с исходным, возобновляя движение целостности
снова.
Связи и отношения так же реальны и объективны, как и отдельные
целостности. Нет особой сферы целостности образа жизни вне реальных
деятельностей, как нет и видов деятельностей вне сферы отношений целостности.
Исследование образа жизни не может ограничиваться определенностью отдельной
деятельности, перечислением (пусть даже
совершенно полным) видов деятельности, присущих данному субъекту, одного
за другим.
Множество отношений видов деятельности по сравнению
с множеством
изолированных деятельностей имеет одну особенность. Если в множестве
«атомарных» деятельностей одна переходит в другую с исчезновением одной из них,
то в целостности образа жизни они существуют
одновременно. Если в первом случае вид деятельности определяет себя
через другой, оставаясь сам собой, то во втором их определенность
устанавливается из взаимного единства в целостности.
Познание целостности образа жизни осуществляется не столько
прослеживанием отношений каждого вида деятельности, сколько выделением типа отношений, общих сторон. Характер
этих отношений, тип их субординации позволяет отразить образ жизни в
его полноте, во всем объеме, в системе взаимосвязанных определений.
Количественным аспектом целостности образа жизни выступает степень целостности, которая определяется величиной зависимости
видов деятельности друг от друга, глубиной и разнообразием их дифференциации.
Развитие понятийного аппарата сложным образом связано с развитием самого
социологического знания. В процессе концептуализации многообразие образа жизни
приобретает органическое единство, выражаемое такими категориями, как «целое»,
«целостность». Теоретические конструкции, позволяющие строить единое описание образа жизни и согласовывать средства
исследования, выступают сегодня в качестве оснований данной области
социологии. Но экспликация целостности образа жизни — довольно сложная задача.
Трудности возникают при попытке ясно и обоснованно выразить единство
многообразия образа жизни как целостность. Для того чтобы перейти от общих
рассуждений об органическом целом образа жизни к более глубокому пониманию его
структуры) надо раскрыть, «додумать до конца» теоретическую логику марксистской социологии.
Хотя этот круг
вопросов является относительно традиционным, переосмысление традиционных взглядов имеет не меньшее, а может быть
и большее значение, чем изучение новых проблем. В социологии такое
переосмысление особенно важно, т. к. формирующимся
сегодня теориям зачастую недостает саморефлексии и самокритики. Поэтому
и в современных условиях действительный процесс социологического познания может
«облачаться в форму критики образования
понятий»6.
Дальнейшее
логическое осмысление категориального содержания образа жизни должно быть
связано с изучением проблемы развития. Каждый из видов или устойчивых способов
жизнедеятельности, входящих в образ жизни, имеет свое, особенное начало, но
как части целого они имеют общее начало — трудовую деятельность. Однако
трудовая деятельность сама по себе не отражает развития совокупности видов
деятельности в целостность. В образе жизни все виды деятельности являются
моментами из-за тождественности их результирования при всем внешнем различии.
Например, политическая, бытовая и потребительская деятельность как таковые и
как моменты образа жизни — далеко не одно и то же. В качестве моментов они
теряют самостоятельность, переходя друг в друга; в образе жизни они
взаимовлияют, взаимо-определяют друг друга. Понятие целостности как раз и
отображает единство переходов образа жизни в совокупность моментов, ступеней единого процесса и превращение последних в
строение образа жизни. При рассмотрении образа жизни разные виды деятельности
равнозначно реальны. Они выражают образ жизни как процесс и потому являются его моментами. Реальность целостности
заключена не в трудовой или бытовой деятельностях, а в движении от одной к
другой.
Различные виды деятельности в составе образа жизни соотносятся друг с другом не в качестве чего-то
самостоятельного и независимого; напротив,
каждый из них находится в процессе перехода от самого себя к другому
виду деятельности. Поэтому, например, трудовая
и потребительская деятельности суть моменты целостности. Это предполагает, что любой из видов
деятельности в его внутренней форме может быть поставлен в структурные
отношения с Другими моментами образа жизни. Вне данных отношений нельзя понять взаимодополнительность отдельных
деятельностей в целостности образа жизни.
Целостность
образа жизни позволяет отразить в определенной структуре отношения видов
деятельности и их субъектов. В свою очередь,
элементом образа жизни, который в процессе исторического развития
превращает содержание устойчивых способов жизнедеятельности в целостность,
является трудовая деятельность. На основе разделения труда и его общественной
формы образ жизни организуется в целостность. Трудовая деятельность испытывает
«обратное влияние образа жизни и всех его частей (видов деятельности), но не
определяется ими, выступая самообусловливающим началом образа жизни: если нет
первопричины, то нет и развития, которое, исходя из первопричины, конституирует
связь исторического процесса образа жизни. Понять целое образа жизни — значит раскрыть закономерности развития, приведшие к
такому результату Переходя в производственные отношения и вновь
формируясь в этих отношениях, трудовая деятельность существует всегда в особой,
реальной исторической форме. Она развертывает содержание образа жизни и фиксирует его в определенном
соотношении устойчивых способов
жизнедеятельности. Целостность же есть способ существования сущности образа жизни посредством отношений к самому себе
— посредством системы отношений видов деятельности.
Целостность не
обусловливает образ жизни, скорее образ жизни через целостность обусловливает
сам себя: детерминация образа жизни целостностью есть не что иное, как
опосредованная целостностью детерминация
образа жизни трудовой деятельностью. Отдельные виды деятельности
получают свое системное качество не от целостности образа жизни, а от трудовой
деятельности, но посредством этой целостности.
Следовательно,
целостность образа жизни есть на самом деле не
взаимодействие отдельных деятельностей, а процесс порождения и созидания
себя как целостности реальным субъектом. На предыдущем этапе рассмотрения
образа жизни мы не фиксировали специфической
определенности каждого вида деятельности. Естественно, что для
социологического мышления, не раскрывшего природу образа жизни, все виды
деятельности относительно равноправны. Исследовав
же роль трудовой деятельности, мы можем утверждать, что целостность
образа жизни не есть система, сформированная взаимной обусловленностью
равнозначных деятельностей, каждая из
которых может возникнуть из разных оснований. Парадоксально, но в
целостности образа жизни трудовая деятельность представляет сущность всех других
деятельностей.
Исследование природы трудовой деятельности позволяет понять природу всех
остальных моментов образа жизни, специфику каждого из них. Будучи специфичными, все остальные деятельности в составе
целостности образа жизни в основе тождественны трудовой деятельности и
восполняют ее как недостающие моменты. Целостность образа жизни является
относительно завершенной конкретной формой развития трудовой деятельности. В
составе образа жизни трудовая деятельность есть часть, которая по сути равна целому.
Конечно, в
реальной жизни это не совсем так, но таковы далеко идущие следствия методологических установок, лежащих в основании
концепции органической целостности: единство непременно берет верх над
многообразием.
Мы выделили два возможных уровня рассмотрения целостности образа жизни. На первом из них образ жизни предстает
как взаимодействие отдельных видов
деятельности, как постоянно воспроизводящий себя циклический процесс.
Такая концепция соответствует, условно говоря, системному подходу. Системные
представления обеспечивают адекватное отражение целостности образа жизни на
эмпирическом уровне, фиксируя слой устоявшихся отношений видов деятельности — непосредственно данную созерцанию
«поверхность», для которой характерно взаимное обусловливание частей единого явления. С точки зрения
системной методологии образ жизни как целостность, выражая своеобразие
составляющих его видов деятельности, в свою очередь отражается в них,
преобразует их в соответствии со своей интегративной определенностью. Образ
жизни, как его описывает системный анализ, не представляет собой ничего иного,
кроме специфического синтеза отдельных типичных видов деятельности и их
реальных взаимодействий; данное понятие выделяется как форма человеческой
деятельности, форма предметности человеческих сил. Отношение образа жизни
(целое) и видов деятельности (части) непосредственно: поскольку образ жизни
складывается из устойчивых видов деятельности, взятых в единстве с условиями их
осуществления, а эти виды деятельности
«пребывают» в образе жизни, то в циклическом процессе его осуществления
«конечная» часть смыкается с «исходной», возобновляя свое движение.
На втором — «диалектическом» — уровне рассмотрения целостность образа жизни раскрывается как развитие. Для
«диалектического» мышления сущность конкретной реальности образа жизни — это развивающееся произведение моментов
целостности. Моменты — качественно выделенные виды деятельности — существуют
и различимы в целостности, но не обладают самостоятельностью. В трудовой
деятельности, которая есть развивающееся и
конституирующее начало целостности, и происходит включение в образ
жизни нового содержания. В качестве момента трудовая деятельность входит в
систему образа жизни, образованную ею самой, а в качестве начала она равна целостности.
Трудовая деятельность относится к целостности как звено в цепи развития и
может как сама пояснять образ жизни, так и поясняться им.
Нетрудно
заметить, что подобная диалектика «растворяет гетерогенное в монистическом мышлении»7. Методологический
просчет данного подхода в том, что он абсолютизирует частный способ
мышления — «тоталицизм», оправданный в биологии, но не всегда правомерный за ее
пределами. Ядром «тоталицистской» установки в
социологической теории является утверждение «целое больше суммы
частей», которое из результата познавательного процесса превращается в его
начало. Реальность — «явление образа жизни» — выводится как из основы, из
тотальности. Оно означает, что всеобщее онтологически предшествует особенному,
а логическое превалирует над историческим.
Теоретический
фундамент «системной» концепции целостности ориентирует
на выделение типичных, устойчиво повторяющихся типоов взаимодействия
слагающих образ жизни отдельных деятельностей и, как следствие, на познание
состояния, а не развития. Итогом
исследования здесь выступают абстрактно-общие определения образа жизни,
пригодные для нужд классификации или непосредственно практического
использования. «Системная» логика вполне работоспособна, но только на уровне
явления, а не сущности Этот ограниченный
рамками преимущественно эмпирической науки тип мышления не в силах
раскрыть сущность и развитие образа жизни. Системный подход постигает
внутренние закономерности целостности в форме внешней фиксации образа жизни,
ибо берет виды деятельности лишь как данные
и существующие, как «атомы».
«Диалектическое» мышление, напротив, не оставляет виды деятельности в их наличности и самостоятельности, а
рассматривает в генезисе и движении, обращая их тех самым в «моменты» образа
жизни. Целостность вбирает в себя виды деятельности, ставит их в отношения
субординации и детерминации с трудовой деятельностью. Поскольку образ жизни
есть определенное обособленное явление, постольку он не может сосуществовать с
моментами, а «снимает» содержание последних
в себе. Если в случае «системной» модели
отдельные деятельности были «атомами» образа жизни, непосредственно
данного как целостность, то в «диалектической» модели они являются моментами
особой индивидуальной целостности,
выступающей, в свою очередь, лишь моментом тотальности. Вместе с
понятием и темами, вовлекаемыми ею в социологическое мышление, «тотальность»
конструирует модель образа жизни, не совпадающую с эмпирической
действительностью, но и не ограничивающуюся
пределами идеального.
В онтологическом обосновании «тоталицизма» можно выделить две его важнейшие предпосылки. Первая заключается в
том, что «социальный организм» характеризуется специфическими свойствами и
законами, которые не присущи отдельным его элементам. Вторая предпосылка
является обобщением того факта, что все существующее
в обществе является результатом развития от простого к сложному. В такой форме
онтологические предпосылки «тоталицизма» ни у кого не вызывают сомнений
и вместе с тем не специфичны для социологии.
Что же
превращает антиредукционизм в «тоталицизм»? Видимо, в марксистской
социологической теории есть некое фундаментальное онтологическое положение,
которое как раз и задает характерный
«масштаб абстракции». К сожалению, низкий уровень методологической рефлексии современной теории
маскирует действительную проблему, переводя ее в плоскость философского
начетничества. «Цитатная наука» ищет «не там, где потеряла, а там, где светло». Между тем базовая абстракция
марксистской социологии вовсе не «материалистическое понимание истории»,
а определенное концептуальное представление бытия объекта исследования —
общества. Прежде чем «понимать» что-либо тем или иным образом, надо вычленить
предмет научного изучения. Предметом марксистской социологии является не просто
«общество», но общество в качестве
специфического вида реальности — системы общественных отношений. Здесь следует подчеркнуть, что такой подход
к предмету социологии не есть нечто уникальное и из ряда вон выдающееся, т. к.
большинство немарксистских теорий тоже выделяют социальные взаимодействия (а
именно этот смысл вкладывается в «общественные отношения») в особый вид реальности.
В марксистской социологической теории именно общественные отношения образуют социальную действительность; они есть
природа любого общества, его сущность. А комплекс принципов и категорий,
известный под названием материалистического понимания истории, субординирует совокупность общественных отношений, выделяя в качестве ведущих, определяющих отношения
производства. В свою очередь, согласно К. Марксу, содержанием исторического процесса развития общественного производства
является взаимодействие его моментов, модифицирующее предпосылки и их взаимоотношения в целостность. Поэтому вся
совокупность общественных отношений также приобретает качество
«тотальности». Поскольку общественные отношения в своем генезисе и историческом
развитии предстают как процесс обмена деятельностью между людьми,
осуществляемый в результате кооперации этой деятельности, постольку система
совокупной деятельности общества «получает»
от ансамбля отношений свойства целостности.
Понятие
тотальности общества возникло в один из решающих моментов развития марксистской
теории и стало, по сути, ответом на вопрос, может ли социальное познание
объяснить общество исходя только из него
самого, из его собственных законов? Концептуализировав общество как совокупность отношений, К. Маркс тем самым, во-первых, выделил социальную
действительность как особый вид
действительности и, во-вторых, положил начало классическому «социологизму», раскрывающему сущность
социальной действительности исключительно через внутреннее соотнесение
ее элементов.
Что означает
«социологизм» для социологической теории? Например,
качественная специфика социальных предметов по сравнению с природными есть нечто ненаблюдаемое.
Согласно Марксу, любой социальный предмет является носителем
общественных отношений. Качества
социальных предметов как бы «навешиваются» на некоторую ненаблюдаемую
«основу», которая отлична от них и находится
«за» ними. Напротив, если предположить, что за свойствами социальных предметов нет никакой отличной от
них субстанции, то любой предмет предстанет как система взаимосвязанных
свойств. Единство свойств социальных
предметов и будет тогда той «основой», из которой они «складываются». Но
социологизм утверждает, что исходными понятиями выступают «структуры», общественные
отношения по поводу предметов, а не сами предметы. Таким образом, социологизм — это «сильная версия» социального,
социальное как таковое, положенное в основание социологической теории.
Констатация единства вещей и общественных отношений без выяснения главной стороны, основы этого единства, есть
формальный акт. Социальный предмет предстает перед нами как совокупность многих качеств. Каждое из этих качеств принадлежит
не только отдельному социальному предмету, но и «распределено» среди
множества Других предметов, структур человеческого существования, форм сознания
и т. д., выступая в виде их взаимных отношений. Если эти качества и отношения
целиком свести к отдельному социальному предмету, то они исчезнут, так как они
существуют только «за счет» множества
социальных предметов, общественных отношений и т. д., и, следовательно,
социальный предмет станет замкнутой монадой. Если же свести социальный предмет
целиком к качествам и общественным отношениям, то станет ненужным сам предмет, т. к. действительным содержанием будут
отношения и качества.
С точки зрения социолога-эмпирика тотальность общества представляет собой лишь онтологическое допущение. Итак, в
основании концепции образа жизни покоится своеобразный факт без фактов,
категория, которая указывает на бытие общества, но не соотносится непосредственно с эмпирией. Для того чтобы объяснить образ
жизни через ансамбль общественных отношений, необходимо обобщить первое
понятие и конкретизировать второе. В противном случае «тотальность»
превращается в метафизическую реальность, имеющую отличное от конкретных
деятельностей существование и лишь
«системно детерминирующую» их. Легко видеть, что подобная методология в
сущности низводит образ жизни до положения некоторого горизонта непознанного,
окружающего находящуюся в фокусе исследования «тотальность» общества.
Среди советских ученых-обществоведов до сих пор бытует убеждение, идущее от Г. Лукача, что деалектика — это «логика
тотальности»8, которая характеризуется как «предпосылка познания
действительности»9. Например, М. К. Мамардашвили выдвигает в качестве
одного из принципов сознания следующий: «... в устройстве мира есть особые «интеллигибельные»
(умопостигаемые) объекты (измерения), являющиеся в то же время
непосредственно, опытно констатируемыми, хотя и далее неразложимыми образами
целостностей, как бы замыслами или проектами развития»10.
Утверждение о предпосылочном для социологического мышления характере понятия органической целостности стоит,
по нашему мнению, в одном ряду с известным положением И. Канта о том, что
разум видит только то, что он создает по собственному плану. Диалог умозрения с
самим собой очень скоро превращается в монолог
спекулятивного мышления, подменяющего объективно-истинное мышление
лихорадочным воображением. Дело не в том, что «целостность» плоха. Проблема
заключается не столько в «скверной Философии, сколько в неспособности
социологов однозначно интерпретировать
фундаментальную онтологическую модель.
До сих пор мы строили изложение таким образом, что не высказывали
своего отношения к существующим концептуальным разработкам проблемы целостности. Принимая наличные подходы
как некую данность, мы стремились лишь артикулировать их, придать большую
определенность, додумать до конца. В нашей работе нет онтологической
уверенности. Имея готовый «ответ» на все, мы тем не менее спрашиваем вновь и
вновь, причем делая это не в просветительских целях, не для других, но в
первую очередь для себя. Быть может, специалисты в теории образа жизни упрекают
нас в неадекватности отражения авторских
концепций, использовании приема ad absurdum. Действительно, доведенное
нами до противоположности различие между «системным» и «диалектическим»
подходами к целостности образа жизни в литературе только лишь намечено. Но именно неотрефлексированность
позиций большинства исследователей представляет собой главный порок
советской теоретической социологии.
Предположим, что
мы фиксируем образ жизни как нечто целое, а затем приступаем к определению
составляющих его видов деятельности. Эти
определения, далее, служат для нас лишь отправным пунктом исследования
указанных видов деятельности как относительно самостоятельно существующих
целостных процессов, а впоследствии сами
виды деятельности расчленяются на собственные части и т. п. Подобный
регресс есть не что иное, как «отрицательное отношение образа жизни к себе»,
т. е. образ жизни, обнаруживающий себя в
деятельности и в ее условиях, в сознании и т. д., и, наоборот, сознание,
условия, деятельность и т. д., «погружающиеся» в образ жизни. Образ жизни
детерминирует деятельность и через эту детерминацию возвращается к самому себе,
т. к. он одновременно и продукт деятельности. Опосредованность образа жизни и его деятельного проявления состоит в том,
что он обусловлен исторически конкретной системой общественных
отношений. Будучи итогом длительного
исторического процесса, образ жизни не есть нечто такое, что
обусловливает себя в самом себе. Его содержание определено извне — всей
социальной системой, и в этом заложено
отличие образа жизни как общественного результи-рования от абстрактной
целесознательной деятельности.
Инвариантный
элемент образа жизни — принцип связи видов деятельности друг с другом ( и
непосредственно, и через условия), т. е. отношение между ними, всеобщий обмен
деятельностью и ее результатами. Но было бы неверным понимать образ жизни в
виде некоей модели общественных отношений.
Деятельность не детерминируется однозначно образом жизни — одно
предполагает другое, и наоборот. Образ жизни одновременно и посредник и
результат совокупной деятельности, и в
таком качестве он регулирует индивидуальную деятельность и формирует
интегративную определенность системы деятельности. Образ жизни не есть
нечто неизменное, пребывающее в обществе; он должен осмысливаться в роли
«процессирующего», т. е. как развивающаяся система конкретных социальных взаимодействий. Образ жизни
представляет собой концептуализацию, понятийное описание имманентных
форм реализации деятельности в условиях социокультурной регуляции.
Образ жизни есть
то, что предполагает и обусловливает деятельность, а деятельность есть то, что
предполагает и обусловливает образ жизни, т. е. здесь мы обнаруживаем то, что
предполагалось известным, и узнаем лишь формальное различие между образом жизни и деятельностью как между
непосредственным и опосредованным. Подобный тавтологический характер
рассуждения продиктован не логической
ошибкой, не дефектом мышления, а стремлением на первом этапе
теоретического исследования выделить из всеобщей взаимосвязи социальных явлений
определенный предмет — образ жизни, а это
можно сделать лишь при помощи замкнутых
конкретных рассуждений. Правда, в пределах подобных замкнутых
логических конструкций многого нельзя объяснить, и в первую очередь — эмпирически очевидного факта
развития образа жизни. Исходя из определений деятельности, ее
превращают в нечто самостоятельное, и поэтому образ жизни становится
производным. В силу того, что данные определения выделены из явления, они
полностью соответствуют ему, и поэтому образ жизни может быть легко «выведен» и
«обоснован» с помощью такого формального понятия. Естественно, что образ жизни
превратился бы в пустую фразу, если бы вместо того, чтобы изучать виды
деятельности в их единстве, придумывали для их объяснения «образы».
Поэтому следует
фиксировать такое отношение между образом жизни и деятельностью, когда в
качестве факторов, обусловливающих
деятельность, указываются моменты, отличные от тех, которые имеются в
содержании деятельности. Здесь образ жизни и деятельность различаются уже не
как непосредственное и опосредованное, а как то, что деятельность
осуществляется постольку, поскольку в содержании деятельности имеются моменты,
отличные от содержащихся в образе жизни. Указанное различие — фундаментальная сторона образа жизни — раскрывает многообразие
определений сущности деятельности. В этом плане образ жизни и
деятельность соотносятся между собой
случайным и внешним образом, т. к. в каждом фиксированном случае
возникает проблема выделения из множества определений того, которое
обусловливает данную особенную
деятельность.
Зафиксированное выше отрицательное соотношение образа жизни с самим собой снимает внешний характер отношений
между различными определениями
деятельности, утверждая необходимую связь
между образом жизни и деятельностью. Поскольку основанием этого
единства служит невыводимая из теоретических положений фактичность, постольку
образ жизни представляет собой ее обоснованное производное. Иными словами,
объяснение деятельности через имманентные
формы ее осуществления — это следствие того, что она есть род сущего и
вместе с тем пространство существования, и представляет собой не что иное, как
ее категориальное описание. С помощью понятия образа жизни многообразие проявлений деятельности ставится под знак общего
концептуального основания.
Изучая
проявление образа жизни в тождестве и различии отдельных видов деятельности,
мы тем самым изучаем его самого. Образ жизни как отрицательное отношение с
собой есть реальная система различий субъектов, которая актуализируется в
процессе деятельности.
Как жизнь
«соотносится с собой»?
Дело в том, что
деятельностные различия субъектов образа жизни положены как определенные
деятельности, как моменты, стороны образа жизни. Это означает, в частности, что
различные деятельности изменяются по
отношению друг к другу, и это изменение
не может быть безразличным, внешним для образа жизни. В той мере, в
какой изменяется одна деятельность, изменяется другая, и наоборот. Но отношение
деятельностей есть отношение субъектов.
Поскольку различие в образе жизни оказывается различием двух деятельностей,
постольку оно является и различием двух субъектов. Образ жизни является
здесь единством обоих (в общем случае —
многих) субъектов.
Субъекты, если
они выступают независимо друг от друга, не представляют собой полюсов отношения
своих деятельностей. В этом случае образ жизни не существовал бы. Если субъекты
взяты как изолированные, то целостность и
единство образа жизни представляют
собой лишь пустые названия. Но в силу того, что существует целостность образа жизни, обе деятельности
оказываются присущими обоим субъектам, обе деятельности распределяются
между сторонами отношения, и каждая деятельность вступает в соотношение с другой деятельностью в образе жизни
каждого субъекта.
В образе жизни
субъекты нераздельны и каждый из них имеет реальность
только в деятельностном отношении с другим. Деятель-ностная определенность каждого субъекта
представляет собой субъективную деятельность; она определяется данным
субъектом. И поэтому каждый из субъектов
находится в «деятельностном равновесии» с другим. Однако это равновесие
неустойчиво и непрочно. Изменение
детельностей друг по отношению к другу есть реализация образа жизни и в
то же время развертывание его противоречия
— системы различий субъектов.
Образ жизни
неотделим от деятельностного равновесия субъектов. В этом смысле образ жизни
есть деятельностный механизм снятия различий субъектов, то есть образ жизни
представляет собой процесс разрешения своего внутреннего противоречия. Так как
деятельностное равновесие само снимает свое противоречие, то оно перманентно
переходит из одного состояния в другое. Это как раз и означает, что образ жизни
есть отрицательное отношение с собой.
Образ жизни
внешним образом соединяет в некое целое существующих друг вне друга
самостоятельных социальных субъектов. В образе жизни нет никакого другого
содержания, кроме самого явления.
Образ жизни есть
отвлеченное понятие общего свойства социальных субъектов, собирающее все
явления деятельности под одно общее
понятие. Главное в определении — это связь с деятельностью. Ограничиваясь
понятием образа жизни для характеристики деятельности
социальных субъектов, мы тем самым выражаем свое незнание сущности этих процессов. Образов жизни
можно установить столько, сколько существует типов организации
социального взаимодействия субъектов. Точнее говоря, образ жизни обозначает наличие определенного типа организации
социального взаимодействия. Образ жизни походит на идиоматическое выражение,
полное смысла и глубины только в породившем его языке деятельности и
целостности, но становящееся бессмысленным при дословном переводе.
1
Капустин Б. Г.
Неомарксистская социология: поворот или кризис? // Со-циол. исслед. 1986, № 3.
С. 71.
2
М а r х К. Das Kapital // Marx К., Engels F. Gesamtausgabe: MEGA Berlin, Diedz, 1987. Abt. 2. Bd. 6. S. 106.
3
Левыкин И, Т.,
Дридзе Т: М., Орлова Э. А. и др. Теоретико-методологические основы
комплексного исследования социалистического образа жизни // Вопросы философии.
1981, № 11. С. 53.
4
Социалистический
образ жизни // Абалкин Л. И., Алексеева В. Г. Вишневский С. С. и др.; редкол.:
Вишневский С. С., Руткевич М. Н., Тощенко Ж. Т 2-е изд., доп. М., 1984. С. 12.
5
Образ жизни в
условиях социализма (Теоретико-медотологическое исследование) // Арнольдов А.
И. (отв. ред.), Ципко А. С., Орлова Э. А. — М., 1984. С. 45.
6
Weber M. Die “Objektivitat” sozialwissenschaftler und
sozialpolitischer Erken-ntnis // Gesammelte Aufsatze zu Wissenschaftslehre von
Max Weber. — Tubingen: Verlag I. C. B. Mohr (Paul Siebeck), 1951, S. 208.
7
A dor no Th. W. Negative Dialektik. — Frankfurt am
Main: Surkamp, 1966. S. 1.
8
Lukacs G. Geschichte und Klassenbewusstsein. Studien
uber marxistische Dialektik. — Berlin: Malik, 1923. S. 157.
9
Ibid., S. 36.
10
M a m a p д а ш в
и л и М. К. Сознание и цивилизация // Как я понимаю философию. М., 1990. С.
110.
Уильям Аутвейт.
РЕАЛИЗМ И СОЦИАЛЬНАЯ НАУКА*
*© William О u t h w a i t e.
Realism and Social Science. PP. 45—60//2 d e m. New Philosophies of Social
Science. L.:
Macmillan Education, 1987.
Каковы импликации очерченного в предыдущей главе подхода для практики социального исследования? Ответ на
этот вопрос мы можем начать с обзора некоторых уже упомянутых
реалистских принципов. В сфере онтологии у нас имеется:
1. Различение между транзитивными и нетранзитивными
объектами науки:
между нашими понятиями, моделями etc. и реальными сущностями, отношениями и так далее,
что составляет природ-ный и социальный мир.
2. Дальнейшее расслоение реальности на сферы
реального, актуального
и эмпирического. Последнее находится в неоднозначном (contingent) отношении к первым двум;
существовать (для сущности, структуры или события) не значит быть
воспринимаемым.
3. Понимание каузальных отношений как тенденций,
основой которых
являются взаимодействия порождающих механизмов; эти взаимодействия могут
вызвать или не вызвать события, которые в
свою очередь могут или не могут наблюдаться.
4. В дополнение к этим трем онтологическим утверждениям и в связи с первым из них у нас имеется неприятие и
эмпиризма и рассмотренного выше
конвенционализма. Практическим выражением этой эпистемологической позиции
является понятие реального
определения. Реальные определения, которые важны и для реалистской, и для рационалистической философии науки, не суть ни резюмирование существующего обычного
словоупотребления, ни соглашения о
том, что какой-то термин мы должны использовать
каким-то определенным образом. Хотя они, конечно, выражены в словах, они суть утверждения об элементарной (basic) природе некоторой сущности или
структуры. Таким образом, реальным
определением воды было бы то, что ее молекулы состоят из двух атомов водорода
и одного атома кислорода. Это
открытие людей касательно воды получает выражение как ее свойство по
определению.
5. Наконец, а также в связи с тем, что выше было сказано в пункте 3, реалистское понимание объяснения предполагает
посту-лирование объяснительных механизмов и
попытку продемонстрировать их существование.
Рассматривая импликации этих принципов для социальных наук, важно помнить о различении между философской и
научной онтологией. Философская онтология того рода, что обрисована здесь, не
говорит нам, каковы именно те структуры, сущности и механизмы, которые
составляют мир; это — предмет отдельных наук.
Например, в случае социальных наук реалистская метатеория сама по себе
не даст нам возможности сделать выбор между концепцией,
которая ограничивает себя изучением индивидуальных действий, и
концепцией, которая формулирует свои объяснения в терминах более крупных
социальных структур.
И тогда нам в первую очередь нужно спросить, какое понимание (account) социальной реальности исключило
бы реалистскую программу очерченного
выше вида? Вообще говоря, реализм окажется неприложим,
если:
(а) нет нетранзитивных объектов социальной науки,
нет объектов, поддающихся реальному определению и
(б) нет ничего, что может быть объяснено в
терминах порождающих механизмов.
Рассмотрим сначала пункт (а). Нетранзитивность, напомним, означает, по
существу, что «вещи наличествуют и действуют независимо от наших описаний»1, где «наши»
относится к человеческим существам вообще. Кажется, совершенно ясно, что этот
принцип нуждается в модификации в случае человеческих действий и социальных
структур, где понятия (conceptions) действующего не суть нечто внешнее
описываемым фактам, но составляют по меньшей мере часть реальности этих
фактов. Например, ссора не может быть адекватно описана без ссылки на
восприятие участниками их ситуации как
ситуации враждебности. Если они не воспринимают ситуацию таким образом,
они просто симулируют ссору. Иными словами, для участников ссора «концептуально
зависима» так, как этого не бывает в случаях столкновения двух астероидов или
двух субатомных частиц.
Однако эта
концептуальная зависимость социальных феноменов не исключает их
нетранзитивности. Первая мировая война или китайско-советская распря в конце
50-х как таковые имеют место независимо от того, что я пишу о них сегодня.
Анти-реалисту требуется более радикальный
аргумент, который отрицает, что в таких делах можно сделать поддающиеся
обоснованию утверждения (any fact of the matter about such matters). Самый
убедительный способ такой аргументации — сказать что-нибудь вроде:
1) социальные
ситуации не существуют независимо от способа, каким они интерпретируются включенными
в них людьми или внешними наблюдателями;
2) такие интерпретации по существу произвольны.
Конечно, этот
аргумент в принципе не отличается от радикального конвенционализма
применительно к природному миру. Но в объяснении
нуждается как раз его явно большая убедительность в качестве описания
социального. Возьмем три утверждения относительно
«общества».
1. Общество ненаблюдаемо.
2. Общество
имеет теоретический характер (is theoretical).
3. Любое утверждение относительно общества стоит одно другого.
Первое утверждение, несомненно, должно быть принято. Конечно, мы можем
изучать национальное сообщество или группу, наблюдая происходящее, задавая
вопросы etc., но тут нет ничего подобного
наблюдению общества как такового. Границы французского общества не суть государственные границы
Франции не только потому, что
Франция еще где-то в мире располагает территориями и влиянием, но потому, что «французское общество»
— это теоретическое понятие, причем «теоретическое» означает нечто
большее, чем только ненаблюдаемое. Это можно
лучше всего проиллюстрировать, обратившись к истории термина «общество»
и различным способам
его применения, начиная, примерно, с XVIII в.
Иными словами, говорить о скоплении людей — в одной или более
географических областях, с разнообразными формами материального оснащения etc. — как об «обществе» значит
вступить в особую языковую игру, в которой разрешаются одни теоретические ходы
и не разрешаются другие, и в частности вводится элемент абстракции.
В настоящее время в эмпиризме есть остаточный элемент истинности,
состоящий в том, что применение абстрактных или теоретических терминов должно
быть узаконено таким образом, какой не требуется для вокабулярия «низшего
уровня». Например, современное понятие общества должно быть втиснуто в часть
концептуального пространства, занятого более ранним и несколько более конкретным термином «государство»2.
Существовавшее вначале сопротивление введению этого термина было
совершенно очевидно политическим: «общество» считалось как-то связанным с третьим
сословием и потенциально угрожающим
государству. В наше время эта политическая враждебность к понятию общества в
большинстве случаев принимает форму индивидуализма: «индивид и
общество». Но этот этический или
политический индивидуализм является лишь одним из аспектов подхода,
самым острым теоретическим инструментом которого является редукционистский
тезис о «методологическом индивидуализме».
Высказывается претензия, что болтовня об обществе, или о социальном
целом вообще — всего лишь стенографическая или суммарная запись (redescription) того, что в конечном счете должно описываться и
объясняться в терминах индивидуального действия. Как сформулировал Д. С.
Милль, «законы феноменов общества не суть и не могут быть ничем иным, кроме как
действиями и страстями человеческих существ, соединенных вместе в общественное
состояние»3.
Но можем ли мы действительно обойтись без понятия общества? Как мы
видели, наиболее предпочитаемой альтернативой является онтология индивидуальных
лиц и их действий, и тут социальные
структуры суть по отношению к ним просто суммарные, метафорические вторичные
описания (redescriptions). Выгода состоит в том, что критерии идентичности
людей непроблематически задаются их телами, которые почти всегда явно отличны
от других тел. Оказывается, однако, что это продвигает нас не весьма далеко, так как более интересны те человеческие действия,
которые предполагают сеть социальных отношений. И если эти социальные
отношения являются непременным условием
индивидуальных действий, то странно, видимо, было бы мыслить их как
нечто сколько-нибудь менее реальное, чем эти действия.
Что правильно,
конечно, так это то, что мы точно не знаем, как эти отношения характеризовать,
и что наши характеристики окажутся пробными,
соотнесенными с частными целями объяснения и так далее. Но это не означает, что какая-то совокупность реальных
социальных отношений не является необходимым условием для всех, исключая самые
банальные, человеческих действий. Ковырять в носу я могу вполне самостоятельно,
но я не могу получить по чеку деньги, писать книги или объявлять войну
безотносительно к существованию и действиям других людей.
В объяснении же
нуждается то, почему в нашем обществе большинство
людей примет на веру любое конфиденциально высказанное утверждение,
скажем, о структуре ДНК, но скептически отнесется к утверждению о социальной
структуре современной Британии, — и почему они правы, поступая так. Сказать,
что биохимия — наука «зрелая», а
социология — нет, значит очень мало помочь делу. Ссылки на точность
измерения тоже бьют несколько мимо цели.
Проблема состоит не в том, что мы не можем в общественных науках
произвести точные измерения, но в том, что мы не уверены, какой цели они служат, поскольку интересующие объяснительные структуры и даже их explananda кажутся безнадежно неясными.
Может
показаться, что такого рода соображения имеют целью конвенционалистское
понимание социальных наук, где все их важные
термины окружены паническими кавычками, а все их утверждения предварены
имплицитным «все происходит, как если бы»4. Но это значит слишком сильно уступить скептикам.
Имеется ряд феноменов, таких, как тенденция социальной позиции родителей оказывать
влияние на успехи детей в учебе, феноменов, столь реальных и всеобщих,
как и можно было бы разумным образом ожидать, хотя, конечно, нам еще требуется
исследовать механизм, их производящий. Тот факт, что процессы интерпретации
лежат в основе всех этих терминов, как и наших постулированных объяснений связи
между ними, не исключает реалистического
истолкования этих теорий. Вместо
этого, как я буду доказывать в этой главе ниже, отсюда напрашивается вывод, что общественные науки более
тесно связаны с мышлением на основе здравого смысла, чем естественные
науки; они не столько сообщают радикально новое знание, сколько дают более адекватные формулировки наших интуиции
относительно социальных обстояний (affairs).
[Здесь в книге после стр. 144 сразу идет стр. 161. - прим. OCR]
методологии может оказаться неуместной. И все же любая адекватная социальная теория безусловно должна быть
чувствительной к нашей интуиции в
том, например, что при написании этой книги я менее ограничен в
своих действиях, чем некто, вынужденный работать
под дулом пистолета.
Первый шаг к этому — признать то, что Гидденс
называет «дуальностью
структуры»: «Структуры следует концептуализировать не просто как налагающие
ограничения на человеческую деятельность, но как обеспечивающие ее
возможность... В принципе всегда можно изучать структуры на основе их
структурации как ряда воспроизводимых
практических обычаев. Исследовать струк-турацию практики — значит
объяснять, как структуры формируются благодаря действию и, обратно, как
действие оформляется структурно» 8. Более конкретно, это требует
признания, «что понятие действия логически связано с понятием власти, если
последнюю истолковать в широком смысле как способность добиваться результатов» 9. Гидденс предлагает
анализировать власть, исходя из категории
«ресурсов»: «Действующие субъекты черпают ресурсы в производстве
взаимодействия, но эти ресурсы выступают как структуры
господства. Ресурсы — это средства, с помощью которых используют власть в обычном сложившемся
порядке социального действия; но
одновременно они суть структурные элементы социальных систем, возобновляемые в
ходе социального взаимодействия.
Социальные системы складываются как упорядоченные виды практики,
воспроизводимые во времени и пространстве, во власти и пространстве; тем самым
власть в социальных системах можно
трактовать как явление, требующее воспроизводимых отношений автономии и
зависимости в социальном взаимодействии» (там же).
Здесь налицо по виду обещающая попытка заново
переосмыслить в
понятиях отношения между действием и структурой в социальной жизни 10.
Как могла бы реалистская метатеория опереться
на этот и другие теоретические подходы? Как я доказывал на протяжении
всей книги и особенно в гл. 3, было бы ошибкой прямо переходить от метатеории к
субстантивной, предметной теории, выдавая
фальшивую метатеоретическую гарантию для конкретной формы теории. Но в
то же время реалистская позиция явно
повышает опасность в противопоставлении структуры и деятельности.
Настаивая на реалистском толковании теории, можно усилить искушение свести одну к другой.
Сведение деятельности к структуре или деятелей к «носителям» структурных свойств правильно отождествляли с
центральной проблемой в переформулировке марксизма Альтюссером, но Джон
Урри в ряде текстов предполагал, что, возможно, эта опасность внутренне присуща реалистскому истолкованию
марксизма или, в том же отношении,
всякой другой социальной теории .В марксизме производство и присвоение прибавочной стоимости толкуется как скрытый механизм, который «создает цены,
заработки, доходы, прибыль, ренту и
т. п. феноменальные формы. Однако такая концепция проблематична в двух отношениях. Во-первых, она
может приводить к взгляду на такие общества как на характеризуемые некоей «выраженной совокупностью» свойств, все
аспекты или элементы которой —
просто феноменальные формы определенной внутренней сущности или
механизма. И, во-вторых, она не дает точного
описания тех видов практики, в которые должны включиться индивиды, чтобы с
необходимостью породить эти феноменальные формы. Многие аспекты капиталистического общества не являются непосредственным выражением его центрального
механизма. Они — результат тех форм социальной практики и борьбы, которыми
вынуждены заниматься самостоятельные субъекты» 12.
Все это реальные
недостатки, но они кажутся мне недостатками
марксизма13 и, более точно, определенных современных интерпретаций
его, особенно западногерманскими «логиками капитала» (которые, насколько я
знаю, не в восторге от реализма), а не
дефектами, внутренне присущими реалистской метатеории как таковой. Лекарство против этих недостатков
отчасти содержится в собственном, не менее реалистском анализе тем же
Урри «социального пространства (в котором складываются и воспроизводятся
конкретные субъективности), различных форм и эффективности социальной борьбы,
характера государства» 14.
Противоположная
тенденция растворять структуры в действии и
взаимодействии может показаться более естественным следствием
реалистской позиции. Реализм в естественных науках часто опирался на предполагаемую реальность сущностей,
постулированных научными теориями, а не на истинность самих теорий.
Теории электрона приходят и уходят, но мы знаем об электронах слишком много и слишком хорошо умеем управлять ими, чтобы
сомневаться в их реальности. Говоря словами Яна Хакинга, «если вы можете
рассеивать их, то они реальны» 15. Но в самом ли деле мы хотим
сказать подобное о таких «сущностях», как протестантская экономическая жизнь, «habitus» Бурдье, бессознательное Фрейда и
т. д.? Не следует ли говорить, вместе с
Ромом Харре, о социетальных символах?
Согласно
взгляду, который я намерен защищать, общество и институты внутри него не должны
восприниматься как независимо существующие реалии, о которых мы
порождаем символы. Скорее они сами — символы, которые мы описываем при
объяснении определенных проблемных
ситуаций. Так, понятие тред-юниона или университета следует трактовать
как теоретическое понятие, оправдываемое его объяснительной силой, а не как
описательное понятие, оправдываемое его соответствием независимой реальности.
Формы социального и естественнонаучного объяснений одинаковые, но их онтологические предпосылки и метафизические структуры совершенно разные. За символами
действительности, которые придуманы в целях объяснения в естественных
науках, кроется реальный мир действенных вещей; но за символами, придуманными для объяснения социальных взаимодействий
посредством социальных действий, не
лежит ничего, кроме самих действователей, их приспособительного поведения и их идей» 16. Так, по Харре, классовая теория «описывает популярный образ
или символ. Эхо не теория, которая описывает независимую реальность. Она
создает базу для обширного ряда объяснений, в категориях которых можно сделать
общепонятными разнообразные несходства между людьми... И, по моему убеждению,
классы существуют лишь постольку, поскольку их мыслят существующими, и функция
такого понятия — обеспечивать стандартное, готовое, легко принимаемое
объяснение для понимания того, что случилось само собой»17.
Проблема этой
линии аргументации в том, что если термины «объяснение»,
«общепонятное», «лекго принимаемое» — все не относятся к чему-то
большему, чем полагают в данном сообществе, то нам понадобятся критерии для
опознания «хорошего объяснения», а это в
свою очередь потребует некоей концепции реальности, которая (большей частью)
независима от способа, каким мы воспринимаем и объясняем ее. Как я
показал в гл. 3, Харре прав, отстаивая: (1)
базисную роль индивидуальных социальных действий и (2) открытый, незаконченный характер
теоретического объяснения в общественных науках. Но это не значит, что все
ненаивные объяснения должны осуществляться на основе конкретных действий или
что в социальной сфере «все сойдет» за процесс созидания символов. Первое положение Харре, видимо,
удовлетворяет формулировке
Бхаскара, что «социальные структуры, в отличие от природных, не существуют
независимо от видов деятельности, которые они контролируют ... [и] ...
от понимания субъектами того, что они делают»18. В действительности
эта формулировка может слишком далеко завести по пути редуцирования структур.
Мы вынуждены прибегать к мнимофактическим ссылкам на действие. Сказать, что я
занимаю некую позицию силы, может означать или что я реально применяю силу, или
что я мог бы так действовать, если б выбрал это.
Второе положение, относительно открытого характера социальной теории, я подробно обсуждал в гл. 2. Направить это
обсуждение в русло учения реализма о сущностях значило бы, я думаю, допустить
ошибку неуместной конкретности. Ясно, что сущности, постулированные обществоведением, отличны от сущностей, постулированных
естествознанием, но главный интерес не в этом, а скорее в универсальных
различиях между теоретизированиями в Двух областях и, в частности, в гораздо
меньшей способности социальной теории к открытию. Отказаться от притязания, что
социальная наука когда-нибудь сможет обеспечить «того же рода чувственную
ясность и объяснительную мощь, уже достигнутую науками о природе»19,
не значит отрицать всякую объяснительную способность у социальной
теории. Это не обязывает нас также говорить вместе с Бурдье, будто всем
объяснительным высказываниям в общественных науках надо предпосылать
ограничительную оговорку, что «всё
происходит, как если бы...»20.
Краткое
обсуждение теории действия и методологического ин-Дивидуализма может помочь нам
прояснить эти темы. Основные усилия
реалистской критики позитивистской и неокантианской метатеории
направлены против их тенденции сводить онтологию к гносеологии и обе, в конечном счете, к методологии. Мне кажется,
однако, что раз мы правильно поняли категории онтологических отношений между
действием и структурой согласно линиям,
намеченным гидденсовскои концепцией «дуальности структуры» и
«трансформационной моделью социальной деятельности» Бхаскара, то мы сможем
увидеть проблемы редукции в теории действия
и методологическом индивидуализме в надлежащем свете, а именно как
методологические вопросы о целесообразных уровнях абстракции,
осуществляемых в каждом отдельном случае практиками исследовательского
процесса. Другими словами, если верно, что
система отнесения к категории действия — это «попросту подход, более
глубоко и точно проникающий в суть того, каким образом общество существует
только в индивидах, находящихся в
определенных социальных отношениях» 21, то это не потому, что структуры не реальны
и только теория действия имеет законную опору
в базисной персоналистской онтологии Стросона22, но потому, что для
определенных целей это подходящий уровень абстракции, на котором можно
работать.
Данное
онтологическое взаимоотношение между структурой и действием не есть только дело методологии, но эти два измерения — методология
и онтология — могут и должны быть аналитически разведены. Методологический
индивидуализм следует рассматривать просто как метод целесообразный в одних
контекстах и неуместный в других; путаница возникает, когда индивидуалисты пытаются идти дальше и фундировать свою
методологическую программу в
эмпирической реалистской онтологии, о чем сигнализируют такие термины,
как «базис», «объяснение на твердой фактической основе» и т. п. (Проявление этой путаницы — идеологическое клеймо, будто всякий, кто возражает
методологическому индивидуализму, приговорен к презрению как проводник
идей, логически ведущих к созданию
концентрационных лагерей.) Содержательные проблемы индивидуализма,
противопоставляемого холизму, имеют чрезвычайно широкий разброс и не
могут быть затронуты здесь, но важно остановить эту тенденцию смешивать
методологию и философию. Недавно в своей превосходной книге Сюзан Джеймс показала, что методологическое противопоставление
индивидуализма холизму нужно освободить от логически непоследовательного
философского спора о возможности сведения высказываний о социальных структурах к высказываниям об индивидах. Согласно Джеймс,
оставить аргументацию на этом уровне — значит пренебречь разнообразием
социальных теорий и различными интеллектуальными
(объяснительными) интересами, которые они предназначены удовлетворять.
«Сосредоточиваясь
на идее редукции, традиционный спор пропускает более глубокое и важное
разделение: холизм и индивидуализм основаны на соперничающих воззрениях на
природу индивидов, каждое из которых дает начало отличительной программе, как
объяснять социальный мир. В свете этой интуиции проблему можно увидеть
по-новому. Вместо того, чтобы заниматься разнообразными критериями сводимости
теорий, изучают отношения между собой и сравнительную силу двух родов
причинного анализа: с одной стороны, того, который апеллирует
к свойствам социальных целостностей, дабы объяснить черты индивидов, а с другой
— того, который стремится объяснять характеристики социальных целостностей как результат индивидуальных черт» 23.
Таким образом,
Джеймс показывает, что спор между холизмом и
индивидуализмом — это «спор между равными партнерами», руководимыми
разными интересами, с которыми они подходят к данному
предмету. Поэтому, даже когда однодумный редукционизм, с одной стороны,
и идеологическая подозрительность, с другой, исключены
из обсуждения, остаются причины для неудовлетворенности
«индивидуалистов» объяснениями в категориях социальных целостностей —
безразлично, видят ли они их как образования, содержащие незаконную реификацию
абстрактных сущностей или просто как неполные объяснения. Холисты, наоборот,
остаются неудовлетворенными объяснениями,
которые подчеркивают значение автономного выбора, делаемого индивидами,
доказывая, что этот выбор причинно
маловажен и что истинно важны структурные давления, формирующие действия индивидов, кем бы они ни были.
Здесь не место
анализировать в деталях, как и чем соперничающие полярные подходы, холизм и
методологический индивидуализм, привлекают
конкретных социальных теоретиков либо в общем, либо в специальном плане. Формы индивидуалистских и холистских объяснений слишком разнообразны,
чтобы допустить какой-либо простой принцип классификации. Я полагаю
очевидным, что индивидуалистские формы объяснения надо оценивать по их
достоинствам, а не по какому-то общему редукционистскому тезису, укорененному в
эмпирической онтологии. Ясно, что человеческие индивидуальности имеют в
социальной теории особый онтологический статус. Это четко формулирует Барри
Хиндес: «Человеческие индивидуальности могут и не быть главными определяющими
субъектами общественной жизни, но они —
единственные действователи, чьи
действия не требуют действий других субъектов постоянно»24. Надо
признать как факт, что структурные понятия вроде «класса» — понятия
«теоретические» и открытые для обсуждения. Но из этого не следует ничего
особенного для подтверждения их «первичности» в объяснении. Многие из наиболее
интересных объяснений в истории и общественных науках, если они вообще возможны, вынуждены принимать холистскую форму в
том смысле, что настаивание на
индивидуалистской редукции может показаться невыносимо искусственным. Объяснять
вековое падение стоимости Фунта стерлингов исходя из индивидуальных
решений маклеров, «Роводящих операции с иностранной валютой, — все равно что
«тонко» объяснять сырой август в Англии, вычерчивая траектории Дождевых капель.
(И наоборот, там, где, как это часто случается в обычной экономической теории, имеются отсылки к
«типическому» индивиду, можно
сомневаться, есть ли это действительно индивидуалистская форма объяснения в
любом серьезном смысле 25. Возьмем
другой пример, который я уже кое-где использовал-дискриминация при найме на
работу — это, в конечном счете результат индивидуальных или коллективных
решений принять, уволить, продвинуть и т.
д. Было бы интересно исследовать, почему отдельные работодатели,
возможно, предпочтут претендентов из белых мужчин среднего класса черным
женщинам из рабочего класса, обладающим
равной квалификацией. Но такое исследование не скажет нам ничего интересного о более глубоких систематических процессах дискриминации, действующих через
механизмы системы образования, якобы открытой для всех. Можно, конечно,
подробно проанализировать сами эти процессы, но с точки зрения исследования
дискриминации в сфере труда они действуют как основополагающие структурные
условия, которые нельзя убрать из объяснения.
Здесь существенно то, что общественные науки требуют множественности методологических подходов не меньше,
чем естественные. О достоинствах этих подходов можно судить только по
практике наук и по степени, в какой они, на взгляд обществоведов и публики,
обогащают наше понимание социального мира. Последняя
истина антинатуралистских концепций общественных наук состоит в
признании того, что они неизбежно связаны с нашим ненаучным мышлением об и действованием в человеческом
обществе, членами которого мы
являемся. Признание этого устанавливает неустранимые пределы редукционистским
сциентистским теориям социального, которые сглаживают различия между
социальными и несоциальными системами.
Наиболее социологичные теории всегда сознавали
это, но большим достижением последних двух десятилетий было, я думаю,
обострение этого сознания благодаря влиянию аналитической
философии языка в Англии и герменевтики с Европейского континента.
Теперь пришло время, по-моему, строить на
этих интуициях в направлениях, которые проложили Хабермас, Бурдье,
Гидденс и др. И мне кажется, что реалистская философия науки и умеренный, или
критический, натурализм обеспечивают наилучшие метатеоретические координаты для
дальнейшего развития.
Сказать так — не значит утверждать, будто ничему нельзя научиться от
социальных теорий, которые радикально антинатуралистичны или отвергают
реалистскую метатеорию как ложную или неподходящую.
В естественных науках метатеоретическая оснастка конкретной теории действительно будет часто оказываться не имеющей
отношения к ее объясняющей способности и главному интересу ее умозаключений,
почему исследование этих метатеории можно без опаски оставить историкам идей.
Однако философская метатеория часто имеет
существенные последствия. В гл. 6 я попытался показать некоторые из этих
последствий для классической социологии.
Едва ли можно отрицать влияние позитивизма позднейшее развитие социологии и других общественных наук, в экономике
можно продемонстрировать поддержку позитивистским конвенционализмом 26 со всеми его несомненными приметами неоклассической теории, противопоставляемой
классической или марксистской
альтернативе. Позитивистские предпосылки были особенно сильны также в психологии, поставляя плохие,
с реалистской точки зрения, доводы
для опровержения психоаналитической теории27.
Позитивистское влияние крайне переменчиво: от сильного в политологии и
лингвистике28 до гораздо более слабого в социальной
антропологии. История, как я доказывал в гл. 1, в целом избежала прямого
влияния позитивистских теорий объяснения, но она остается отчасти в плену
эмпирической подозрительности ко всяким
формам теории и фетишизации первичных источников.
Возможно было бы лучше обойтись без таких реалистских форм теории, как Марксова политэкономия, психоанализ
Фрейда, лингвистика Хомского и т. д., но важно, чтобы их не отбрасывали без суда на основании философской догмы, особенно
такой, которая несколько потускнела в глазах самой философии. Пока эти
темы вновь переоткрывают преимущественно недавними реалистскими разработками,
вроде упомянутых в предыдущих абзацах, положительные
влияния философской среды, вдохновляемой реалистскими, а не
позитивистскими принципами, будут медленно проявляться и трудно распознаваться с нужной точностью, но,
по-моему, от этого они не станут
менее реальными29.
Вышеизложенная дискуссия снова ставит вопрос о взаимоотношениях между философией и общественными науками.
Предыдущие главы должны были убедить
читателя, что эти взаимоотношения и очень тесны и чрезвычайно
разнообразны. Как я подчеркнул вначале, одну
из особенностей «нового реализма» составляет необычайно тесная
взаимосвязь между философией и социологической проблематикой. Это сочетание
философии и социальной теории было
воспринято как интересное и своевременное, поскольку оно вышло на сцену
после продолжительного периода теоретической
(и растущей метатеоретической) неопределенности в социологии и в гораздо меньшей степени в других
общественных науках. Открытость по отношению к философии была, конечно, только частью общего спора о междисциплинарных
границах, но интересно здесь то, как продвигалась социология в сферы философии науки, философии языка в некоторых
случаях, прямо назад к досократикам. По чьей-то «пифийской» фразе, британской социологической теории грозило
исчезновение в тени Витгенштейна. Среди этого взрыва работ в пограничных
областях между философией и общественными науками легко потерять из виду более
скрытые, но не менее мощные философские влияния на предшествующие поколения
обществоведов, где сила позитивистского согласия заключалась в его умении
клеймить альтернативные философские
системы как безнадежно старомодные.
Некоторые
критики реалистской философии науки обвиняли ее в сходных тоталитарных поползновениях,
особенно когда эта философия
порождает натуралистические предписания для общественных наук 30. Однако, как я доказывал
на протяжении этой книги, притязания реализма не в том, чтобы любая конкретная
наука в ее теперешнем виде действительно
отразила бы объективные структуры природной или социальной реальности,
но просто в том, что он осмысленно и
прагматически полезно полагает существование таких структур как возможных
объектов научного описания. И еще раз: сходство реализма с прагматизмом
и его сопротивление более предписывающим,
нормативным философским теориям проявляется в отстаивании им положения,
что выбирать между альтернативными
описаниями — это, в основном, дело отдельных
наук и, в меняющейся степени, непрофессиональной публики.
Последнее ограничение важно, так как реализм вовсе
не обязан льстиво
возводить существующие специальные науки в ранг вещественных социальных и интеллектуальных форм в большей мере, чем
конкретные теории и методы внутри этих наук. Притязания реализма слабее, но нам важно, что онтологические обязательства,
будь то со стороны общих гносеологии или специальных научных теорий,
неизбежны и должны рассматриваться серьезно. Именно в этом смысле, мне кажется,
прав Бхаскар, провозглашая, что реализм есть философия для науки, включая
общественные науки. Тут есть неизбывное политическое обязательство перед общим
проектом современной науки расширить и очистить наше знание природного и социального мира. Если, как кажется
все более вероятным, конечным
следствием некоторых элементов этого проекта будет угасание человеческой жизни и вымирание большей части
животного мира на нашей планете, то, конечно, сей проект раскроет себя как
абсолютная катастрофа. Но что еще можем мы сделать? Несмотря на всю свою
элитарность и политическую безответственность,
на весь свой консерватизм, современная наука, понятая как систематическое исследование и интеллектуальная основа политики, — единственный путь, дающий
надежду на понимание развития наших
обществ и возможность сохранять влияние на него.
1 H a r r ё R., S е с о г d P. F. The
explanation of social behaviour. Oxford: Blackwell. 1972. Ch. 5.
2 Lukes S. Methodological individualism
reconsidered//Emmet D,, Maclntyre A. (eds). Sociological theory and
philosophical analysis. L.: Macmillan, 1970.
P. 77.
3 О u t h w a i t e W.
Concept formation. Ch. 5.
4 Bhaskar R. Naturalism. P. 43.
5 Sartre
J.-P. Critique of dialectical reason. L.: New Left Books. 1976; Touraine A. Sociologie de faction. P.:
Seuil. 1965.
6 L a s h
S., U г г у J. The new marxism of collective action: A
critical ana-lysis//Sociology. Vol. 18. No 1. 1984. PP. 33—50.
7 Theories of social action//Bottomore Т.. Nisbet R. (eds). A history of sorifln-gical
analysis. L.: Heinemann. 1978. P. 367.
8 Giddens A. New rules of sociological
method. P. 161.
9 Giddens A. Profiles and critiques in
social theory. L.: Macmillan. 1982. P.
38.
10 Следует
заметить, однако, что, подобно многим социальным теориям, она дается вокруг
проблемы внутренних или досоциальных способностей человеческих существ —
проблемы, ключевой для психологии и лингвистики. См.: Р a t em a n T. Language in mind and language in
society. Oxford: Clarendon Press. 1987.
11 Urry J. The anatomy of capitalist
societies. L.: Macmillan. 1981; К eat R., tjrry J.
Social theory as science; Urry J. Science, realism and the social//Philo-sophy
°f social science- Vo1- 12- 1982- pp- 311—318.
12 Urry J. The anatomy of capitalist
societies. P. 8.
13 Марксистскую трактовку этих проблем см.: Liebknecht К. Studien flber die Bewegungsgesetze der
gesellschaftlichen Entwicklung (1922), new edition edited by О. К. Flechtheim.
Hamburg. 1974.
14 Urry J. The anatomy of capitalist
societies. Op. cit.
15 Hacking I. Representing and intervening.
Cambridge: Cambridge Univ. press 1983. P. 23.
16 H a r r e R. Images of society and social
icons. Op. cit.
17 Ibid.
18 Bhaskar R. The possibility of naturalism.
PP. 48 f.
19 Giddens A. New rules. P. 13.
20 Bourdieu P. Outline of a theory of
practice. P. 203.
21 A 1 b r о w M. The concept of the social in the work of Marx and Weber.
Unpublished paper from conference on Karl Marx and Max Weber. Duisburg. 1981.
22 S t r a w s о n P. F. Individuals. L.: Methuen. 1959.
23 J a m e s S. The concept of social
explanation. Cambridge: Cambridge Univ. Press 1985. PP. 6 f.
24 H i n d e s s B. Actors and social
relations//W a r d e 11 M., Turner S.
(eds). Sociological theory in transition. Boston: Alien & Unwin, 1986. P.
119.
25 См.: ibid., P. 117.
26 H о 11 i s . M., Nell
E. Rational economic man; Farmer M. Rational action in economic and social
theory: some misunderstandings//Archives Europeennes de Sociologie. Vol. 23.
1982. PP. 179—197.
27 См., например: Bloomfield Т. М. Psychoanalysis: a human science?//Jour-nal for the
theory of social behaviour. Vol. 9. No 3. 1979. PP. 271—287; Will D.
Psychoanalysis as a human science//British Jornal of Medical Psychology. Vol.
53. No. 3. 1980. PP. 201—211.
28 Общий обзор см.: Pateman T. Philosophy of
linguistics//Coates R. et al. (eds). New horizons in linguistics 2.
Harmondsworth: Penguin. Forthcoming.
29 Социологи имеют теперь отличный и очень доступный методологический текст, написанный с позиций реализма: S а у e r A. Method in social
science, L.: Hutchinson., 1984.
30 См. Stoskman N.
Anti-positivist theories of the sciences.
Хелена
Козакевич.
РЕАЛИЗМ И СОЦИОЛОГИЯ: ВЫШЛА ЛИ СОЦИОЛОГИЯ ИЗ КРИЗИСА?
(Заметки на полях книги У.
Аутвейта «Новые философские концепции социальных наук. Реализм. Герменевтика и
критическая теория»1)*
* Helena Kozakiewicz.
Есть три
причины, которые позволяют рассматривать взгляды Уильяма Аутвейта в качестве
диалога для постановки нескольких проблем,
имеющих основополагающее значение для социологии как научной дисциплины. Во-первых, потому что автор
«Новых философских концепций социальной жизни» (известный также двумя другими своими работами, «Понимание социальной
жизни2» и «Формирование
понятий в социальной науке»3), представитель нового поколения обществоведов, в то же время имеет
признанную академическую позицию;
его творчество очерчивает одну из возможных форм будущей социологии.
Во-вторых, потому что рассуждения, изложенные
в «Новых философских концепциях социальных наук», охватывают главные
теоретические ориентации современной социологии и основную традицию
классической науки. В-третьих, потому что У. Аутвейт предполагает, что
социология нашла в конце концов свою
метапарадигму, которая скрыто присутствовала во всей теоретической
традиции и которая, будучи раскрытой и осознанной,
завершает кризисную ситуацию «антипозитивистского перелома», позволяет
вконец изнуренной внутренними распрями социологии
начать систематическое построение содержательной теории общественного
мира. Этой парадигмой является «новый реализм»,
который, следовательно, и будет контекстом для освещения вопроса о
состоянии современной и будущей социологии.
Интеллектуальную
призму, сквозь которую рассматриваются эти
вопросы, лучше всего определяют заключительные слова книги: «Несмотря на
всю свою элитарность и политическую безответственность, на весь свой
консерватизм, современная наука, понятая как систематическое исследование и
интеллектуальная основа политики, —
единственный путь, дающий надежду на понимание развития наших обществ и
возможность сохранять влияние на него» 4
Приведенное
положение выражает реалистическую позицию автора
в отношении науки, — равно отстоящую от модернистского восхваления науки и от постмодернистского
осуждения ее, — позволяет предположить неслучайную связь между
«реализмом повседневности», точкой зрения «золотой середины» и определенным
вариантом философского реализма, метатеоретической точкой зрения. Впрочем, во
«Введении» автор прямо говорит об этом: «Моя основная идея носит экуменический
характер» 5.
Для того чтобы ответить на вопрос о последствиях такой позиции для «Современной социальной теории» *, попробуем
реконструировать теоретическую основу
метатеории, которую У. Аутвейт
назвал «новым реализмом», — реконструировать систематически и детально
(насколько позволяет объем статьи), используя по возможности формулировки
автора для того, чтобы свести к минимуму
опасность недоразумений.
* Книга У. Аутвейта вышла в серии под
этим названием.
Оставим на некоторое время выяснение вопроса, почему Аутвейт называет предлагаемый реализм «новым», приведем прежде
всего его определение (автор дает его со ссылкой на концепцию Роя Бхаскара,
разработанную в книге «Реалистская теория науки»6): «Существуют транзитивные объекты науки, которые
созданы людьми для того, чтобы представлять нетранзитивные объекты
науки, сущности и структуры действительности» 7. Это — «трансцендентальный
реализм», который в известной степени является опосредованием двух главных
философских позиций и вместе с тем их
отрицанием, в смысле «преодоления» их основных недостатков.
У. Аутвейт,
вновь опираясь на работы Бхаскара, дает характеристику ситуации, сложившейся в теории науки, следующими положениями:
«1. Классический
эмпиризм: последними предметами научного познания являются элементарные
события.
2.
Трансцендентальный идеализм: предметами научного познания являются модели,
идеальные формы естественного порядка и т. п.... мир природы становится
конструкцией человеческого разума, или, в современной интерпретации,
конструкцией научного сообщества.
3.
Трансцендентальный реализм: предметами научного познания считает структуры и
механизмы, которые порождают явления; и
знание произведено внутри социальной практики науки. Предметы познания
не являются ни просто феноменами (эмпиризм), ни конструкциями, которые навязаны
явлениями (идеализм), но они есть реальные
структуры, которые существуют независимо от наших знаний, от нашего опыта и от условий, обеспечивших
к ним доступ»8.
Фундаментальное заблуждение двух первых позиций заключается в редукции «...онтологии к эпистемологии, вопросов
о бытии к вопросам о нашем познании бытия»9. Поэтому «...они... сохраняют
неявно онтологию «эмпирического мира», и
это то, что «...по терминологии
Бхаскара, является общим у эмпирического релизма с
классическим реализмом и трансцендентальным идеализмом»10. Особенно
важным является проявление этой общности позиций в «—анализе оснований каузальных суждений: данное в опыте постоянство
связей есть необходимое и достаточное условие для классического эмпирического
анализа и необходимое, но недостаточное условие для трансцендентального
идеализма. Очевидное различие с точкой зрения трансцендентального идеализма
заключается в том, что для него условие не является ни необходимым, ни достаточным»».
Последнее положение объясняет, в частности, и то почему «трансцендентальный реализм» оказывается также «новым» реализмом.
Развиваемая У. Аутвейтом на страницах книги концепция «научного открытия» в границах «трансцендентального
реализма» включает следующие моменты: «1. Идентифицируется и описывается
результат. 2. Предлагается гипотетический механизм, который — если существует
— может этот результат объяснить. 3. Предпринимается попытка показать
существование и действие этого механизма: а) позитивно, при помощи
экспериментов, попытаться выделить и в некоторых случаях прямо наблюдать
механизм; б) негативно, идя путем исключения альтернативных объяснений»12.
Опираясь на
работы Бхаскара, Аутвейт утверждает, что такова действительная практика науки,
которая была мистифицирована традиционными
направлениями в философии науки (позитивизмом, а также конвенционализмом
и прагматизмом, в которые трансформировался
первоначальный позитивизм). Он подчеркивает положение Бхаскара о том, что
«...трансцендентальная онтология вынуждается эмпирической практикой науки»13.
(Для подтверждения положения об
«эмпирической практике» весьма пригодилось бы эмпирическое свидетельство, отсутствующее в книге Аутвейта. По-видимому,
следует предполагать, что это положение достаточно обоснованно в работах
Бхаскара.) Итак, поскольку реализм, согласно изложенной точке зрения, «это
«позиция, естественная для ученых» (если только они не оказываются весьма
неуверенными в отношении своих оснований в
некой отдельной сфере или же пытаются
согласовать свою практику с комплексом сверхутонченных философских
категорий)»14, он действительно оказывается «философией для науки»
(в противоположность позитивистской «философии
науки», которая навязывает науке авторитарные модели научного
познания). «Эмпиристские, конвенционалистские и прагматист-ские философские подходы — все они притязали быть
философией для науки, но эмпиризм имел слишком ограничительный
характер, а конвенционализм и прагматизм были слишком терпимы, чтобы предлагаемое ими руководство могло быть
значительной помощью»15. В связи с этим в отношении «между наукой и
философией реализм занимает промежуточную позицию между антифилософской
философией прагматистов и рационалистским пониманием философии как судьи
науки»»16.
Именно эта
позиция «золотой середины», предложенная реализмом как метатеория, создает, по
мнению Аутвейта, перспективу особенно
интересных теоретических поисков в области социальных наук, ибо они как раз
оказываются в ситуации только что описанной, когда реализм не является
естественной позицией ученых, поскольку «они не оказываются весьма
неуверенными в Отношении своих оснований... или же пытаются согласовать свою практику с комплексом сверхутонченных,
философских категорий». Основные усилия автор «Новых философских
концепций социальных наук» сосредоточивает на том, чтобы показать преимущества
«нового реализма» в области общественных наук, прежде всего социологии. Аутвейт
пытается доказать, что реализм как философская метатеория является
соответствующей философией для социальных наук и, по существу, первой
действительной «философией социальных наук». Особое внимание при этом
обращается на социологию как предмет
метатеоретических интересов реализма. Традиционная философия науки, от
позитивизма до неопозитивизма,
общественными науками не занималась, считая, что последние таковыми не являются; они лишь протонауки,
лишь то, что наукой еще должно
стать, и тогда они, естественно, подчинятся общей модели научного познания, разработанной на основе
физики. Традиционная философия науки, как ныне признано, потерпела поражение,
не сумев найти конститутивные элементы, составляющие основание научного знания.
Предпринимавшиеся ранее попытки подчинить
социологию стандартам неопозитивистской модели являются, следовательно,
анахронизмом. Трансформация оснований позитивизма на пути ослабления
связи между теорией и опытом, предпринятая в конвенционализме и прагматизме, не
является, согласно Аутвейту,
удовлетворительным решением возникших проблем, ибо если ставится под
сомнение научная ценность «правды, действительности, бытия»17, то
наука становится бессмысленной деятельностью. Английская аналитическая
философия, континентальная герменевтика и
марксизм, которые способствовали уничтожающему позитивистский эмпиризм «холистическому повороту» в философии
науки, показывают иную, чем безоговорочное принятие трансцендентального идеализма, возможность понимания науки,
формируют подход, который не превращает науку в бессмысленную деятельность и
одновременно соответствует научной практике. Этим подходом и является
трансцендентальный реализм. Специфика этого подхода особенно заметна в
общественных науках, прежде всего в
социологии, в которой возникла метатеоретическая рефлексия как
результат экспансии 60—70-х гг. в социологию философской герменевтики, марксизма и их сочетания в форме «критической
теории Франкфуртской школы». В качестве метатеоре-тической позиции они
плодотворны для социологии лишь при условии возможности
согласования своих положений с реалистской точкой зрения, что, по мнению
Аутвейта, нетрудно. В Двух последующих разделах книги Аутвейт выполняет
эту задачу, показывая, что существенные для
герменевтики и критической теории (не говоря уже о марксизме)
онтологические решения совпадают с
бхаскаровским вариантом реализма. Последний в отношении общественных
наук требует принятия следующих положе-иий: «общества несводимы к людям»,
«социальные формы являются необходимым условием любого интенционального акта»,
«их пред существование основывает их автономию как возможных объектов научного исследования и... их причиняющая
сила (causal power) основывает их реальность». «Это,
в свою очередь, влечет за собой
«трансформационную модель социальной активности»-общество есть и вездесущее условие (материальная причина) и непрерывно воспроизводимый результат человеческой
деятельности... Это, в свою очередь,
влечет за собой реляционную концепцию
предмета социальных наук, согласно которой практика действующих [людей]
совершается внутри совокупности структурно (и следовательно,
реляционно) определенных позиций»18.
Антинатурализм
герменевтики и критической теории, согласно Аутвейту,
— вопрос второстепенный, вытекающий из принятия неопозитивистского видения естественных наук,
видения, которое, что сегодня уже доказано, имеет немного общего с их
адекватным описанием. После отклонения
неопозитивистской точки зрения существование антинатурализма лишается
оснований.
Трансцендентальный
реализм, принимая результаты критики позитивистского
эмпиризма, лучше всего выражает результаты и намерения новейших
исследований науки: «Современные дебаты сосредоточиваются
вокруг более слабого утверждения о методологическом единстве науки в
том смысле, что методы естественных наук
могут быть, в общем, приложены к социальным наукам или, как формулирует
это Бхаскар, «что можно предложить такое понимание
науки, под которое бы подпадали собственные и более или менее
специфические методы как естественных, так и социальных наук». Натурализм в
этом смысле «не отрицает, что имеются значительные различия в этих методах,
основанные на реальных различиях их предметов и на тех отношениях, в каких
находятся к ним науки о них». Здесь утверждение состоит именно в том, что социально-научному
знанию может быть осмысленным образом дана
реалистическая интерпретация»19.
Подлинной
философией общественных наук («философией для общественных наук») оказывается,
следовательно, «умеренный натурализм» («qualified naturalism»). Это — трансцендентальный
реализм с тремя, предложенными Бхаскаром, «онтологическими ограничениями
возможного натурализма»:
1) социальные
структуры в отличие от природных структур не существуют независимо от видов
деятельности, которые они регулируют;
2) социальные
структуры в отличие от природных структур не существуют
независимо от понимания (conceptions) деятелями того, что они совершают, осуществляя свою деятельность;
3) социальные
структуры в отличие от природных структур могут быть лишь относительно
устойчивыми (так что тенденции, в основе которых они лежат, не могут быть
универсальными в том смысле, в каком
универсален пространственно-временной инвариант) 20.
Формирование принципов «умеренного натурализма» в качестве метатеории общественных наук, исследовательская
практика которых в действительности направляется «трансцендентальным реализмом,
позволяет далее Аутвейту установить то, что
«...мы имеем дело не с взаимно несоизмеримыми теоретическими
парадигмами, а0 с различием акцентов, с теоретическими, а не метатеоретическими
расхождениями в рамках одной широко разделяемой концепции на природу задач общественной теории — концепции,
которая субстанциально отлична от
позитивистской, имеющей ранее консенсус
мнений и в своем основании технически более тонко разработанной, чем
позитивистская»21. Это значит, что «мы являемся свидетелями появления определенной степени
согласия с социальной теорией и этот консенсус соответствует реалистической
теории науки и концепции умеренного натурализма социальных наук»22.
Эта концепция
образует ядро общественных наук. Она явно видна в них на современном уровне
развития, но может быть легко установлена и
в классической социологии, в трудах ее основоположников.
Аутвейт предпринимает попытку «оценить социологическую традицию с точки
зрения трансцендентального реализма»23.
Он пишет в книге: «Я сосредоточусь на Марксе, Дюркгейме, Максе Вебере и
Парсонсе, так как считаю, что именно они в дальнейшем
определили ключевые направления в социологии»24. Исходить следует из
положения, что «в общественных науках имеет значение последующее
очищение, суть которого в выделении первичных
элементов объяснения (explananda), предшествующих каким-либо научным описаниям,
которое должно выявить «повседневные» концептуализации, производимые людьми, участвующими
в общественной
жизни»25.
Руководствуясь
этими предпосылками «объяснения социологической теории», Аутвейт заявляет
далее: «Я буду наводить на мысль, что в значительной степени скрытая метатеория
Маркса является, по сути, реалистической,
метатеория Вебера лучше поддается описанию в терминах
конвенционалистских построений, в то время как позиция Дюркгейма оказывается
где-то посредине»26. А вот
результат проведенного разъяснения и оценки: 1. «Эти метатеоретические преимущества в большой степени
предопределяют силу общей теории общества Маркса». 2. «Неясная
комбинация реализма с эмпиризмом в позиции Дюркгейма... фактически вынуждает
его формулировать неубедительные и несвязные объяснения»27. 3.
«Намерения Вебера достаточно ясны и определенны. Он хочет сочетать субъективный
характер общественных наук или наук о культуре с объективными критериями оценки
их результатов... Но даже если мы готовы разделить оптимизм Вебера относительно
объективности результатов, то все же остается открытой проблема места понятий —
«идеальных типов», — которое колеблется между сферой результатов и сферой
ценностно определенных интересов. Вебер хотел бы рассматривать их исключительно
как инструменты, но не в состоянии это сделать последовательно, не впав в
некоторого рода эмпиризм»28». 4. «Содержательная концепция Парсонса,
основывающаяся на недоказанном положении о внутренне аналитическом характере
социологии, опирается, в свою очередь, на
позитивистское понимание отношения между наукой и ее предметом. Дух Дюркгейма присутствует в метатеории Парсонса равно
как и в его субстанциальной теории» 29.
Вывод очевиден. Правда, на протяжении всей книги Аутвейт подчеркивает и
особо акцентирует в заключении, что «...реализм вовсе не обязан льстиво
возводить существующие специальные науки в ранг вещественных социальных и
интеллектуальных форм в большей мере, чем конкретные теории и методы внутри
этих наук. Притязания реализма слабее, но нам важно, что онтологические
обязательства, будь то со стороны общих гносеологии или специальных научных теорий, неизбежны и должны рассматриваться
серьезно»30. Тем не менее несколько ранее он замечает, что, «однако,
философская метатеория часто имеет существенные последствия» 31. Рассмотрению этого
положения он посвятил целый раздел, обосновывая отношение между сознательным и
последовательным метатеоретическим
реализмом и познавательной плодотворностью некоторых социологических
теорий, где, между прочим, высказано
следующее мнение о творчестве Парсонса: «...итак, здесь мы имеем дело с
одним из примеров сложного и запутанного пути, по которому невинные на вид
метатеоретические установки о взаимоотношении науки и ее предмета отклоняют в
определенную сторону всю субстанциальную социологическую теорию» 32.
Но если это так, то уже здесь следует поставить вопрос: в какую сторону
отклоняет и куда ведет «умеренный натурализм» как разновидность
«трансцендентального реализма»? Несмотря на оговорку на последних страницах
книги, что «некоторые критики реалистской философии науки обвиняли ее в сходных
тоталитарных поползновениях, особенно когда эта философия порождает
натуралистические предписания для общественных наук» 33, мы находим в «Заключении» прямой ответ на поставленный нами вопрос.
«Ключевая тема реалистского натурализма — это смысл, придаваемый структурным
понятиям в общественных науках. В отличие от редукционистских форм
позитивистского натурализма, к которым
склонен прибегать бихевиоризм, реалистский натурализм подчеркивает
расслоение реальности в качестве общего метафизического принципа. В форме, отстаиваемой здесь, он принимает еще и
«герменевтический» принцип: понятия и теории общественных наук должны
иметь вещественную, реальную связь с теориями «действователей»,
действующих субъектов в жизненном мире. Тогда в центре нашей социальной
онтологии должно стоять оправдываемое здравым смыслом
представление о физически различных лицах, способных к независимому действию...
и далее, «социологические понятия можно плодотворно классифицировать, исходя из
видоизмененного различения Бхаскаром
эмпирического реализма, трансцендентального идеализма и
трансцендентального реализма. Эм-пиристы либо настаивают на редукционистском
анализе понятии типа общества или социальной
структуры, либо, по моде эмпирического
реализма, толкуют общество на базе биологических или системных аналогий как эмпирически данный, самостоятельно
существу-,ощий объект. Теории
трансцендентального идеализма, отвергая этот тип холизма, восстанавливают понятие общества как абстрактный
принцип общения, социации (Vergesellschaftung), реализуемый в действиях и восприятиях индивидов. Наконец, для трансцендентального
реализма «общество есть и вездесущее условие (материальная причина), и
непрерывно производимый результат человеческой деятельности»» (курсив
мой. —X. К.) 34. Первым тагом, который следует сделать для того, чтобы
выяснить противопоставление между «действием» и «структурой» или
«системой», «одно из наиболее
распространенных во всей традиции социального теоретизирования», является признание того, что Гидденс называет
«дуальностью структуры»: «Структуры... в принципе всегда можно изучать
на основе их структурации как ряда воспроизводимых практических обычаев» 35. Это, по мнению Аутвейта, есть «обещающая попытка заново переосмыслить в понятиях отношения между действием
и структурой в социальной жизни». Однако «было бы ошибкой прямо переходить от
метатеории к субстантивной, предметной теории, выдавая фальшивую
метатеоретическую гарантию для конкретной формы теории. Но в то же время
реалистская позиция явно повышает опасность в противопоставлении структуры и деятельности. Настаивая на реалистском
толковании теории, можно усилить искушение свести одну к другой».
Поскольку, с одной стороны, «сведение деятельности к структуре или деятелей к
«носителям» структурных свойств правильно отождествляли с центральной проблемой
в переформулировке марксизма Альтюс-сером...». Но, с другой, «противоположная
тенденция растворять структуры в действии и взаимодействии может показаться
более естественным следствием реалистской
позиции. Реализм в естественных науках часто опирался на предполагаемую
реальность сущностей, постулированных научными теориями, а не на истинность
самих теорий». Но в общественных науках «в самом ли деле мы хотим сказать
подобное о таких «сущностях», как протестантская
экономическая жизнь, «habitus» Бурдье, бессознательное Фрейда и т. д.»? Не следует ли в общественных науках
«говорить, вместе с Ромом Харре, о
социетальных символах?... Общество и институты внутри него не должны
восприниматься как независимо существующие реалии, о которых мы
порождаем символы. Скорее они сами —
символы, которые мы описываем при объяснении определенных проблемных
ситуаций»36. Аутвейт считает, что Харре прав, подчеркивая базисный статус индивидуальных общественных Действий и открытый, незаконченный характер теоретического
объяснения в общественных науках. «Но это не значит, что все ненаивные объяснения должны осуществляться на
основе конкретных действий или что в социальной сфере «все сойдет» за
процесс созидания символов». Дело в том, что «направить это обсуждение в Русло учения реализма о сущностях значило бы...
допустить ошибку неуместной конкретности. Ибо, согласно правильной и четкой формулировке Барри Хиндеса, «человеческие
индивидуальности могут и не быть
главными определяющими субъектами общественной жизни, но они —
единственные действователи, чьи действия не требуют действий других субъектов
постоянно». И поэтому «надо признать как факт, что структурные понятия вроде
«класса» — понятия «теоретические» и открытые для обсуждения Но из этого не
следует ничего особенного для подтверждения их «первичности» в объяснении» 37. Перед нами весьма впечатляющий вывод.
Давайте еще раз резюмируем позицию Аутвейта, используя сделанное им
«краткое обсуждение теории действия и методологического индивидуализма», которое «может помочь нам прояснить эти темы.
Основные усилия реалистской критики позитивистской и неокантианской метатеории направлены против их тенденции сводить
онтологию к гносеологии и обе, в конечном счете, к методологии... Однако...
раз мы правильно поняли категории онтологических отношений между действием и
структурой согласно линиям, намеченным гидденсовской концепцией «дуальности
структуры» и «трансформационной моделью социальной деятельности» Бхаскара, то
мы сможем увидеть проблемы редукции в теории действия
и методологическом индивидуализме в надлежащем свете, а именно как
методологические вопросы о целесообразных уровнях абстракции, осуществляемых в каждом отдельном случае практиками
исследовательского процесса». Правда, «данное онтологическое взаимоотношение
между структурой и действием не есть только дело методологии, но эти два
измерения — методология и онтология — могут и должны быть аналитически
разведены». Не следует забывать, что
«содержательные проблемы индивидуализма, противопоставляемого холизму, имеют чрезвычайно широкий разброс... но важно остановить эту тенденцию
смешивать методологию и философию». Речь идет о том, что «существенно
то, что общественные науки требуют
множественности методологических подходов не меньше, чем естественные.
О достоинствах этих подходов можно судить только по практике наук и по степени,
в какой они, на взгляд обществоведов и
публики, обогащают наше понимание социального мира» 38.
Если принять этот вывод, подытоживший представления «нового реализма» об общественных науках, как ответ на вопрос
о теоретических и методологических последствиях реализма для «современной социальной теории», то трудно сказать,
чем, собственно, он мог бы быть полезен в качестве «философии для науки»
в разработке самой «общественной теории».
Оставляя за
каждой теоретической точкой зрения свободу выбора онтологических установок и
адекватных им методологических постулатов,
утверждая, одновременно, что только реализм как метатеоретическая позиция создает возможность
рациональной дискуссии относительно них (конкурентные метатеории,
представленные конвенциализмом и
прагматизмом, такую дискуссию прекращают в силу деградации
онтологической проблематики и сведения ее к сфере безапелляционных предметных
дефиниций), Аутвеит запутывается в дебрях вопросов, экспликация которых, по моему мнению, может способствовать
уточнению теоретических целей реализма, а также открываемых им теоретических
возможностей.
Я думаю, прежде
всего следует решить, предопределяет ли метатеоретический выбор (хотя бы
совершаемый имплицитно) теоретический (и методологический) выбор или не
предопределяет и как следствие, зависит ли познавательная плодотворность теории
От метатеоретических предпосылок или не зависит? С этой проблещи
связан ряд основных вопросов, остающихся неясными и касающихся «реалистской исследовательской программы»
в социологии (или, шире, в
общественных науках, о которых позже). В целом трудно понять намерение
«реалистской теории науки», являющейся — как она сама себя определяет —
реконструкцией правил эмпирической научной практики, если она не хочет быть еще
одной «философией науки», предписывающей (как это делает широко понимаемый
позитивизм) науке образцы рационального поведения, и также она не хочет быть
еще одной занимающейся наукой философской концепцией, значимой лишь для самой
философии: ведь «реализм» хочет быть
«философией для науки». Трудно также
понять, чем может быть полезно науке (которую не собираются ни в чем
поучать) доставляемое «реалистской философией науки» сознание того, что она
поступает именно по правилам реализма.
Кому в таком
случае адресован аргумент, что «притязания реализма не в том, чтобы любая
конкретная наука в ее теперешнем виде
действительно отразила бы объективные структуры природной или социальной реальности, но просто в
том, что он осмысленно и
прагматически полезно полагает существование таких структур как возможных объектов
научного описания» 39. Чем отличается — хотя это вопрос иного уровня
рефлексии — охарактеризованная так
позиция от конвенционализма и прагматизма?
Складывается
впечатление, что настойчивая неоднозначность позиции автора «Новых философских
концепций социальных наук» в этих вопросах,
систематически проиллюстрированная выше многими и обширными цитатами,
не является просто следствием позиции
«золотой середины», которая неустойчива по самой своей природе. Я думаю,
что главная причина (мета) теоретического замешательства — отсутствие
последовательной концепции взаимосвязи онтологии с эпистемологией (и
методологией). Связь эту, однако, необходимо
последовательно продумать и сформулировать, если «новый реализм»
притязает быть серьезной альтернативой
традиционным метатеоретическим позициям.
До тех пор, пока
это не сделано, требование «нового реализма» "вновь переместить акцент с
теории познания на онтологию"40, по моему убеждению, не имеет
шансов на реализацию, а содержание «Новых философских концепциях социальных
наук» убедительных аргументов в пользу этого не доставляет. Более того, «новая
формула кантовского вопроса» в
виде: «Предполагая, что у нас есть
научные теории и что в целом они кажутся неплохо функциони рующими как
объяснение мира: каким должен быть мир, чтобы наука оказалась в нем возможной?»
— не является, в сущности признанием
приоритета за онтологическими вопросами, скорее напротив, является
(перефразируя Гидденса) подходом «вдвойне эпистемологическим», вдвойне ставящим
онтологические вопросу в зависимость от
эпистемологического контекста. Может ли «трансцендентальный реализм» в таком случае быть оппозицией по отношению
к «эмпирическому реализму», присущему (как утверждает Аутвейт вслед за
Бхаскаром) как «классическому эмпиризму»,
так и «трансцендентальному идеализму», то есть двум основным глобальным метатеоретическим ориентациям
традиционной философии науки, для которых общей является «редукция онтологии к эпистемологии», вопросов о бытии к
вопросам о нашем познании бытия, следствием чего оказывается
использование ими «онтологии эмпирического
мира»? Однако находится ли в лучшей ситуации
«трансцендентальный реализм» (в варианте, представленном в книге У.
Аутвейта), обвиняющий «эмпирический реализм» в
применении скрытой, а следовательно, нерефлексивной и некритической онтологии, а значит, и использующий
догматические пред-рассудки (и предубеждения) о природе мира? Разве,
ставя «перевернутый» кантовский вопрос,
трансцендентальный реализм не таит внутри себя скрытых, а значит,
догматических эпистемологи-ческих
предпосылок, являющихся онтологическими пред-рассуд-ками (пред-убеждениями) об: а) природе науки и б)
ее познавательных возможностях, «пред-рассудками» (пред-убеждениями), в
зависимость от которых попадает как разумность (обоснованность), так и содержание ответа на поставленный
онтологический «вопрос о мире»? Эта
трудность особенно ясно проявляется при рассмотрении общественных наук.
Можно ли в этом случае говорить, что «у нас созданы научные теории, которые,
как кажется, неплохо функционируют как объяснение мира»41? Сам Аутвейт в первой фразе «Введения»
утверждает и прямо обратное: «Общественные науки...
переживают драматические изменения в течение последних двадцати лет, изменения, затронувшие понимание
собственной природы общественных наук и их методов». Несколько ниже он усиливает это утверждение: «Эта ситуация отражает
распространенное среди социологов и
представителей других общественных наук ощущение, что общественная
теория требует радикального переосмысления»
42. Что в этом случае служит основанием исходной
постановки вопроса: «Какие свойства обществ могли бы сделать их для нас
возможными объектами познания» 43?
Что нужно уже знать для того, чтобы поставить вопрос в данной форме?
Проблема
удвоения эпистемологической
зависимости в предлагаемом варианте
реализма полностью сохраняет
свою силъ даже если
не принимать во
внимание сомнение относительн действительных познавательных
успехов общественных наук, есть принять положение автора, что
"драматические изменения" требующие «радикального переосмысления»
общественной теории, «ясе подошли к завершению; уже «мы являемся свидетелями
появления определенной степени согласия в социальной теории», которое
«соответствует реалистической теории науки и концепции умеренного
натурализма».
Отсутствие
восприимчивости «трансцендентального реализма» к скрытой «двойной» (или
«удвоенной») «эпистемологичности» является, возможно, наиболее опасным именно в
«философии Общественных наук», поскольку не позволяет заметить теоретические
ловушки, поставленные (если парафразировать высказывания дутвейта)
«патологическим страхом перед эпистемологией», который заставляет видеть
только «голую онтологию». Удвоение эписте-мологической зависимости отчетливо
дает о себе знать в приведенном рассмотрении «эволюции социологической
традиции» с точки зрения «умеренно натуралистической концепции общественных наук».
Аутвейт доказывает, что разногласие с трансцендентальным реализмом в
социологических теориях влечет теоретическую непоследовательность; пустые
места, возникающие вследствие непоследовательного метатеоретического реализма,
имплицитно заполняются эмпиризмом, который как метатеоретическая позиция
является самодеструктивным.
Соглашаясь с
оценкой эмпиризма, трудно все же не выразить удивления, что в эмпиризме
остается незамеченной концепция, столь же эпистемологическая, сколь и
онтологическая, особенно если учесть, что онтологической самодеструкции
эмпиризм подвергается вследствие невозможности выполнения им собственных
методологических требований, предъявляемых его собственной эпистемологией. Это
становится еще более загадочным, если заметить, что в своей критике социологической
традиции Аутвейт употребляет в основном методологическую терминологию (методологию,
глубоко понятую, конечно, как тождественную, в сущности, эпистемологии, которая
в свою очередь является парафразой онтологических убеждений). Я думаю, что
причину констатируемой Аутвейтом неэффективности «традиционного взгляда в
философии общественных наук» и модели научного познания в общественных науках,
пропагандируемой «ортодоксами охватывающего закона», следует искать в
разделении трех предполагающих и обосновывающих друг друга аспектов
теоретизирования — онтологического, эпистемологического и методологического; в
признании за одним из них приоритета при одновременном пренебрежении к развитию
остальных.
И если, как
считает Аутвейт, наиболее перспективным для общественных наук и прежде всего
для социологии является точка зрения Хабермаса, то, возможно, именно потому,
что Хабермас сознательно пытается это единство онтологии, эпистемологии и методологии
сохранить. (Иное дело, удается ли ему это; концепция Хабермаса, однако, еще не
завершена, и я думаю, что его поиски новой формы рациональности есть не что
иное, как непрерывные попытки найти адекватное средство для выражения
социальной реальности.) Если «умеренно
натуралистическая концепция общественных наук», «новый реализм»
стремится стать исключительно онтологической метатеорией, абстрагирующейся от
эпистемолого-методологического уровня установок, то трудно предсказать успех
этому варианту реализма в конкуренции с конвенционализмом и прагматизмом, ибо
основные онтологические проблемы остаются нерешенными. (В случае
конвенционализма и прагматизма причиной этого является отказ от поиска
решений, для нахождения которых нет
адекватных познавательных средств. Эта нехватка считается непреодолимой. В предложенном варианте реализма причиной
этого является отказ от поиска адекватных познавательных средств, могущих создать возможность решения проблем, попытка
которого квалифицируется как необоснованная претензия слишком- эпистемологизированной философии Нового времени.) Какой,
например, онтологический статус следует приписать, согласно «умеренному
реализму», «социетальным символам» в принятом Аутвеитом понимании Харре?
Являются ли «социетальные символы»
«транзитивными» или же «нетранзитивными» объектами науки? Имеет ли вообще шансы сторонник
«трансцендентального реализма», которого учат, что нельзя «смешивать
философию с методологией», найти неслучайный ответ на вопрос о статусе онтологического
соотношения между индивидом и общественной совокупностью? Когда на
заявление конвенционалиста (в большей или меньшей степени) Р. Харре, о том, что
«в социальных науках факты, на том уровне, на котором мы их постигаем на
опыте, суть всецело порождение теоретизирования, интерпретирования.
Реалисты в социальных науках полагают, и я склонен разделять их мнение, что в поведении людей в группах имеются
всеобщие образцы, хотя, как я доказал, у нас нет адекватного индуктивного
метода, чтобы их обнаружить» 44
(курсив мой.—X. К.), Аутвейт отвечает, что «целая серия технических приемов, разработанных в
теории организации социальной психологии»,
нацелена именно на «эксплици-рование
реляционного качества», «в коем индивид пребывает соотносительно с
коллективами, членом которых он является», и добавляет, что рассуждения Харре
«постоянно направлены на различение
эмпирически ориентированной этногенетической социальной психологии и
неизбежно спекулятивной социологии. Но основания подобного различения остаются
неясными» 45 (курсив мой.—X. К.),—тогда наш сторонник реализма впадает в познавательный диссонанс. Трудно понять, имеем ли мы
здесь дело с одобрением эмпиризма в форме «эмпирического реализма»,
впрочем, уже много раз отклоненного
Аутвеитом как неэффективного и самодеструктивного. Каков онтологический (и
эпистемологический) статус реляционного качества, определяющего
отношение индивида к коллективам? В чем заключается специфика «нового реализма»
в понимании центральной для социологии
проблемы «отношения между действием
и структурой», если в одном месте он пишет, что «нам не надо пугаться теоретической
абстракции, так как в рамках этой схемы
«следующие из наблюдения» утверждения не имеют никакого особого преимущества» 46, а в другом
месте он утверждает, что для обнаружения «реляционного качества» служат
приемы, которые, судя по контексту, использованы как применение индуктивного
метода? Неужели «новый реализм» открыл возможность индуктивного построения теоретических абстракций без использования суждений, «следующих из наблюдения»?
Неужели отказ От серьезного рассмотрения проблемы индукции, которая
есть онтологически-эпистемологически-методологическая
проблема отношения действительности к знанию о ней, призван обеспечить «новому реализму» возможность удержаться в
«золотой середине» между эмпирией и
спекуляцией? Вряд ли это стратегически результативный ход мысли.
Если «первым
принципом» «нового реализма» выступает положение:
«Сущности не должны умножаться без необходимости, но и не должны
исключаться только потому, что они ненаблюдаемы»47,
то разве возможно применять индуктивные
методы к «реальности», которая «не поддается наблюдению» и не является «множеством»? Но, в свою очередь, если
«реалистское понимание объяснения предполагает постулирование
объяснительных механизмов и попытку продемонстрировать их существование» 48,
что можно сделать: а) положительно, постулировав возможный механизм и используя свидетельства в пользу или
против его действительного наличия; б) отрицательно, элиминировав возможные
альтернативы49,— то, безусловно, без «теории индукции, являющейся
проклятьем философии» (Уайтхед), обойтись нельзя. Ведь сущностью
экспериментальной демонстрации является принципиальная повторяемость
замеченного (сенсорно уловленного) явления. Старая юмовская проблема индукции
также не решена и «новым реализмом». (На мой взгляд, следует также понимать, что элиминирование «возможных альтернатив»
происходит после их предварительной фальсификации экспериментальным
образом.) Как согласовать «реалистическое понимание объяснения» с оценкой роли эксперимента, данной в другом месте
книги: «Экспериментирование имеет смысл, только если экспериментатор
создает секвенцию событий, но не сам закон
причинности, который стремится открыть. Поскольку явления случаются
лишь в открытых системах, то их постоянное
самопоявление, предполагаемое эмпиристски-причинным объяснением,
возможно только как результат изолирования
эксперимента...»50 В противоположность эмпиризму «»умеренный
натурализм» утверждает, что: 1. Закон независим от эмпирической регулярности
(последняя не является ни необходимым, ни достаточным условием установления
закона). 2. Закон ни подтверждается, ни отрицается появлением эмпирической
регулярности» 51
Поскольку
относительно причинного объяснения в общественных науках Аутвейт замечает, что
«ввиду открытого характера общественных
систем» «для практических целей мы можем в социальной науке забыть о
замкнутости»52, то можно было бы предполагать, что вопрос о ценности
эксперимента для объяснения в общественных науках временно (по крайней мере)
отстранен. Тем не менее я настаиваю, что
такой вывод не согласуется с реалистической моделью объяснения,
предложенной Аутвейтом. Можно ли утверждать, что в предлагаемой модели
объяснения речь идет о каком-то не эмпирическом и не индуктивном способе собирания свидетельств за или против,
постулируемого для объяснения общественных явлений механизма?
Не умножая более
примеров, я считаю, что «новому реализму» предстоит
еще проделать большую работу. Главная задача, стоящая перед ним, на мой
взгляд, заключается в том, чтобы выработать последовательную
метатеоретическую позицию, связывающую три основные аспекта
теоретизирования — онтологию, гносеологию и методологию.
Представленный в книге У. Аутвейта «новый реализм» недостаточно нов,
чтобы помочь в выполнении этой задачи. Он содержит
в себе все неразрешимые проблемы старой эпистемологи-ческой перспективы,
навязанной новой философии и современной науке дуалистической картезианской
метафизикой. Созданная созерцательной
эпистемологией научная рациональность является формой, не достаточной
для общественных наук, и особенно для социологии. Все четче указывают на это
появляющиеся «альтернативные» теории
рациональности (прежде всего, «критическая теория»), но они еще слишком слабы и
зависимы от созерцательной концепции
познания, чтобы стать плодотворной альтернативой. Пока же мы вновь и вновь
вынуждены вращаться в одном и том же круге неопреодолимых на почве
созерцательной метафизики проблем общественного познания.
- Outhwaite W. New Philosophies
of Social Sciense. Realism. Hermeneutics and Critical Theory. L.:
Macmillan Ed. 1987. P. 137.
- OuthwaiteW. Understanding
Social Life. Lewes Jean Stround. 1986.
- OuthwaiteW. Concept Formation
in Social Science. London: Routledge and Kegan Paul. 1983.
- Наст.изд.С. 168.
- OuthwaiteW. New
Philosophies... P. 4.
- BhaskarR. A Realist Theory of
Sience. Leeds: Leeds Books. 1975.
- OuthwaiteW. New
Philosophies... P. 20.
- Ibid. P. 32.
- Ibid. P. 33.
- Ibid.
- Ibid.
- Ibid.
- Ibid. P. 39.
- Там же. С. 157.
- Там же. С. 156.
- Там же.
- Ibid. Р. 24.
- Там же. С. 146.
- Там же.
- Там же. С. 148.
- Ibid. Р. 93—94.
- Ibid. P. 94.
- Ibid.
- Ibid.
- Ibid. P. 95.
- Ibid.
- Ibid. P. 98—100.
- Ibid. P. 103—104.
- Ibid. P. 106.
- Там же. С. 168.
- Там же. С. 166.
- Ibid. P. 106.
- Там же. С. 167—168.
- Там же. С. 159—160.
- Там же. С. 161.
- Там же. С. 161 — 162.
- Там же. С. 163—165.
- Там же. С. 163, 164, 166.
- Там же. С. 168.
- Ibid. P. 18.
- Ibid. P. 1.
- Ibid. P. 3.
- Там же. С. 146.
- Там же. С. 148.
- Там же.
- Там же. С. 153.
- Там же.
- Там же. С. 142.
- Там же. С. 153.
- Ibid. P. 31.
- Ibid.
- Там
же. С. 153.
Уильям Аутвейт.
ОТВЕТ ХЕЛЕНЕ КОЗАКЕВИЧ*
* © William О u t h w a i t e. 186
Я благодарен
Хелене Козакевич за чрезвычайно внимательный разбор моей книги. «Вращаюсь ли я
в одном и том же круге... проблем» в процессе ее написания — предоставляю
судить читателям. Здесь же я намерен сосредоточиться на глубинных основаниях
моего подхода к этим проблемам.
Козакевич,
возможно, права, обвиняя меня в известной двусмысленности практических выводов
из философии реализма и философских метатеорий вообще. Причиной тому — важный
вопрос, который определенно не сводится к простой беззаботности или неточности
с моей стороны. Тут замешан, я думаю, никак не меньше чем вопрос о соотношении,
которое должно бы существовать между философией и другими науками. Хотя я
выступал с этой темой в статье, посланной в Мрагово и печатаемой где-то в этом
ежегоднике, может быть, полезно дать здесь некоторые дополнительные акценты.
На самом общем
уровне отношение философии к другим наукам лучше всего схвачено в локковском
образе «подсобника», «занятого ...неторопливой расчисткой почвы и уборкой сора
на пути к знанию». Временами философия может играть и более творческую,
«майевтическую» роль в прояснении понятий, способствующем научному
продвижению. Однако мы должны оставаться очень подозрительными к любым
философским попыткам издавать законы для науки, средствами философской
аргументации предписывающие природе, на что она должна быть похожа или как ее
надо изучать. Гегелевы дедукции насчет солнечной системы — хорошо известный
пример, и в стране, которая превратила спекулятивную «Философию природы»
Энгельса в Диамат, этот пункт не нуждается в дальнейшем разъяснении.
Некоторые
критики предположили, что «реализм» Бхаскара навлекает сходные опасности. Алан
Чалмерс ([3], 19) формулирует эти опасения очень четко: «Вообразим, что
средневековый ученый, работающий в рамках одной из версий аристотелевской
теории, задался бхаскаровским вопросом: каков должен быть мир, чтобы наука была
возможна?— и попытался ответить на него бхаскаровским же путем. Я считаю
наиболее правдоподобной частью ответа нечто вроде: мир должен быть конечным,
гармоничным целым, имеющим центр... Практические процедуры, которые Бхаскар правильно
признаёт важными компонентами современной науки, могут быть превзойдены более
успешными процедурами. В таком случае будущий историк мог бы согласиться, что
Бхаскар верно определил мировоззрение, подразумеваемое наукой его дней, но с
одной оговоркой: оно ограниченно пригодно и неадекватно оснащено для
познавательной схватки с миром, как он есть в действительности».
Однако мне ясно,
что Бхаскар не имеет намерения стать законодателем для науки: скорее уж его
цель — развить философию, которая «широко совместима с самостоятельными
содержаниями отдельных наук» ([2], 183). Или, как он говорил немного раньше
([1]» 98—99): «Создавая возможность философского рассуждения, зависимого от
исторической актуальности тех или иных видов социальной практики, типа науки,
трансцендентальный реализм показывает путь интеграции философских,
социологических и исторических исследований этой практики. В частности здесь не
возникает ни противостояния, ни споров об однонаправленной редукции между
философией и наукой (таких, как в позитивистских или сци-ентистских миражах).
Скорее, они взаимопроницаемы и восприимчивы друг к другу».
Это все, что
касается общей ситуации. Чалмерс и другие, без сомнения, вправе требовать
больше желания подробно обосновать связи между реализмом вообще и
теоретизированием (к примеру, построением моделей) в конкретных науках вроде
физики (см.: [6]). На микроуровне это значит, я думаю, что следует избегать
идеи, будто не может быть никакой серьезной науки, пока не обеспечены ее
трансцендентальные основания. Из истории науки, по-видимому, ясно, что ученые
чаще всего действовали, если вспомнить знаменитое различение Башляра, с
некоторого рода стихийным и неявным («дневным») реализмом, но наяву они могли
также предаваться всевозможным причудливым («ночным») изыскам в философии.
Я думаю, можно
бы подробно показать, что в целом реалистские предпосылки нацелены поощрять
научное продвижение, а конвенционалистские или другие антиреалистские допущения
мешают ему; но на любую такую общую тенденцию определенно нашлись бы
многочисленные контрпримеры, подобно тому, как иные ложные убеждения часто
оказывались благотворными при особом стечении обстоятельств в развитии науки. Я
не вижу ничего противоречивого в признании, что конкретные философские убеждения
могут иногда быть эвристически полезными, а в другое время практически
бесполезными. Противоречивость существует в реальности, а не просто в наших
описаниях ее.
Козакевич,
подобно другим критикам, подозревает, будто трансцендентальный или критический
реализм виновен в некритическом принятии предрассудков о природе науки и ее
познавательных возможностях (см. с. 180). И опять же, может быть, верно, что конкретные формулировки реализма не
сбалансированы, т. к. уделяют слишком много внимания некоторым наукам и
областям науки. Это определенно так в случае с пристрастием Бхаскара к
экспериментальной науке в контексте специфической аргументации в «Реалистской
теории науки». По мере развития науки разумно ожидать, что будут изменяться не
только примеры, но и акценты внутри метатеоретических описаний. (Составляет или
нет квантовая теория угрозу реализму, либо пусть даже ограничение на область
его утверждений? Ясно по меньшей мере, что она влияла и будет продолжать влиять
на общий научный контекст, с которым соотносится реалистская и любая другая
метатеория (ср.: [4].) Но на самом общем уровне, мне кажется, реалистская
философия науки и для науки обязательно ее сторонница, признающая неопровержимые
(по крайней мере, с наших сегодняшних позиций) познавательные достижения, хотя,
конечно, не подписывающаяся под всеми ее интеллектуальными увлечениями и
социальными последствиями.
В случае
общественных наук я согласен с Козакевич относительно важности выхода за
пределы эпистемологической установки, которую она называет созерцательной, а я
склонен назвать сциентистской. Но несмотря на критику реализма со стороны «критической
теории» и других взглядов, мне все еще кажется, что онтологический реализм,
чувствительный к различиям в составе разных родов природных и социальных
объектов, предлагает полезную (выражаясь очень слабо) основу и естественным, и
общественным наукам. Проблемы установления объекта явно очень различны в этих
двух областях науки ([5], гл. 3), но не настолько, чтобы ниспровергнуть подход,
который натуралистичен в обоих смыслах этого термина: в трактовке науки вообще
как естественной деятельности, качественно развивающей родовые способности
человечества; и в толковании общественных наук как занятых одним делом с естественными
— определением и объяснением структур и механизмов действительности.
1. BhaskarR. Scientific realism and human
emancipation. L., 1986.
2. BhaskarR. Reclaiming reality. L., 1989.
3. С h aimers A. Is Bhaskar's realism
realistic?//Radical Philosophy. 1988.
No. 49.
4. H a r r ё R. Varieties of realism. Oxford, 1986.
5.
OuthwaiteW. Concept formation in social science. L., 1983.
6. О u t w a i t e W. Die Ontologien
des transzendentalen Realismus.—Ethik und Sozialwissenschaften. 1990.
Дирк Беккер.
В ОБЩЕСТВЕ — ОБ ОБЩЕСТВЕ*
* Dirk В а е с k е г.
Александр
Филиппов попросил меня сопроводить статью Никласа Лумана «Тавтология и парадокс
в самоописаниях современного общества» некоторыми разъяснениями, которые
облегчат чтение текста читателю, незнакомому со структурами и семантиками
западного общества, имеющими место в этой статье. Я охотно удовлетворяю эту
просьбу и сконцентрируюсь на четырех моментах: лежащей в основании теории
общества, вопросе самоописания общества, теории отличия и кибернетике второго
порядка.
1) Никлас Луман
работает над теорией общества, в которой задействованы многие теоретические
ресурсы, частью — социологические, а частью — междисциплинарные. Исходным
пунктом теории общества является теория социальных систем, которая рассматривает
общество как охватывающую все остальные социальные реальности и операционально
замкнутую социальную систему. Эта система на основе коммуникации вычленяется из
своего окружающего мира и отличается от всего, что не является коммуникацией,
например, от жизни, природы, сознания. Общество понимается как универсальная
социальная система, ибо все, что происходит в мире, может быть различено
сообразно тому, является ли оно коммуникацией или нет. Общество не мыслится как
тотальная (или даже тоталитарная) система, ибо оно обязано своим единством не
целому, которое делает все остальное своими частями, но воспроизводству
системы, которая вычленяет себя из своего окружающего мира. Оно обязано своим
единством не тождеству (целого), но отличию (от окружающего мира).
Центральным
понятием социологии Лумана является понятие «невероятности коммуникации». При
помощи этого понятия все, что кажется наблюдателю, уже вжившемуся в общество,
само собой разумеющимся, представляется в качестве решения некоторой проблемы,
которую еще только предстоит найти и описать социологу. Теория посредников
коммуникации, теория эволюции и теория социальной дифференциации предлагают
(каждая — иную) технику анализа, с помощью которой социолог может исследовать
то, как общество разрабатывает возникающие с увеличением его сложности
социальные, временные и предметные проблемы. В связи с данной статьей особое
значение имеет теория социальной дифференциации. Луман различает по типу
дифференциации три формы общества: сегментарное общество примитивных, архаических
народов; стратифицированное общество высоких культур и современное
функционально дифференцированное общество.
Функционально
дифференцированное общество — это достижение, принадлежащее современному
обществу, которое возникало в Европе в период позднего средневековья вплоть до
XVIII в Изначальной, хотя и не единственной формой дифференциации этого
общества является уже не образование равных между собой единиц (семей, родов)
или различение неравных и иерархически упорядоченных слоев (крестьян, горожан,
благородного сословия), но различение таких функциональных систем, как
хозяйство, политика, воспитание, религия и искусство, каждая из которых в ходе
дифференциации достигла автономного вычленения и может выполнять свои функции
лишь при условии, что и все другие системы выполняют свои. Функционально
дифференцированное общество отказывается от избыточности такого рода, когда
каждая отдельная общественная единица выполняла бы задачи, которые способны
выполнить и все остальные; вместо этого оно делает ставку на специализацию и
генерализацию результатов функционирования все более сложных и все более
рискованных функциональных систем. Функционально дифференцированное общество
отказывается также от неравенства как упорядочивающего принципа, который в
общественной иерархии представлял порядок целого, а вместо этого они развивают
структуры поликонтекстураль-ного общества, в котором нет ни центра, ни
верхушки, где общество еще раз могло бы выступить как общество и быть
репрезентировано в качестве такового. Проблема самоописания общества ставится
в таком виде, как ее описывает Луман, лишь в функционально дифференцированном
обществе: иначе говоря, лишь там, где больше нет такого места, в котором целое
могло бы репрезентироваться как целое.
2) Непривычным,
однако, является прежде всего представление о том, что общество само себя
описывает. Фактически это представление — следствие понятия общества как
охватывающей социальной системы. Как только в этом обществе совершаются коммуникации,
которые делают темой само общество, происходят две вещи: общество воспроизводит
себя, ибо ведется коммуникация, и общество описывает себя, ибо оно
коммуницирует о себе. Эта возможность самоописания предполагает возможность
самонаблюдения, а она опять-таки является результатом самореференции
социальных систем, то есть возможности коммуницировать о коммуникации.
Самоописание
общества наталкивается в функционально дифференцированном обществе на две
решающие проблемы. Во-первых, как уже говорилось, нет такого места, с которого
репрезентативным или даже определяющим для всех остальных частей общества
образом могло бы описываться, что есть или же не есть общество.
Нет центрального
наблюдателя, к чьим описаниям могли бы подключиться все остальные. Вместо
этого имеется множество наблюдателей, которые толкуют общество каждый
по-своему, так что имеется самоописание общества под углом зрения хозяйства,
искусства, любви, политики, под углом зрения воспитания и т. д. В силу причин,
лишь весьма недостаточно вскрытых критикой идеологии, всякая функциональная
система склоняется к тому, чтобы считать собственное описание общества самым
естественным, полагать себя вследствие этого «обществом в целом» и, если
возможно, настаивать на снятии дифференциации между собой и другими
функциональными системами.
Во-вторых,
непостижимо, чем же является единство общества по ту сторону дифференциации
между функциональными системами. Когда описывают (кто описывает?) общество,
сталкиваются с различиями, а именно с различиями между функциональными системами,
между индивидом и коллективом, между прошлым и будущим, а также между
различными ценностями. Нет принципа единства, сообщающего всему иному порядок.
Идея о том, что общество состоит из коммуникаций и только из коммуникаций,
освобождает от этой дилеммы лишь той ценой, что позволяет и заставляет точнее
сформулировать ее.
3) По меньшей
мере со времен Гегеля нет более привычной для теории общества мысли, чем мысль
о том, что следует исходить не из тождества, но из различий, чтобы описать,
что есть общество и что оно не есть. Различие государства и общества (как
хозяйства) и различие индивида и коллектива Луман называет двумя крупными и
конкурирующими друг с другом различиями, которые организуют теории общества XIX
века, и их влияние сказывается по сегодняшний день. Но если попытаться выйти за
рамки такого положения дел, а не просто противопоставлять одно различие
другому, то в этом случае нужно уточнить, что, собственно, означает: строить
описание (и следующую отсюда теорию), основываясь на различии.
В отличие от
диалектикики XIX века, систематически оставлявшей открытым вопрос, находится
ли основание различия в предмете или в познании, а потому способной считать,
будто переход от антитезы к синтезу означает уже, что и в самом предмете
создано единство,— теория различия, разработанная в прошедшие десятилетия,
делает более радикальный теоретико-познавательный выбор. На основе исчисления
различений (distinction) Джорджа Спенсера Брауна («Laws of form». London, 1969)
различения (Unterscheidungen) понимаются исключительно как различения
наблюдателя. «Все, что говорится, говорится неким наблюдателем»,— формулирует,
например, Хумберто Матурана. В реальности различению, проводимому
наблюдателем, не соответствует ни утверждение, ни отрицание различения, но
только то, что различение вообще может быть проведено.
Но отсюда отнюдь
не следует, что наблюдателя можно уличить в нереальности его различений. Ибо
какой же наблюдатель и по какому праву может утверждать, что его различения
более реалистичны? Отсюда следует, однако, что можно попытаться наблюдать
наблюдателя в отношении того, какие различения он использует чтобы иметь
возможность наблюдать то, что он наблюдает. Например, можно наблюдать
наблюдателя в отношении единства различения, которое он использует. При этом
под «единством различения» не понимается, скажем, примиряющий синтез противоположностей
того, что различается в различении. Такое представление о сведении теории или
практики к увенчивающемуся окончательным единением единству полностью
отвергается. Напротив, под «единством различения» понимается само различение —
в отличие от того, что оно позволяет различать.
В основе этого
лежит представление о том, что наблюдатель никогда не способен одновременно и
наблюдать то различение, которое он использует, чтобы (в отличие от иного)
различать и обозначать нечто. Всякое различение может наблюдаться лишь при помощи
иного, следующего различения. Наблюдать наблюдателя в отношении единства
различения, которое он использует, значит наблюдать его самого так, как он сам
себя наблюдать не может. Ибо лишь таким образом возможно увидеть, что он видит
и чего не видит при помощи своего различения.
Описание Луманом
самоописаний общества есть не что иное, как такое наблюдение наблюдателей, и
потому он вносит дальнейший вклад в проблему самоописания общества. Задаваясь
вопросом, в чем состоит единство различений, которые может использовать
общество (как коммуникация), чтобы описывать самого себя, исследователь в конечном
счете наталкивается на тавтологию и парадокс: общество есть то, что оно есть, и
оно есть то, что оно не есть. Эта тавтология и этот парадокс суть неизбежные
результаты всякого приложения различения к самому себе. Поскольку, пока мы
коммуницируем, мы не можем наблюдать общество извне — мы привязаны к этой
самореференции различений и можем только предпринять более или менее искусные и
обладающие большей или меньшей подсоединительной способностью попытки
развернуть самореференцию, то есть детавтологизировать и
депарадоксализи-ровать различения, с которыми мы работаем.
4) Разработанная
Гейнцем фон Ферстером («Observing Systems». Seaside. Cal., 1982) кибернетика
второго порядка в настоящее время является самой впечатляющей попыткой
просветить наблюдателя насчет того, что он не видит, что он не видит. Эта
попытка впечатляет прежде всего потому, что со своей стороны наблюдатель не
занимает никакой позиции, с которой можно было бы просвещать всех других
относительно того, что они видят и что они не видят. Ибо со всяким наблюдателем
дело обстоит одинаково. Каждый может стать объектом наблюдения другого в
отношении того, что он не видит, что он не видит. Для Никласа Лумана
невозмутимость, которую можно извлечь исходя из такой теоретической установки,
важна в той же мере, в какой и ирония, с которой можно встретить любые
притязания на авторитет. Ибо ирония, как однажды сказал Вальтер Беньямин, есть
искусство знать нечто лучше, пребывая в не-знании, а именно, лучше по крайней
idepe знать то, что и другой есть лишь наблюдатель, который не видит, что он не
видит.
Самоописание
общества, которое работает с таким представлением о кибернетике второго
порядка, то есть с теорией наблюдающих, а не только наблюдаемых (извне)
систем, понимает общество как гетерархическую сеть наблюдателей, взаимно
наблюдающих друг друга в отношении того, что они наблюдают и что они не
наблюдают. И хозяйство, и политика, и искусство и даже наука суть такие
наблюдатели, которые в ходе дифференциации вычленились как социальные системы
на основе специфических различений, с помощью которых они обеспечивают себя
необходимой информацией. Конечно, чем более автономно эти системы могут
воспроизводить себя по своим собственным стандартам, тем более надежно они
заняты самонг блюдением и, при разрешении своих собственных проблем,—
созданием предпосылок к тому, чтобы все остальные системы могли сами
позаботиться о себе.
Лишь социальные
движения открыли, что успех функциональных систем приходит вместе с
непредвиденными экологическими опасностями. Это — вызов функциональным
системам. Он состоит в том, что они должны учесть экологический риск и включить
в свое самонаблюдение и самоописание то, что они его учитывают. Учет риска
должен быть встроен в их операции (коммуникации). Более чем сомнительно, чтобы
общество было в состоянии им помочь в этом. Несомненно, однако, что
экологический вопрос производит одно из тех прерываний самореференции,
относительно которых Луман предполагает, что без них невозможна
детавтологизация и депарадоксализация самоописаний общества.
Раздел II. НА ПУТИ К ЛОГОСУ
Рой Бхаскар. ОБЩЕСТВА*
Введение
Какие свойства
обществ могли бы сделать их для нас возможными
объектами познания? Стратегия моего ответа на этот вопрос основана на
двойном движении мысли. Сперва я сосредоточусь на онтологическом вопросе о
свойствах, которыми обладают общества,
прежде чем перейти к эпистемологической проблеме, как эти свойства
делают их возможными объектами познания для нас. Это не произвольная последовательность. Она отражает то обстоятельство,
что для трансцендентального реализма именно природа объектов определяет для нас
возможности их познания, что в мироздании человечество, так сказать,
контингентно**, а познание акцидентно... 1
*©
Roy В h a s k a r. Societies (ch.
2). Introduction. P. 25; Against Individualism. 27; On the society/person
connection 31; Some emergent properties of social systems. P. ‘—44 // The
Possibility of Naturalism. 2nd ed. Текст печатается с сокращениями. N. Y.;
L.: Harvester Wheatsheaf, 1989.
** От «контингенция» — возможная
зависимость или сопряженность элементов, признаков, событий при случайных или
неопределенных условиях, при отсутствии строгой
детерминации выбора и
т. п.; «акциденция» — вторичная, производная случайность или вторичный,
несущественный признак, противопоставляемый основному качественному признаку (атрибуту).
— Прим. перев.
Далее я покажу,
что общества несводимы к людям, обрисую модель
общества и человека. Мы убедимся, что социальные формы являются необходимым условием любого интенционального
(целенаправленного) акта, что их пред существование полагает их автономию
как возможных объектов научного исследования и что их причиняющая способность заставляет признать их реальность. Мы увидим,
что
предсуществование социальных форм влечет за собой преобразовательную (трансформационную) модель
социальной Деятельности,
из которой можно непосредственно вывести ряд онтологических ограничений на любой возможный вид
натурализма..)
Развиваемая здесь преобразовательная модель социальной деятельности, как мы увидим, требует реляционной концепции
предмета общественных наук. Согласно этой концепции, «общество не состоит из индивидов [или, могли бы мы добавить,
групп], а выражает сумму тех связей и отношений, в которых эти индивиды
[и группы] находятся друг к
другу» 2. И тогда
станет ясно, что главное движение в научной теории — это движение от явных проявлений общественной жизни, понятийно выраженных в опыте
участвующих в ней социальных субъектов, к тем существенным отношениям,
которые делают необходимыми эти проявления. Такие отношения субъекты могут
сознавать или не сознавать. И как раз благодаря способности общественной науки прояснять такие отношения, она, возможно, начнет играть «освободительную» роль. Но
освободительный потенциал
общественной науки целиком зависит и является следствием ее контекстуальной объяснительной способности.
В то время как очень немногие люди (по крайней мере вне круга профессиональных философов) в наши дни стали
бы защищать тезис, что, например,
магнитное поле — это только мысленная конструкция, — такой взгляд на
общество остается широко распространенным.
Конечно, в случае общества подобный взгляд склонен опираться на идею, что оно образовано (тем или иным путем) мыслью социальных деятелей или участников
событий, а не, как в случае
магнитного поля, мыслью наблюдателей или теоретиков (или, переходя на более утонченный уровень рассуждений,
общество — это некое отношение типа
шюцевской «адекватности»3, сформированное, возможно,
каким-то процессом диалога или переговоров между
двумя субъектами). В основе такого подхода чаще всего лежит мысль (никоим
образом логически не необходимая для него4), что общество попросту состоит (в некотором смысле)
из лиц и их действий вкупе или по отдельности. Сторонникам этих взглядов
редко приходит в голову, что такая же
мысленная цепь логически подразумевает их собственную сводимость (через законы
и принципы нейрофизиологии) к
положению неодушевленных вещей!
В следующем разделе я намерен разобрать претензии этой наивной позиции (которую можно окрестить «социальным
атомизмом», или, точнее, претензии его эпистемологической
ипостаси в форме «методологического
индивидуализма»)5, дабы обозначить некую рамку для объяснения социальных явлений. Конечно{...} если я собираюсь
обосновать возможность нередукционистского натурализма на путях трансцендентального реализма, тогда я должен установить не только автономию возможной здесь
социологии, но и реальность любых
обозначенных ею объектов. Т. е. я должен показать, что общества — это
сложные реальные объекты, несводимые к более простым, таким, как люди. Для
достижения этой цели просто приводить доводы против методологического
индивидуализма недостаточно, но необходимо. Ибо, если бы методологический индивидуализм
был верен, мы могли бы полностью обойтись без этой главы и начать (и кончить)
наше исследование в науках о человеке рассмотрением свойств (рационально
приписанных или эмпирически определенных) отдельных человеческих атомов самих
по себе: т. е. свойств удивительного (и более или менее неясно как
порожденного) гомункулуса.
Против
индивидуализма
Методологический индивидуализм — это доктрина, утверждающая, что факты, относящиеся к обществам, и социальные
явления вообще следует объяснять исключительно на базе фактов об индивидах. Для Поппера, например, «все социальные
явления, и особенно функционирование социальных институтов, должны быть
поняты как результат решений и т. д. человеческих индивидов (...) Нам никогда не следует удовлетворяться объяснениями в
категориях так называемых «коллективов» 6. Социальные институты в таком случае — попросту «абстрактные модели»,
предназначенные истолковывать факты
индивидуального опыта. Ярви даже объявил себя сторонником лингвистического тезиса, будто «армия»
есть просто множественная форма «солдата» и все высказывания об армии
могут быть сведены к высказываниям об
отдельных солдатах, составляющих ее7.
Уоткинс допускает, что могут существовать незаконченные или половинчатые объяснения крупномасштабных
явлений, исходящие из других крупных
явлений, как, например, объяснение инфляции исходя из феномена полной занятости (!)8, но
доказывает тем не менее, что мы не достигнем самых глубоких (конечных?)
объяснений таких явлений, пока не выведем
их из высказываний о наклонностях,
убеждениях, способностях и взаимоотношениях индивидов9.
В частности, социальные события
необходимо объяснять, выводя их из
принципов, управляющих поведением «участвующих» индивидов, и описаний их
ситуаций10. Таким способом
методологический индивидуализм уточняет материальные
условия для адекватного объяснения
в общественных науках, дополняя формальные условия, установленные с помощью
дедуктивно-номологической модели.
Далее, если принять во внимание область предикатов, применимых к индивидам и индивидуальному поведению (от
обозначающих свойства вроде формы и строения тканей, общие у людей с другими
материальными предметами, через предикаты, выражающие состояния типа голода и
боли, общие с другими высшими животными, до
предикатов, которые обозначают действия и, насколько мы знаем, составляют
уникальную характеристику человека), то реальная проблема, по-видимому, не
столько в том, как можно бы Дать
индивидуалистическое объяснение социального поведения, но в том, как
вообще возможно несоциальное (т. е. строго индивидуалистическое) объяснение индивидуального, по меньшей мере отличительно человеческого, поведения11!
Ибо предикаты, обозначающие свойства, присущие отдельным лицам, — все
предполагают социальный контекст для
своего использования. Соплеменник подразумевает наличие племени, учет
чека — существование банковской системы.
Объяснение — будь то подведение под общие законы, обращение к мотивам и
правилам или новое описание (определение)
— всегда и неизбежно включает социальные предикаты.
Кроме того,
нетрудно показать, что аргументы в поддержку Методологического индивидуализма
не могут выдержать основательной проверки.
Так, сопоставление мотивов преступника с судебными процедурами
обнаруживает, что факты об индивидах не обязательно легче наблюдать или
понимать, чем социальные факты-сравнение
понятий любви и войны показывает, что понятия, применимые к индивидам, необязательно яснее или легче
для определения чем понятия, обозначающие социальные явления.
Примечательно,
что уступки и уточнения, предлагаемые методологическими индивидуалистами,
ослабляют, а не усиливают их позицию. Так,
допущение в методологический инструментарий идеальных типов, анонимных
индивидов и др. уменьшает силу онтологических рассуждений в пользу
методологии, а дозволение «половинчатых» и статистических объяснений ослабляет
эпистемологи-ческие доводы. Приводимые примеры заведомо «холистического» по
природе поведения типа бунтов и оргий12. попросту обнажают бедность подразумеваемой здесь концепции
социального. Ибо оказывается, что самые яростные индивидуалисты, как
показывает анализ их сочинений, считают
«социальное» синонимом «группового». Тогда проблема для них в том,
представляет ли общество, целое, нечто большее, чем сумму составляющих его
частей, отдельных людей. И социальное поведение в таком случае становится объяснимым как поведение групп индивидов (бунты)
или индивидов в группах (оргии).
Я собираюсь доказать, что это определение социального в корне неправильно. Социология не интересуется, как
таковым, крупномасштабным массовым или групповым поведением (понимаемым как
поведение большого числа индивидов, масс или групп). Скорее ее итересуют по меньшей мере в качестве образцов или моделей
устойчивые отношения между индивидами (и группами) и отношения между
этими отношениями (а также между такими отношениями и природой и результатами
подобных отношений). В простейших случаях содержание предмета социологии можно
проиллюстрировать такими примерами, как отношения между капиталистом и рабочим, членом парламента и
избирателем, студентом и преподавателем, мужем и женой. Такие отношения
— общие и относительно устойчивые, но они
не требуют привлечения коллективного или массового поведения в том
смысле, как потребовало бы этого
рассмотрение забастовки или демонстрации (хотя, конечно, анализ
отношений может помочь объяснить последние). Массовое поведение — интересный социально-психологический феномен,
но оно не входит в предмет социологии.
Ирония в том, что более умудренные индивидуалисты формально допускают возможно даже существенную роль отношений
в объяснении. К чему тогда все страсти? Я думаю, что их надо отнести, хотя бы
частично, на счет приверженности к некоторым разновидностям существующих социальных объяснений, которые индивидуалисты ошибочно полагают единственно согласными с
политическим либерализмом. Такую склонность откровенно выражает Уоткинс.
«Начиная с «Басни о пчелах» Мандевилля,
опубликованной в 1714 г., индивидуалистическая общественная наука с ее
упором на непреднамеренные последствия
большей частью изощрялась в разработке простой мысли, что в
определенных обстоятельствах эгоистические частные мотивы [т. е. капитализм]
могут иметь хорошие социальные последствия, а добрые политические намерения [читай
— социализм] — скверные социальные последствия»13. Фактически
существует одно цельное социальное учение (различными воплощениями которого
являются утилитаризм, либеральная политическая и неоклассическая экономическая
теории), соответствующее индивидуалистическим предписаниям и допускающее, что обобщенная проблема соединения частей может быть
действительно решена. Согласно этой модели рассуждений, разум есть
действующий раб страстей14, а социальное поведение можно
рассматривать просто как решение проблемы их максимизации или ее двойника —
проблемы минимизации: применение разума, единственной определяющей
характеристики человека, к желаниям (влечениям и антипатиям у Гоббса) или чувствам-ощущениям (удовольствия и боли у
Юма, Бентама и Милля) можно считать нейрофизиологически обусловленным. Отношения не играют никакой роли в такой модели.
И она (если вообще применима) так же применима к Робинзону Крузо, как и к
обобществленному человечеству, имея следствием
вывод Юма, что «человечество почти одинаково во все времена и в любом месте»15
— тезис, попутно обнажающий аисторический и априорный характер данной
модели.
Ограничения
этого подхода в общественных науках должны быть
хорошо известны на сегодня. Высказывание «люди рациональны» не объясняет, что именно они делают, но
в лучшем случае (т. е. полагая, что для их поведения объективная функция
может быть восстановлена и эмпирически
проверена независимо от него) только,
как они делают. Но рациональность, намеревающаяся объяснить все,
ни к чему не приходит. Объяснение человеческого действия отсылкой к его
рациональности похоже на объяснение некоего естественного
события при помощи ссылки на абстрактную причину. В таком случае
рациональность появляется как априорная предпосылка исследования, лишенная объяснительного содержания и почти
наверняка ложная. Что же касается неоклассической экономической теории,
наиболее развитой формы этого направления общественной мысли, ее, может быть,
лучше всего рассматривать как нормативную теорию эффективного действия,
порождающую множество методик для достижения данных целей, а не как объяснительную теорию, способную пролить свет на
действительные эмпирические эпизоды, т. е. как праксиологию16,
а не социологию.
Кроме защиты
конкретной формы объяснения, индивидуализм обязан
своим правдоподобием тому, что он, по-видимому, затрагивает важную
истину, осознание которой объясняет его кажущуюся необходимость, а именно — идею, что общество образовано людьми или что
оно состоит из, и только из, людей. В каком смысле это верно? в том,
что материальные проявления социальных воздействий состоят из изменений в людях и изменений, произведенных людьми в Других материальных вещах: природных объектах,
таких, как земля, и продуктах культуры
(артефактах), полученных обработкой природных объектов. Можно выразить эту
истину следующим образом: материальный облик общества = лица
+ (материальные) результаты их действий. Это та истина, которую индивидуалисты мельком отметили только затем, чтобы затуманить ее
своими апологетическими уловками.
Очевидно, что в методологическом индивидуализме действуют социологический редукционизм и психо- (или
праксио-) логический атомизм, определяющие содержание идеальных
объяснений в точном изоморфном соответствии с фиксирующими их форму теоретическим
редукционизмом и онтологическим атомизмом 17. В нем, таким
образом, особо полно выражена та пара, определяющая метод и объект
исследования (а именно, социологический индивидуализм и онтологический
эмпиризм), которая, как я утверждал раньше... структурирует практику
современного обществоведения.
Реляционную концепцию
предмета социологии можно сопоставить не только с индивидуалистской концепцией,
поясняемой на примере утилитаристской теории, но и с тем, что я буду называть
«коллективистской» концепцией, лучше всего представленной, вероятно, работами
Дюркгейма с их сильнейшим упором на понятие группы. Разумеется, группа
Дюркгейма — это не группа Поппера. Она, если призвать на помощь сартровскую
аналогию, более похожа на сплав, чем на дискретный ряд18. (,..)Тем
не менее ключевые понятия Дюркгейма, такие, как «коллективное сознание»,
«органическая» против «механической» солидарности, «аномия» и т.д., — все
получают смысл от их связи с идеей коллективной природы социальных явлений.
Поэтому для Дюркгейма, по крайней мере в той степени, в какой он остается
позитивистом, устойчивые отношения должны
быть воссозданы из коллективных явлений; тогда как с реа-листской и
реляционной точки зрения, выдвигаемой здесь, коллективные явления
рассматриваются главным образом как выражения устойчивых
отношений. Заметим, что, по этой концепции, не только есть социология,
по существу, не занимающаяся группой, но даже и социология, не занимающаяся
поведением.
Если Дюркгейм сочетал коллективистскую концепцию
социологии с
позитивистской методологией, то Вебер — неокантианскую методологию с еще, в основном, индивидуалистской концепцией социологии.
Его разрыв с утилитаризмом совершается главным образом на уровне формы
действия или типа поведения, которые он готов признать, но не на уровне выбора
единицы исследования. Знаменательно, что
точно так же как импульс, содержащийся в выделении Дюркгеймом
качественно новых свойств группы, тормозится его постоянным обращением к
эмпирицистской эпистемологии, так и возможности, открываемые веберовским
выделением идеального типа, сдерживаются его постоянной привязанностью к эмпирицистской онтологии. В обоих случаях остаточный
эмпирицизм сдерживает и в конечном
счете уничтожает реальное научное продвижение 19. Ибо так же
бесплодно пытаться укрепить понятие социального на основе категории группы,
как пытаться обосновать понятие необходимости
на опыте. Я думаю, что по-настоящему сделал попытку сочетать реалистскую
онтологию и реляционную социологию Маркс 20. Подытожим наши четыре направления общественной мысли в
таблице.
Таблица 2.1.
Четыре направления общественной мысли
|
Утилитаризм
Вебер
Дюркгейм
Маркс
|
эмпирицистский
неокантианский эмпирицистский реалистский
|
Индивидуалистский
индивидуалистский коллективистский реляционный
|
NB. Понятия, относящиеся к методу (социальной эпистемологии), опираются на
фундамент общей онтологии; понятия, относящиеся к объекту (социальной
онтологии), подкрепляются общей эпистемологией.
Следует заметить, что поскольку отношения между отношениями, составляющие собственно предмет социологии, могут
быть внутренними, то, вообще говоря, только категория тотальности в
состоянии адекватно выразить его.
Некоторые проблемы, вытекающие из
этого, будут рассмотрены ниже. Но сперва я хочу разобрать природу связи между
обществом и сознательной деятельностью людей.
О связи
«общество/личность»
Теперь в обычае делить социологическую теорию на два лагеря: в одном, представленном прежде всего Вебером,
социальные объекты рассматриваются как результаты целенаправленного или осмысленного
человеческого поведения (или как образованные им);
в другом, представленном Дюркгеймом, они видятся как обладающие своей
собственной жизнью, внешней и принудительной к индивиду. С известной натяжкой
разнообразные школы общественной мысли — феноменологию, экзистенциализм,
функционализм, структурализм и т. д. можно тогда трактовать как варианты той или
иной из этих позиций. И разновидности
марксизма аккуратно укладываются в эту схему. Эти два стереотипа можно
изобразить в диаграммах.
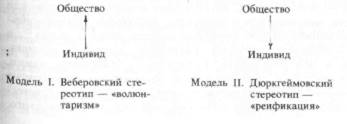

Возникает искушение попробовать развить общую
модель, способную
синтезировать эти конфликтующие перспективы, предположив диалектическую
взаимосвязь между обществом и людьми. Я
хочу обсудить возможный вариант такой модели, наиболее убедительно
защищаемый Питером Бергером и его сотрудниками21 (...)
Согласно модели Бергера, которую я буду называть «модель III», общество формирует индивидов,
которые творят общество; или, другими
словами, общество производит индивидов, которые производят общество, и
это в непрерывном диалектическом процессе.
Согласно сторонникам этой модели, «социальную структуру нельзя охарактеризовать как некую самостоятельную
вещь, отдельно от человеческой деятельности, произведшей ее» 22. Но
равным образом, однажды созданная, «эта структура воспринимается индивидом и
как чуждая фактичность и ... как принудительная инстру-ментальность» 23.
«Она где-то там, глухая к его желаниям..., иная, чем он сам, и
сопротивляющаяся ему» 24. Кажется, что эта схема способна отдать
справедливость как субъективным и умышленным граням общественной жизни, так и
внешней и принудительной силе социальных фактов, и тем самым сразу избежать и
волюнтаристских выводов веберовской традиции и всякой реификации, сопряженной с дюркгеймианством. Ибо между природными и
социальными фактами теперь проведено категориальное различение в том
смысле, что вторые (но не первые) зависят, в основном, от человеческой деятельности.
Так, соглашаясь
с Дюркгеймом, что «система знаков, которую я использую для выражения моих
мыслей, денежная система — для уплаты моих долгов, орудия кредита,
употребляемые мною в коммерческих отношениях, практические процедуры, принятые
в моей профессии, и т. д. функционируют
независимо от моего пользования ими» 25, сторонники модели III трактуют такие системы, орудия и практические
процедуры как объективации, при определенных условиях допускающие
отчужденную форму. Согласно им, объективация — это «процесс, посредством
которого человеческая субъективность воплощается в продукты, доступные самому
субъекту и его сотоварищам как элементы некоего общего мира» 26, а отчуждение — «процесс, который разрывает единство делания,
производства, и его результата,
продукта» 27. Например, языки, формы политической и
экономической организации, культурные и
этические нормы — все, в конечном счете, воплощения человеческой
субъективности. И любое сознание, которое не видит этого, обязательно окажется реифицирующим. Реификацию
(овеществление) следует, однако, отличать
от объективизации, которую определяют как «момент в процессе
объективации, когда человек дистанцируется
от хода своего производства и его продукта, так что может выделить их и сделать объектом своего сознания» 28,
и которую считают необходимой для
любой мыслимой формы общественной жизни.
По модели III, тогда общество есть объективация или «овнеш-нение»
человеческих существ. А эти последние, со своей стороны, повторно присваивают или «овнутряют»
(интернализуют) в своем сознании общество. Я полагаю, что эта модель
ведет к серьезным ошибкам. Ибо, с одной стороны, она поощряет волюнтаристский идеализм в нашем понимании социальной структуры, а
с другой — механистический детерминизм
в нашем понимании людей. В стремлении избежать ошибок обоих стереотипов
модель III преуспевает лишь в их комбинации.
Люди и общество, утверждаю я, не связаны «диалектически». Они не составляют два
момента одного и того же процесса. Скорее, они относятся к совершенно
разным областям явлений.
Возьмем общество (...) Еще можно считать истиной, что оно не существовало
бы без человеческой деятельности, и потому реифи-кация — ошибка. И то еще
верно, что такая деятельность не состоялась
бы, если б вовлеченные в нее субъекты не имели идеи того, что они делают (совпадающей, конечно, с
основополагающей интуицией герменевтической традиции). Но уже неверно
говорить, что субъекты творят общество.
Скорее, надо бы сказать: они воспроизводят или преобразуют
его. Т. е., если общество всегда предстаёт уже созданным, «готовым», тогда
любая конкретная человеческая практика или,
если угодно, акт объективации может только видоизменить его. И
совокупность таких актов поддерживает жизнь общества или изменяет его. Оно — не продукт деятельности отдельных
субъектов (во всяком случае, я покажу, что человеческое действие полностью
обусловлено обществом). Следовательно, по отношению
к индивидам общество выступает как нечто такое, чего они никогда не делали, но
что существует только благодаря их деятельности.
Далее, если общество предшествует индивиду, объективация приобретает
совсем другое значение. Ибо она как сознательная человеческая деятельность
осуществляется на данных наличных объектах,
и ее нельзя представить себе протекающей в их отсутствии... Всякая
деятельность предполагает первичное существование социальных форм
<...>
Необходимое
предсуществование социальных форм предполагает концепцию социальной
деятельности, радикально отличную от той, что обычно направляет спор о связи
общества и личности. Оно подталкивает, по существу, к аристотелевской
концепции, живым образом которой является скульптор за работой, формирующий Произведение из материалов и инструментами,
которые ему доступны. Я буду
называть эту концепцию преобразовательной (трансформационной) моделью социальной деятельности. Модель при-ложима как к рассудочным, так и
нерассудочным видам практики-к науке и политике так же, как к технологии и
экономике. Например, в науке сырые материалы, используемые при построении новых теорий, включают: признанные результаты и
полузабытые идеи запас доступных парадигм и моделей, методов и методик
исследования, — так что научный новатор в
ретроспективе начинает казаться
своего рода bricoleur 29 в познании. Если прибегнуть к
словарю Аристотеля, в каждом процессе
производительной деятельности необходимы материя и действующая (образующая)
причина. А, следуя Марксу, можно аналитически рассматривать социальную деятельность как производство, т. е.
работу над и с материальными причинами, влекущую за собой их
преобразование. Далее, если, вслед за Дюркгеймом, считать общество источником
обеспечения человеческого действия
материальными причинами, и, вслед за Ве-бером, отказываться
реифицировать его, то легко сообразить, что и общество и человеческая практика
должны иметь двойственный характер. Общество есть и вездесущее условие (материальная
причина), и непрерывно
воспроизводимый результат человеческой деятельности. И практика
выступает и как работа, т. е. сознательное производство,
и как (в норме бессознательное) воспроизводство условий
производства, т. е. общество. Первое из двух последних предложений можно считать выражением двойственности структуры 30, второе — двойственности
практики.
Вернемся теперь к людям. Человеческое действие характеризуется очевидным свойством преднамеренности и
целенаправленности (интенциональности)
(...)
Уже отсюда
должна быть ясна важность категориального различения между людьми и обществами
и, соответственно, между человеческими действиями и изменениями в социальной
структуре. Свойства социальных форм могут
очень отличаться от свойств индивидов, от деятельности которых они зависят.
Так, без всякой натяжки можно признать, что целенаправленность,
интенциональ-ность и иногда самосознательность характеризуют человеческие
действия, но не изменения в социальной структуре 31. Моя концепция
состоит в том, что люди в своей сознательной деятельности по большей части
бессознательно воспроизводят (и попутно преобразуют) структуры, направляющие их самостоятельные «производства».
Так люди вступают в брак не для того, чтобы воспроизвести нуклеарную семью, и
работают не для того, чтобы поддержать жизнь капиталистического хозяйства. И
тем не менее семья и хозяйство оказываются ненамеренным последствием (и неизбежным
результатом), равно как и необходимым условием, их деятельности. Более того,
когда социальные формы изменяются, объяснение этого обычно кроется не в
желаниях субъектов изменить их определенным образом, хотя такой образ может
выступать в роли весьма важного теоретического и политического предела.
В согласии со
сказанным я хочу провести резкое различие между происхождением (генезисом)
человеческих действий, уходящим корнями в разумные причины, намерения и планы
людей, с одной стороны, и, с другой, — структурами, направляющими
воспроизводство и преобразование
видов социальной деятельности; и, следовательно, между сферами
психологических и обществоведческих дисциплин. Проблема, как люди воспроизводят
какое-либо кон-кретное общество, подлежит ведению некоей
промежуточной науки «социопсихологии».
Следует усвоить, что вовлеченность в социальную деятельность — это,
само по себе, сознательное человеческое действие, которое, в общем, можно
описывать либо, исходя из разумных
соображений субъекта в пользу участия в нем, либо в категориях его
социальной функции или роли. Когда практическое действие видится с точки зрения
определенного процесса, человеческий выбор
становится функциональной необходимостью(..) Предлагаемую мною модель связи «общество/ личность» можно суммировать
так: люди не творят общество. Ибо оно всегда предшествует им и составляет необходимое условие для их деятельности. Скорее на общество должно смотреть как на
совокупность структур, обычных
практических процедур и условностей, которые индивиды воспроизводят и
преобразуют, но которые реально не существовали
бы, если бы они этого не делали. Общество не существует независимо от
человеческой деятельности (ошибка реификации). Но оно и не продукт ее (ошибка
волюнтаризма). Процессам, посредством которых востребуются и поддерживаются накопленные умения, навыки, мастерство,
свойственные данным социальным контекстам и необходимые по отдельности
или вместе для воспроизводства и
преобразования общества, можно бы дать родовое
название «социализация». Важно подчеркнуть, что это воспроизведение и/или преобразование общества
хотя большей частью совершается бессознательно, тем не менее является
еще и неким достижением, результатом
искусного исполнения активными субъектами,
а не механическим следствием предшествующих условий. Эту модель связи
общества и личности можно изобразить так:

Общество,
следовательно, обеспечивает необходимые условия Для целенаправленного
(интенционального) человеческого действия, и целенаправленное человеческое
действие есть необходимое Условие жизни общества. Общество существует только в
человеческом действии, но человеческое действие всегда выражает и использует
ту или другую социальную форму. Однако ни общество, ни Действие нельзя
отождествлять, сводить одно к другому, объяснять или реконструировать друг из
друга. Существует онтологический Разрыв между обществом и людьми и, кроме того,
особый способ связи (именно, преобразование), который другие модели обычно
игнорируют.
Заметим, что по модели I имеются действия, но нет условий; по модели II налицо условия, но нет действия;
по модели III нет различения между этими двумя
сферами. Так, например, по Дюркгейму субъективность
склонна являться только в одеянии внутренне усвоенной формы социального принуждения. Но, вопреки волюнтаризму,
должно быть равным образом ясно, что реальная субъективность требует условий, ресурсов и средств для действования творческого
субъекта. Такие материальные причины можно считать, если угодно, результатами предыдущих объективации. Но в любом деянии они аналитически не устранимы и фактически
необходимы. «Предданныи» компонент в
социальном действии никогда не может быть сведен к нулю, проанализирован до
конца. Эта концепция связи общества и личности вносит радикальные
изменения в нашу идею «неотчуждаемого» общества. Теперь это общество больше
нельзя представлять себе как чистый продукт необусловленных («ответственных») человеческих решений, свободных
от ограничений (но, предположительно, не от использования благоприятных
возможностей), унаследованных от его прошлого и наложенных его окружением. Скорее его следует понимать как
общество, в котором люди сознательно преобразуют свои социальные
условия существования (социальную
структуру) так, чтобы максимизировать возможности для развития и
непроизвольного проявления своих природных
(родовых) способностей.
Надо отметить, что модель IV, настаивая на непрерывности материальных условий, может подкрепить по
настоящему пригодное понятие изменения
и, следовательно, истории 32. Это то, что ни модель
III, ни методологические
стереотипы, которые она пытается истолковать как особые случаи, не могут
сделать (...) Модель же IV, сверх того,
порождает ясный критерий исторически существенных событий, а именно таких, которые инициируют или
вызывают разломы, «мутации» или,
более обобщенно, преобразования в социальных формах (вроде Французской
революции).
Некоторые
качественно новые свойства социальных
систем
Если социальная
деятельность с аналитической точки зрения представляет
собой производство, т. е. работу над/и преобразование данных объектов, и
если такая работа аналогична ходу естественных событий, тогда нам нужен и
аналог для порождающих его механизмов. Если социальные структуры образуют
соответствующий механизм-аналог, то следует сразу отметить их важную особенность в том, что в отличие от естественных
механизмов они существуют только благодаря видам деятельности, направляемым
ими, и не могут быть эмпирически определены независимо от них... Люди в
своей социальной деятельности должны исполнять двойную функцию: не только производить социальные продукты,
но и производить условия процесса их производства, т. е. воспроизводить
(или, в большей или меньшей степени, преобразовывать) структуры, направляющие
их самостоятельные сферы производственной деятельности. Так как социальные
структуры сами суть социальные продукты, они являются и возможными объектами
преобразования и потому могут быть устойчивыми только относительно. Вдобавок
дифференциация и развитие видов социальной деятельности (как при «разделении
труда» и при «расширенном воспроизводстве») подразумевает,
что они взаимозависимы; поэтому социальные структуры могут быть только
относительно автономными. Тем самым
общество возможно представить в виде членораздельного «ансамбля» таких
относительно независимых и устойчивых порождающих структур, т. е. как
сложную полноту (тотальность), способную изменяться и в своих составных частях
и в их взаимоотношениях. Далее, поскольку
социальные структуры существуют только благодаря видам деятельности,
направляемым ими, они не могут существовать независимо от идей, имеющихся у
субъектов относительно того, что они делают, т. е. от какой-то теории этих
видов деятельности. Поскольку такие теории тоже являются социальными продуктами,
они сами оказываются возможными объектами преобразования и потому также могут
быть только относительно устойчивыми (и автономными). Наконец, поскольку
социальные структуры — продукты социальные, то социальная деятельность должна получать социальное объяснение и не может быть
объяснена отсылкой к несоциальным параметрам (хотя последние способны
накладывать ограничения на возможные формы социальной деятельности) .
Некоторые
онтологические ограничения на возможные варианты натурализма непосредственно
выводимы из этих разобранных качественно новых социальных свойств, при
сохранении посылки (оправдываемой ниже), что общество в своем роде реально.
1. Социальные структуры, в отличие от природных структур, не
существуют независимо от видов деятельности, направляемых ими.
2. Социальные структуры, в отличие от природных, не существуют
независимо от идей и представлений субъектов о сути своей деятельности.
3. Социальные структуры, в отличие от природных, могут быть лишь относительно устойчивыми (так что
направления деятельности, которые они поддерживают, не могут быть
универсальными в
смысле некоего пространственно-временного
инварианта).
Все эти свойства
указывают на реальные различия возможных объектов познания в естественных и
общественных науках, причем внутренняя сложность и взаимозависимость социальных
структур не составляют необходимого отличия их от природных структур...
Вернемся теперь
к онтологическому статусу обществ. Я утверждал в другом месте, что живые
объекты ограничивают условия применимости физических законов, которым они
подчиняются, так что их свойства не могут
быть сведены к последним; т. е. появление качественно нового
характеризует и природный и человеческий миры 33 (и это совместимо
с тем, что можно назвать «диахронической объяснительной редукцией», иначе
говоря, с реконструкцией исторических
процессов формирования этих миров из «более простых» элементов). И если ... целенаправленное действие есть необходимое
условие для некоторых детерминированных состояний физического мира, тогда
совершенно реальны те свойства и способности людей, в силу которых действующим лицам справедливо приписывают
целенаправленность (интенциональность). Аналогично, если можно будет показать, что лишь по причине
существования общества определенные физические действия не будут
произведены, тогда ...оправдано утверждение, что оно реально.
В этой связи я думаю, что Дюркгейм, утвердив самозаконность (автономию) социальных фактов на критерии внешней
данности, в действительности применял такой критерий, просто
чтобы установить их реальность, подразумевающую действие другого его
критерия—необходимого ограничения: «Я не обязан говорить по-французски с моими соотечественниками или
пользоваться узаконенной валютой, но, вероятно, я не могу поступать иначе. Если
бы я попытался избежать этой необходимости, моя попытка наверное выглядела
бы жалкой ...» 34 Фактически Дюркгейм говорит, что лишь из-за
существования области социальных фактов не появляются определенные последовательности звуков, движения тел и т. д. Конечно, вопреки Дюркгейму, следует настаивать, что
область социальных фактов зависит от целенаправленной деятельности
человеческих существ (хотя и не сводима к
ним). Индивидуалистская истина, что люди — единственные движущие силы в истории
(в том смысле, что ничего не происходит, так сказать, за их спинами, т.
е. что все происходящее происходит в сфере
их действий и благодаря им), должна быть сохранена. Более того, социальные
структуры следует понимать как в принципе позволяющие, обеспечивающие
средства и возможности действовать, а не
просто как принудительные образования. И тем не менее, применяя
критерий причинности, чтобы доказать реальность социальных фактов, Дюркгейм
следовал совершенно правильной научной
практике — хотя надо признать, что здесь мы имеем дело с крайне
своеобразной сущностью: структурой, не сводимой к своим результатам, но
представленной только в них.
Хотя для
демонстрации реальности социальных фактов Дюркгейм использовал критерий
причинности, опираясь на коллективистскую концепцию социологии, тот же самый
критерий может быть применен для этого (с
большей эпистемологической последовательностью) на базе реляционной
социологии (...) В самом деле, при условии открытости мира, в пределах которого
протекают его явления, только в том случае, если в качестве предмета социологии
точно определен некий неэмпирический объект, может быть определенно гарантирована ее теоретическая автономия
— момент, драматически поясняемый
ловушками, в которые ввергает социологию ее веберовское определение 35,
логически включающее «богослужение» (в силу ориентации на другого), но
исключающее «молящегося».
Какова связь
между преобразовательной моделью социальной деятельности ... и реляционной
концепцией социологии?.. Эта концепция, конечно, не отрицает, что, допустим,
фабрики и книги — социальные формы. Она также не настаивает, что правила грамматики (или порождающие комплексы, действующие в
других сферах общественной жизни) представляют собой (или должны быть поняты
как) отношения. Но она утверждает, что бытие всех этих объектов в качестве социальных, отличных от материальных объектов
(или, скорее, добавочных к ним), и их включенность в социальные
правила, отличаемые от чисто «ананкастических» * правил 36 (зависимых
от действия одних лишь природных законов), в основном, зависит от (и в каком-то смысле действительно полностью состоит
из) отношений между людьми и между этими отношениями и природой (а также
продуктами и функциями этих отношений) — отношений, причинно обусловленных
такими объектами и правилами.
* От «Ананке» (греч. миф.) — божество
необходимости, неумолимой судьбы. — Прим. перев.
Нетрудно видеть,
почему это так. Это следует из положений... что социальные структуры (а)
постоянно воспроизводятся (или преобразуются)
и (б) существуют только в (и благодаря) человеческой посреднической
деятельности (короче, они требуют активных «функционеров»).
Очевидно, чтобы сочетать такие требования, нам нужна система
посредствующих понятий, охватывающая оба аспекта
«двойственной» практики, обозначающая, так сказать, те «пазы» в
социальной структуре, в которые должны входить активные субъекты, дабы
воспроизводить ее; т. е. система понятий, определяющая «точку соприкосновения» между человеческой деятельностью и социальными структурами. Такая точка,
связующая действие со структурой, должна быть и «бессмертной», как
общество, и непосредственно поддерживаемой
индивидами. Необходимая нам посредствующая
система — это система позиций (положений, мест, функций, правил, задач,
обязанностей, прав и т. д.), занимаемых (заполняемых, возложенных
кем-то, принимаемых на себя и т.д.)
индивидами, и практик (видов деятельности и т. д.), в которые они вовлечены в силу того, что занимают эти
позиции (и наоборот). Я буду называть эту посредствующую систему
позиционно-прак-тической системой. И такие
позиции и практики (если вообще они Должны быть индивидуализированными) можно
сделать таковыми только реляционно (...)
Заметим, что ни
индивиды, ни группы не удовлетворяют требованию
непрерывности существования, производному от вторичного приложения
дюркгеймовского критерия (внешней данности или предсуществования) для
доказательства автономии общества относительно
дискретных моментов времени. В общественной жизни только отношения непрерывны, устойчивы37. Заметим еще, что,
кроме межличных, такие отношения включают взаимоотношения между людьми и природой и социальными продуктами (вроде машин и фирм), а также «взаимодействия»,
хотя не все отношения состоят из них. (Например, сравним отношение между оратором и слушателем в диалоге и деонтическое
отношение между гражданином и государством.) Наконец, важно подчеркнуть,
что с социологической точки зрения (хотя это необязательно ни для
психологических наук, ни для исторического объяснения) отношения, которые нас здесь интересуют, должны быть выражены
в понятиях, держащихся в зоне между позициями и сферой практики (или, лучше,
позиционными видами практики), а не между
индивидами, занимающими эти позиции и вовлеченными в эти практики38.
Одно преимущество реляционной концепции должно быть очевидно сразу. Она
позволяет сосредоточиться на ряде вопросов, связанных
с распределением структурных условий действия и, в частности, с
различными привязками: (а) производительных сил и ресурсов (всех
видов, включая, например, познавательные ресурсы)
к лицам (и группам) и (б) лиц (и групп) к функциям и ролям (например, в
разделении труда). При этом она помогает оценить вероятность различных (и
антагонистических) интересов, конфликтов внутри общества и,
следовательно, мотивированных интересами преобразований в социальной
структуре. Уделяя одинаково много внимания и распределению и обмену,
реляционная концепция избегает специфической слабости теорий рыночной
экономики. А, допуская конфликтные отношения внутри общества и между обществом
и индивидом, эта концепция излечивает хроническую болезнь ортодоксальной
социологии, преимущественно занятой в
прошлом фактически «гоббсовской проблемой
порядка» 39.
Маркс сочетал по сути реляционную концепцию обществоведения и
преобразовательную модель деятельности общественного человека с дополнительной
предпосылкой — историческим материализмом, — т. е. учением, что материальное
производство в конечном счете определяет все остальное в общественной жизни40.
Как теперь хорошо известно, хотя и можно априорно утверждать, что материальное
производство есть необходимое условие общественной жизни, но нельзя доказать,
что оно в конечном счете определяющее
(достаточное) условие. И потому, подобно любой другой концептуальной
разработке или парадигме в науке, исторический материализм может быть оправдан
только его плодотворностью в порождении
проектов, богатых исследовательскими программами, способными дать жизнь цепи
теорий с постоянно нарастающей объяснительной силой. Не самая малая из проблем, стоящих перед историческим
материализмом, заключается в том,
что хотя в отдельных областях достигнут значительный прогресс в объяснениях,
общая парадигма сама по себе все еще
ждет адекватной формулировки. (Стоит только подумать о проблеме
согласования тезиса об относительной автономии надстройки с положением о ее
детерминации в конечном счете базисом41.)
Сомнительно, чтобы какая-нибудь тема в философии
развивалась более
догматично, чем тема внутренних отношений. Учение, что все отношения внешние, скрыто присутствует в теории причинности Юма, где оно свернуто в понятии
контингентности причинной связи. Но
это учение фактически приняла целая ортодоксальная (эмпирицистская и
неокантианская) традиция в философии науки.
Напротив, рационалисты, абсолютные идеалисты и поклонники диалектики Гегеля или Бергсона обычно становились приверженцами равно ошибочного
воззрения, что все отношения —
внутренние. Здесь снова основное философское различие проходит по линии, разделяющей марксиста и немарксиста. Колетти и Оллман42
представляют лишь самые последние и
особенно крайние варианты позиций, уже полностью развитых внутри марксизма по меньшей мере со времен Гильфердинга
и Дицгена. Теперь важно признать, что некоторые отношения могут быть внутренними, а другие нет. Более того, некоторые природные отношения (вроде отношений
между магнитом и его полями) являются
внутренними, а многие социальные
отношения (типа тех, что возникают между двумя велосипедистами в кроссе) нет.
В принципе это открытый вопрос, является
или нет какое-то конкретное отношение в историческом времени внутренним.
Отношение rab можно определить как внутреннее, если и только если А не будет тем, чем А по существу
является, при условии, что В не
было бы связано с ним так, как есть. rab является симметрично
внутренним, если то же самое применимо
и к В. («А» и «В» могут обозначать общее или частное, понятия или вещи, включая отношения.) Отношение
«буржуазия — пролетариат»
симметрично внутреннее; «дорожный смотритель — государство» асимметрично внутреннее; отношение «проходящий мимо автомобилист — полицейский» вообще не
внутреннее. Факт, что вопрос,
является или нет некое данное отношение внутренним, есть вопрос познавательно обусловленный, затемнен тем обстоятельством, что, когда мы знаем, какова
сущностная природа вещи, тогда мы
часто в состоянии дать реальное определение
ее; и потому суждение, что В связано с нею «так, как есть», будет
казаться аналитическим*. Но, конечно, реальных определений не получить априорно, из одной мысли. Скорее их создают апостериори, в неустранимо эмпирическом
процессе научного познания43.
* Очевидно, в смысле Канта, у
которого априорные «аналитические» суждения противопоставляются
«синтетическим». — Прим. перев.
Очень важно понять, что нет никаких оснований для
допущения равенства
в объяснительной силе между членами (the relata) внутреннего отношения. Так, капиталистическое производство по
отношению к обмену может доминировать (определять его формы), причем обмен не
перестанет быть существенным для него. Внутренне связанные аспекты могут,
так сказать,
располагать различной причиняющей силой. Или, другими словами, разная онтологическая глубина или стратификация,
определенная причинно, совместима с внутренним характером отношений,
включая симметрию, т. е. экзистенциальное равенство. В самом деле, для социальной сферы типично, что поверхностная структура
необходима для глубинной, точно так, как lange (язык) есть условие parole (речи) и интенциональности
системы.
Большинство социальных явлений, подобно большинству природных событий, детерминированы общим стечением
обстоятельств и как таковые обычно
должны быть объясняемы многосложностью причин44. Но при
познавательно обусловленном характере
их отношений вопрос о степени, в какой объяснение этих явлений требует отсылки к тотальности (полноте)
аспектов, имеющих внутренние отношения друг к другу, остается открытым. Однако даже на поверхностный взгляд внешнее
отношение, вроде отношения между
бретонскими рыбаками и владельцами потерпевшего крушение танкера «Амоко Кадиз», при соответствующей направленности объяснительного интереса
позволяет (или делает необходимым)
раскрытие некоей тотальности отно-i iji-ний,
например отношений между формами экономической деятельности и
государственной структурой. Эта всегда существующая возможность открытия (потенциально новой)
тотальности в некоем сплетении событий
объясняет хамелеоноподобный и «конфигурационный»45
характер предмета исследования или науки,
который не только постоянно изменяется, но и может непрестанно переписываться (в данном отношении,
как и в любом другом). Но хотя тотализация
является мысленным процессом,
тотальности реальны. Хотя случайно то, потребуем ли мы, чтобы явление было понято как аспект тотальности
(в зависимости от наших
познавательных интересов), совсем не случайно, окажется ли оно таким аспектом или нет. Социальная наука не создает тотальностей, которые она обнаруживает,
несмотря на то, что сама может быть
одним из их аспектов.
Особенным притязанием марксизма всегда была
способность схватывать
общественную жизнь как тотальность, показать ее, по словам Лабриолы, как «связь и комплекс»46, различные моменты которых могут, конечно, быть
асимметричными, наделенными разной причиняющей силой. Марксизм претендовал на
это благодаря своей теории истории,
устанавливавшей, между прочим,
способ расчленения моментов названной тотальности или образчики социальной структуры. О теории истории
можно судить только по историческим
материалам. Но можно ли в свете предыдущего
анализа сказать что-нибудь о намерениях, если не результатах, этого проекта?
Наш анализ указывает путь к понятийному осмыслению
соотношения между
специальными общественными науками (типа лингвистики,
экономики, политики и т. д.), социологией, историей и такой обобщающей теорией
общества, на какую отважился
марксизм. Если история есть прежде всего наука о «прошлом особенном», а социология — о социальных
отношениях, то разные специальные
общественные науки занимаются структурными условиями для реализации
конкретных типов социальной деятельности (т. е. порождающими комплексами в
производстве этих типов). Разумеется, при существующей взаимозависимости видов социальной деятельности следует очень
старательно избегать гипостазирования
(возведения в самостоятельные сущности) результатов такого конкретного анализа. Сверх того, поскольку внешние
условия могут быть внутренне связанными с порождающими механизмами,
действующими в конкретных областях общественной
жизни, специальные науки логически предполагают обобщающую науку, которая, согласно преобразовательной модели,
может быть только теорией истории. Если социологию интересуют структуры, направляющие отношения, необходимые в
определенные исторические периоды для воспроизводства (и преобразования)
определенных социальных форм, то ее «объясняемые
сущности» (explananda) всегда специфичны; не может быть никакой
«социологии-вообще», но только социология социальных форм, имеющих конкретное историческое
место. Таким образом, социология
подразумевает и специальные науки, и историю. Но реляционная концепция требует,
чтобы социальные условия для самостоятельных направлений преобразующей деятельности, в которых заняты субъекты, были
только отношениями различных родов. А преобразовательная
модель требует, чтобы все эти деятельности
были, по сути, производствами. Таким
образом, точный предмет социологии — это отношения производства (разных родов). И если такие отношения сами по себе внутренне
связаны и подлежат преобразованию, тогда социология должна либо предусмотреть,
либо занять место точно такой же обобщающей и исторической науки, какой претендует быть марксизм. Прибегнув к кантовской
метафоре47, скажем, что если марксизм без детализированной
социальной и исторической научной
работы пуст, то такая работа без марксизма (или какой-то подобной
теории) слепа.
- См.: A Realist theory of science. Leeds. 1975. esp. Ch. 1 Sec. 4.
- Маркс К. Экономические рукописи 1857—1895 годов.
Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 46. Ч. 1. С. 214.
- См., например: S h u t z A.
Common-sense and scientific interpretations of human actions//Collected
Papers 1. The Hague. 1967; or “Problems of interpretative sociology”,
reprinted from The phenomenology of the social world. L., 1967//Ry an A.
(ed.). The Philosophy of social explanation. Oxford. 1973.
- Как это выявлено возможностью абсолютного
идеализма в качестве онтологического основания для идеалистических
социологии (часто, и с требующей Доказательства необходимостью,
сочетаемого в работе одного и того же автора с индивидуализмом — например,
у Вебера и Дильтея, или коллективизмом — Например, у Дюркгейма или,
скажем, Леви-Строса). См. также: В е n t о п Т. Philosophical foundations of the three
sociologies. L., 1977. P. 85. n. 11.
- См. характерную аналогию, проведенную Уоткинсом между методологическим индивидуализмом в обществоведении и понятием механизма в физике: Ideal types
and historical explanation, British Journal for the Philosophy of science.
1952. n 3 reprinted in Ryan A. (ed.)- Op. cit. P. 90; and “Historical
Explanation in the social sciences”. British Journal for Philosophy of
science. 1957. n. 8, reprinted as “Methodological individualism and
social tendencies”.//Readings in the Philosophy of the social sciences.
M. Brodbeck (ed.). L., 1970. P. 270.
- Popper K. The
open society and its enemies 2. L., 1962. P. 98.
- Jar vie I.
Reply to Taylor. Universities and Left Review. 1959. P. 57.
- Watkins J.W.N.
Ideal types. P. 88. Methodological
individualism. P. 271.
- Loc. cit.
- Watkins J.W.N.
Ideal types. P. 88.
- cm. Dan to A.
Analitical philosophy of history. Cambridge, 1965. Ch. 12 and Lukes S.
Methodological individualism reconsidered. — British Journal of Sociology.
1968. n. 19, reprinted in R у a n A. (ed.),
op. cit.
- См.: Watkins J.W.N. Ideal types. P. 91 and
“Methodological individua-lismi”. P. 273.
- Ibid. P. 278.
- Hume D. A
treatise on human nature. Oxford, 1967. P. 415.
- Hume D. Essays
moral and political 2. L., 1875, P.
68. Хотя Юм, возможно, впервые ясно сформулировал эту парадигму,
существенно, что в его мысли, не в пример многим его последователям, она
уравновешена ставкой на определенные прирожденно социальные чувства
(наиболее заметно — на симпатию) и интересом к истории — черты, характерные
для шотландского Просвещения вообще (см., например, Da vie G. The
democratic intellect. Edinburgh. 1961). В самом деле, для Юма среди
«постоянных и всеобщих начал человеческой природы» именно симпатия
обеспечивает фундамент для нашего интереса к истории. См., например, его:
Enquiries. Oxford. 1972. P. 223.
- См.: Kotarbinski S. Praxiology.//£.ssa.y.s in
honour of O. Lange. Warsaw. 1965.
- См., например: Watkins
J.W.N. Ideal types. P. 82. n. 1.
- Sartre J.-P.
Critique of dialectical reason. L., 1976. Bk. 2. Ch. 1, Bk. 1. Ch. 4.
- Существуют, конечно, не- и даже
анти-индивидуалистские тенденции в веберовской мысли (см., например: А г о
n R. Philosophic critique de 1’histoire. P., 1969). Аналогично, имеются и
не- и (особенно в «Элементарных формах религиозной жизни»)
анти-позитивистские напряжения у Дюркгейма (см., например: Lukes S.
Durkheim. L., 1973; Horton R. Levy-Bruhl, Durkheim and scientific
revolution.//Modes of Thought. Finnegan
R. and Horton R.(eds). L., 1973). Здесь меня интересуют только
господствующие тенденции.
- См., например: Keat R. and
Urry J. Social theory as science. L., 1975. Ch. 5; Oilman B. Alienation. Cambridge, 1971, esp. Ch. 2, 3. Конечно, и в работах
Маркса имеются позитивистские и индивидуалистские элементы.
- Особенно см.: Berger P.
and Pull berg S. Reification and the sociological critique of
consciousness.//WeH> Left Review. 1966. n.35; Berger P. and Luckmann T.
The social construction of reality. L., 1967.
- Berger P. and
P u 11 b e r g S. Reification. PP. 62—63.
- Ibid. P. 63.
- Loc. cit.
- Durkheim E.
The rules of sociological method. N.Y., 1964. P. 2.
- Berger P. and
P u 11 b e r g S. Reification. P. 60.
- Ibid. P. 61.
- Ibid. P. 60.
- См.: Levi-Strauss C. The savage mind. L., 1966. Ch.
1.
- См.: Giddens A. New rules of sociological method.
L., 1976. P. 121; and Lyons J. Chomsky. L., 1970. P. 22.
- Предикаты, относящиеся к умственной деятельности,
могут играть законную роль в объяснении социальных изменений либо как
результат их буквального употребления применительно к процессам
сознательного выбора, обдумывания альтернатив и т. д., либо как результат
их метафорического употребления применительно к следствиям телеономических
процессов или гомеостатических систем. См., например: Giddens A. Functionalism: apres la
lutte.//Studies in Social and Political Theory. L., 1977, esp. P. 116;
Ryan A. The philosophy of the social sciences. L., 1970. PP. 182—194. Но вообще личностные
свойства дают плохие модели для обществ (и наоборот*.
- Возможно, Маркс ближе всего подходит к
формулировке такого понимания истории: «История есть не что иное, как
последовательная смена отдельных поколений, каждое из которых использует
материалы, капиталы, производительные силы, переданные ему всеми
предшествующими поколениями; в силу этого данное поколение, с одной
стороны, продолжает унаследованную деятельность при совершенно
изменившихся условиях, а с другой — видоизменяет старые условия
посредством совершенно измененной деятельности» (Маркс К., Энгельс Ф.
Немецкая идеология. Соч. Т. 3, с. 44—45). Познавательная дистанция,
установленная в модели IV между обществом и людьми, указывает также, по
крайней мере схематично, путь, каким можно придать содержание этому
превозносимому марксистскому положению, что «люди делают историю сами, но
не в условиях собственного выбора». «Люди» здесь должны, конечно,
пониматься не просто как действующие «идиосинкразически», но как
выражающие определенные и общие интересы и потребности конкретных слоев и
классов, там, где эти последние определены, в первом приближении, своими
различными отношениями (владения, доступа и т. п.) к средствам (ресурсам)
производства, образующим структурные условия действия. Эти производственные
ресурсы, в свою очередь, следует понимать обобщенно, так чтобы в принципе
включать, например, политические, культурные и чисто экономические
ресурсы.
- См.: A realist theory of science. P. 113. См. также: Polanyi M.
The Tacit dimension. L., 1967. Ch. 2.
- Durkheim E.
The rules of sociological method. P. 3.
- См.: Weber M. Economy and Society. N. Y., 1968. P.
4.
- См.: W right G.H. von. Norm and action. L., 1963.
P. 10.
- Разумеется, человеческие популяции тоже
непрерывны и обеспечивают биологическую основу общественного бытия. Но объяснение
их социальных качеств, случайно ли найденных или нет, должно развиваться
либо в реляционном, либо в коллективистском направлениях. И потому
популяции не могут обеспечить нужного социально-онтологического основания
без обращения к вопросу, который мы здесь затрагиваем.
- Ср.: Маркс: «Фигуры капиталиста и земельного
собственника я рисую далеко не в розовом свете. Но здесь дело идет о лицах
лишь постольку, поскольку они являются олицетворением экономических
категорий, носителями определенных классовых отношений и интересов. Я
смотрю на развитие экономической общественной формации как на
естественноисторический процесс; поэтому, с моей точки зрения, меньше, чем
с какой бы то ни было другой, отдельное лицо можно считать ответственным
за те условия, продуктом которых в социальном смысле оно остается, как бы
ни возвышалось оно над ними субъективно» (Маркс К. Капитал. Маркс К.,
Энгельс Ф. Соч. Т. 23, с. 10).
- Особенно см.: Parsons T.
The structure of social action. N.Y., 1959. PP. 88—94 and passim.
- По Марксу, люди «начинают отличать себя от
животных, как только начинают производить необходимые им средства к
жизни...». (Немецкая идеология, Соч., Т. 3. С. 19.) «...Мы должны прежде
всего констатировать первую предпосылку всякого человеческого
существования, а следовательно и всякой истории..., что люди Должны иметь
возможность жить, чтобы быть в состоянии «делать историю». Но для жизни
нужны прежде всего пища и питье, жилище, одежда и еще кое-что. Итак,
первый исторический акт, это — производство средств, необходимых для
удовлетворения этих потребностей, производство самой материальной жизни»
(там же, с. 26). «Первый исторический акт» следует, конечно, понимать в
аналитическом, а не хронологическом смысле. Ср. также: «Каждая форма
общества имеет определенное производство, которое определяет место и
влияние всех остальных произ-водств. Это — общее освещение, в котором
исчезают все другие цвета и которое модифицирует их в их особенностях. Это
— особый эфир, который определяет Удельный вес всего сущего, что в нем
обнаруживается». (Маркс К. Введение (Из
экономических
рукописей 1857—1858 годов). Маркс
К., Энгельс ф Соч. Т. 12, с. 733.)
- Для марксизма всегда было проблемой найти способ
избежать и экономического (или, еще хуже, — технологического) редукционизма,
и исторического эклектизма, так что это действительно порождало некоторые
содержательные историографические суждения. И Маркс и Энгельс сознавали
эту проблему. Так, Энгельс был вынужден усиленно подчеркивать: «Согласно
материалистическому пониманию истории в историческом процессе
определяющим моментом в конечном счете является производство и
воспроизводство действительной жизни. Ни я, ни Маркс большего никогда не
утверждали. Если же кто-нибудь искажает это положение в том смысле, что
экономический момент является будто единственно определяющим моментом, то
он превращает это утверждение в ничего не говорящую, абстрактную,
бессмысленную фразу. Экономическое положение — это базис, но на ход
исторической борьбы также оказывают влияние и во многих случаях
определяют преимущественно форму ее различные моменты надстройки...
Существует взаимодействие всех этих моментов, в котором экономическое
движение как необходимое в конечном счете прокладывает себе дорогу сквозь
бесконечное множество случайностей...» (Энгельс ф. Письмо И. Блоху 21
сентября 1890 г. — Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 37, с. 394—395). Но как
надо понимать эту конечную необходимость? Маркс дает некоторый ключ.
Отвечая на одно возражение, он допускает известную разумность в суждении,
будто его взгляд, что «способ производства материальной жизни обусловливает
социальный, политический и духовный процессы жизни вообще, — все это ...
справедливо по отношению к современному миру, когда господствуют материальные
интересы, но непременимо ни к средним векам, когда господствовал
католицизм, ни к древним Афинам или Риму, где господствовала политика». Но
Маркс тут же настаивает: «Ясно, ... что средние века не могли жить католицизмом,
а античный мир — политикой |одной]. Наоборот, тот способ, каким в эти
эпохи добывались средства к жизни, объясняет, почему в одном случае
главную роль играла политика, а в другом — католицизм» (М арке К. Капитал.
Там же. Т. 23. С. 92). Альтюссер попытался теоретически оформить эту интуицию,
говоря, что именно экономика детерминирует, какая из относительно
автономных структур оказывается главенствующей (доминантной). Althusser L.
For Marx. L., 1969. Ch. 2, 6; Althusser L. and Ball bat E. Reading Capital.
L., 1970.
- Особенно см.: Colletti L.
Marxism and dialectic.//New Left Review. 1975; Oilman B. Op. cit.
- См.: A realist theory of science, esp. PP. 173—174.
- Ibid., esp.
Ch. 2. Sec. 6.
- 45. cм. Elias N. The sciences: towards a
theory.//Social Processes of scientific development. Ed. by R. W h i 11 e
y. L., 1974.
- L a b r i о I a A. Essays on the materialistic conception of
history. Chicago. 1904.
- Кант И. Критика чистого разума. Соч. Т. 3, М.,
1964, с. 155: «Мысли без содержания пусты, созерцания без понятий слепы».
А. Ф. Филиппов. СОЦИОЛОГИЯ И КОСМОС*
СУВЕРЕНИТЕТ ГОСУДАРСТВА И СУВЕРЕННОСТЬ СОЦИАЛЬНОГО
*© А. Ф. Ф и л и п п о в.
Любая наука,
коль скоро она достигает определенной точки теоретического напряжения,
сталкивается с проблемой Космоса. Как устроен миропорядок и существует ли
таковой вообще? — нетрудно представить себе этот законный вопрос в той или иной
формулировке в рамках точного естествознания. Не всегда чужды ему и биологи.
Законность его в философии и теологии очевидна. Но социология в лучшем случае
имеет дело с представлениями людей о Космосе. Между современной социологией и
современной космологией, кажется, нет никаких точек пересечения1.
Более того, само возникновение теоретической социологии происходило параллельно
с утратой социальной мыслью Запада идеи Космоса; социальное как предмет
социологии все больше замыкалось в себе, утрачивало перспективу иерархически
расчлененного миропорядка, само для себя становилось Космосом.
И, однако, при
этом обнаружилась интересная особенность: мыслить социальное «само по себе»
оказалось невозможным. «Космос», «мир», «универсум» так или иначе проникают в
социологические построения. А это — не только чисто теоретическая проблема.
Это также характерная черта самого современного общества. Доказать это в рамках
одной статьи нельзя, но можно показать, определенным образом структурировав, в
общем, хорошо известный и общедоступный материал из истории идей. Это знание
автор заранее предполагает в читателе: в ином случае та расстановка акцентов,
которая тут предлагается, была бы слишком рискованным предприятием.
I
Исходные позиции
для нашего изложения мы обнаруживаем в классической социологии. При том
разнообразии подходов и концепций, которое столь характерно для современной
социологии, классики удобны по крайней мере тем, что в этом своем качестве
бесспорны. Но они удобны еще в одном отношении. Социология может быть названа
классической в силу тех же определений, что и любая другая наука: с формальной
стороны, это историческая судьба той или иной концепции, а содержательно, вне
всякой оценочной характеристики и исторической судьбы, классической может быть
названа наука, конституирующаяся через обоснование своей суверенности,
независимости установляемых в ней положений от положений других наук или иных
областей знания, в каких бы формах они ни выступали. Дальнейшее развитие показывает,
удается ли ей выдержать соблюдение этого требования и насколько оно вообще оказывается
в том или ином случае продуктивным. Не будем касаться наук о природе. Не всякий
готов согласиться, что в указанном выше смысле точное естествознание Ньютона и
неовиталистическая биология X. Дриша одинаково классичны. Однако в отношении
наук гуманитарных можно проследить несомненный параллелизм между классической
английской политэкономией, социологией Э. Дюркгейма и М. Вебера, чистым учением
о праве X. Кельзена, психологией 3. Фрейда и т. д.
Сошлемся в этой
связи на сочинение, написанное именно в период становления классической
социологии, хотя и не сыгравшее в этом развитии сколько-нибудь заметной роли.
Речь идет о «Философии хозяйства» С. Н. Булгакова. Как пишет Булгаков,
«растущая специализация есть закон развития науки. (...) Каждая наука дает свою
картину мира, установляет свою действительность, которая может сближаться, но
может быть и совершенно далека от действительности другой науки. Каждая наука
создает свой собственный Космос, стремясь выработать законченную систему
научных понятий» (разрядка моя. — А. Ф.) 2. Это высказывание
Булгакова интересно, наряду с прочим, и в чисто терминологическом отношении.
Для того философского круга, в котором он находился, было характерно скорее
иное, всеобъемлющее понятие Космоса, да и в самой «Философии хозяйства» мы
читаем ранее: «Предположение нескольких вселенных необходимо включало бы и их
взаимодействие, т. е. только расширяло бы понятие вселенной, превращая ее в
систему нескольких миров, образующих единство космоса...» 3 Это
явно уже второе понятие космоса — как вселенной, как универсума взаимосвязанных
и взаимопроникающих сил. Расширенное понятие этого универсума, в сущности, уже
третье понятие Космоса мы получаем, принимая во внимание, что «над дольним
миром реет горняя София... принимающая на себя космическое действие Логоса,
причастная Его воздействию, передает эти божественные силы нашему миру,
просветляя его, поднимая его из хаоса к Космосу» 4. Легко предположить,
что Булгаков не позволял себе терминологического произвола, а это значит, что
его высказывание о собственном космосе специальной науки вполне может
послужить для нас серьезным отправным пунктом.
Обратимся теперь
уже собственно к социологии. Основанием
для дальнейших рассуждений будет один из основных текстов современной
теоретической социологии, написанный примерно в то же время, что и «Философия
хозяйства». Это небольшая работа М. Вебера, включенная им в состав
«Хозяйственной этики мировых религий» и носящая название «Промежуточное
рассмотрение. Теория ступеней и направлений религиозного неприятия мира». В
использовании понятия «космос» мы обнаружим тут такую же примечательную
многозначность.
Правда, Вебер
далек от онтологических построений. Поэтому первое понятие космоса мы встречаем
у него в самом естественном для его социологии контексте. Речь идет не о самом
Космосе, как у Булгакова, но об «акосмизме» как характеристике
религиозно-этических установок, которому, кажется, лишь один раз противопоставляется
«космическое, рациональное требование братства» 5. Понятие
акосмизма («акосмизма любви», «акосмической доброты» 6) вводится
сначала в самом общем смысле: религии спасения с их этикой религиозного братства,
выступая как конститутивный принцип организации общины верующих и все более
универсализуясь, входят в столкновение с «порядками и ценностями мира» 7.
«Акосмизм» тут заключается в том, что этика братства строится на
последовательном проведении своих собственных принципов, вне привязки к
структурам мира. Этот «мир», не получающий дальнейших квалификаций, и следует,
видимо, в данном контексте считать «космосом». Что касается «космического...
требования братства», то оно, по Веберу, присуще «органической социальной
этике», стремящейся неравенство в харизме (т. е. то, что спасение доступно
лишь некоторым, а не всем людям) связать с мирским членением общества на
сословия. В результате образуется «космос угодной Богу деятельности,
распределенной по профессиям и упорядоченной» 8, в котором каждый
человек и каждая социальная группа предназначены к выполнению определенных
задач в соответствии с личной харизмой и с выпавшим им на долю социальным и экономическим
положением. Это уже «космос» во втором смысле, так сказать, «социальный
космос». Но через соответствующую теодицею этот космос разомкнут на мир в
целом, который в таком понимании тоже является Космосом, которому и соответствуют
рациональные этические требования.
Но самым частым
в «Промежуточном рассмотрении» оказывается иное употребление понятия «космос».
Напряженные отношения к миру, характерные для религий спасения, Вебер
специально прослеживает применительно к отдельным, как он поначалу называет
их, «сферам» 9. «Сфера» — понятие чисто служебное, удобный термин
без большой нагрузки, и только привычный сервилизм нашего обществоведения мог
в свое время породить «теоретические» труды о «социальной сфере». Недаром в
ближайшем контексте Вебер подменяет «сферу» «силой»: первая сила, в конфликт с
которой попадает чисто религиозное сообщество, — это «естественное Родовое
сообщество» 10 . Еще одно обозначение — уже приведенная выше формула «порядки и ценности мира» — выражение, как видно из контекста, вполне взаимозаменимое
со «сферой» 11.
Вебер и дальше в процессе изложения не
оказывается ни от термина «сфера» (например, он говорит об «эстетической и
эротической сфере» 12), ни от выражения «порядки мира» (например, «политические порядки мира»
13). Но как только дело доходит до конкретной характеристики этой «сферы» или «порядка», как правило, всплывает
понятие «космос».
Так, в общем, Вебер говорит об экономической сфере. Но, характеризуя следующее своим
рациональным критериям хозяйство, он вполне определенно пишет: «Космос
современного рационального капиталистического хозяйства становился
... чем больше он следовал
своим собственным имманентным законам, тем более недоступным всякому мыслимому
отнесению к религиозной этике братства»14. Немного ниже, в контексте
рассуждений о пуританской этике профессионального призвания, Вебер
вновь говорит об «экономическом
космосе» 15. То же самое — применительно к искусству. В принципе это — «эстетическая сфера».
Но, все больше следуя своим собственным законам, «искусство теперь
конституируется как космос все сознательнее постигаемых собственных самостоятельных ценностей» 16.
Большой фрагмент о политике не содержит
тут упоминания о Космосе. Правда, терминологически Вебер последователен: «акосмическая
доброта и братство мистических поисков спасения» однозначно сопряжена у него с
их «радикальным аполитизмом»
17. Но дело в том,
что в данном фрагменте политика рассматривается Вебером в первую очередь как
насилие и война, а не как рациональное предприятие, о чем он говорит тут более
чем скупо. Зато нижеследующие рассуждения звучат опять-таки вполне определенно:
«Внешний порядок социального сообщества, чем больше он становился культурным
сообществом государственного космоса..»18, всюду явно мог быть сохранен лишь при
помощи грубой силы, мало заботящейся о справедливости. И за этим опять следует
высказывание об «овеществленном экономическом космосе»19. А вот
применительно к
эротической сфере о Космосе совсем не говорится: все более следуя своим
законам, она именно поэтому вела к самой иррациональной и притом реальной
сердцевине жизни20. На другом полюсе находится
рациональное познание, наиболее принципиально и сознательно противоречащее этическим постулатам религии. Эмпирическое
рациональное познание последовательно проводит раскол-довывание мира, превращая его в
каузальный механизм, цепочку причин и следствий. Это, конечно, полностью
противоречит «притязаниям этического постулата: что мир есть упорядоченный
Богом, то есть некоторым образом этически осмысленно ориентированный
космос»21. Эта идея развита Вебером в рассуждении столь важном, что следует привести его полностью:
«Рациональное познание, к которому апеллировала ведь и
сама этическая религиозность, образовало, автономно и светски следуя своим собственным
нормам, космос истин, который не только больше не имеет никакого отношения к
постулатам рациональной религиозной этики,
а именно: что мир как космос удовлетворяет ее требованиям или обнаруживает какой-либо «смысл»,
— но принципиально должен был
отвергнуть это притязание. Космос естественной каузальности и постулированный космос этической каузальности
воздаяния находятся в непримиримом противоречии. И хотя наука, которая создала этот первый, по-видимому, не могла надежно удостоверить свои собственные предпосылки, она,
именем «интеллектуальной честности»,
выступила с притязанием на то, что именно она является единственно возможной формой мыслящего рассмотрения мира»22.
Итак, можно, кажется, утверждать, что
Вебер употребляет понятие «космос» не случайно. Ему требуется столкнуть «мир
как космос», космос рациональной религиозной
этики с вычленившими-ся отдельными сферами, которые при полной рационализации и
следовании своим собственным
законам не нуждаются больше в религиозно-этическом
обосновании или оправдании. Политика (как война) и эротика могут не менее или даже более полно захватывать человека, чем обозначаемые как «космос» сферы. Но они
иррациональны, соприкасаются с глубинным корнем жизни (эротика) и
смерти (политика как война), а космос по своему понятию всеобъемлющ и рационален.
То, что рассуждения Вебера не
онтологичны, тут ничего не меняет. Конечно, нельзя трактовать его слова так,
что реальный Космос раскалывается. Вебер
пишет о людях, их воззрениях и мотивируемом
этими воззрениями поведении. Однако и это не так просто расшифровывается. Зададим по поводу
приведенных рассуждений Вебера
только два вопроса: во-первых, где находится наблюдатель? И во-вторых, что мешает нам
трактовать перечисленные «космосы»
как региональные онтологии] Вопрос о месте наблюдателя (его можно также формулировать в терминах
«кибернетики второго порядка» — см. об этом статьи Д. Беккера и Н.
Лумана, с. 189—216 наст, изд.) возникает
потому, что ни один из «космосов», включая
и космос рациональной науки, не дает той перспективы, в которой были описаны вычленения самостоятельных
сфер. Несмотря на то что сам Вебер
говорил о позиции ученого, политика, художника и т. п., в частности, в
своих знаменитых докладах «Наука как профессия» и «Политика как профессия», не
наводит ли сама возможность говорить о
расщеплении космосов или о «войне богов» на мысль об универсальном наблюдателе! Если Вебер фактически избрал
для себя позицию ученого, то не с этой позиции говорит он о возможности и даже
необходимости избрать для себя служение лишь одному «богу». Универсального
наблюдателя в философии (например, у
Гуссерля) называют «трансцендентальным наблюдателем». Но к социологии
это непосредственно применено быть не может.
Не менее сложен и
вопрос о «региональных», «частных» онтоло-гиях. Здесь надо, во-первых, зафиксировать,
что независимо от собственной ориентации
Вебера его рассуждения звучали бы в этом ограниченном контексте точно так же, если бы он
описывал действительно расщепляющийся «космос». Точнее сказать, все эти частные
космосы могут быть трактованы и как обособившиеся сферы социального бытия. Но
тогда вопрос об охватывающем их единстве (все равно, возьмем ли мы его как «просветленный Софией» универсум —
следуя Булгакову, или как «единство различения» — следуя Дж. Спенсеру Брауну и
основывающемуся на его подходе Луману) оказывается по-прежнему нерешенным.
Таким образом, во-вторых, мы можем зафиксировать, что неопределенности в вопросе о наблюдателе соответствует неопределенность в
вопросе о «единстве различения».
Какой же все-таки «космос» расщепился? У Вебера мы
читаем о различных сферах, входящих в напряженные отношения со сферой религии.
Религия дает (если это универсальная, рациональная религия) совершенное видение
космоса. Находясь в сфере религии, не имея иного видения мира, кроме
религиозного, нельзя не только поставить вопрос о каком-то ином космосе, но и
признать существование этих частных космосов, о которых все время шла речь. Логика
всеединства представлена у нас выше высказываниями Булгакова. Но с позиции
универсального наблюдателя приходится ставить вопрос уже иначе. А именно:
можно трактовать выделение самостоятельных сфер как дифференциацию обнимающей их «социальности». И
можно ставить вопрос о том единстве, в котором различаются социальное и
не-социальное, т. е. о космосе в его самом широком понимании. Работы Вебера не позволят нам дальше
продвинуться в этом направлении. Обратимся поэтому к другому классику социологии — Э. Дюркгейму, проведшему
именно социологистичес-кую точку зрения исключительно последовательно.
Рассуждения Дюркгейма в его последнем крупном труде
«Элементарные формы религиозной жизни» примерно таковы. Представления людей о
мире и о самих себе имеют изначально религиозное происхождение. Всякая религия
есть не только спекуляция о «вещах божественных», но и космология. Поэтому она
прежде занимала место философии и науки, причем не только давала
содержательное знание, но
и формировала самый
интеллект23. Это связано с тем, что религия «в высшей степени социальна» —
«религиозные представления являются коллективными представлениями, которые
выражают коллективные реальности»24. Таким образом, самые общие
категории тоже социальны25. Но, по мысли Дюркгейма, социально
конституированные
категории, выработанные по модели «социальных вещей», содействуют мышлению об
иных, не-социальных сферах природы, ибо социальное есть то же самое
природное, только отличающееся
большей сложностью26. Хотя общество есть самостоятельная сфера, но в конечном счете «природа», видимо, все-таки
едина.
Коллективные представления, в том числе
космологические идеи и общие категории, авторитетны для индивида. Они
рождены в ходе исключительно длительной и широкой кооперативной деятельности и концентрируют в
себе бесконечно более богатую и сложную интеллектуальную активность, чем та,
на какую способен индивид27. Однако одно то, что коллективные представления превосходят
возможности индивидуального духа, а коллективная реальность, в которой участвует индивид, трансцендирует его
отдельное существование, еще не вполне объясняет общеобязательности ряда
основополагающих категорий, в частности категорий мировйдения. Почему люди
пользуются одними и теми же категориями пространства, времени, причины, числа и
т. д.? Потому что и на этом, а не только на разделяемых ими общих моральных
нормах покоится возможность коллективного действия. И потому общество не может
предоставить индивиду свободу «логического выбора», не потребовав от
него минимума «логического
конформизма»: «Именно авторитет общества, переносящийся в определенный
образ мыслей, является необходимым условием всякого совместного действования» 28.
Среди общих категорий, роль которых столь важна,
Дюркгейм специально выделяет категорию «всецелости» («тотальности»). Личный опыт индивида
не позволяет ему уловить нечто большее, чем простую повторяемость тех или иных явлений.
Но непосредственно из
опыта он не может получить идею «класса», охватывающего все возможные объекты,
удовлетворяющие определенному условию. И уж тем более его узкий горизонт не позволяет
индивиду самостоятельно прийти к лежащей в основе классификаций идее «всего» 29
И тут мы подходим к одному из ключевых и весьма
двусмысленных пунктов аргументации Дюркгейма. Процитируем это место полностью:
«Поскольку мир, выражаемый всей системой понятий, является тем миром, который
рассматривается обществом, одно лишь общество может обеспечить те наиболее
общие понятия, при помощи которых он должен быть представлен. Такой объект
может быть охвачен лишь субъектом, содержащим все индивидуальные субъекты
внутри себя. Поскольку универсум не существует иначе, кроме как будучи
мыслимым, и поскольку он не мыслится полностью иначе, кроме как обществом, он
занимает некое место в этом последнем; он становится частью внутренней жизни
общества, в то время как оно есть всецелость, вне которой ничего не существует.
Категория всецелости есть лишь абстрактная форма категории общества: это целое,
которое включает все вещи, высший класс, который охватывает все остальные
классы. Таков конечный принцип, на котором покоятся все те примитивные
классификации, в которых существа из каждой сферы размещены и классифицированы
в социальные формы, в точности как люди». В примечании к этому месту Дюркгейм
добавляет: «В сущности, весьма вероятно, что категория всецелости, категория
общества и категория божественности суть лишь различные аспекты одного и того
же понятия»30. Двусмысленность здесь очевидно состоит в том, что
теоретик опять-таки оказывается «универсальным наблюдателем». При этом он в
одном месте говорит, что общество является частью природы, а в другом — что
универсум есть часть общества.
Конечно,
это происходит, в частности, из-за того, что в рассуждениях Дюркгейма все время
меняются перспективы. Одна из них — это перспектива относительно простого
общества с его однозначно разделяемыми «коллективными представлениями». Другая
— общество современное, дифференцированное, в котором наука и мораль образуют
относительно автономные сферы.
Вот как сам Дюркгейм дальше развивает
свою мысль. Для индивида, пишет он, общество выступает как нечто
универсальное, но отдельное общество само по себе еще индивидуально31, категории, которые
оно вырабатывает, еще несут на себе отпечаток этой осо-бости общества.
Совершенно чистый характер они обретают тогда, когда социальная жизнь начинает
развиваться по-новому. Интернационализация общественной жизни ведет к
универсализации религиозных верований. «Коллективный горизонт» расширяется, общество
перестает казаться единственным целым, но выступает как часть некоего более
огромного целого, границы которого неопределенны. Вещи перестают помещаться в
примитивных классификациях, выстроенных по образцу социального устройства,
логическая организация дифференцируется от социальной и приобретает автономность32И все-таки между наукой и
моралью нет антиномии, ибо источником их значимости является по-прежнему
общество, «наиболее могущественное сочетание физических и моральных
сил, пример которого дает нам природа»33.
Обратим внимание на самые важные здесь
для нас моменты. Дюркгейм, без сомнения, испытывал значительные сложности с называнием
того, что отлично от общества, а тем более — того, что обнимает, как некая
совокупная реальность, и общество, и природу.
В своем послесловии к лекциям Дюркгейма
о прагматизме современный теоретик X. Йоас сформулировал
одну из сторон этой проблемы. Йоас ставит вопрос о том, предполагает ли тезис
Дюркгейма о социальном конституировании категорий изначально ясное разделение
или же неразличенность социального и не-социального. Йоас указывает, что само
это разграничение в архаических культурах отличалось от наших представлений,
ибо из числа субъектов в них часто исключались, например, «чужаки», а, с другой
стороны, включались сюда умершие, отдельные растения и животные. В общем,
такова была и точка зрения Дюркгейма. «Но если мы примем изначальую
неразличенность социального и не-социального, то разговор о том, что классификация
социального только переносится на не-социальное, теряет тогда всякий смысл...
Однако если теория социального конституирования должна отличать границы социального мира на уровне исследуемой'культуры от
границ своего собственного, то отсюда следует, что по меньшей мере
происхождение различения социального и не-социального может рассматриваться
лишь такой теорией, которая своим исходным пунктом делает всю сферу встроенной
в природу общественной жизни» 34. (Для Йоаса, в частности, очень важно, что Дюркгейм
не рассматривает повседневную интеракцию людей, анализируя социальное
конституирование категорий.) Общество, как его описывает Дюркгейм, — это еще не
вся социальность, между тем как именно этой неисчерпывающей социальности приписывается основная роль в
конституировании общих
категорий.
Другая сторона проблемы состоит в том,
что Дюркгейм иногда делает общеонтологические высказывания. Так, в
четырнадцатой лекции о прагматизме он говорит о «реальности», которая никогда
не прекращала быть тем, что она есть, а только становилась сложнее. Помимо
изначального, наиболее прочного физического мира, образуются, не отрицая его,
мир биологический и мир социальный. Те же самые законы, которые некогда
господствовали в «первичном тумане», продолжают действовать и ныне в
стабилизировавшемся универсуме35. А в заключительной, двадцатой
лекции Дюркгейм говорит: «Потребность в различении и разделении присуща
вещам; дело не только в потребностях
духа. Вещи содержат в себе преизбыток различных элементов, могущих быть
разграниченными частей и разных аспектов. Следовательно, имеются могущие быть
различенными элементы, ибо они сами стремятся к тому, чтобы обособиться, но не так, чтобы дело дошло когда-либо до полного
разделения. В социальной жизни индивидуализация является лишь одной из
многочисленных форм, которые принимает эта тенденция к различению»36.
Такие утверждения
заставляют опять задавать все те же вопросы. Является ли общее
мироустройство таким, что и социальность не исключена из общего закона, причем так, что
социальные факты могут быть прямо интерпретированы как проявления этого общего
закона? Но что может тогда означать социальное конституирование категорий, в
том числе и тех категорий, в которых теоретик описывает это мироустройство?
Что означает тогда идея социологии — науки об обществе как
реальности sui generis?
Если не существует одно-го-единственного морального порядка, одной религии, одной
формы политического господства (и это можно понимать так, что нет никакого единства и во времена самого Дюркгейма, что
совершенно очевидно), если в связи с этим много говорится, что у нас
теперь нет единых, неизменных систем категорий37 , то под сомнение
ставится и та система категорий, в которой эти высказывания производятся, и та
идея сопряженности интернационализации общественной жизни с очищением,
«объективизацией» логических категорий, которую мы изложили выше.
Все эти вопросы мы приводим затем,
чтобы показать: социологизм плохо совместим с рассуждениями
общеонтологического порядка (что, пожалуй, и не нуждалось в столь подробном
обосновании), однако с необходимостью все снова и снова влечет теоретика к
этим рассуждениям. Простейшая причина этого — уже несколько Раз упоминавшаяся
позиция наблюдателя. Необходима некоторая Дистанцированность
от социума, чтобы сделать его объектом анализа (и тем более —
сравнительного анализа), то, что ХУ Плеснер называл «эксцентрической
позицией», а эта позиция должна фиксироваться в каких-то устойчивых
внесоциальных определениях. Как правило, в таких случаях напрашивается в первую
очередь позиция антропологическая, а если она, в свою очередь, разрабатывается достаточно последовательно, то возникает вопрос об
онтологическом месте
человека — в Космосе, в мире, в универсуме — как бы это ни называлось38. Если Вебер — и то не всегда эксплицитно —
ограничивался тут антропологической аргументацией, то Дюркгейм не
удержался от теоретического соблазна пройти несколько дальше. Однако Космос в
любом случае проникал в теоретические схемы: если не как собственная проблема
теории, то как факт существования религиозных космологии, продолжающий, даже
после своего распада, еще оказывать влияние
на культурную традицию и социальную жизнь. На этом мы можем пока ограничиться
исследованием того, как Космос проникал в социологическую теорию.
Вернуться к этой проблеме мы сможем не ранее, чем покажем, как он из нее исчез.
II
Относительно
времени возникновения социологии среди историков нет единодушия. Привязывая начало
ее развития к тому или иному историческому периоду, выдвигают обычно доводы
вполне солидные и, с известным разбросом, локализуют его в пределах Нового
времени39. Для этого есть серьезные основания: именно тогда
возникает «новая наука» — в некотором смысле: просто «современная наука» как
таковая, — и оформляется проблемное поле социологии
— гражданское общество, противопоставляемое государству. Впрочем, когда речь
заходит об истории идей, а не дисциплины, исследователи обращаются к
взглядам всех крупных мыслителей, в том числе античности и средних веков.
Мы попытаемся
установить одну из важных связей между историей идей и историей объекта. Общая
социология, все равно, откристаллизовалась ли она как дисциплина или еще нет,
рассматривает наиболее фундаментальные
определения социальности. Однако уже это — совершенно современная постановка
вопроса. Не говоря даже о том, что в ней
предполагается более полное, богатое видение социальных связей
(кто.вздумал бы сегодня с позиций, скажем, ин-теракционизма критиковать
Аристотеля за то, что в его типологии нашлось место для отношений «господин /
раб», но не нашлось — для отношений «раб /
раб»? — это было лишь следствием известной ограниченности в понимании
человека), но и в смысле чисто пространственной
всеохватности речь идет о совершенно ином, неведомом древним феномене.
Именно пространственную всеохватность мы и намерены сейчас акцентировать.
В принципе, уже применительно к тому же
Аристотелю, не был бы несообразным такой вопрос: не образуют ли между собой
города-государства ведомого мира какой-то тип связи, выступая не только как
«виды», но и как «части» некоего охватывающего их общения40? Конечно, для того, чтобы эта проблема вообще была
отчетливо понята, требуется, чтобы такое общение действительно
сформировалось, причем сформировалось в контексте тогдашнего понимания социальности, в котором
государство выступает как цель и
завершение домохозяйства и поселения, т. е. как наибольшее государство, как государство
государств — как Империя. Реальностям империи больше
соответствует и новое понимание человека, пренебрегающее достоинством полисного гражданства40a, универсальное и в конце концов уже не различающее свободного
и раба, грека / римлянина и варвара. Самое существование Империи, простирающейся
почти необозримо далеко и в тенденции поглощающей (обнимающей собой) все сообщества, осознавалось как факт этический и правовой.
Непосредственно отсюда нельзя выводить социологические идеи. Однако тут все взаимосвязано.
Посмотрим, например, как в современном географическом
труде излагается понятие пространства: «Земное пространство не имеет границ, но не протягивается при этом
беспредельно во всех направлениях. Оно сферично по форме и в силу этого
замкнуто, быть может, являя собой миниатюрную копию искривленного пространства Вселенной... Земное
пространство заполнено самыми разнообразными как вещественными, так и невещественными субстанциями,
которые сосуществуют на поверхности Земли.... Перекрещивающиеся взаимосвязи
вещей и событий разного происхождения на поверхности Земли образуют системы
функционально связанных элементов...»40b? Очевидно, что и современный социолог,
рассуждающий, как Луман,
о «мировом обществе» или, как И. Уоллерстейн, о «мировой системе»41,
имеет в виду специфическое преломление той же реальности, что и современный
географ. Современное общество безгранично, но не беспредельно, подобно той
земной поверхности, которую
оно занимает. Именно исходя из этой аналогии нам легче будет подойти к идее о
значении Империи. Ибо такая непосредственная аналогия географическое /
социологическое — это тоже вполне современное представление, в котором уже отсутствуют традиционные
представления о части и целом. В современной идее мирового общества уже отсутствует то
единство «порядка и локализации», о котором говорил Карл Шмитт41a. Империя — это не часть более обширного государства, это не
часть и не местоположение в пространстве мира, даже если судить о нем
по тогдашним географическим
представлениям. Это идея социума, организованного как пространство закона.
Однако
о какой Империи может идти речь? История Римской империи демонстрирует
известную ограниченность
и политического, и правового,
и этического универсализма. А. Демпф говорит об этом весьма точно:
«Всемирно-исторической заслугой Константина (речь идет о Константине Великом. — А. Ф.) является то, что он увидел свою задачу в необходимости
поддержать бессильное и бесправное в миру Христианство. Римское государство на стадии
вполне сформированного
абсолютизма находилось в двойственной ситуации. У него была безусловная власть,
но отсутствовало доверие народа, °но было почти неограниченно в своем правотворчестве,
однако его праву
недоставало общественного одобрения, которое только и делает власть правом,
этой народоопределяющей, формирующей силой нравственно-правового строя народа. ...То, что
Константин увидел в Христианстве свободный строй доверия, воспитывающий народ
авторитет и, через учительствующий авторитет, общественное мировоззрение, —
это и есть политический смысл его эдикта о религии»41b. Однако это был еще далеко недостаточный шаг. Мы не
можем, разумеется, последовать за всеми рассуждениями Демпфа в его
фундаментальном труде о «Священной Империи». Приведем все же еще несколько
безусловно важных для нас высказываний.
«Деяние
Константина, — пишет далее Демпф, — лишь наполовину достигло своей цели.
Правда, церковь стала имперской церковью, но она не есть народная церковь в
том большом смысле, что она охватывала бы один христианский народ с его
христианским государством»42. Христианский народ, народная церковь,
христианское государство и христианская культура возникают, по мысли Демпфа,
лишь в Священной Римской империи германской нации — империи Карла Великого43.
При этом «церковь и государство различались между собой внутри охватывающего
их Христианства, а это для Запада было все известное ему человечество, сам мир
как таковой»44.
Итак,
христианский мир, христианская империя. Одно это могло бы увести наше изложение
бесконечно далеко, если бы мы обратились непосредственно к первоисточникам. В
нашем случае более целесообразно опереться на уже существующие исторические труды,
причем не столько философские, сколько правоведческие. В их интерпретации даже
достаточно традиционные общие характеристики средневекового мировоззрения
приобретают особый смысл.
Процитируем
сначала классическое сочинение О. фон Гирке о И. Альтузии. Гирке говорит о
теократической идее, пронизывающей средневековое мировоззрение, о том, что
исходным тут было представление об универсуме, одушевленном Единым Духом, и
организме, образованном по Единому Закону (макрокосме), каждая часть которого
отражала целое (микрокосм). Поэтому и высшие принципы учения об обществе
заимствовались из этих представлений. Исходным принципом всякой социальной
конструкции считался при этом принцип единства. «Поэтому человечество в его
тотальности, понимавшееся как особое целое в мировом целом, имеющее особую
совокупную цель, выступало как основанное самим Богом и монархически
управляемое единое государство (в примечании к этому месту Гирке приводит
основные понятия: "corpus mysticum", "univer-sitas",
"respublica", "communutas", "politia",
"populus unus", "ec-clesia" в самом широком смысле — все
они означают это единое, большое государство), которое должно было находить
выражение во вполне двуединых порядках: универсальной церкви и универсальном
царстве, и каждое частное целое, церковное или светское, выводило опять-таки
из этого высшего учреждающего единства свою особую единую сущность»44a. Любопытнейшим образом эту общую характеристику мы
сможем конкретизировать, обратившись к работе другого крупного
правоведа, специалиста по международному праву ф. А. фон дер Хайдте, «Час рождения суверенного государства».
Охарактеризовав идею сведения множества к единству (то, чем является целое
относительно своих членов, само опять-таки есть член большего целого, и т. д., пока все частичные целые
не сольются «в единую совокупность, в духовную
целостность космоса, в Бога»45), он доказывает далее, что для
политического мышления той эпохи не характерно соотнесение индивида
непосредственно с объемлющим целым Империи. Напротив, подчеркивалась ступенчатая связь через промежуточные сообщества
и союзы. А с этим сопрягается и третья особенность: «Космополитические идеи,
идеи угодного богу человеческого сообщества знала и древность, знала, прежде
всего, идущая к закату античность: в конечном счете ей мерещилось именно всемирное
гражданство, именно мировое государство, непосредственными
членами которого являются отдельные люди. Лишь средневековью известна мысль об
органически расчлененном, охватывающем всю землю сообществе, сообществе, которое
образуется не непосредственно из отдельных индивидов как граждан мира, но — как
communitas communitatum — органически составляется из ряда союзов господства и
лишь через целый ряд промежуточных ступеней ведет к отдельному человеку»46. Это органически расчлененное сообщество и есть
«Священная империя».
Хайдте — вслед за Гирке — не склонен
отождествлять современное и средневековое понятие государства и признает
справедливость предложенного им понятия
«товарищества»47. Впрочем, вслед за Г. Миттайзом (на которого
мы еще будем ссылаться), он и не
противопоставляет «государство» и «рейх», хотя основная схема его рассуждения именно такова: собственно
государства возникли, только
вычленившись из «рейха», из Империи.
По мнению Гирке, поколеблено это
целостное мировоззрение было сначала именно со стороны церкви, когда Папа
Григорий VII (1073—1085)
объявил государство делом дьявола и творением греха
— дабы подчеркнуть, что государство освящается лишь церковью.
Тем настойчивее отстаивали «государственники» идею о непосредственно
божественном происхождении светской власти. Однако уже в эпоху средневековья
теократическая идея была поколеблена и
окончательно разрушена новой философией государства, испытавшей
значительное влияние античных концепций. Так, акцентирование естественных влечений как причины возникновения государства все больше вытесняет идею
Бога-учредителя и т. д. Новое возрождение теократического начала
связано с Реформацией, и именно противники Реформации, мыслители Доминиканского
и Иезуитского орденов, выдвинули на
передний план светскую конструкцию
государства47a.
Под иным углом
зрения рассматривает это Хайдте. Во-первых, он подчеркивает, что
попытки превратить «рейх», Империю, в универсальное государство,
предпринимались ли они папами или императорами дома
Гогенштауфенов, привели к тому, что он пал не только как историческое
явление, но и как идея. Главное здесь — коренное изменение картины мира, совершившееся в
XIII—XIV вв «Верхушка
старого иерархического порядка, империя и церковь как мирская
власть отступили на задний план и поблекли; определенные сообщества,
стоявшие в иерархии союзов на более низкой, чем
империя, ступени, уплотнились. Сверху, от империи, они притянули к себе совершенную власть и свободу
политического действия и не признавали уже над собой никакого главы, никакой
решающей инстанции. С другой же
стороны, они впитали в себя сообщества, находившиеся ниже их, и уничтожили их собственную правовую жизнь; они
присвоили себе исключительное право через войну или судебный приговор выносить решения о жизни и
смерти людей»48.
Этот момент в
изложении Хайдте чрезвычайно важен для нас. Империя как (все)
охватывающее целое, как своего рода социальный космос, не есть
«универсальное государство». Она включена в такую картину мира, которая не позволяет
редуцировать все составляющие этого
космоса к имперскому единству. Она не может не быть христианской светской империей — что свидетельствует как о
полноте, так и об ограниченности ее компетенции. Прервем в этом месте изложение книги Хайдте, чтобы несколько
более полно проиллюстрировать этот момент с помощью авторитетного первоисточника.
Этот источник —
знаменитый трактат Данте «Монархия». Для Хайдте это не первостепенный автор, в
ряду таких, например, как Отто фон Фрейзинг, Лупольд Бебенбургский
или Эгидий Колонна. Данте — поэт и пророк, пишущий о мирообъемлющей Империи
именно тогда (начало XIV в.), когда она
окончательно распадается. По «Монархии»
Данте столь же мало можно судить о реальностях того времени, как и по «Государству» Платона или «Утопии» Т.
Мора49. Но в таком ряду этот трактат оказывается тем более важным для наших целей! (Впрочем, и для юриста
Гирке «Монархия» — первостепенный
источник.)
Трактат Данте делится на три части
соответственно трем основным вопросам,
разрешению которых он посвящен: во-первых, необходима ли монархия для «благосостояния мира»? «Во-вторых, по
праву ли стяжал себе исполнение должности монархии народ римский?» «В-третьих, зависит ли авторитет
Монархии непосредственно от Бога
или же он зависит от служителя Бога или его наместника?» (I,
II, З)50. В терминологическом отношении важно, что речь идет о
«преходящей», существующей во времени монархии (в цитируемом русском переводе
"temporalis Monarhia" передается как «светская монархия»), и что эта
«временная» монархия есть для Данте то же, что и империя (I, II, 2).
Ответ на первый вопрос — и ответ,
конечно, утвердительный — Данте
обосновывает телеологическим образом, выстраивая следующий порядок целей:
«...одна цель, ради которой предвечный Бог своим искусством (каковым является
природа) приводит к бытию единичного человека, другая — ради которой
он упорядочивает семейную
жизнь, третья — ради которой он упорядочивает поселение, еще иная — город, и
еще иная — королевство, и, наконец, существует
последняя цель, ради которой он упорядочивает весь вообще человеческий род» (I,
III, 2).
Если еще и принять во внимание, что
словами «семейную жизнь»
переводчик передал здесь "domes-ticam communitatem", т. е. дом
как сообщество, то социологическое преодоление известной типологии, идущей от
Аристотеля, именно в связи с идеей Империи становится тем более очевидным.
Ради «последней
цели» весь человеческий род и упорядочивается в нечто одно, т. е. в
империю, или монархию. Однако на человечестве еще не прерывается ряд часть/целое:
выступая как нечто целое относительно
частей, оно само есть часть объемлющего целого, а именно «вселенной» (I,
VII, 1). А отсюда следует, что благо-устроение человеческого рода в единстве Монархии
необходимо для благополучия мира (I, VII,
3). Таким образом, не только универсальный социум зависит от Космоса как его
часть, но и Космос зависит от социума.
Принципиально
важно и то, что, по Данте, римляне стремились именно к такому
благоустройству мира, включая в свою империю весь круг земель
(доказательству этого посвящена вся вторая книга «Монархии», см. в особенности: II,
V и II, X).
А раз империя существовала еще до
возникновения церкви, то невозможно утверждать, будто авторитет империи зависит от авторитета церкви (это только
один из многих аргументов, какими Данте доказывал в книге III
суверенность светской власти; см. в особенности: III, XII
— XIV).
Конечно, не у
одного Данте можно встретить такие утверждения. Правы авторы
введения к новейшему латинско-немецкому изданию «Монархии»,
пишущие, что оригинальность трактата состоит вовсе не в самих по себе ответах на
указанные три вопроса51. Заслуга
Данте, по их мнению, состояла в другом: в последовательном философском обосновании предложенных
тезисов, в трактовке цели и
деятельности человеческого рода (человечество в целом актуализирует «возможный интеллект», осуществляя полноту познания).
Однако без ссылки на Данте не обходится ни один из историков политической мысли и политической практики этого периода: слишком велико было совокупное значение
«Монархии».
Вот что писал
известный историк Г. Миттайз: «Около 1300 года сломлена в своей
исторической действительности идея римско-христианской,
универсальной Империи под немецким руководством; лишь короткое время, при Генрихе VII
и Людвиге Баварском, могло казаться, будто
имперский орел намерен еще раз расправить свои крылья, будто бы
исполняются все же сокровенные мечты возвышенно
настроенных политических мыслителей. Еще раз сверкнет имперская идея в
труде Данте Алигъери; но и итальянские теоретики
обычного права, постглоссаторы из Болоньи, еще попытались соединить идею единой, всеохватывающей
имперской власти и ее универсального притязания на право с
реальностью особых политических образований,
поскольку они понимали особенное как форму общего, власть отдельного
государства как участие в имперской
власти»52.
Тем более
существенно, что именно такие совершенные прерогативы стремилось
себе отвоевать становящееся государство! Отдельное — и в то же
время суверенное, включенное в иерархический миропорядок, — и в
то же время заключающее в себе в тенденции как бы «слишком
много» полноты. Правда, это еще долго не замечается. Новые
представления о государстве вписываются в картину мира, еще
достаточно традиционную. Как пишет Хайдте, для современных этому
процессу мыслителей государство означало «природу и волю к природе»; это "corpus", «Космос», божественный закон
и воля к его исполнению. Через исполнение этого закона государство обретает свою действительность в своей
области бытия. В расчлененной
картине мира признается исключительность его требований, если в своей собственной области оно признает универсальный закон бытия и формирует внутри себя идею
порядка, ориентируя этот порядок на
Бога53.
В развитии идеи
нет постепенности, нет однолинейной закономерности. Так, первым,
кто выстраивал концепцию, не знающую никакой политической
охватывающей общности, был, уже за 200 лет до Данте, Иоанн
Солсберийский54. Точно так же обстоит дело и с международным
правом. Одно дело — общая идея Империи, другое — политическая теория,
учитывающая, в частности, и существование не-христианских,
языческих государств, и необходимость установления отношений
между государствами христианскими и языческими. И совершенно
другое дело — понимание международного права как особого
рода порядка, возникающего именно между суверенными
государствами.
III
Итак, если идея Империи как
организованного в расчлененное государственное единство и встроенного в Космос
человечества может служить здесь отправным пунктом, то идея
суверенности государства,
над которым никакой высшей общности уже нет, а есть лишь Космос, Бог и
божественный закон, выступает как важная промежуточная стадия. Проиллюстрируем
и эту идею некоторыми примерами из авторитетных источников.
Первым из них может послужить концепция государственного
суверенитета и международного права Ф. Суареса. Выдающаяся роль Суареса в
трактовке международного права хорошо известна. Укажем лишь на самый
существенный момент. В течение многих веков международное право понималось как
один из подуровней вечного, божественного закона. В классической, вошедшей
в Дигесты формулировке
Ульпиана различие между правом естественным и правом народов — это различие
рода и вида: естественное право охватывает все живые существа, включая
животных, а право
народов относится только к людям55 (между прочим, здесь нетрудно
усмотреть параллель к утверждению, например, Ф. Тенниса, что социология
разделяется на общую и специальную; в то время как общая рассматривает
также и начала социальности, имеющей место в растительных
и животных сообществах, специальная социология посвящена
лишь сообществам человеческим56). Конечно, имелись и другие
определения. Так, Исидор Севильский перечисляет объекты международного
права, такие, как ведение войны, заключение мира, союза, взятие в плен и
т. д., что относится именно к области межгосударственных
отношений. А определения Исидора Севиль-ского переходят, в частности, в «Декрет
Грациана», первую и одну из
важнейших частей «Свода канонического права»57.
Однако логическим образом впервые развил понятие права народов
как особой сферы межгосударственных отношений именно Суарес.
Приведем несколько
важных положений Суареса58. В трактате «О
законах и Боге-законодателе» он отвергает представление о том, что
право народов подпадает под естественное право. Признавая, что
и естественное право, и право народов некоторым образом общи всем
людям, что то, ъко среди людей они находят свое применение (что
касается естественного права, то по отношению к нему это справедливо
во всяком случае «по большей части»), а также что и то, и другое право
содержат в себе запреты и заповеди (см.: II, XIX,
1), — итак, признавая все это, Суарес констатирует важнейшее между ними различие: предписания права народов проистекают не из «природы вещи», не выводятся очевидным
образом из естественных принципов — все это относится к области права естественного. И запреты в праве народов следуют не из
того, что нечто является — само по себе — «злым»: это тоже естественное право.
Но право народов является не «показывающим» (ostensivum), а установляющим
(constitutivum): не запрет вытекает из зла, но зло из запрета (II, XIX, 2)!
Конечно, при-этом выясняется, что право народов не-неизменно, ибо не-необходимо
в той же мере, что естественное право (это второе различие) и сходство их не
полно даже там, где они, как кажется,
совпадают (это третье различие). Однако главное состоит именно в том, что право
народов есть право человеческое и позитивное. Вместе с тем оно отличается и от
гражданского права, ибо оно есть право неписанное, привычка, общая почти для
всех «наций» (см.: II, XIX, 4—6). Причина этого в том, что род человеческий,
разделенный на народы и государства, всегда имеет некое единство; не просто
единство рода, но «как бы политическое и нравственное» (II, XIX, 9; И. де Фриз
не удержался от соблазна передать это место так: «...единство как бы
политического, требуемого нравственным законом сообщества»). Правда, продолжает
Суарес, всякое политическое образование (он перечисляет тут: civitas perfecta,
что Де Фриз переводит как «самостоятельный город-государство»; respublica и
regnum, что можно понимать просто как «королевство», «царство», имея, однако, в
виду, что это вполне могло означать и империю, какой была Испания времен
Суареса, только не универсальную, а «частную» империю) «является в себе
совершенным, состоящим из своих членов сообществом»; однако оно же является и
членом «универсума» — человеческого рода (И, XIX, 9). Не менее любопытно, что
Суарес называет два вида права народов: одно, которое действует в
межгосударственной сфере, и другое, которое характерно для поведения людей
внутри государств (как, например, обычай почитать богов жертвами, который не
относится к праву естественному и все-таки распространен повсеместно).
Итак, мы находим у Суареса общенормативную систему, в
которой участвует все человечество, причем двояким образом: через политические
суверенные сообщества и непосредственно через каждого человека. Это
нормативная система вполне позитивна: она не проистекает из естественной
необходимости, зависит от привычек и соглашений людей и допускает отклонения и
изменения. Так, государство может ввести у себя какие-то особые нормы
(например, запретить проституцию или объявить недействительными любые торговые
договоры, при заключении которых была допущена хотя бы мельчайшая
несправедливость); или же право эволюционирует через постепенное изменение
привычек всех народов (см.: II, XX, 7—8; речь идет, конечно, о двух видах права
народов, как они были определены выше).
Итак, в смысле изменчивости, позитивности различие между правом народов и правом государственным чисто
количественное: последнее изменчиво в
целом, в то время как первое лишь частично (II, XX, 9). Нетрудно усмотреть связь между таким пониманием права и идеей государственного суверенитета, а
также отрицанием объемлющей имперской власти. Доказательству того, что
папа не имеет светской власти над королями, а император не есть монарх всего христианского мира, посвящена обширная
глава в другом сочинении Суареса —
«Защита веры». Процитируем отсюда лишь короткое резюме: «Император не
имеет этих правовых полномочий или высшей
юрисдикции в делах временных над всем христианским миром (Ecclesiam).., ибо он либо никогда и не имел
их, либо же, если
имел, то большей частью утерял» (III, III, 7).
Достаточно сравнить это утверждение с тем,
что писал Данте, и не только содержательное
различие, но и противоположность подхода станет совершенно очевидной.
Наконец, еще один важный аспект учения Суареса
привлекает наше внимание. Это учение об общественном организме.
Ключевое для понимания позиции Суареса рассуждение содержится в третьей
книге его трактата «О законах»: человек, поскольку он рождается, обладает разумом. Он свободен в распоряжении своими способностями и членами своего тела, не раб, но
господин своих действий. Но точно так же и политическое тело людей:
поскольку оно порождается специфическим
для него образом, оно властно над
самим собой и своими членами. Как свобода дается каждому человеку самим Творцом природы, хотя и не без
вмешательства «ближайшей причины» — родителя, так и власть дается
человеческому сообществу Творцом природы,
хотя и не без вмешательства воли и
согласия людей, из которых это «совершенное сообщество» составлено. Воля родителя необходима для
появления ребенка на свет, но дать ему свободу или иные естественные
способности — это от нее не зависит. Так же и воля людей необходима для
появления на свет «совершенного сообщества», но суверенную власть над собой оно
обретает не по волению образовавших его людей, а по природе самой вещи и попечению
Творца природы (см.: III, III, 6). Весьма
характерна терминология Суареса. Государство он называет (наряду с церковью) «совершенным сообществом»,
(в то время как семья, например, есть
«несовершенное сообщество», причем «абсолютно
несовершенное»; а государство, входящее в империю, — «относительно
несовершенное»; при выходе из охватывающего «совершенного сообщества» «совершенным» становится прежде бывшее частным, «несовершенным» государство), а также
«политическим мистическим телом»
(одно из самых излюбленных его выражений). Недаром один из самых глубоких (хотя весьма тенденциозных) исследователей Суареса Г. Роммен в своей книге о
нем постоянно подчеркивает:
государство, по Суаресу, есть «нравственный организм»; именно оно в целом, а не просто его властитель обладает автаркией и суверенитетом 59.
Итак, общая
схема может быть представлена следующим образом. Выше всего поставлен у
Суареса — в духе известной традиции — «вечный», «божественный» закон. Через
усмотрение этого закона посредством «естественного света разума» люди обретают
естественный закон. (Специфическим образом от естественного закона отличается
естественное право, но для нашего изложения это не столь существенно и на этом
останавливаться мы не будем.) В рамках естественного закона и естественного
права человечество определяет право народов, причем автономия и суверенитет
государственных организмов могут при этом заходить очень далеко. Государство
как организм суверенно не только относительно остальных государств, но и
относительно сёоих членов, велением которых оно образовано. Итак, Космос еще
не вполне утерян: суверенитет пока что не абсолютен, нравственный миропорядок
нерушим, человечество еще понимается как «universitas». И потому пропасть
разделяет Суареса и следующего автора, к которому мы переходим, — Т. Гоббса.
IV
Социальная философия Гоббса — не только
его главное достижение (в отличие от большинства других частей его учения, она
вполне актуальна до сих пор), но и развита была им прежде, т. е. в основном
независимо от физики и антропологии. Поэтому часто ее рассматривают,
даже не касаясь его трактатов «О теле» и «О человеке». Но такой подход вообще сомнителен; в
контексте же нашего исследования более чем целесообразно
процитировать сначала
хотя бы вкратце каждый из названных трактатов.
Предметом философии, как его определяет Гоббс,
«является всякое тело, возникновение которого мы можем постичь посредством
Размышлений и которое мы можем в каком-либо отношении сравнивать
с другими телами, иначе говоря, всякое тело, в котором происходит
соединение и разделение, т. е. всякое тело, происхождение и свойства которого
могут быть познаны нами» (О теле, I, I,
7)60. Это вытекает из самого
понятия философии, которая познает свойства тел из их возникновения или их возникновение из их свойств. Следовательно, там, где нет ни возникновения, ни
свойств, философии нечего делать.
Поэтому философия исключает теологию, т. е. учение о природе и атрибутах вечного, несотворенного и непостижимого Бога, в котором нельзя себе представить
никакого соединения и разделения,
никакого возникновения» (там же). Исключив Бога, ангелов и все прочее,
знание о чем основано на откровении, из области
философских исследований, Гоббс, кажется, все-таки оставляет в философии вещественный универсум —
совокупность всех тел. Однако вот как
это выражено в главе «Об универсуме и звездах»: «Любая вещь есть или часть универсума, или агрегат его частей. Среди тел, т. е. объектов, которые могут
быть предметом чувственного
познания, наибольшим является сам мир, который мы можем воспринимать, рассматривая его со всех сторон
с той его точки, которую называют
Землей. Относительно этого агрегата, состоящего из многих частей, можно задать очень немного вопросов, разрешить же нельзя ни одного. Можно спрашивать, как велик
весь мир, как долго он существует,
из сколь многих вещей он состоит; больше же ни о чем спрашивать нельзя. ...Познание бесконечного недоступно исследователю,
ибо его возможности ограничены (конечны)» (IV, XXVI, 1). Любопытно сопоставить тут моменты пространственный и социальный в связи с общей онтологией. Замкнутая
единая Империя в принципе обозрима
и естественно вписывается в иерархически
упорядоченную картину бытия. Открытый бесконечный универсум и открытое множество государств, над которыми
уже нет никакого общего закона,
вполне соответствуют друг другу в новой картине мира. Универсум неисчерпаем для познания — чьего? «Конечным исследователем» могло бы быть и человечество
(ср. Данте с его «возможным
интеллектом»). Но это именно человечество, организованное — в принципе — в совершенное сообщество
всего обозримого мира. Человечество
могло бы пониматься и как более рыхлая общность.
В эпоху великих географических открытий оно становилось все более необозримым, и все-таки еще
сохранялась возможность мыслить мир
как целое и человеческое сообщество в нем, для которого едина не государственная организация, но естественное
(неизменное) и международное (положенное им самим) право. В необозримом мире государства уже не знают
обнимающего их высшего начала. И
конечный исследователь — человек — больше не часть человечества.
«Человек ведь является не только физическим телом; он представляет собой также часть государства, иными
словами, часть политического тела. И по этой причине его следует
рассматривать равным образом как человека и
как гражданина» («О человеке», Посвящение)
. Вот этот момент — самый важный. Человек есть тело в мире тел. Как тело он
связан с универсумом, разум как способность не обманывает его (хотя и не страхует от ошибок). Но разум удивительным образом отказывает
ему в попытке преодолеть естественное состояние враждебной разобщенности, войны всех против
всех. Дело в
том, что, самостоятельно выстраивая рассуждения, направленные на самосохранение,
человек приходит к тому, что надо, поскольку есть надежда на достижение мира, добиваться его, а
если достигнуть
не удается, то использовать все средства, дающие преимущество на войне (см.: «Левиафан», гл. XIV). Мир гарантирует лишь договор, но что может заставить соблюдать
его? Нарушивший договор оказывается
всегда в более выгодном положении, чем тот, кто его соблюдает. Здравый,
«правый» разум самосохранения тела диктует
вступить в мирный договор, но, поскольку в мирном состоянии отсутствует опасность гарантированного
наказания, он не препятствует идти
на риск. И потому необходим суверен, которому люди передают то, что не могут доверить друг другу: право карать нарушение договора смертью. Лицо или собрание
лиц, которому это право передается, и есть суверен (см.: «Левиафан», гл.
XVII) — не только верховный властитель, но и верховный
судья в вопросах веры и прочих
суждений, могущих иметь значение для государства. Благодаря этому в государстве исполняется
естественный закон — не потому что он
естествен и прозревается естественным разумом, но потому, что
значимость его гарантирована неотвратимой санкцией.
Но в связи с понятиями «правого разума»,
«естественного закона» и «суверена» возникают интересные сложности, которые
важны именно в контексте наших рассуждений. Правый разум самосохранения
тела неминуемо должен иметь, так сказать, два варианта в
зависимости от того, о каком теле идет речь: физическом или политическом.
Проблема в том, что физическое тело человека входит в
политическое тело как его часть, не переставая при этом быть физическим
телом. Как же обстоит тогда дело с разумом? Гоббс совершенно
определенно пишет, что в государстве «разум самого государства (т. е.
государственный—гражданский—закон) должен приниматься каждым гражданином как истинный (правый) разум...» («О гражданине», II, 1, прим.). Это не
удивительно: правый разум диктует естественный закон, а «естественный и
гражданский законы совпадают по содержанию
и имеют одинаковый объем» («Левиафан», гл. XXVI). Далее, «только в государстве
существует общая мера для добродетелей и пороков. И такой мерой могут поэтому
служить лишь законы каждого государства. Ведь когда государственный строй
установлен, то даже естественные законы становятся частью законов
государственных» («О человеке», XIII, 9).
Удивительно,
однако, что при такой гармонии отдельный гражданин не правомочен оценивать
гражданский закон с точки зрения естественного: издавать и толковать закон —
прерогатива суверена и его уполномоченных. Гоббс не забывает упомянуть, что
«естественный закон является вечным божественным законом», который пребудет
вполне неизменным, даже если исчезнут небо и земля («Левиафан», гл. XXVI).
Однако государственный организм еще более преходящ, чем небо и земля. Суверен
должен следовать естественному закону; но кто определит, следует ли он ему?
Как писал Карл Шмитт, главный вопрос тут: «Quis interpretabitur?» — «Кто станет
интерпретировать»61 ? А поскольку интерпретировать тоже будет
суверен, то отсюда возникает следующая двуединая коллизия: во-первых, мы
впервые получаем право столь же отчетливо сформулировать вопрос о позиции
наблюдателя, как это было в случае с классическими социологическими
концепциями (см. выше, раздел 1); во-вторых, наше внимание не могут не
остановить те случаи, когда — согласно Гоббсу — человеку лучше положиться на
свой разум, чем на разум суверена. Обратимся сначала к этой второй стороне
проблемы.
Нельзя забыть, что здравый разум —
это разум самосохранения. И
потому в некоторых случаях он может приказать подданному не выполнить волю
суверена, например, если тот прикажет ему убить себя (см.: «О
гражданине», VI, XIII; «Левиафан», гл. XXI).
(То, что права суверена никак тем, по мнению Гоббса, не нарушаются,
не столь сейчас интересно.) Мало того, может быть дано такое приказание,
что подданный предпочтет казнь его исполнению. Нельзя быть обязанным к тому,
что тяжелее смерти («О гражданине», VI, XIII). Это тем более интересно, что вообще-то, по Гоббсу, нет ничего тяжелее смерти (а иначе разум диктовал бы не
самосохранение физического тела, а,
например, правила снискания вечного блаженства). Но как может гражданин
установить, что некое приказание чревато
для него столь тяжким бесчестием? Ведь мера добродетелей и пороков устанавливается в государстве (как
мы цитировали выше), и «только приказания государства могут установить,
что есть беспристрастие, что есть справедливость и что есть добродетель, и сделать все эти правила поведения
обязательными...» («Левиафан», гл. XXVI). И вполне логично
сопрягается с этим утверждение, что одна из главнейших
причин ослабления и гибели государства — идея, будто «всякий
частный человек является судьей того, какие действия
хороши и какие дурны» («Левиафан», гл. XXIX). Теперь можно
сформулировать наш следующий вопрос так: а
сам теоретик — является ли он «частным человеком» или писателем, не имеющим полномочий государства и все же
создающим книги по моральной
философии, кои не могут быть значимы в государстве, как бы истинны они
ни были (см.: «Левиафан», гл. XXVI)? Так или иначе, но схема
противоречия остается все время той же самой.
Если бы тело человека полностью растворялось в
политическом теле, если бы он не был связан со всем универсумом тел, если бы
социальность государства не профилировалась на фоне совершенно иной социальности — социальности войны как
естественного состояния
(догосударственного состояния индивидов и межгосударственных отношений),
которое не получает, правда, внятных квалификаций, — тогда можно было бы
сказать, что космос в социальной философии Гоббса утерян полностью и она является первым опытом классической
социологии. Однако у этих противоречий есть и другая сторона. Идея политического тела была
куда как не нова
сама по себе. Ново было то, что именно в политическом теле, суверен которого
обладает столь безмерной полнотой власти, что оказывается даже высшим авторитетом в вопросах веры, —
именно в этом политическом теле «Левиафана», по Гоббсу,
оказалась обособлена сфера приватности: личных убеждений, поскольку они не
затрагивают государственный интерес (и не исповедуются публично), умножения
собственности безопасным для госудаства образом, вообще преследования корыстных индивидуальных
интересов, поскольку они безопасны для власти. Иными
словами, в недрах политического
тела, которое уже почти готово было стать само для себя
завершенным космосом, начал возникать новый космос: экономический космос
гражданского общества. При этом социальность обретала небывалую прежде
дискретность. Внутри государств, принявших форму абсолютистских монархий, на
какое-то время как бы
исчезла политика: политическая жизнь была замирена, подавлена могучими суверенами. Международная сфера была, напротив, сферой
сугубо политических взаимоотношений суверенов: не видя над собой уже никакого
естественного права= вечного закона, государства образовывали новый порядок регулируемой войны62.
Но частное, гражданское тоже прорывало границы:
«гражданское общество»
как международное общение начинало свое развитие. Разрушение
нормальной связи морали и политики очень точно выразил Р. Козеллек: «Конституирующее совесть
отношение между виной и ответственностью было подорвано.
Вина и ответственность находят нового рода сочетания в личностях властителя и
подданного. Вопрос о
какой бы то ни было вине суверена оказался вне компетенции его подданных,
однако он сосредоточил всю ответственность. Подданный
был освобожден от всякой политической ответственности, но зато ему угрожала двоякого рода вина:
во внешнем отношении, когда он выступал против интересов
своего суверена, решать вопросы, входящие в компетенцию лишь суверена: а во внутреннем отношении эта была вина того, кто эмигрирует в анонимность»63. Таким
образом, тому, кто хотел рассматривать социальность как нечто единое,
приходилось восстанавливать разрушенные связи.
При этом можно было либо брать за основу экономику как суверенную сферу. Тогда
государство все больше оттеснялось на периферию социальности, а мораль рассматривалась
утилитаристски. Либо же за основу бралась полнота моральной и политической жизни.
Утилитаристские соображения
(с понятной враждебностью к политической экономии либерального толка)
изгонялись. Именно такой
подход встречаем мы в «Общественном договоре» Ж.-Ж. Руссо.
Прежде чем
непосредственно перейти к Руссо, обратим внимание на важные изменения в
понятии суверенитета. Так, у Суареса еще нет полной определенности в отношении
того, следует ли считать сувереном все государство или только его главу. На
этот счет у
разных интерпретаторов существуют разные мнения. Нам кажется, что
все-таки суверенно именно государство, совершенное сообщество,
включая и его главу как орган социального организма. У Гоббса автономия
государства еще большая и в этом смысле оно «еще более» суверенно, чем у
Суареса. Но суверен у него персонифицирован («лицо или собрание лиц»).
Представляя социум во внутреннем и внешнем отношении, суверен как бы и не член
государства. Власть вручена ему в результате общественного договора людей друг с
другом, а не с сувереном. Будь он членом общества, договор мог бы
подпасть под пересмотр (равно как и не соблюдались бы иные договоры).
Но он, как часто говорил К. Шмитт, трансцендентен обществу; это то самое
«недоговорное условие значимости договора», как формулировал позже проблему
Дюркгейм.
Поэтому Руссо с
его идеей неотчуждаемого народного суверенитета делает шаг назад
от Гоббса. «Подобно тому, — пишет он, — как природа наделяет
каждого человека неограниченной властью над всеми членами его
тела, общественное соглашение дает политическому организму неограниченную
власть над всеми его членами, и вот эта власть, направляемая общей волей,
носит, как я сказал, имя суверенитета» («Об общественном договоре», II,
IV64). Правда, Руссо
тут же оговаривает, что «жизнь и свобода» частных лиц независимы от общества как юридического лица. Он
требует различать естественные
права, которые они имеют как люди, и те обязанности, которые налагаются на них как на подданных.
Однако насколько сильны эти
утверждения в рамках «Общественного договора»? Ведь общественный договор, собственно, состоит в том, что «каждый из
нас передает в общее достояние и ставит под высшее руководство общей воли свою личность и все свои силы,
и в результате для нас всех вместе
каждый член превращается в неразрывную часть целого» (I,
VI). При этом «естественную свободу и неограниченное право на то, что его прельщает и чем он
может завладеть», человек по общественному договору теряет, а приобретает он
гражданскую свободу и право
собственности на то, чем он обладает» (I, VIII). Здесь еще возможны двусмысленные толкования. Но вот рассуждение, прямо перекликающееся с Гоббсовыми
идеями: «Итак, гражданину уже не
приходится судить об опасности, которой Закону угодно его подвергнуть, и когда государь говорит ему: Государству необходимо, чтобы ты умер, — то он должен
умереть, потому что его жизнь не только благодеяние природы, но и дар, полученный
им на определенных условиях от Государства» (II, V).
Не многим лучше и следующее, кажущееся
традиционным и «безобидным»
высказывание: «То, что есть благо и что соответствует порядку, является таковым по природе вещей и не
зависит от соглашений между людьми.
Всякая справедливость — от Бога, Он один — ее источник; но если бы мы умели получать ее с такой высоты, мы бы не нуждались ни
в правительстве, ни в законах» (II, VI).
Догосударственное
естественное
состояние рассматривается в «Общественном договоре» как нечто весьма гипотетическое;
«природа вещей», по существу, мало общего имеет с собственно «природой».
На самом деле
социум вырван не только из связи тео-онто-логической, как о том можно судить по
приведенной выше цитате; социум вырван и из связи природной, «и если даже, —
пишет Руссо, — объяснят нам, что такое закон природы, это еще не значит, что
благодаря этому мы лучше поймем, что такое закон Государства» (II, VI).
Напомним еще о знаменитом различении
между «общей волей» и «волей
всех». Лишь последняя носит характер эмпирической суммы отдельных,
индивидуальных воль; первая же в некотором роде не менее трансцендентна, чем
Гоббсов суверен относительно общества. Однако тут есть важное различие: после
того как общественный договор заключен, общество приходит, по Гоббсу, в
принципиально стабильное состояние, общественный договор заключается раз навсегда.
Иное дело Руссо. Тут общая воля постоянно активирована, она суверенна как
активность и потому общественный договор как бы конституируется снова и снова
как непрерывное творение обществом самого себя. Процитируем тут еще раз
замечательного историка
Козеллека, тем более что характеристики, которые он дает учению Руссо, возникли
— и это очень важно для дальнейшего — под непосредственным влиянием Карла
Шмитта.
«Чистая воля как таковая, которая для самой себя есть
цель своего исполнения, является истинным сувереном, — пишет Козел-лек. —
...Результатом является тотальное государство. Оно покоится на фиктивном
тождестве гражданской морали и суверенного решения. Всякое выражение воли
совокупности есть всеобщий закон, ибо она может желать лишь свою собственную тотальность... Абсолютная
общая воля, которая не знает никаких исключений, сама есть сплошь исключение.
Тем самым суверенитет у Руссо разоблачается как
перманентная диктатура. Он равноизначален с перманентной революцией, в которую
превратилось его государство» 65.
Козеллек совершенно прав, но характеристика его
односторон-ня. Дело не только в том, что он не привлекает внимания к отчетливо прослеживаемой
связи между Руссо и Суаресом, но и в том, что он берет горизонт влияния Руссо слишком узко. Между тем
тотальность политического тела можно понимать не только как перманентную революцию, но и как постоянное
самоконституирование общества, составляющего неотчуждаемый контекст морального
сознания и социального поведения человека, то есть вполне социологически. Именно так и трактовал это не кто
иной, как Дюркгейм.
Среди читанных Дюркгеймом лекций мы находим и его лекции о Руссо как предшественнике социологии. И
вот как толкует Дюркгейм, например, все то же знаменитое понятие «общей
воли»: «Общая воля должна
уважаться не потому, что она более сильна, а потому, что она
всеобща». Чтобы в отношениях индивидов между собой существовала справедливость,
должно быть нечто превосходящее их, некое существо sui generis, действующее как арбитр в спорах и определяющее закон. «Это нечто есть общество,
которое обязано своим моральным превосходством не своему физическому превосходству, но своей
йрироде, превосходящей природу индивидов. Оно имеет необходимый авторитет для
регулирования частных интересов, ибо оно находится над ними и следовательно не
является стороной в споре»66. Перекличка с пониманием социологии
самим Дюркгеймом здесь совершенно очевидна.
Мало того, именно в связи с цитированным определением общей воли
Дюркгейм, вполне согласно с духом и буквой «Общественного договора», говорит:
«Поскольку политическое тело, учрежденное общественным договором, является источником всех прав, обязанностей и
властей, оно называется сувереном»67. Дюркгейм — что
мы просто по соображениям объема не можем прослеживать дальше — не забывает
упомянуть ничего из того, что делает Руссо,
так сказать, более либеральным; он приводит соответствующие места не
только из «Эмиля», как это обычно делают, но
и из «Общественного договора», которые должны подтвердить, что у Руссо
никоим образом не идет речь о тотальном государстве, перманентной революции и
диктатуре. Это важно для самого Дюркгейма: как совместить понятие об обществе
как высшей реальности с современной идеей индивидуализма и свободы? Но это
важно и для нас, ибо тем полнее выявляется и принципиальная линия
преемственности. Круг замыкается: идеи суверенности социального и
государственного суверенитета действительно находятся в самой тесной связи. Но
это только промежуточный и не самый важный результат.
VI
На первый взляд в
такой связи нет ничего неожиданного: в конце концов суверенность и есть
суверенность, а все остальное — лишь историческая конкретизация. Однако у этой
проблемы есть два, как нам кажется, не вполне очевидных аспекта, которые мы
сейчас и рассмотрим.
Политический суверенитет, как мы
видели, — это прежде всего суверенитет государства относительно другого
государства: сначала (все) объемлющего
политического образования — империи, а потом и просто отдельных государств
относительно друг друга. «Органическое»
учение о государстве (даже если организм при этом понимается — как у
Гоббса — механистически) акцентирует еще и суверенность
социально-политического целого не только относительно каждого индивида в отдельности,
но и относительно их преднамеренных действий и помышлений в совокупности.
Однако «социальное» или «общество» в том
широком понимании, которое не ограничивается государством, не может
быть суверенным в том же самом смысле.
Конечно. Дюркгейм еще не вполне четок в отношении того, имеет ли он в
виду отдельные общества или всю социальность в целом. Прошло еще немало
времени, пока, например, у Лумана появилось понятие «мирового общества». Однако
это продолжение той же самой линии. Неудивительно, что понятие, имеющее
политическое происхождение, теряет свой сугубо политический смысл, когда общество перестает профилироваться по
отношению к другим
обществам. Однако это не удивительно только в современной перспективе. Империя, как мы видели, тоже не
профилировалась относительно иных империй, что не препятствовало ее пониманию
как политически оформленной, всеохватывающей и органически встроенной в космос социальности. По мере того как
социальный космос — империя — разрушался, разрушался и совокупной миропорядок,
а частные общества именно поэтому стали притязать на такую полноту
суверенитета, какой не могла обладать империя в космическом целом. И вот
эти-то определения были вновь перенесены на совокупный социум,
лишенный интенсивной политической окраски.
Но если вне социума нет иного социума, то что же
остается, относительно чего профилируется его суверенность? Конечно, можно
представить дело так, что социум имеет несколько ипостасей, выступающих как
суверенные сферы относительно друг друга — «космосы», о которых говорит Вебер.
Сложности, которые при этом возникают, мы уже рассмотрели. Обратим только
внимание на то, что все
внесоциальное изгоняется из рассуждений Вебера скорее волевым, чем
теоретическим образом, если не считать его поздних высказываний, носящих
откровенно антропологический характер. Дюркгейм, как мы видели, не может убедительным
образом сочетать свои социологические и антропологические рассуждения с
общеонтологическими высказываниями. Если посмотреть на более позднюю историю
социологии, то обнаружится, что на определенном уровне теоретического
самосознания либо принимается идея о социальном конституировании категорий (как
в большинстве версий
феноменологической социологии), либо социолог выходит в область общей
онтологии, на что, собственно, социология его никак не уполномочивает (это
характерно для Парсонса). Однако и в первом и во втором случаях сам социолог
выходит за пределы объемлющей социальной реальности, как бы она ни называлась.
Социолог, как это уже было неоднократно
подмечено, наследует позицию просветителя (так Руссо, например, явственно выражал недоверие к способности
каждого человека безусловно постигнуть сообразные разуму законы гражданской
ассоциации и выводил отсюда необходимость просветителя и законодателя). Но где
стоит социолог? Чисто пространственная эмиграция мыслителя (случай Данте,
Гоббса и Руссо) невозможна применительно к социуму;
пространственные границы превращаются в смысловые, а покинуть сферу смысла невозможно. Если космос
сосредоточивается в социальности, то естественно представить себе дело так, что
он, этот большой космос, есть не объемлющее целое, а собственная проекция
социальности в некое бессмысловое нечто, в бескачественное ничто.
В знаметитом труде Э. Фегелина «Новая
наука политики»68 мы находим очень точную характеристику общества именно в этом отношении.
Фегелин именует общество «космион», т. е. «малый космос»69.
Вот что он пишет: «...человеческое общество есть нечто большее, чем факт или
событие во внешнем мире, которое мог бы наблюдатель исследовать как природный феномен. Правда, его
характер как внешнего мира является одной из компонент его бытия, но в целом
это малый мир,
космион, наполненный изнутри человеческими существами, непрерывно создающими и сохраняющими
его как модус и условие своего самоосуществления. Космион проясняется
высокоразвитой символикой различного уровня компактности и дифференцированности
— от ритуала через миф до теории; и символы позволяют просветлить его смысл,
делая прозрачной его внутреннюю
структуру, отношения между его членами и группами членов, а также его
существование как целого — для мистерии человеческого существования»70.
Нет нужды разделять позицию Фегелина в целом, чтобы признать: в приведенных
словах содержится как бы инварианта многих социологических подходов. Социолог,
прототипом которого является Дюркгейм, не может не прийти к тому, что общество
само себя постигает посредством его теорий; «космион» нуждается в «микрокосме».
А если так, то и все прежние подходы к обоснованию суверенности и суверенитета
(в большинстве европейских языков это одно и то же слово) не могут
критиковаться иначе, как с позиций исторической перспективы. В принципе же
общество всегда право, и если оно знает себя включенным в великую цепь бытия,
то у теоретика нет оснований оспаривать это знание. При дальнейших
рассуждениях возможны, собственно, только два варианта.
Один из них мы находим у Карла Шмитта. В сборнике,
посвященном памяти М. Вебера, он опубликовал в 1922 году одну из глав «Политической
теологии», вышедшей в том же году и полным изданием с подзаголовком «Четыре главы к учению о
суверенитете». Здесь Шмитт формулирует утверждение, что «все точные понятия
современного учения о государстве суть секуляризованные теологические понятия»71,
например теологическое понятие божественного всемогущества превращается в понятие всемогущества
законодателя. В полемике против Шмитта Г. Блюменберг справедливо заметил, что наиболее примечательна здесь именно такая
постулируемая взаимосвязь, т. е. секуляризация. Для Шмитта была более естественной иная
постановка вопроса: изначальные политические понятия проецируются на теологию72.
Действительно, политическое обладает у Шмитта качеством «абсолютной
реальности» (то, что за этим
стоит своеобразная социология и даже социологизм, я показываю в другом месте73).
Тем не менее он указывает именно на секуляризацию. Достоинства и недостатки этого подхода мы
уже не можем здесь далее рассматривать.
Второй вариант представлен Луманом. Мы хотели бы еще
раз привлечь внимание читателя к статье, помещенной в этом томе. Луман говорит о том,
что на одном из ранних этапов общественной эволюции иерархическая структура, фактически
являвшаяся политической, на поверхности выступает как религиозная. В
таком случае все
последующее развитие можно толковать социологически, собственно
даже чисто социологистически, рассматривая все не-со-циальное как проекцию
сложных констелляций дифференцирующегося и меняющего тип дифференциации
общества. Однако у Лу-мана же мы постоянно находим понятие, так сказать, абсолютного
«не»: «мира», находящегося вне системных (смысловых по преимуществу) границ.
Таким образом, теория трактует то, что — согласно ее собственным высказываниям
— не может быть тема-тизировано системой. Мир, который нельзя сообщить в
коммуникации, вновь и вновь всплывает в рассуждениях теоретика: рассуждениях
о том, что нельзя сообщить, коммуникации о некоммуницируемом74.
Философ неизбежно
вспомнит здесь об известных трудностях с понятием Единого. Социологу же
достаточно констатировать, что и на столь абстрактом уровне, как системная
теория Лумана, мы вновь встречаем те же трудности, которые в классической форме
обозначились уже в концепциях Вебера и Дюркгейма.
VII
Суммируем еще раз
результаты нашего исследования. Мы начали с того, что обнаружили специфическую
многозначность в употреблении понятия «космос» у авторов, связанных с кругом
идей классической социологии. В основном, удавалось вычленить три значения:
космос специальной науки, образующей методологическое единство; космос (ы)
социума и некое остаточное понятие космоса как универсума, как мира, как высшей
объемлющей реальности. При этом последнее понятие космоса, хотя и оказывалось для собственно социологии незаконным, было тем не
менее неизбежным для теоретиков.
Поскольку сама классическая социология
является результатом длительной эволюции, была сделана попытка показать, каким
образом происходила утрата теоретической социальной мыслью идеи космоса,
естественным образом обнимающего социальность. Чтобы связать изложение с
современной идеей объемлющей все человечество социальности, за точку отсчета
были приняты не классические античные концепции, но идея христианской светской
империи, а обретение суверенитета
покидающими империю государствами и соответствующие этому новому
состоянию суверенитета концепции позволили выявить связь между утратой
объемлющей социальной реальности и утратой идеи Космоса, обнимающего в том
числе и социальную реальность.
Наконец, замкнув через соотнесение
Руссо/Дюркгейм цепочку исторического изложения, мы вновь поставили вопрос об
онтологической позиции социолога и той перспективе, в которой «космос» или
«мир» может появляться в его рассуждениях.
Однако тут мы уже вступили в иную сферу. После того
как основная проблематика прояснена, напрашиваются как минимум еще два обширных
вопроса: (1) что означают символы, образы, метафоры
«космоса», «мира», «универсума» в самой социальной жизни? И (2) как соотносится
теоретическая социология с собственно космологией и онтологией? Рассмотрение
этих вопросов мы оставляем для следующих статей.
- О том, что такое пересечение возможно, могли бы
свидетельствовать, например, концепции А. Уайтхеда (см. в русском
переводе его «Приключения идей»// Уайт хед А. Избранные работы по
философии. М., 1990, в особенности главы 4, 8, 12) и Т. Парсонса,
испытавшего его значительное влияние (см. в особенности последнюю крупную
работу Парсонса о парадигме «удела человеческого» и его знаменитые
социо-антропо-космологические схемы//? arsons T. Action theory and human
condition. N.Y. 1978. P. 324—433). Однако сейчас они отнюдь не занимают
центрального положения. И уж во всяком случае Уайтхед — это далекая
периферия социологии, а Парсонс — философии.
- Булгаков
С. Н. Философия хозяйства. М., 1912. С. 164.
- Там же. С. 76.
- Там же. С. 139. Теоретико-социологическое
значение рассуждений Булгакова я попытался сформулировать в одном из
разделов «Предисловия» к новому изданию «Философии хозяйства» (М., 1990).
- Weber М. Gesammelte Aufsatze zur Religionssoziologie.
Zweite, photo-mecha-nisch gedruckte Auflage, Bd. 1. Tubingen, 1922. P. 551.
- Ibid., P. 543.
- Ibid., P. 544.
- Ibid., P. 551.
- Ibid., P. 541.
- Ibid., P. 542.
- Ibid., P. 544.
- Ibid., P. 554.
- Ibid., P. 546.
- Ibid., P. 544.
- Ibid., P. 546.
- Ibid., P. 555.
- Ibid., P. 549.
- Ibid., P. 568.
- Ibidem.
- Ibid., P. 558.
- Ibid., P. 569.
- Ibid., P. 569.
- При работе над статьей я располагал, к сожалению,
лишь английскими и немецкими переводами соответствующих работ Дюркгейма.
См.: Durkheim E. The elementary forms of the religious life /Translated
from the French by J. W. Swain. N. Y., 1965. P. 21.
- Ibid., P. 22.
- Ibidem.
- Ibid., P. 29.
- Ibid., P. 29.
- Ibid., P. 30.
- Ibid., P. 489.
- Ibid., P. 490; n. 17.
- Ibid., P. 493.
- Ibidem.
- Ibid., P. 495.
- Durkheim E.
Schriften zur Soziologie der Erkenntnis/ Cbersetzt V. M. Bi-schoff/Hrsgg.
v. H. Joas. Frankfurt a. M., 1987.
P. 273.
- Ibid., P. 116.
- Ibid., P. 157.
- См.: ibid., P. 117, 119.
- Это можно проследить и по сочинениям классиков
немецкой философской антропологии. См.: Проблема человека в западной
философии. М., 1988. С. 31 — 201.
- эта тема в недавнее время весьма интересно была
разработана в книге: М a n i-с a s Р. Т. A history and philosophy of the
social sciences. Oxford and N. Y., 1987.
- Намек на такую постановку вопроса мы находим у
Аристотеля, например, в «Риторике», где он говорит, что есть нечто
справедливое и несправедливое по природе, что признают все народы, даже
если между ними нет на этот счет никакой связи или соглашения (Риторика
1373 Ь): от противного можно было бы рассуждать именно об этой связи или
соглашении.
40а. Тенденциозно, но четко выявил эту связь А.
Гелен в первых двух главах своей книги «Мораль и гипермораль». См.: G е h 1 е n A. Moral und
Hypermoral. Eine pluralistische Ethik. Frankfurt a. M; Bonn, 1969.
40b. Джеймс П., Мартин Дж. Все возможные миры. История географических идей. М.,
1988. С. 516.
- См.: Luhmann N. Die Weltgesellschaft. In: Idem.
Soziologische Aufklarung 2. Opladen, 1975. P. 51 — 71. Wallerstein I.
Societal Development, or Development of the World-System?// International
sociology. 1986. vol. 1. n 1. P. 3 — 17.
41а. S с h m i 11 C. Der Nomos der Erde im Volkerrecht des Jus
Publicum Europaeum. Koln, 1950. P. 13—20.
41b. D e m p f A. Sacrum
Imperium. Geschichts-und Staatsphilosophie des Mit-telalters und der
politischen Renaissance. Munchen u. Berlin, 1929. P. 106 — 107.
- Ibid., P. 126.
- Ibid., P. 136.
- Ibid., P. 134.
44а. G i е г k e O. v. Johannes Althusius und die Entwicklung der
naturrechlichen Staatstheorien. Breslau,
4 1929. P.61; Anm. 12. Приведем еще принципиально важное рассуждение Карла
Шмитта о пространстве закона: «Охватывающее международно-правовое единство
европейского Средневековья называлось «Respublica Christiana» и «Populus
Christianus». Оно имело ясную локализацию и ясный строй. Его номос был
определен следующими членениями: территория не-христианских, языческих народов
есть область христианской миссии; папа может своим поручением предназначить ее
для исполнения христианской миссии какому-либо христианскому князю.
Византийская империя, в которой находит свое непрерывное продолжение Римская
империя, — это отдельная проблема права народов, но практически она затрагивает
лишь Балканы и Восток. Территория исламских царств считалась враждебной
областью, которую можно было завоевать и аннексировать крестовыми походами.
...Существенно, что внутри христианской области войны между христианскими
князьями суть войны огороженные. Они отличаются от войн против не-христианских
князей и народов. Внутренние, огороженные войны не устраняют единства Respublica
Christiana. ...Единство этой Resrublica Christiana находило адекватные ему ряды
порядка в Imperium и Sacerdotium, а в императоре и папе — своих зримых носителей.
Сопряжение с Римом означало продолжение античных локализаций, продолжаемых
далее христианской верой. И потому история Средневековья — это история борьбы
за Рим, а не против Рима. ... В конкретной, ориентированной на Рим локализации,
а не в нормах и всеобщих идеях заключена непрерывность связи, соединяющей
средневековое право народов с империей» (S с h m i 11 С. Op. cit., P. 27 — 29).
- Heydte F. A
Frhr v. d. Die Geburtsstunde des souveranen Staates. Regens-burg, 1952. P. 14.
- Ibid., P. 16.
- Ibid., P. 17,
Anm. 1.
47a Gierke 0. v. Op. cit., P.
63.
- H e у d t e Frhr. v. d. Op. cit., P. 42—43.
- Ibid., P.127.
- Цитаты из «Монархии» в русском переводе В. П.
Зубова мы приводим по изданию: Данте Алигьери. Малые произведения. М.,
1968. С. 305 — 362. Латинский текст сверялся по изданию: Dante Alighieri.
Monarchia. Studienausgabe. Lateinisch/Deutsch. Stuttgart, 1989.
50a В русском переводе не всегда отчетливо выражен
временной, т. е. преходя-Щий, характер Монархии. Важность этого момента
применительно к христианской Империи формулирует К. Шмитт: «Для этой
христианской империи существенно то, что это не вечное царство, но что она
сохраняет в поле зрения и свой собственный конец, и конец нынешнего зона и,
несмотря на это, способна все же быть исторической силой. Решающим понятием,
выражающим историческую силу ее непрерывности, является понятие задержителя,
Kat-echon'a. «Империя» тут — это историческая сила, способная .задержать
явление антихриста и конец нынешнего зона, сила, qui tenet, по словам апостола
Павла во втором послании Фессалоникийцам, глава 2 ... Царство европейского
Средневековья длится до тех пор, пока жива идея кат-эхона» (Schmitt С. Op.
cit., P. 29). Не обошел вниманием понятие «задержителя» и X. Фрайер в своей
«Всемирной истории Европы». См.: F г е у е г Н. Die Weltgeschichte Eurojjas.
Darmstadt, 1969, P. 379 — 380 u. ff.
- Imbach R.,
Fliieler Ch. Einleitung// Dante. Monarchia.
Studienausgabe P. 52.
- Mitteis H. Der
Slaat des hohen Mitteialters. 8.
Aufl. Weimar, 1968 P. 2.
- H е у d t e F. A. Frhr. v. d.
Op. cit., P. 46 — 47.
- Ibid., P. 47 — 51.
- Dig. I. I, I: P.I.
- Т e n n i e s F. Einfuhrung in die Soziologie. Stuttgart, 1965.
- Decretum Gratiani. Divisio Prima, c. fX (и тут же
отсылка к Исидору: Etymolo-giae, lib. 5c. 6).
- Суарес цитируется в основном по изданию: S и а г
е z F. Ausgewahlte Texte zum Volkerrecht. Lateinischer Teht nebst
deutscher Obersetzung hrsgg. v. J. de Vries S. J. Tubingen, 1965. Особая ценность этого издания — в первой
публикации ранней, еще написанной в традиционном духе работы Суареса о
праве народов. Однако здесь отсутствуют многие существенно важные части
трактатов «О законах» и «Защита веры», а перевод Де Фриза часто
тенденциозен. Лучшее по отбору текстов издание: Selections from three works of Francisco
Suarez, S. J. De Legibus Ac Deo Legislatore, 1612. Defensio Fidei
catholicae, et apostoiicae adversus anglicanae sectae errores, 1613. De
triplici virtute theologica, fide, spe, et charitate, 1621. vol. 1. A
photographic reproduction of the selections from original editions. Vol.
2. An english version. Oxford,
London, 1944. Однако латинский текст, воспроизводящий издания XVII в.,
представляет здесь известные сложности. Лучший текст «О законах», видимо,
в новом критическом латин-ско-испанском издании в серии Corpus Hispanorum
de pace. Madrid, 1971 — 1975, vol. XI — XV.
- Rommen H. Die
Staatslehre des Franz Suarez S. J. M. Gladbach, 1926, P. 101 — 106.
- Трактаты Гоббса «О теле», «О человеке», «О гражданине»
цитируются, в основном, по изданию: Г о б б с Т. Сочинения в двух томах.
Т. I. M., 1989. Использован и старый перевод трактата «О гражданине» В.
Погосского. М., 1914. «Левиафан» цитируется по изданию: М., 1936.
- Cm.: Schmitt С. Der Begriff des Politischen. В., 1979.
- Это — одна
из основных тем
политической философии Карла
Шмитта.
- Koselleck R.
Kritik und Krise. Eine Studie zur Pathogeenese der burgeglichen Welt. Frankfurt a. M., 1973, P.15.
- Мы цитируем по изданию: Руссо Ж.-Ж. Трактаты. М., 1969.
- Koselleck R.
Op. cit., P. 136—137.
- Durkheim E.
Montesquieu and Rousseau. Forerunners of sociology. Transl. by R. Manheim.
Ann Arbor, 1970, P. 103.
- Ibid., P. 105.
- Мы воспользовались немецким переводом,
авторизованным самим Э. Фегели-ном. См.: V о е g е 1 i n E. Die neue Wissenschaft der Politik. Eine
Einfuhrung. Inj Deutsche Ubertragen von Use Gattenhof. 2. Aufl. Mimchen,
1965.
- Примечательным образом именно это понятие
выставил на обложку своей книги об А. Шютце И. Срубар. См.: Srubar I.
Kosmion. Frankfurt a. M., 1987.
- Voegelin E.
Op. cit., P. 49.70
- Schmitt С. Politische Theologie. Vier Kapitel zur Lehre
von der Souveranitat. 2. Aufl.
Mimchen, 1934, P. 49.
- См. в этой связи всю вторую главу «Политической
теологии». Тезис Шмитта был оспорен, в частности, влиятельным теологом Э.
Петерсоном, отстаивавшим самостояние, именно, так сказать, суверенность
теологического. В своем последнем труде «Политическая теология II» Шмитт
подробно рассмотрел аргументы Петер-сона, Блюменберга и многих других
оппонентов. См.: S с h m i 11 С. Politische Theolo-gie П: Die Legende von der Erledigung jeder
politischen Theologie. Berlin, 1970.
- См.: Филиппов А. Ф. Социологический консерватизм.
М., 1991. Готовится к печати.
- Это одна из сквозных тем новой книги: L u h m a n
n N., F и с h s P. Reden und Schweigen. Frankfurt a. M., 1989.
Мишель Маффесоли.
ОКОЛДОВАННОСТЬ МИРА ИЛИ БОЖЕСТВЕННОЕ СОЦИАЛЬНОЕ*
*©
Michel M a f f e s о 1 i. 274
Для того чтобы
приступить к изучению чудесного в современном мире, можно принять за отправную
точку «божественное социальное» — термин, которым Э. Дюркгейм обозначал
связующую силу, лежащую в основе любого общества или ассоциации людей. Слово
«миф» также могло бы быть использовано в том смысле, в каком оно употребляется
для обозначения того, что объединяет нас с каким-либо соообществом; речь идет
не столько о содержании, которое относится к области веры, сколько о форме,
вмещающей это содержание, т.е. о том, что является общей матрицей, что служит
опорой «бытия-вместе» (Fetre-ensemble). Я воспользуюсь по этому случаю
определением Зиммеля: «Религиозный мир уходит корнями в духовную сложность
взаимоотношений отдельного человека с ему подобными или же с группой ему
подобных... эти взаимоотношения представляют собой чистейшие религиозные
явления в обычном смысле этого слова» 1.
Мы не намерены
проводить здесь социологическое исследование религии, тем более что
специалисты в этой области, как только возникает вопрос о новом всплеске
религиозности, сразу становятся весьма сдержанными. Воздержусь и я от вторжения
в область их компетенции и постараюсь не выходить за рамки того неясного,
расплывчатого, что есть в религиозном чувстве. Делаю я это с тем, чтобы иметь
возможность обратить внимание читателя на развитие чудесного, в том числе за
рамками его официальных проявлений, на значимость, которая придается
воображаемому, символическому, всему тому, что заставляет пытливые и
соответствующим образом настроенные умы отмечать возвращение иррационального.
Прежде всего
следует сказать о существовании определенной связи между возрождающимся
интересом ко всему натуральному (натурализм) и чувством околдованности миром,
которое сегодня можно наблюдать.
За всякого рода
демистификациями, «демифологизациями», нашедшими своих сторонников в сфере
теологических размышлений, социолог — этот социальный «разведчик» — не может
не принимать во внимание все многообразие элементов, вышедших на первый план,
таких, как рок, судьба, небесные светила, магия, гадание, гороскопы, культы
природы и т. д. Можно со всей очевидностью утверждать, что стихия азартных
игр, захлестнувшая францию, таких, как лото, tacotac*, tierce**, национальная
лотерея, мода на игру в казино — все это имеет отношение к тому же процессу.
* Tacotac — одна из разновидностей
цифрового лото.
** Tierce — вид пари на скачках,
когда ставят на трех лошадей.
Здесь нам
хотелось бы поговорить о пути, по которому следовало бы направить точные
исследования. И не нужно никого этим запугивать. Давайте вспомним «основной
постулат социологии» по Э. Дюркгейму: «Никакой институт, созданный человеком,
не мог быть построен на заблуждении или лжи, иначе он не смог бы долго
существовать. Если бы он не основывался на природе вещей, он бы встретил такое
сопротивление, преодолеть которое ему было бы не под силу» 2. Это
мудрое рассуждение вполне применимо и к нашей теме. Здравый смысл, эмпирическая
констатация, газетные статьи— все это приводит к общему мнению, что количество
чудес возрастает. Следовательно, наступает пора приступить к их изучению, не
преувеличивая их значимость, но и не отметая их с ходу.
Прежде всего
потому, что мы обращаемся к отношениям, широко распространенным во всех слоях
общества. В среде «простого народа» эти явления вполне объяснимы и даже среди
интеллигенции, порой украдкой, но уже не считается неприличным говорить о
своем гороскопе, носить на шее или на запястье какой-нибудь амулет и т. д.
3 Что касается других социальных слоев, то проводящиеся в настоящий
момент исследования позволят проявить этот феномен.
В качестве
примера могу привести еще один забавный случай: совсем недавно, во время одного
званого ужина, на котором собрались представители «высшего эшелона»
администрации (плюс несколько" знаменитостей — епископ, преподаватель
университета, женщина-астролог), мне довелось, с одной стороны, долго беседовать
с этой женщиной-астрологом, которая перечислила политических деятелей всех
мастей, составляющих ее клиентуру, а, с другой стороны, выслушивать признания
одного префекта — человека рационального склада ума, если таковой существует,
— пытавшегося передать мне тот магический трепет — «настоящий наркотик», —
который охватывает его еженедельно во время тиража «лото». Естественно, чтобы
не подвергаться полной компрометации, покупка «вещего бюллетеня» поручается
его шоферу. Все это имеет анекдотический характер, однако именно эти факты,
сколь бы малозначительными они ни казались, постоянно накапливаясь, определяют
основу существования индивидуального и коллективного одновременно. То, что эти
факты подчеркивают с особой силой, так это совершенно иное отношение к
природному или космическому окружению, нежели нас к тому приучило сугубо
рационалистическое мышление. Естественно, это иное отношение не может не
влиять на наши взаимоотношения с другими людьми (в семье, на работе, улице),
тем более, что действительно, то, каким образом существует и реализуется
«бытие (заброшенность) в мире», определяет его режиссуру; я подразумеваю под
этим управление ситуациями, которые постепенно создают последовательный
экзистенциальный ряд. Поэтому, если уж мы говорим об околдованности мира, то
лишь потому, что эта околдованность существует сама по себе. Этот натурализм,
это соучастие заслуживает особого внимания; это то, что заставляет нас
говорить о социальной «данности», или иначе, по выражению А. Шютца, о «taken for
granted» («само собой разумеющемся») 4. Так или иначе, все мы
участники этой жизни и существуем в этом жалком мире и, хотя он несовершенен,
это все же лучше, чем «ничто». Это трагическое видение мира предполагает не
столько его изменение (реформу, революцию), сколько принятие существующего порядка
вещей, определенного статус-кво. Фатализм, скажут некоторые, — в какой-то мере
это так. Но в противовес активизму (англосаксонскому?), который приводит к
соперничеству противопоставленных друг другу людей, этот фатализм
(средиземноморский?) посредством соединения в естественную матрицу укрепляет
коллективный дух.
Следует
уточнить, что, хотя проявление чудесного в человеке (начиная с Л. Фейербаха и
затем у О. Конта или у Э. Дюркгейма) занимает социальную мысль, можно тем не
менее установить параллель с определенной традицией мистицизма, согласно
которой то, чего следует достичь, — это растворение во «всеобщем». Такая
постановка вопроса, с одной стороны, отсылает нас к натурализму, о чем уже шла
речь выше, и одновременно служит основой для образования малых групп
(причастие, эротическое или сублимированное слияние, секты, конгрегация и т.
д.) — все это в определенной мере связано с тем, что можно наблюдать в наше
время5. Не стоит забывать теологического выражения
«причастие святым», которое как нельзя лучше отражает этот процесс и, по сути,
основывается на идее соучастия, соответствия, аналогии — понятия, вполне
подходящего для анализа социальных движений, не сводимых более к своим
рациональным или функциональным измерениям. Такой крупный социолог, как Роже
Бастид, научные исследования которого призваны вновь сыграть важную роль,
говорил о религии как о «древовидной эволюции» 6. В этом
определении, кроме самого представленного на рассмотрение натуралистического
образа, присутствует идея органически взаимосвязанных элементов (ветви,
составляющие дерево), звеньев и последовательностей цепи, сообществ,
наслаивающихся друг на друга, подобно черепице, и образующих более пространное
целое. Древний библейских образ мифологического Иерусалима, «где все вместе
составляет тело», подразумевает тем самым гостеприимство будущего рая. Можно
ли, исходя из этих нескольких соображений, делать далеко идущие выводы и
проводить связь с проявлением чудесного в народе? На мой взгляд, это вполне
закономерный процесс. Тем более что основная характеристика религий,
варьируясь, остается неизменной: постоянно имеется в виду трансценденция. То,
что она находится где-то по ту сторону или же является «имманентной
трансценденцией» (группа, сообщество, которое оказывает трансцендентное
воздействие на индивидов), ничего, по сути, не меняет. Однако наша гипотеза,
идущая вразрез с представлениями людей, жалующихся на исчезновение великих
коллективных ценностей, на сведение их к отдельной личности и проводящих
ошибочную параллель со значением повседневной жизни, заключается в констатации
нового зарождающегося и развивающегося события, а именно: рост числа небольших
групп экзистенциальной сети, своего рода трайбализм, который основывается одновременно
на религиозном духе (re-li-gare) и на локализме (близости к центру, природе).
Возможно теперь, когда близится конец цивилизации, основанной на индивидуализме,
начало которой было положено Французской революцией, мы окажемся лицом к лицу
с тем, что было в свое время неосуществившейся попыткой (Робеспрьер), а именно
«гражданской религией», которую Руссо выводил из своих желаний. Эта гипотеза
имеет под собой определенные основания, тем более что, как отмечает Э. Пула, на
протяжении XIX — начала XX веков она постоянно занимала умы таких мыслителей,
как П. Леру, О. Конт, А. Луази, а также Балланш, который полагал, что
«человечеству придется создать четвертого на небесах»7. Основываясь на термине, используемом Ф. Ламмене, можно
сказать, что эта «демотеистичес-кая» перспектива позволит понять силу
трайбализма и силу социальности, недоступную пониманию специалистов по
политэкономии.
Известно, что Э.
Дюркгейма интересовала религиозная связь: «Чем держится общество, которое ничто
не трансцендирует, но которое трансцендирует всех своих членов». Эта
прекрасная формулировка Э. Пула (op. cit., p. 241) отлично выражает тематику
имманентной трансцендентности. Просто причинность и утилитаризм не могут
объяснить склонности людей ко всякого рода объединениям. Несмотря на проявление
эгоизма и частных интересов, существует нечто, что их цементирует, обеспечивает
им устойчивую преемственность. Возможно, источник этой устойчивости следует
искать в общности чувства. В зависимости от конкретной эпохи это чувство может
быть обращено к отдаленным и в силу этого не столь притягательным идеалам,
либо к целям, более близким и потому более притягательным. В последнем случае
это чувство невозможно унифицировать, ни тем более рационально осмыслить; сам
взрыв этого чувства в еще большей степени проявит религиозную окраску. Таким
образом, «гражданская религия», которая вряд ли применима к нации в целом,
может прекрасно существовать в локальных масштабах: во многих городах
(например, в городах Греции) или в каких-то особых группировках. В настоящее
время порождаемая ею солидарность приобретает конкретный смысл. Именно в этом
плане можно говорить о том, что некоторое обезличивание, являющееся следствием
всемирного распространения унифицированного образа жизни, а иногда и образа
мыслей, может соседствовать с повышенным значением определенных ценностей,
которое им придается определенными людьми. Так, мы становимся свидетелями все
возрастающего влияния средств массовой информации, стандартизации одежды,
всеобъемлющего «fast food» и одновременно с этим развития местных средств связи
(свободное радио, кабельное телевидение), успеха специфических видов одежды,
продуктов или блюд, типичных для той или иной местности. Последнее наблюдается
в особых жизненных ситуациях, когда возникает необходимость приспособиться к
своему существованию. Из этого следует, что технический прогресс не в состоянии
уничтожить связующую людей силу (от re-ligio), а иногда даже способствует ее
укреплению.
В связи с тем
что налицо пресыщение людей всякого рода абстракциями, навязанными ценностями,
нагромождением экономических и идеологических построений, мы, не оспаривая
этого факта, можем, однако, наблюдать, как внимание людей сосредоточивается на
целях, находящихся в непосредственной близости, на действительной общности
чувств, на всех тех вещах, что составляют целый мир привычек, ритуалов, мир,
принимаемый таким, как он есть (taken for granted). Именно эта близость придает
свой смысл тому, что принято называть «божественное социальное». Оно не имеет
ничего общего с какими бы то ни было догмами или официальными предписаниями и
вновь затрагивает ту «языческую струну» в душе человека, которая, сколь бы ни
было неприятно это слышать историку, никогда полностью не переставала звучать
в народе. Подобно древним божествам Ларам — причине и следствию создания семьи
— божественное, о котором мы говорим, позволяет вновь создать в обезличенных и
неуютных столицах мира сообщества людей, своеобразные островки социального
единения, где бы те ощущали тепло. Головокружительное разрастание огромных
столиц (точнее, мегаполисов), которое предвещают нам демографы, может лишь
благоприятствовать созданию «поселений внутри города», если перефразировать
известное название*. Мечта Альфонса Алле осуществилась: крупные города превратились
в просторы, на которых кварталы, гетто, церковные приходы, территории и
населяющие их племена пришли на смену деревушкам, поселкам, коммунам и
кантонам прошлых эпох. Но поскольку существует необходимость объединения
вокруг какой-нибудь титулованной особы, святой покровитель, почитаемый и
прославляемый, уступает место гуру, местной знаменитости, футбольной команде
или немногочисленной секте.
* Ville dans la ville (фр.) — город в
городе. — Прим. перев.
Стремление
«держаться вместе» является своего рода способом приспособиться, «одомашнить»
окружающий мир, который в противном случае представлял бы собой угрозу.
Практические исследования, проводимые в городской среде, прекрасно отражают
такого рода феномен. Анализируя социальные изменения, сопутствующие городским миграциям в одном из городов Замбии, Б. Жюль-Розетт обращает внимание на тот факт, что
«есть жители, которые всегда принимали активное участие»
в переустройстве и расширении общины и уточняет: «Самой характерной чертой,
присущей многим из этих жителей, является их причастность к туземным африканским
церквам». Именно эта причастность и делает их наиболее заметными фигурами
среди других подгрупп общины 8.
Таким образом, изменения, происходящие в городе,
возможно, коррелируют со стремительной дехристианизацией, однако они
благоприятствуют религиозному синкретизму, последствия которого пока
непредсказуемы.
В одной из своих актуальнейших работ «О социальной
концепции религии» Э. Дюркгейм, для которого «религия является самым
примитивным из всех социальных феноменов», констатировав, что время старых
идеалов и божеств миновало, тем не менее призывает почувствовать «сквозь
моральный холод, царящий на поверхности нашей коллективной жизни, те источники
тепла, которые несут в себе наши общества», источники тепла, которые он находит
«в народных массах» 9. Речь идет о такой оценке, которая вполне вписывается
в наше доказательство и которой придерживается все большее число
исследователей: реальная дегуманизация городской жизни порождает
специфические группировки, объединяющие людей общей страстью и общими
чувствами. Не следует забывать дионисийских ценностей, вполне актуальных и
сегодня, когда дело касается
пола, а также религиозных чувств: и то, и другое является модуляциями страсти.
Именно в силу того, что чудесному в наименьшей степени
присуща адаптационная, консервативная функция, оно чаще всего встречается в революционных взрывах. Я уже
касался этой темы в связи с революцией «ourobore» 10,
подчеркивая, что сильный религиозный заряд всегда присутствовал во всех революционных
проявлениях, хотя впоследствии они и квалифицировались как
политические. Это касается
и Французской революции, и событий 1848 года в Европе, а Г. де Ман доказал,
что это касается и большевистской революции в России. Примером тому может служить и Крестьянская
война, которая глубоко анализируется в прекрасной книге Э. Блоха. Именно по этому поводу К. Маннгейм с
уверенностью
говорил о наличии «оргиастико-экстатических
энергий», коренящихся в самых глубинных пластах души человека11.
Если о подобных примерах брожения в массах и стоит говорить, то лишь затем,
чтобы показать, что существует постоянный переход от взрывов к разрядке и что
этот процесс является причиной и следствием религиозной связи, т. е. общности
страсти. В действительности чудесное, понимаемое таким образом,
представляет собой матрицу любого проявления социальной жизни 12.
Оно есть горнило, где выплавляются
разнообразные модуляции стремления к объединению. Идеалы могут устареть,
коллективные Ценности вызвать чувство пресыщения; религиозное же чувство
постоянно вновь и вновь порождает эту "имманентную трансцентность"
которая позволяет объяснить устойчивость обществ
[Этой страницы нет. -
прим. OCR]
специфических
владений, рост числа всевозможных теорий и идеологий,
противоположных друг другу. С одной стороны — гомогенность, с
другой — гетерогенность. Иначе говоря, используя прежний образ, налицо
универсальная дихотомия: «страна легальная» и «страна реальная». В настоящее
время подобная перспектива отвергается большинством политологов и
социологов, в частности потому, что это нарушает их аналитическую
схему, основанную на позитивистском или аналитическом
мышлении прошлого века. И если бы мы были в состоянии интерпретировать такие
симптомы (index — «указательный
палец»)*, как массовый отход от политической
или профсоюзной деятельности,
возрастающая обращенность к настоящему, оценка политиканства как театрального или опереточного
действа, более или менее
интересного, новые вложения в авантюры экономического, интеллектуального, духовного или экзистенциального
характера, — то мы неизбежно пришли бы к выводу, что зарождающаяся социальность ничем не обязана старому (пока еще
нашему) социально-политическому
миру.
* Игра слов: indies («симптомы»,
«знаки», «показатели») и index («указательный палец»). Этимологическое родство
выявляет их семантическую близость. — Прим. перев.
В этом плане
поучителен пример фантастики: мы обнаруживаем в ней в причудливом
технологическом обличье гетерогениза-цию и вызывающее неуважение
к подобным проявлениям конформизма14.
Именно в ходе этого процесса обособления от довлеющей силы власти получает
свое воплощение «чудесное социальное». Действительно, не задаваясь вопросом о том, каким
должно быть общество будущего, люди приносят жертвы «божествам» местного
значения (любви,
коммерции, насилию, территории, производственной деятельности, еде, красоте и т.д.). Имена этих божеств могут меняться в
сравнении с эпохой античности, но функция метки, которую они выполняют,
остается прежней, именно в этом плане происходит овладение «реальным»
существованием, которое я называю народной мощью. Уверенно и упрямо, быть может, слегка напоминая
животных, то есть проявляя скорее инстинкт к жизни, нежели способность к
критическому осмыслению действительности, все группы людей, их небольшие
общины, объединяющие родственников или соседей, всецело озабочены ближайшими социальными
отношениями; то же касается и их ближайшего окружения. Таким образом, даже
если происходит отчуждение человека от отдаленного от него экономического и политического порядка, он обеспечивает суверенность над своим
ближайшим окружением. В этом и находит свое завершение «божественное социальное», в котором
одновременно заключается секрет его устойчивости. Господство
социальности проявляется тайно, в ближайшем окружении и малозначительных явлениях (в том,
что не подпадает под власть макроскопических целей). Можно даже сказать, что власть реализует свое
господство лишь при условии, что она не слишком отдаляется от этой
суверенности. «Суверенное» можно понимать в контексте общественного договора
Ж.-Ж. Руссо, что придает этому понятию всеобъемлющую и несколько идиллическую характеристику15.
Это понятие можно также рассматривать как «конфликтную
гармонию», в которой некое целое в результате действия и противодействия так или
иначе упорядочивает составляющие его природные, социальные, биологические элементы и тем самым
обеспечивает свою стабильность. Теория систем или размышления Э. Морена со
всей очевидностью свидетельствуют об актуальности и правильности подобной
перспективы. Таким образом, даже если для многих речь идет лишь о метафоре,
сближение, которое может произойти между народом и правителями, имеет прочное
основание. Кроме того, народ имеет множество способов выразить свою независимую
мощь — мятеж, насилие, демократический путь, молчание и уклонение от
голосования, презрительное неприятие, юмор и ирония. Искусство политики в том
и заключается, чтобы сделать так, чтобы эти способы выражения
независимости не приняли слишком расширительного характера.
Абстрактная власть может постепенно
восторжествовать. Действительно,
можно задаться вопросом римского философа и поэта V в. н. э. Боэция: «Что лежит
в основе добровольного рабства?» Ответ составляет твердая уверенность любого социального
объединения,
которое знает, что в конечном счете Правитель, какой бы ни была форма его правления (аристократия,
тирания, демократия и т.д.),
всегда зависит от народного приговора. Если власть принадлежит индивиду или
ряду индивидов, то сила — это привилегия филума* и существует непрерывно. В
этом смысле непрерывность является характеристикой «божественного социального».
Вопрос заключается в том, что чему предшествовало. Говорить о силе, о
суверенности, о божественном в отношении народа значит признавать, по выражению
Дюркгейма, «что право возникло из нравов, т. е. из самой жизни» или, иначе,
«именно нравы составляют подлинную конституцию государств»16. Этот приоритет жизни в устах человека,
которого мы знаем как позитивиста, заслуживает внимания; очевидно, именно это
рассуждение позволяет ему подчеркивать важность «чудесного» в социальной
структуре. Речь идет, естественно, о некоей общей идее, нуждающейся в
актуализации. Но признание того факта, что теснейшая связь витализма
(натурализма) с чудесным является подлинным "vis a tergo"
(«подспудной силой»), движущим народы, обеспечивая их
постоянство и могущество, может иметь далеко идущие последствия в эпоху, когда коммуникации, досуг,
искусство и повседневная жизнь навязывают новую социальную данность.
* Филум — от греч. phyle — племя, род, вид — группа организмов с общим планом строения; ф. — одно из первичных
делений в таксономии.
- S i m m e
1 G. Problemes de la sociologie des
religions.//Archives de socides Religions, CNRS. Paris, N. 17, 1964. P. 24.
- Durkheim E.
Les formes elementaires de la vie religieuse, 5 erne edition, PUF. Paris, 1968. P. 3.
- Об «амулетах» см.: Meslin M. Le phenomene religieux
populaire.//Les Religions populaires. Revue
de 1'Universite Laval, 1972. P. 6.
- О социальной «данности» см.: Maffesoli
M. La violence totalitaire, PUF. Paris, 1979; см. также: S с h u t z A. Collected Papers, T. 1, 2, 3, ed. Martinus Nijhoff. Amsterdam.
- См. об этом: Zulberger J., Montminy J.P. L'esprit, 1e
pouvoir et les femmes...//Recherches sociographiques. Quebec, XXII, 1, janvier, avril 11981.
- В a s t i d e R. Elements de sociologie
religieuse. P. 197, цит. по: Lalive d'Epinay C., "R. Bastide et la
sociologie des confins".//L'Annee sociologique. vol. 25, 1974. P. 19.
- См.: Poulat E. Critique et mystique, Ed. du
Centurion. Paris, 1984. P. 219, 230 et les references a Balanche: Essais
de Palingenesie Sociale, et a Lammenais: Paroles d'un croyant, note 26.
- J u 1 es-R ose
11 e B. Symbols of change: Urban transition in a Zambian community, Ablex
Publishing. New Jersey, 19M. P. 2. О
значении синкретических религий в крупных городских агломерациях, таких,
как Ресифе, см. работы Motta R.
- Durkheim E. La
conception sociale de la religion, dans le sentiment religieux a 1'heure
aciuelle. Paris, Vrin, 1919. P. 104 sq., цит. по: Poulat E. Critique et
mustique. Op. cit. P. 240. В
исследованиях, проводимых Центром по изучению проблем современности и
повседневности, предпринимается попытка выявить это стремление к единению
(«держаться вместе») внутри городских сект. Ср. также следующее определение:
«Мы называем религиозными элементами элементы эмоциональные, образующие
внешний и внутренний аспект социальных отношений» (S i m m e 1 G.
Problemes de la sociologie des religions. Op. cit. P. 22).
- См.: Maffesoli M. La violence totalitaire. Paris,
PUF, 1979, ch. II. P. 70— 135; В loch E.
Thomas Milnzer, theologien de la revolution, Julliard. Paris, 1964.
- Mannheim K.
Ideologic et utopie. Paris, Ed. Riviere, 1956. P. 57 sq. О взрыве — разрядке см.: Durkheim E.
Les Formes elementaires de la vie religieuse. Paris, PUF, 1968.
- Если быть более точным в градации человеческих
отношений, проявлений социальной жизни, любого способа общительности,
любого вида социальности.
- Le В on G. Psychologie des Foules, Retz. Paris, 1975. P. 73.
- См. по этому поводу превосходную работу: Thomas
L. V. Fantasmes au quotidien. Paris, Lib. des Meridiens, 1984, а также
проводимые в настоящий момент Центром по изучению проблем современности и
повседневности исследования по этой проблеме: (Paris V) V. G a u d i n-C
ag n ас. См. также: Maffesoli M. La conquete du present. Paris, PUF, 1979,
"Le fantastique au jour le jour" («фантастическое со дня на
день»). Р. 85—91.
- См.: Freund J. Sociologie du conflit. Paris, PUF, 1983. P. 31.
- Durkheim E.
Montesquieu et Rousseau, precurseurs de la sociologie, Lib. Marcel Riviere. Paris. 1966. P. 40, 108.
Мишель Фуко.
ГЕРМЕНЕВТИКА СУБЪЕКТА*
Курс лекций в Коллеж де
Франс, 1982. Выдержки.
*
Michel Foucault (Paris). Hermeneutique du Sujet. Cours au College de France (1982).
Extraits. — Concordia 12. Revue Internationale de Philosophic, 1988.
©
Materialis Verlag. Rendeler Strasse 9—11, D-6000 Frankfurt 60.
Публикуемый текст классика
современной философии Мишеля Фуко представляет курс лекций, прочитанный в
январе—феврале 1982 года в Коллеж де Франс, записанный Хельмутом Беккером и
Лотаром Вольфштеттером. Данный текст не готовился Мишелем Фуко специально для
публикации; он воспроизводит структуру и нормы устной речи, рассчитанной на
определенный жанр и на определенного слушателя. В ряде мест встречаются
смысловые повторы и обрывы, некоторые положения даются тезисно, а аргументы для
их подтверждения только намечаются.
При подготовке настоящей работы к
изданию на русском языке переводчик и редакция пошли по пути максимально возможного
сохранения оригинала и не вносили дополнительных изменений, требуемых нормами
печатных изданий. Ряд положений своих лекций Мишель Фуко дополнил в интервью
Хельмуту Беккеру и Лотару Вольфштеттеру, данном в 1984 году. Прежде всего он
коснулся вопроса об отношении самопознания к «заботе о себе», который имеет
ключевое значение в данном курсе лекций. При подготовке русского издания учтен
текст этого интервью, опубликованный в: Concordia, revue internationale de
philsophie ( No. 6, 1984. S. 99—116).
Редакторы и переводчик выражают
признательность Вадиму Козовому за помощь в переводе трудных фрагментов
текста, а также Феохарию Харлампиевичу Кессиди за консультации при переводе
понятий античной философии. — Прим. ред.
6 января 1982
Забота о себе и самопознание
В каких символах
мысли объединились в западной античности субъект и истина? Существует
центральная концепция, позволяющая приступить к рассмотрению данного вопроса:
epimeleia/cura sui («забота о самом себе»). До настоящего времени проблема
субъекта и его познания звучала иначе: согласно Дельфийскому оракулу, «познай
самого себя». Однако призыв к самопознанию \ всегда сопровождался требованием
«проявить заботу о самом себе».
Между этими
двумя видами требований существует отношение зависимости: самопознание есть
лишь частный случай заботы о себе, лишь ее конкретное применение. Epimeleia —
это философский принцип, преобладающий в греческом, эллинистическом и римском
образе мысли. Такой тип философского мышления воплощен в учении Сократа,
который разговаривает с людьми на улицах, обращается к молодежи в гимназиях с
одним вопросом: заботишься ли ты о себе? (Что подразумевает отказ от некоторых
более прибыльных видов деятельности, например ведения войны или исполнения
государственных обязанностей.)
Проявлять заботу
о самом себе следует не только потому, что это является условием доступа к
философской жизни в полном и точном значении данного слова. Ниже я постараюсь
показать, что принцип, согласно которому необходимо проявлять заботу о самом
себе, вообще является основой рационального поведения в любой форме активной
жизни, стремящейся отвечать принципу духовной рациональности. Концепция
epimeleia просуществовала вплоть до христианства, где она обнаруживается вновь
в александрийской духовной традиции как в виде концепции заботы у Филона и
Плотина, так и в виде христианской аскезы Григория Нисского: в его трактате «О
девственности» забота о самом себе начинается с безбрачия, понимаемого как
избавление от брака.
В концепции
epimeleia следует различать такие аспекты:
— во-первых,
налицо тема некоего общего отношения, своеобразной манеры смотреть на мир,
действовать, вступать в отношения с другими людьми. Epimeleia — это все: некое
отношение к самому себе, к другим, ко всему на свете;
— во-вторых,
epimeleia seauton — это своего рода форма внимания, взгляда. Забота о себе
подразумевает переключение взгляда, перенесение его с внешнего, окружающего
мира с других и т. д. на самого себя. Забота о себе предполагает своего рода
наблюдение за тем, что ты думаешь и что происходит внутри твоей мысли;
— в-третьих,
epimeleia также всегда означает определенный образ действий, осуществляемый
субъектом по отношению к самому себе, а именно, действие, которым он проявляет
заботу о самом себе, изменяет, очищает, преобразует (transforme) и преображает
(transfigure) себя. Для достижения этого результата необходима совокупность
практических навыков, приобретаемых путем большого количества упражнений,
которые будут иметь в истории западной культуры, философии, морали и духовной
жизни долгосрочную перспективу. К ним относятся: техника медитации, техника
запоминания прошлого, техника изучения сознания, техника контроля за любыми
представлениями по мере их появления в сознании.
Наконец, понятие
epimeleia содержит свод законов, определяющих способ существования субъекта,
его отношение к окружающему, определенные формы рефлексии, которые, благодаря
своим собственным характеристикам, делают из этого понятия исключительный
феномен не только истории представлений, но и истории самой субъективности или,
если угодно, истории практических применений субъективности.
Почему западная
философия предпочла самопознание заботе о себе? На мой взгляд, epimeleia
представляется как нечто меланхолическое, сопровождаемое негативными
коннотациями, неспособное дать всему обществу позитивную мораль. Напротив, в
античности это поняние всегда имело позитивное значение — оно легло в основу
самых строгих моральных систем Запада. Христианство, не имеющее, как и всякая
религия, своей собственной морали, питается именно этой традицией. Таким образом,
налицо парадокс: предписание проявлять заботу о самом себе для нас означает
скорее эгоизм или уход в себя; напротив, оно в течение многих веков являлось
основополагающим принципом таких неукоснительно соблюдавшихся образцов морали, как эпикурейская, киническая и т. п. Сегодня понятие заботы о себе несколько отошло в тень. Дело в
том, что эта неукоснительно соблюдавшаяся мораль, исходившая из принципа
«проявляй заботу о самом себе», и ее суровые правила были заимствованы, что
проявилось как в христианской, так и в современной нехристианской морали, но уже в совершенно иных условиях. Мы перенесли эти жесткие
правила, которые обнаруживаются в структуре Кодекса, на
другую почву, приспособили к
новым условиям, поместили в контекст всеобщей этики неэгоизма
либо под видом христианского отказа от самого себя, либо, в современной
интерпретации, под видом обязательств по отношению к другим, будь то отдельный
человек, сообщество людей или целый класс.
В результате этого парадокса забота о себе была
оставлена без внимания. С одной стороны, христианство интегрировало в свою мораль не-эгоизма духовное требование проявлять
заботу о самом себе. С другой стороны, глубинная причина этого невнимания
обнаруживается в истории самой истины. Картезианство вновь переместило акцент
на самопознание и превратило его в основной путь постижения истины.
Философия и духовность
Что заставляет
нас полагать, что истина существует? Назовем философией ту форму мысли,
которая пытается не столько распознать, где истина, а где ложь, сколько
постичь, что заставляет нас считать, будто истина и ложь существуют и могут
существовать. Назовем философией такую форму мысли, которая задается
вопросом, что позволяет субъекту постигать истину, ту форму мысли, которая
стремится определить условия и предельные возможности постижения истины
субъектом. Если это назвать философией, то, я полагаю, духовностью можно
назвать тот поиск, ту практическую деятельность, тот опыт, посредством которых
субъект осуществляет в самом себе преобразования, необходимые для постижения
истины. Тогда духовностью можно будет назвать совокупность этих поисков,
практических навыков и опыта, которыми должны быть очищение, аскеза,
отречение, обращение взгляда внутрь самого себя, изменение бытия,
представляющие — не для сознания, а для самого субъекта, для его бытия — ту
цену, которую он должен заплатить за постижение истины.
Можно выделить
три характеристики духовности.
1. Обладание истиной не является неотъемлемым правом субъекта. Чтобы ее познать, он должен
сам превратиться в нечто иное. Его бытие поставлено на карту: ценой постижения
истины является обращение субъекта.
2. Истина не может существовать без обращения или преобразования
субъекта. Это преобразование осуществляется: а) движением любви, посредством которого субъект
утрачивает свой статус; б) его работой над самим собой, что должно позволить
ему обрести способность постигать истину: движение аскезы.
3. Результатом
постижения истины является ее возвращение к субъекту. Истина — это то, что
озаряет субъект.
С точки зрения
духовного опыта истина в действительности не является своего рода наградой
субъекту за его познавательный акт и не дается ему просто как завершение этого
акта. Истина — это то, что озаряет субъект, что дает ему душевный покой. Короче
говоря, в самой истине, в ее познании заключается нечто, что позволяет
осуществиться самому субъекту, что реализует само его бытие.
С точки зрения
духовного опыта никогда акт познания сам по себе и как таковой не мог бы
обеспечить постижение истины, не будь он подготовлен, сопровождаем, дублируем,
завершаем определенным преобразованием субъекта — не индивидуума, а самого
субъекта в его бытии как субъекта. Гнозис — это, в конечном счете, то, что
всегда стремится переместить (transferer), перенести (transposer) в сам
познавательный акт условия, формы и следствия духовного опыта.
Можно сказать
схематично, что со времен античности философский вопрос «Как постичь истину?»
и практика духовности как необходимой трансформации бытия субъекта, которая
позволит ему постичь истину, — суть две проблемы, принадлежащие к одной
тематике и потому они не могут рассматриваться изолированно друг от друга. И,
за исключением Аристотеля, для которого духовность не играла столь
существенной роли, основной вопрос философии, понимаемый как вопрос о
духовности, заключался в следующем: что представляют собой преобразования,
совершаемые в бытии субъекта, необходимые для постижения истины?
Несколько веков
спустя, в тот день, когда был сформулирован постулат о том, что познание есть
единственный путь к постижению истины, в картезианский момент истории мысль и
история истины вступили в современный период развития. Иначе говоря, я полагаю,
что современная история истины ведет свой отсчет с того момента, когда познание,
и лишь оно одно, становится единственным способом постижения истины, т. е. этот
отсчет начинается с того момента, когда философ или Ученый, или просто человек,
пытающийся найти истину, становится способным разбираться в себе самом
посредством лишь одних актов познания, когда больше от него ничего не требуется
— ни модификации, ни изменения его бытия. С этого момента Можно считать, что
субъект способен познать истину — с двумя оговорками, внутренними по отношению
к познанию и внешними по отношению к индивиду. С той минуты, когда бытие больше
не подвергается пересмотру необходимостью постижения истины, мы вступаем в
новую эру взаимоотношений субъективности и истины. В современную эпоху истина
уже не в состоянии более служить спасением субъекту. Знание накапливается в
объективном социальном процессе. Субъект воздействует на истину, однако истина
не воздействует больше на субъект. Связь между доступом к истине и требованием
преобразования субъекта и его бытия им самим была окончательно прервана, а истина
стала представлять собой автономное развитие познания. Не следует искать следы
этого разрыва в науке — они в теологии. Это конфликт не между духовностью и
наукой, а между духовностью и верой (теологией). Однако даже у Спинозы, Канта,
Шопенгауэра, Гегеля и Ницше еще обнаруживаются следы структуры этой духовности,
которая была проникнута вопросом: как должен трансформироваться субъект, чтобы
открыть себе путь к истине? (Именно в этом заключается смысл «Феноменологии
духа» Гегеля.) В равной мере в марксизме и психоанализе обнаруживаются основные
проблемы, связанные с понятием epimeleia.
Политика и забота о себе
Можно выделить
три фазы развития понятия epimeleia:
1)
сократовско-платоновская: появление понятия epimeleia в философии;
2) золотой век
заботы о себе и культуры своего «Я» (I и II вв. до н. э.);
3) переход от
философской языческой аскезы к христианскому аскетизму (IV и V вв. н.э.).
Первая фаза (см.
прежде всего «Алкивиад» Платона). Проявление заботы о самом себе было
утверждением такой формы существования, которая была связана с некоторой политической
привилегией: если мы все материальные заботы поручаем другим, то лишь с целью
иметь возможность заняться самим собой. Социальные, политические, экономические
привилегии этой группы, солидарной со спартанской аристократией, проявлялись в
форме «нам необходимо печься о самих себе и, чтобы иметь эту возможность, мы
поручаем нашу работу другим». Сократ — это тот, кто стремится преобразовать
статус Алкивиада, его исходное верховенство в политическое действие, в
действенное руководство другими людьми. Необходимость попечения, заботы о себе
связана с осуществлением власти. Она есть следствие статусного положения власти
и, следовательно, существует переход от статуса к власти. Попечение о себе
подразумевается и вытекает из стремления осуществлять политическую власть над
другими людьми. Невозможно руководить другими, невозможно превратить свои
привилегии в политическое воздействие на других, в рациональное действие, не
проявляя заботы о самом себе. Забота о себе занимает промежуточное положение
между политической привилегией и политическим действием; именно здесь возникает
понятие epimeleia.
13 января 1982
Chresis и душа-субъект
Можно задать два
важных вопроса:
а. Что есть я
сам (как объект заботы)?
б. Каким образом
проявление заботы о себе может привести к умению управлять другими?
Обратимся сперва
к проблеме заботы о себе. Что значит проявлять заботу о себе? Из «Алкивиада»
Платона можно вычленить глобальную теорию заботы о себе, согласно которой невозможно
постичь истину, не имея определенного практического навыка или даже целой
системы практических навыков. Эти навыки имеют весьма специфический характер,
они трансформируют способ существования субъекта и определяют его в процессе
трансформации. В этом заключается философская тема, породившая впоследствии
многочисленные процедуры, имеющие более или менее ритуализованный характер.
Мысль о необходимости определенной технологии обращения со своим «Я» для
постижения истины была известна грекам еще до Платона.
1) практика духовной концентрации;
2) практика
отшельничества — анахорезис: видимое отсутствие;
3) практика
терпеливости: надо уметь переносить страдания. Платон в «Алкивиаде» заимствует
старые мотивы, обеспечивает их техническую преемственность: я обязан проявлять
заботу о самом себе с тем, чтобы стать способным управлять другими людьми и
полисом (городом-государством); следовательно, забота о себе должна
превратиться в искусство, techne, умение, которое позволило бы одному человеку
руководить другими.
Рассмотрим
теперь проблему своего «Я» (heautou). Забота о себе равнозначна заботе о своей
душе: я семь моя душа. Когда мы констатируем, что Сократ разговаривает с
Алкивиа-дом, что это значит? Это значит, что Сократ пользуется определенным
языком. Этот простой пример имеет большое значение, поскольку поставленный
вопрос есть вопрос о субъекте. Сократ говорит с Алкивиадом: каков
предполагаемый субъект, когда мы подразумеваем эту речевую деятельность Сократа
по отношению к Алкивиаду? Следовательно, дело заключается в том, чтобы в
речевой деятельности провести различие, которое позволит изолировать, выделить
субъект этой деятельности и совокупность элементов, слов, шумов, составляющих
ее и позволяющих ей осуществиться. Иными словами, необходимо выявить субъект в
его неизменности. Субъект — это то, что пользуется определенными средствами,
для того чтобы что-то сделать. Тело совершает какое-то действие лишь постольку,
поскольку существует некий элемент, который его использует. Этим элементом не
может быть само тело, им может быть только душа. Субъектом всей этой телесной,
инструментальной, языковой деятельности является душа, использующая язык,
инструменты и тело. Таким образом, мы подошли к вопросу о душе. Эта душа не
имеет ничего общего, например, с душой — пленницей тела, душой, которую надо
освободить («Федон»), ни с душой, которую следует вести в нужном направлении
(«Федр»). Это также не та душа, организованная согласно определенной иерархии
инстанций, которую нужно привести в гармонию («Государство»). Это душа только
потому, что она является субъектом действия, поскольку она движет телом,
действует посредством своих инструментов и т. д. Используя выражение chresis,
Платон хочет указать, что отношение субъекта к его средствам имеет не просто
инструментальный характер (chrestai — пользоваться; существительное chresis
обозначает определенный тип отношения к другому человеку). Употребляя глагол
chrestai и существительное chresis, Платон в действительности стремится
обозначить не некое инструментальное отношение души ко всему остальному миру
или к телу, а, скорее, своеобразную страсть трансцендентного характера,
которую испытывает субъект ко всему, что его окружает, к объектам, находящимся
в его распоряжении, а также к другим людям, с которыми он вступает в отношения,
к своему телу и, наконец, к самому тебе. Так что, когда Платон использует
понятие для обозначения того «Я», о котором надо заботиться, он обнаруживает
не душу-сущность, а душу-субъект.
Диететика, экономика, эротика как самореализация
субъекта
Существуют три
вида деятельности, которые внешне напоминают заботу о себе: деятельность
врача, хозяина дома и влюбленного.
1. Проявляет ли
заботу о себе врач, если, будучи больным, лечит себя, используя все свои
познания в области медицины применительно к самому себе? Нет, поскольку он
заботится не столько о себе, то есть о своей душе-субъекте, сколько о своем
теле. Таким образом, здесь должны быть налицо различные цели, объекты. Налицо
также разница между techne врача, применяющего свои знания к самому себе, и
techne, которое должно позволить индивиду проявить заботу о самом себе, то есть
о своей душе, выступающей в качестве субъекта.
2. Заботится ли
о себе отец семейства и собственник, когда он печется о благе своих близких и
стремится приумножить свои богатства? Нет, так как он печется не о самом себе,
а о том, что ему принадлежит.
3. Подобный ответ
будет и в
случае с влюбленным. Не стоит заботиться о теле любимого, потому
что оно красиво; напротив, следует заботиться о его душе как субъекте его действий,
поскольку эта душа использует его тело и его возможности. В Алкивиаде Сократ
ищет не что иное, как способ проявления его заботы о самом себе.
Забота о себе
невозможна без наличия наставника. А позиция самого наставника определяется
заботой о том, какую заботу о себе проявляет его подопечный. Наставник — это
тот, кого заботит забота, которую субъект проявляет по отношению к самому себе.
Любовь к ученику выражается в возможности заботиться о той заботе, которую тот
проявляет о самом себе. Проявляя незаинтересованную любовь к юноше, наставник
дает принцип и образец той заботы, которую юноша должен осуществлять по
отношению к самому себе как субъекту.
Вот три основных
линии эволюции понятия заботы: диететика (связь между заботой и основным
режимом существования тела и души), экономика (связь между заботой о себе и
социальной деятельностью) и эротика (связь между заботой о себе и любовными
взаимоотношениями). Диететика, экономика и эротика выступают как сферы
самореализации субъекта. Тело, окружение, дом — эротика, экономика, диететика,
— вот те три большие области, где в ту эпоху осуществляется самореализация
субъекта при постоянном переходе одного вида деятельности в другой.
Необходимость поддерживать определенный диететический режим заставляет человека
заниматься сельскохозяйственной работой, собирать урожай и т. д., т. е.
переходить к экономике, которая, в свою очередь, определяет внутрисемейные
отношения и неизбежно связана с проблемами любви. Самореализация субъекта
предполагает новую этику в вербальных отношениях с другими людьми.
Божественное самопознание
В структуре
заботы о себе содержатся три ссылки на призыв «познай самого себя» Дельфийского
оракула (gnothi seauton). Прежде всего: чтобы начать заботиться о самом тебе,
Алкивиад должен задаться вопросом «кто я?» Затем, самопознание как
методологическое правило: к какому «Я» относится субъект заботы о самом себе?
И, наконец, эта референция проявляется со всей очевидностью: забота о самом
себе должна предстать в самопознании как ответ на вопрос: в чем состоит забота
о себе?
Можно отметить,
что как только была открыта область применения «заботы о себе» и как только
«Я» было определено как «душа», вся эта открытая таким образом область
оказалась перекрытой принципом «познай самого себя». Это можно расценивать как
вторжение gnothi seauton в пространство, открытое «заботой ° себе».
Самопознание и «забота о себе» переплетаются друг с другом; между ними
существует взаимная перекличка, и не следует пренебрегать ни одним из этих
элементов в ущерб друтому. Каким образом можно познать самого себя? В чем заключается
самопознание? Мы руководствуемся принципом, согласно которому для того, чтобы
проявить заботу о самом себе, нужно сначала себя познать. Чтобы познать себя,
необходимо вглядеться в элемент, идентичный своему «Я», всмотреться в него,
поскольку он сам есть принцип знания (savoir) и познания (соп-naissance), т. е.
является божественным. Таким образом, следует вглядеться в частицу божества,
чтобы узнать самого себя, следует познать божественное, чтобы познать себя.
Движение
самопознания ведет к мудрости. Начиная с момента, когда душа овладеет
мудростью, она сумеет отличить истинное от ложного; она будет знать, как
следует себя вести, и, таким образом, она станет способной управлять. «Забота о
себе» и «забота о справедливости» — одно и то же по сути.
Существует
тройное отношение «заботы о себе» в политической, педагогической и эротической
деятельности.
1. Проявлять
заботу о себе — это не только привилегия правителей, но и требование,
предъявляемое к ним. Однако обязанность заботиться о себе имеет и более
широкий смысл — она значима для всех людей, но со следующими ограничениями: а)
«заботиться о себе» говорят лишь людям, обладающим культурными и
экономическими возможностями, образованной элите (фактическое разделение); б)
эту фразу говорят лишь людям, способным выделиться из толпы (заботе о себе нет
места в повседневной практике; это свойство элиты нравственной — разделение
навязанное).
2. Педагогика
страдает недостаточностью. Забота о себе должна проявляться во всех мелочах,
чего не может гарантировать педагогика; заботиться о себе следует в течение
всей своей жизни — развитие зрелости. Молодые люди должны готовиться к зрелому
возрасту, а взрослые — к старости, которая является завершением жизни.
3. Эротическое
чувство юношей будет иметь тенденцию к исчезновению.
Эти три аспекта
подвержены постоянным вариациям, которые составят постплатоновский период
истории «заботы о себе». Алкивиад представляет собой типично платоновское решение
данной проблемы, ее сугубо платоновскую форму, а не общую историю «заботы о
себе».
Понимание заботы
о себе в платоновской и неоплатонической традиции характеризуется, во-первых,
тем, что «забота о себе» обретает свою форму и свое завершение в самопознании,
которое является если и не единственной, то, по крайней мере, абсолютно
суверенной формой по отношению к ней; во-вторых, тем, что самопознание как
высшее и независимое выражение своего * «Я» обеспечивает доступ к истине, и
именно к ней; наконец, постижение истины позволяет в то же время признать
существование божественного начала в самом себе. Познать самого себя, познать
божественное начало, узнать его в самом себе — это, я полагаю, является
основополагающим в платоновской и неоплатонической форме «заботы о себе». Одним из условий доступа к истине
в учении Платона является отношение к себе и к
божественному; отношение к себе выступает как проявление божественного начала и
отношение к божественному для своего «Я».
Забота о себе как врачевание души
Самореализация: от невежества (как области референции) к критике (самого себя, других,
мира и т.д.). Образование представляет собой остов индивида перед лицом
событий. Самореализация перестает быть настоятельной необходимостью на фоне
невежества (Алкивиад), которое само не подозревает о своем существовании;
самореализация становится необходимой на фоне ошибки, на фоне дурных привычек,
на фоне всякого рода деформаций и ставших привычными и укоренившимися зависимостей,
от которых надо освободиться, отряхнуться. Речь идет скорее об исправлении, об
освобождении, нежели о формировании знания. Именно в этом направлении будет
развиваться самореализация, что представляется весьма существенным. Даже если
человеку не удалось «исправиться» в молодости, этого всегда можно достичь в
более зрелом возрасте. Даже если мы согбенны, существуют различные средства,
чтобы помочь нам «распрямиться», исправиться, стать тем, чем мы должны были бы
стать и чем мы никогда не были. Стать вновь тем, чем человек никогда до этого
не был, — это, я думаю, один из основных элементов, одна из главных тем
самореализации.
Первым
следствием хронологического перемещения «заботы о себе» — с конца юношеского
возраста на взрослый период жизни — является критическое отношение к
самореализации. Вторым следствием будет отчетливое и ярко выраженное сближение
самореализации и врачевания. Самореализация задумана как акт врачевания, как
терапевтическое средство. Терапевты находятся в корреляции между уходом за
человеком и уходом за его душой. Существует очевидная взаимозависимость между
философией и медициной, между практикой души и практикой тела. (Эпиктет считал
свою философскую школу лечебницей души.)
27 января 1982 Другой как посредник
Отношение к себе
выступает отныне как задача самореализации. Эта задача есть конечная цель
жизни и в то же время самореализация — редкая форма существования. Самореализация
— конечная цель жизни любого человека, форма существования — только некоторых.
Мы имеем здесь форму, лишенную такой крупной трансисторической категории, как
спасение. Однако нужно решить проблему отношения к другому человеку как
посреднику. Другой необходим в процессе самореализации для того, чтобы форма,
которую эта самореализация определяет, действительно достигла своего объекта,
то есть своего «Я». Другой необходим для того, чтобы самореализация достигла
того «Я», на которое она нацелена. Вот в чем заключается главная формула.
Существуют три
типа мастерства, три типа умения — techne, три типа отношения к другому,
необходимые для формирования молодого человека.
1. Наставление
примером: пример великих людей и сила традиции формируют модель поведения.
2. Наставление
знаниями: передача знаний, манеры поведения и принципов.
3. Наставление в
трудности: мастерство выхода из трудной ситуации, сократовское techne.
Эти три типа
мастерства покоятся на некой игре невежества и памяти. Незнание неспособно
выйти за собственные пределы, и необходима память, чтобы осуществить переход от
незнания к знанию (переход, который всегда осуществляется посредством другого
человека). Субъект должен стремиться не к тому, чтобы какое-то знание пришло на
смену его незнанию, а к тому, чтобы преобрести статус субъекта, которого он
никогда не имел до этого. He-субъекту следует придать статус субъекта, что определяется
полнотой его отношений к своему «Я». Нужно создать себя как субъекта, и в этот
процесс должен вмешаться другой. Эта тема представляется мне достаточно важной
как во всей истории самореализации, так и, в самом общем виде, в истории
проблемы субъективности на Западе. Отныне наставник выступает в роли
исполнителя преобразования индивида и в его формировании как субъекта.
Stultitia и истинная воля
Stultitia
представляет собой другой полюс самореализации (см.: Сенека). Чтобы выйти из
состояния невежества, нужно обратиться к «заботе о себе». Невежество
соответствует состоянию нездоровья; оно описывается как худшее из состояний, в
которых может пребывать человек, прежде чем он обратится к философии и к
самореализации.
Что означает
stultus, Stultitia?
1. Открытость
влияниям извне, абсолютно некритическое восприятие представлений. Это означает
смешение объективного содержания представлений с ощущениями и всякого рода
субъективными элементами.
2. Stultus — это
тот, кто разбросан во времени, кто позволяет себя увлечь, кто ничем не
занимается, кто пускает свою жизнь на самотек, кто не направляет свою волю ни к
какой цели.
Жизнь его течет
беспамятно и безвольно. Это тот, кто без конца меняет свою жизнь.
Вследствие этой
открытости индивид, к которому приложим эпитет stultus, не способен хотеть как
следует. Его воля несвободна, она не всегда изъявляет свои желания, она не
абсолютна. Свободно хотеть значит в действительности не зависеть ни от какого
представления, события или склонности; хотеть в абсолютном плане не значит
стремиться обладать различными вещами одновременно (например, вести спокойный
образ жизни и быть знаменитым); хотеть всегда подразумевает желание, в котором
отсутствуют инерция и лень. Такое состояние противоположно состоянию stultitia,
которое есть не что иное, как ограниченная, относительная, фрагментарная,
изменчивая воля.
Что является
подлинным объектом подлинной воли? Вне всякого сомнения, им является
собственное «Я». Это то, чего человек жаждет всегда, абсолютно и свободно; «Я»
— это то, что невозможно изменить. Но stultus не жаждет самого себя. Состояние
stultitia характеризуется размыканием, несостыковкой воли и своего «Я», их
не-принадлежностью друг другу. Выйти из этого состояния значит поступить таким
образом, чтобы возжелать своего «Я», возжаждать самого себя, устремиться к
себе как единственному объекту, который можно желать свободно, безусловно,
всегда. Однако очевидно, что stultitia не способна желать этого объекта,
поскольку характеризуется именно отсутствием желания. Сам индивид не может
выйти из состояния stultitia в той мере, в какой оно определяется этим
не-отношением к себе. Сотворить себя как объект, обрести способность поляризовать
свою волю, способную предстать в качестве объекта, в качестве свободной и
постоянной цели, на которую эта воля устремлена, можно лишь при посредничестве
другого человека. Между человеком stultus и человеком sapiens необходим
посредник. Или иначе: между человеком, не желающим собственного «Я», и тем, кто
достиг искусства управлять собой, обладать собой, черпать удовольствие в себе —
что является подлинной целью sapientia, — необходимо вмешательство другого,
поскольку, структурно, воля, присущая stultitia, не может желать заботиться о
своем «Я». В связи с этим заботе о себе необходимо присутствие, включение, вмешательство
другого.
Философ как посредник
Другой не
является ни воспитателем, ни учителем в сфере памяти. Речь идет не о том, чтобы
educare («воспитывать»), а о том, чтобы educere («вывести»). Этим другим,
находящимся между субъектом и его «Я», является философ, который служит
проводником для всех людей в том, что касается вещей, соответствующих их
природе. Одни лишь философы могут сказать, как следует себя вести; они одни
знают, как надо управлять другими людьми и теми, кто сами хотят руководить.
Философия — это основная практика управления. Именно в этом заключается основное
разногласие между философией и риторикой в том виде, как оно возникало и
проявлялось в ту эпоху. Риторика представляет собой набор и анализ средств,
которыми можно воздействовать на других вербально. Философия — это
совокупность принципов и практических навыков, которые человек имеет в своем
распоряжении или предоставляет в распоряжение других с тем, чтобы иметь
возможность должным образом проявлять заботу о себе или о других. Профессия
философа утрачивает свою профессиональную значимость по мере того, как она
становится более значимой. Чем больше человек нуждается в советнике для самого
себя, тем чаще в процессе самореализации он вынужден прибегать к помощи
другого, и, следовательно, тем в большей степени утверждается философия. Наряду
с этим сугубо философская функция философа будет постепенно терять свою
значимость, а сам философ все больше и больше будет превращаться в жизненного
советчика, который по любому поводу — по поводу частной жизни, внутрисемейных
отношений, политической деятельности — будет рекомендовать не те общие модели,
которые могли предложить, например, Платон или Аристотель, а советы,
подходящие для каждой конкретной ситуации. Философы действительно интегрируются
в повседневный образ жизни.
Практика
управления сознанием (см. Плиний) стала социальной практикой. Она получила свое
развитие среди людей, которые, по сути, не были специалистами в этой области.
Существует целая тенденция практиковать, распространять, развивать самореализацию
субъекта даже вне существующих философских институтов, за пределами философии
философа как таковой. Налицо стремление превратить самореализацию в
определенный тип отношений между индивидами, представить ее как своего рода
принцип, контроль за человеком со стороны других людей, формирование,
развитие, установление для человека некоего отношения к самому себе, что найдет
себе точку опоры, свое посредничество в другом человеке — не обязательно
профессиональном философе, — хотя, конечно, необходимо при этом пройти через
философию и иметь какие-то философские понятия.
Фигура и функция
наставника поставлены здесь под вопрос. Эта фигура наставника если и не
исчезает окончательно, то, во всяком случае, ее постепенно переполняет, окружает,
составляет ей конкуренцию самореализация субъекта, которая является вместе с
тем социальной практикой. И самореализация сливается с социальной практикой,
или, если угодно, с установлением такого отношения своего «Я» с самим собой,
которое теснейшим образом переплетается с взаимоотношениями «Я» и другого человека
(см.: Сенека).
3 февраля 1982 Самопознание и катарсис
Здесь можно
выделить три момента.
1. Самопознание
служит введением в философию
(«Алкивиад») Привилегия
«познай самого себя»
как философская основа; как преимущественная форма проявления
заботы о себе.
2.
Самопознание служит введением
в политику («Горгий»).
3. Самопознание
служит введением в катарсис («Федон»).
В учении Платона
связь между заботой о себе и заботой о других устанавливается тремя способами.
Самопознание представляет собой один аспект, один элемент, основную форму, —
но лишь только форму — фундаментального и всеобщего требования проявлять заботу
о себе. (Неоплатонизм перевернет эту проблему.)
а) Заботясь о
самом себе, человек сможет заботиться о других. Между заботой о себе и заботой
о других существует связь финальности. Я проявляю заботу о себе, чтобы суметь
заботиться о других; я буду практиковать на самом себе то, что получит
название катарсиса у неоплатоников, с тем, чтобы стать политическим субъектом,
то есть человеком, который знает, что такое политика, и, следовательно,
способен управлять.
б) Во-вторых,
существует связь взаимности, поскольку, проявляя заботу о себе, практикуя
очищение катарсисом в платоновском смысле, я совершаю благо — как я того желаю
— полису, во главе которого я нахожусь. Таким образом, если, проявляя заботу о
себе, я обеспечиваю своим согражданам спасение и процветание, то это
процветание возвращается ко мне, так как я буду пользоваться всеми благами в
той мере, в какой я сам являюсь составной частью этого полиса. Следовательно, в
спасении государства забота о себе обретает свое вознаграждение и свою гарантию.
Человек находит свое спасение в той мере, в какой его находит государство, и в
той мере, в какой государству позволили спастись, проявив заботу о себе. Эту
зависимость в равной мере можно обнаружить в развернутом построении
«Государства».
в) Наконец,
третьей после связи финальности и взаимности — является связь, которую можно
определить как сопричастность сущности, поскольку, лишь проявляя заботу о себе,
испытывая очищение катарсисом, душа открывает то, что она есть и что она знает,
или, точнее, чему она следует. Таким образом, она открывает одновременно свою
суть и свое знание. Она открывает то, что она есть и что она созерцала в форме
памяти. Таким путем она может возвыситься до созерцания истин, позволяющих воссоздать
со всей справедливостью государственный порядок.
Итак, существует
три типа связи между политикой и катарсисом:
— связь
финальности в techne политики;
—- связь
взаимности в форме государства;
— связь
сопричастности в форме реминисценции.
Забота о себе как самоцель
Если перенестись
в эпоху, которую я взял на точку отсчета, т.е. I и II вв. н.э., то обнаружится
четкий разрыв между заботой о себе и заботой о других. Это, очевидно, один из
важнейших феноменов в истории самореализации субъекта и, возможно, в истории
античной культуры вообще; во всяком случае феномен превращения заботы о себе в
самоцель представляется весьма значительным, тогда как забота о других не
обязательно является конечной целью и показателем, позволяющим оценить заботу о
себе.
«Я», о котором
проявляют заботу, не является более одним из элементов среди прочих. Оно не
служит более связующим звеном, одним из этапов, элементом перехода к чему-либо
иному, будь то государство или другие люди. «Я» становится конечной и
единственной целью заботы о себе. Происходит одновременно абсолютизация «Я» как
объекта заботы о себе и превращение этого «Я» в самоцель посредством самого «Я»
в практике, именуемой заботой о себе. Следовательно, эта практика ни в коей
мере не может считаться предварительным этапом, вводящим в заботу о других.
Это деятельность, сосредоточенная лишь на собственном «Я», это деятельность,
находящая свое завершение и удовлетворение — в точном смысле этого слова —
лишь в своем «Я», то есть в самой деятельности, осуществляемой по отношению к
самому себе. Человек проявляет заботу о себе для самого себя, и именно в этом
забота о себе получает свое вознаграждение. В заботе о себе человек сам
является своим собственным объектом, становится самоцелью. Иначе говоря,
существует одновременно абсолютизация «Я» как объекта заботы и превращение
этого «Я» в самоцель посредством самого «Я» в практике, именуемой заботой о
себе. Одним словом, забота о себе, которая у Платона совершенно очевидно
выходила на проблему государства, других людей, politeia, представляется на
первый взгляд, во всяком случае в том периоде, о котором идет речь, — I и II вв.
н.э. — как бы замкнутой на самой себе.
Самоцель имеет
важные поледствия для философии. Искусство жить и искусство быть самим собой
все более отчетливо идентифицируются. Какое знание указывает, как следует жить?
Этот вопрос будет постепенно поглощен другим вопросом: что нужно сделать для
того, чтобы «Я» стало и оставалось тем, чем оно должно быть?
Философия как
проблема поиска истины поглощена духовностью как трансформацией субъекта им
самим. Каким образом я должен преобразовать свое «Я», чтобы получить доступ к
истине? (Вопрос обращения, metanoia.)
Самоцель имеет
не менее существенные последствия для различных образов жизни и
индивидуального опыта. Происходит подлин-ный расцвет культуры своего «Я». Под
культурой подразумевается некая сумма ценностей, расположенных в определенной
последовательности и иерархически организованных. Эти ценности имеют
универсальный характер, но вместе с тем доступны лишь некоторым; человек может
их обрести, лишь жертвуя своей жизнью и следуя определенным правилам поведения.
Способы и технические приемы для обретения этих ценностей также организованы в
определенном порядке и образуют ту область знания, которая управляет и
преобразует поведение человека.
Понятие спасения
Понятие спасения
себя и других включает некий технический аспект.
1. Спасение
позволяет перейти от смерти к жизни и т.д. Это бинарная система: спасение
находится между жизнью и смертью, между смертностью и бессмертием; это переход
от зла к добру, из мира этого в мир иной. Спасение — это орудие перехода.
2. Спасение
связано с драматичностью исторического или ме-таисторического события, с
временностью и вечностью.
3. Спасение —
это сложная операция; спасение себя осуществляется при содействии другого.
Идея спасения принадлежит религии или, по крайней мере, находится под ее
влиянием. Однако, несмотря на это, понятие спасения эффективно функционирует
как философское понятие в рамках самой философии. Спасение выступает как цель
философской практики и жизни.
Глагол sautseia
(«спасать»)* имеет несколько значений. Человек, который спасается, это тот,
кто находится в состоянии тревоги, сопротивления, самообладания и
независимости по отношению к своему «Я», что позволяет ему парировать все
удары судьбы. В равной мере, «спастись» значит избежать угрожающего принуждения
и быть восстановленным в своих правах, вновь обрести свою свободу и свою
подлинность. Спасти себя — значит поддерживать себя в стабильном состоянии,
которое ничто не в силах нарушить, какие бы события ни происходили вокруг. И,
наконец, «спастись» означает: обрести те блага, которых человек не имел в
начале пути, извлечь выгоду, воспользоваться своего рода услугой, которую он
оказывает сам себе. «Спастись» значит обеспечить себе счастье, спокойствие,
невозмутимость. Таким образом, вы видите, что «спастись» имеет положительное
значение и не связано с драматичностью событий, которое заставляет вас
переходить от негативного к позитивному смыслу категорий спасения; понятие
спасения связано ни с чем иным как с самой жизнью. В этом понятии спасения,
которое встречается в эллинистических и римских текстах, нет каких-либо
отсылок к таким вещам, как смерть и бессмертие или мир иной. Спасаются не по
отношению к некоему драматическому событию. «Спастись» служит обозначением
деятельности, которая осуществляется в течение вссеи жизни и единственным
исполнителем которой является сам субъект. И если, в конечном счете, эта
деятельность по самоспасению приводит к определенному результату, который
является ее целью, то этот результат заключается в том, что, благодаря спасению,
человек становится недоступен несчастью, тревоге, всему тому, что может
проникнуть в душу из-за всякого рода случайностей, событий внешнего мира и т.
д. И, достигнув конечной цели, объекта спасения, человек не нуждается более ни
в ком и ни в чем.
* Явная ошибка. Правильно:
sodzesthai. — Ф. К.
Две большие темы
— с одной стороны, тема атараксии — отсутствие волнения, а с другой — тема
автаркии, самодостаточности, благодаря которой человек не нуждается ни в чем,
кроме самого себя, — представляют две формы, в которых деятельность «по
спасению», длившаяся всю жизнь, получает вознаграждение. Таким образом,
спасение — это непрерывная деятельность, осуществляемая субъектом по отношению
к самому себе и находящая свое вознаграждение в некоем отношении субъекта к
самому себе; это отношение определяется отсутствием тревоги и чувством
удовлетворения, которое не нуждается ни в чем, кроме самого себя. Одним словом,
можно сказать, что спасение есть форма отношения к себе — бдительная,
продолжительная и завершенная одновременно, — замыкающаяся на самом себе.
Человек спасает себя ради самого себя и посредством самого себя с тем, чтобы
обрести самого себя. В этом «спасении», которое я бы назвал эллинистическим и
римским, «Я», деятель, объект, инструмент является конечной целью спасения.
Очевидно, что
такое понимание спасения чрезвычайно далеко от спасения посредством государства
у Платона; такое понимание также далеко от спасения религиозного соотносимого
с бинарной системой, с драматизмом событий, с отношением к другому, которое в
христианстве подразумевает отказ от самого себя. Спасение, напротив,
обеспечивает приятие самого себя, слияние со своим «Я», которое не расторжимо
во времени и осуществляется в ходе всей жизни благодаря работе над самим
собой.
От Платона к Декарту
Начиная с
Платона («Алкивиад») ставится следующий вопрос: «Какой ценой постигается
истина?» Это цена заключена в самом субъекте в форме вопроса: «Какую работу я
должен проделать над собой? Как должен я преобразовать самого себя? Какие
изменения своего бытия я должен осуществить, чтобы постичь истину?»
Фундаментальным
принципом является то, что субъект как таковой, предоставленный самому себе, не
способен к восприятию истины. Он сумеет ее постичь лишь в том случае, если
произведет с собой целый ряд операций, трансформаций и модификаций, которые
сделают его способным к восприятию истины.
Именно здесь
находится место христианству. Настал момент, когда субъект как таковой обрел
способность постигать истину. Совершенно очевидно, что модель научной практики
сыграла существенную роль в этом процессе. Достаточно открыть глаза, начать
здраво рассуждать, придерживаясь очевидного и никогда не удаляясь от него,
чтобы обрести способность к постижению истины. Таким образом, преобразование
самого субъекта становится необязательным; достаточно, чтобы субъект был тем,
кто он есть, и истина откроется ему в познании, поскольку доступ к ней открыт
самой структурой субъекта.
Возникает
инверсия отношения между спасением других (политика) и спасением самого себя
(момент катарсиса). Согласно Платону, следует проявлять заботу о себе, чтобы
заботиться о других, и, если человек спас других, то, тем самым, он спас
самого себя. Спасение других есть своего рода дополнительное вознаграждение за
деятельность, которую человек упорно осуществляет над самим собой. Спасение
других есть следствие, результат заботы о себе.
10 февраля 1982
Epistrophe и обращение
У Платона
встречается понятие epistrophe, в котором можно вычленить четыре следующих
элемента:
— отвернуться
от... (внешних признаков);
— обратиться к
самому себе (констатировать свое
невежество);
— осуществить
акт воспоминания;
— вернуться к
своей онтологической родине (родине основ, истины и бытия).
Познать самого
себя — значит познать истину, освободиться в акте воспоминания как
основополагающей форме знания, которое питает эти элементы. В I и II вв. н.э.
стоики преобразовали epistrophe в обращение. В отличие от epistrophe, обращение
подразумевает скорее освобождение от всего, что делает нас зависимыми, над
чем мы не властны, нежели освобождение от тела как неподвижного центра
замкнутого и полного отношения себя к себе. Роль познания перестает быть столь
решающей и основополагающей. Большее значение приобретают практика, аскеза,
упражнения.
В III и IV вв.
н.э. понятие «обращения» вновь будет подхвачено христианами и подвергнется
новой трансформации. Христианское обращение (metanoia) подразумевает:
а)внезапное
изменение как единственное событие (потрясение как разрыв);
б) переход от
одного состояния к другому (переход от смерти к жизни как преображение);
в) отказ «Я» от
самого себя.
Однако этот
разрыв происходит не в самом себе, а для, посредством, вокруг, к самому себе
(см. Сенека: бежать от себя, Ускользнуть от себя). Вы видите, что обращение —
это движение, направленное к своему «Я», не выпускающее его из виду, фиксирующее
его раз и навсегда как цель и достигающее его там, где оно совершает поворот. И
если обращение (metanoia) в эпоху христианства или постхристианства существует
в форме разрыва и изменения внутри собственного «Я», и, следовательно, можно
сказать, что оно представляет собой своего рода транссубъекти-вацию, то это
нельзя сказать об обращении, о котором идет речь в I в. н.э. и которое не
является транссубъективацией, способом маркировать в субъекте основную цезуру.
Обращение — это долгий, непрерывный процесс, и я бы скорее назвал его не
транссубъективацией, а автосубъективацией. Каким образом можно установить,
намечая самого себя в качестве цели, адекватное и полное отношение самого себя
к самому себе? Именно в этом состоит суть данного обращения, и в таком
понимании оно далеко от христианской metanoia.
Начиная с XX в.
понятие обращения снова приобретает свою значимость, особенно в связи с выбором
революционного пути и революционной практики. На смену Церкви приходит Партия,
объединяющая и организующая революционеров. Это заставляет нас вернуться к
основному вопросу нашего курса: каким образом изречение истины и управление
собой и другими людьми связываются и сочленяются между собой?
Продуктивное познание ethos
Ethopoieien
значит творить ethos, преобразовывать ethos, манеру бытия или способ
существования индивида. Ethopoios — это нечто, способное преобразовать образ
жизни человека, трансформировать его ethos. To, что введет в область знания цезуру,
— и не ту цезуру, которая обратила бы в ничто некоторую содержательную часть
познания, — это проявление этопойетического или не-этопойетического
(ethopoietique ou поп) характера знания. Познание полезно лишь в том случае,
когда оно имеет какую-то форму, когда оно функционирует таким образом, что
оказывается способным производить ethos. Познание мира представляется чрезвычайно
полезным; оно может создавать и вести к познанию других людей и богов. Именно
так должно характеризоваться познание, полезное для человека. Следовательно, вы
видите, что критика бесполезного знания вовсе не отсылает нас к валоризации
другого знания и другого содержания, которое было бы познанием нас самих и
нашего внутреннего мира. Она отсылает нас к другому функционированию того же
знания внешних вещей. На этом уровне самопознание вовсе не находится на пути к
разгадке тайны сознания. Такое толкование своего «Я» получит развитие
впоследствии, в эпоху христианства. Полезное познание, познание, затрагивающее
проблему существования человека, — это тип относительного познания,
одновременно утверждающий и предписывающий, способный произвести изменение в
способе бытия субъекта (см. тексты Эпикура: «Ватиканские максимы», параграф 45,
определение физиологии). Здесь можно констатировать классическое
противопоставление между paideia u physi-ologia. Фисиология — это не один из
секторов знания, это познание природы в той мере, в какой оно способно служить
принципом, определяющим поведение человека, и критерием, определяющим степень
нашей свободы, а также в той мере, в какой оно способно превратить человека —
того человека, который трепетал от страха и ужаса перед лицом природы, в
свободную личность, которая получит возможность обрести в самой себе свою
неистощимую и абсолютно спокойную волю.
Paresia, по
сути, является не искренностью и не свободой слова, а техникой, позволяющей
наставнику использовать должным образом то, что может оказать эффективное
воздействие на работу по преобразованию его подопечного. Paresia — это
техника, применяемая в отношениях между врачом и больным, учителем и учеником.
Это свобода действия, позволяющая использовать в области истинных знаний то
знание, которое больше всего подходит для изменения и улучшения субъекта. В
своем письме Геродоту Эпикур ссылается на такой тип рассуждения, в котором
одновременно говорится, что есть истина и что следует делать, рассуждение,
приоткрывающее истину и несущее в себе предписание. Он говорит: в своей
свободе фисиолога я скорее предпочту приблизиться к той формулировке оракула, в
которой пусть туманно, но все же изрекается истина, нежели ограничиться следованием
общепринятому мнению, которое, возможно, все одобряет и все понимает, но
которое ни в чем не меняет само бытие субъекта. Искусство и свобода фисиолога
состоят в том, чтобы пророчески возвещать лишь отдельным людям, тем, кто
способен воспринимать истинные откровения природы, какими бы они ни были, кто
может действительно изменить свой образ жизни.
Подлинное и
приемлемое как для мудреца, так и для его ученика знание не должно быть
направлено на них самих и не должно превращать «Я» в сам объект познания; это
должно быть знание, нацеленное на вещи, на мир, на богов и на людей, результатом
и функцией которого должно быть изменение бытия субъекта. Необходимо, чтобы
субъект был затронут этой истиной.
17 февраля 1982
«Я» как точка и взгляд на мир сверху вниз
Сенека
(«Исследования о природе») устанавливает различие между двумя частями
философии: а) часть, касающаяся людей и всего, что необходимо совершить на
земле; б) часть, касающаяся богов, где описывается то, что происходит на
небесах.
Между пунктами
а) и б) существует различие и определенная последовательность. Дело заключается
в том, чтобы вырвать нас из тьмы и довести до того места, откуда исходит свет.
Следовательно, речь идет о реальном движении души, возносящейся ввысь и
вырывающейся из тьмы, которая есть принадлежность этого мира. Это движение,
будучи не простым изменением направления взгляда, а перемещением самого
субъекта, имеет, схематично, четыре характеристики:
1. Это движение
есть бегство, в котором «Я» оказывается оторванным от самого себя и которое
завершает отрыв от недостатков и пороков.
2. Это движение,
ведущее нас к Богу, но не в форме саморастворения в нем, а в форме,
позволяющей нам вновь обрести самих себя в своего рода при-родности
(co-naturalite), ко-функцио-нальности по отношению к Всевышнему. Человеческий
разум имеет ту же природу, что и божественный; он обладает теми же свойствами,
играет ту же роль, исполняет ту же функцию. Человеческий разум должен быть для
самого человека тем же, чем является божественный разум для мира.
3. В этом
движении мы возносимся до самой высокой точки и одновременно, в тот самый
момент, когда мы оказываемся таким образом вознесенными надо всем тем, что окружало
нас в этом мире, мы получаем возможность проникнуть в самую глубинную тайну
природы. Душа достигает сокровенного лона природы.
4. Наконец,
очевидно, что это движение, возносящее нас над миром и вместе с тем открывающее
нам тайны природы, позволит нам сверху бросить взгляд на землю. В тот самый
миг, когда, приобщаясь к божественному разуму, мы постигаем тайну природы, мы
можем осознать, сколь ничтожно малыми были мы сами.
Если для Платона
самопознание означает необходимость отвернуться от этого мира с тем, чтобы
взглянуть на другой, то для Сенеки и стоиков это необязательно. Согласно их
концепции, общая и абстрактная теория изучения природы интерпретируется как
инструмент освобождения своего «Я». В этом смысле здесь налицо отход от той
точки, в которой мы находимся, отход, заставляющий нас самих быть в наших
собственных глазах тем, что мы суть, а именно точкой во всеобщей системе
Вселенной. Это освобождение реально осуществляет взгляд, который мы можем направить
на всю систему вещей, существующую в природе.
Вы видите, что в
такого рода самопознании не возникает альтернатива: или человек познает
природу или самого себя. Действительно, он способен познать самого себя лишь
при условии, что имеет определенную точку зрения на природу познания, развернутую
и детализированную систему знаний, позволяющую ему точно постигать не только
глобальную организацию природы, но и составляющие ее элементы. В то время как
в понимании эпикурейцев познание природы имело основной целью освобождение
человека от страхов и мифов, которые переполняли его с колыбели, в трактовке
познания стоиками речь идет о том, чтобы человек обрел самообладание в том
мире, где он находится, иначе говоря, чтобы вновь поместить его внутрь
абсолютно рационального и внушающего доверия мира — мира Божественного
провидения, поместившего человека именно туда, где он находится, определившего
его место в последовательной цепи отдельных причин и следствий, необходимых и
разумных, которые он должен принять как данность, если действительно стремится
освободиться от этой цепи в единственно возможной форме признания ее необходимости.
Таким образом,
самопознание и познание природы находятся не в альтернативной оппозиции, а,
напротив, в абсолютной связи, в том смысле, что познание природы открывает человеку
тот факт, что он есть не что иное, как точка, единственная проблема которой
состоит в том, чтобы определить свое местоположение и одновременно принять ту
рациональную систему, которая это местоположение ей определила. В каком смысле
можно считать данное следствие знания освободительным? Первым результатом
знания природы является установление максимального напряжения между «Я» как
разума и «Я» как точки. И, во-вторых, знание природы является освободительным
в той мере, в какой оно позволяет человеку не отворачиваться от самого себя, не
отводить взгляда от того, что он есть, а, напротив, лучше сфокусировать его и
непрерывно держать самого себя в поле зрения, обеспечить такое созерцание себя
самого, которое бы показывало связь человека с совокупностью установлений и
необходимых условий, рациональность которых он понимает.
Следовательно,
не терять себя из виду и охватывать взглядом весь мир в его целостности — это
два вида деятельности, представляющиеся абсолютно нерасторжимыми, при условии,
что этому состоянию предшествовало движение отстранения, это духовное движение
субъекта, устанавливающее максимальную дистанцию между ним самим и его «Я»,
благодаря чему он достигает вершины мира, приближается к Богу, участвуя в
деятельности Божественной рациональности. Добродетельной является та душа,
которая общается со Вселенной, внимательно созерцая все вокруг и, таким
образом, сама себя контролируя в своих поступках и мыслях. Включиться в мир, а
не вырваться из него, исследовать его тайны вместо того, чтобы обратиться к
своим внутренним секретам, — вот в чем состоит добродетель души. Благодаря
тому, что душа общается со всей Вселенной и исследует ее тайны, она способна
контролировать свои поступки и мысли.
Вы видите, здесь
нет воспоминания, даже если верна мысль, что разум узнает себя в Боге. Речь
идет о большем, нежели новое открытие сущности души, о пройденном в мире пути,
исследовании сути вещей в мире и их причин. Таким образом, речь вовсе не о том,
чтобы душа замкнулась в себе, чтобы она задалась вопросом «Что она есть?»,
чтобы обнаружила в самой себе воспоминание о чистых формах, которые она
когда-то видела; речь идет о том, чтобы видеть существующие в настоящий момент
ве,щи, вычленять детали мира и понимать в ходе этого расследования, что
представляет собой рациональность мира с тем, чтобы, поняв это, признать, что
Разум, руководивший организацией мира, Божественный разум — того же типа, что и
разум, позволяющий человеку познавать мир. Это открытие соприродности —
ко-функциональности человеческого и божественного разумов осуществляется
движимым любопытством умом человека, совершающим исследование миропорядка.
В этом нет
абсолютно никакого перехода в мир иной. Мир, доступ к которому получает
человек благодаря этому движению, описанному Сенекой, — это мир, в котором он
существует. Отстраняясь, человек видит, как расширяется контекст, в который он
помещен, и он вновь овладевает миром, таким, какой он есть.
Эта тема
взгляда, устремленного на мир сверху вниз; тема духовного движения, которое
есть не что иное, как движение, благодаря которому взгляд возносится еще выше
и становится все более всеохватывающим, поскольку человек поднимается выше,
существенно отличается от платонического движения. Я полагаю, что удалось
определить одну из самых основных форм духовного опыта.
Понятие обращения
Существует две
основных составляющих: повернуться к себе, возвратиться к себе.
1. Во всех этих
выражениях присутствует идея реального движения субъекта по отношению к самому
себе. И речь идет не только о том, чтобы просто, как в голой идее заботы о
себе, проявлять внимание к самому себе, быть бдительным по отношению к себе.
Речь действительно идет о некоем перемещении субъекта по отношению к самому
себе. Субъект должен отправиться куда-то совершить что-то, что есть он сам.
Перемещение, траектория, угилие, движение — все это должно содержаться в идее
обращения к себе.
2. В этой идее
обращения к себе мы имеем тему возвращения.
Эти два элемента
— перемещение субъекта к самому себе и его возвращение к себе — часто воплощаются
в метафоре мореплавания. Мысль о том, что необходимо проследовать определенным
маршрутом к порту спасения, преодолевая опасности на своем пути, подразумевает
наличие определенной техники, комплексных знаний — теоретических, практических
и соответствующих каждой конкретной обстановке, — которыми обладает лоцман. К
этому роду лоцманской службы можно отнести три вида техники: а) медицина
(лечить); б) политическое руководство (управлять другими); в) руководство самим
собой (управлять самим собой). В ходе самореализации субъекта, «Я», в
сущности, представляется конечным пунктом некоей замкнутой траектории. Это
траектория жизни, полная опасностей. Возвращение к себе противоречит
христианс-ко-аскетическому отказу от себя, но это повторяющаяся тема в нашей культуре,
в которой мы всегда стремимся восстановить этику и эстетику своего «Я»
(Монтень, Штирнер, Бодлер, политическая анархия, Шопенгауэр, Ницше). В этой
серии попыток восстановить этику своего «Я», в этом движении, заставляющем нас
бес-зоб
прерывно к ней
обращаться, не придавая ей никакого содержания, можно заподозрить невозможность
создать этику своего «Я» на , сегодняшний момент, хотя это, возможно, задача
важная, основная, политически необходимая, если только правда то, что нет иного
основного и полезного очага сопротивления политической власти, кроме отношения
своего «Я» к самому себе.
Если вопрос
политической власти рассматривать как более общий вопрос отношений
руководства, понимаемых как стратегическая область отношений власти — в са.мом
широком и не только политическом смысле данного термина — в том, что есть в
них мобильного, способного поддаваться преобразованиям, обратимого, — анализ
власти должен сводиться к этике субъекта, определяемой отношением его «Я» к
самому себе. В то время как в теории власти как института исследователи обычно
обращаются к юридической концепции правового субъекта, я в своем анализе отношений
власти, руководства, управления собой и другими, отношения «Я» к самому себе
рассматриваю как звенья одной цепи, как некую ткань. Именно вокруг этих понятий
следует формулировать вопросы политики и этики.
Какая связь
существует между обращением к себе и самопознанием? Разве обращение к самому
себе не подразумевает в своей основе, что собственное «Я» человека становится
объектом и областью познания? Разве в этом эллинистическом и римском предписании
обращения к себе не обнаруживается исходная точка, первая завязь всех тех
практик и знаний, которые в дальнейшем получат развитие в христианском и
современном мире и которые станут начальной формой тех духовных наук, которые
впоследствии будут названы психологией и анализом сознания.
Истинность субъекта
Каким образом
вопрос об истинности субъекта встал на повестку дня? Как, почему и какой ценой
была предпринята попытка высказать истинное суждение о субъекте, о том
субъекте, которым человек не является, субъекте безумном или преступном, о том
субъекте, которым человек является в обычной жизни, поскольку он говорит или
работает, наконец, о том субъекте, которым человек бывает непосредственно для
самого себя и в индивидуальном плане (в особом случае проявления
сексуальности)? Именно этот вопрос о структуре истинности субъекта в этих трех
формах я упорно пытался поставить.
Существуют две
основные модели, объясняющие отношения между заботой о себе и самопознанием:
платоновская и христианская.
1. Платоновская
модель воспоминания, в которой объединяются и сливаются в едином душевном
порыве самопознание и познание истины, забота р себе и возврат к бытию.
2. Христианская
модель экзегезы (начиная с III и IV вв. н.э.).
В христианстве
мы имеем схему отношений между познанием и заботой о себе; эта схема
заключается, во-первых, в постоянном обращении от истинности текста к
самопознанию, во-вторых, в интерпретации метода толкования как способа
самопознания и, наконец, в позиции цели, которой является самоотречение.
Эти две модели
покрыли собой третью эллинистическую модель самоцели отношения к себе. Однако
эта модель, в отличие от модели Платона, не приравнивает заботу о себе к
самопознанию, а оставляет ее автономной. И, в отличие от христианской, данная
модель не интерпретирует «Я» как то, от чего следует отказаться, а, напротив,
как цель, которую нужно достичь. Эллинистическая модель направлена на самоцель
«Я», то есть на обращение к себе.
24 февраля 1982 Духовность и аскеза
Если понятие
mathesis означает знание мира, то аскеза значит знание субъекта. Речь идет о
знании, которое подразумевает следующие четыре условия: перемещения субъекта,
валоризация вещей согласно их реальному положению в космосе, возможность для
субъекта видеть самого себя и, наконец, изменение способа бытия субъекта
благодаря знанию. Именно это, на мой взгляд, и составляет то, что можно было бы
назвать духовным знанием.
В культуре
своего «Я» проблема субъекта в его отношении к практике ведет к чему угодно,
кроме вопроса о законе. Она приводит к следующему вопросу: каким образом
субъект может поступать так, как ему надлежит поступать, быть тем, чем он
должен быть благодаря знанию истины? Греки и римляне, ставя вопрос о
соотношении теории и практики, стремились понять, в какой степени сам факт
знания истины может позволить субъекту не только действовать так, как он
должен действовать, но и быть тем, кем он должен и хочет быть.
Схематически
можно сказать следующее: там, где мы, современные философы, понимаем вопрос
как «возможную или невозможную объективацию субъекта» в области знания, древние
понимали структуру знания мира как духовный опыт субъекта; и там, где мы подразумеваем
подчинение субъекта законопорядку, наши греческие и римские предки
подразумевали организацию субъекта как конечную цель для самого себя через
истину и ее осуществление. В этом заключается фундаментальная гетерогенность,
которая должна нас предупредить против какой бы то ни было попытки осуществить
ретроспективную проекцию; и я бы сказал, что тот, кто хотел бы проследить
историю субъективности, или, вернее, историю взаимоотношений субъекта и
истины, должен был бы попытаться обнаружить чрезвычайно длительную
трансформацию такого строения субъективности, которое определяется духовностью
знания и практическим постижением истины субъектом, в иное строение субъективности,
где главенствующую роль играет проблема самопознания субъекта и его подчинения
закону. Ни одна из этих проблем — ни законопослушание, ни самопознание субъекта
не только не были основополагающими, но даже вовсе не присутствовали в античном
образе мыслей и культуре.
10 марта 1982 Понятие paresia
Таким образом,
ролью аскезы, ее функцией было установление связи между субъектом и истиной,
связи настолько прочной, насколько это представлялось возможным, что должно
было позволить субъекту здраво рассуждать; это здравое рассуждение должно было
находиться у него под рукой с тем, чтобы в случае необходимости он мог бы
обратить его к себе самому в качестве помощи. Следовательно, роль аскезы
заключается в том, чтобы сделать субъект здравомыслящим, изрекающим истину.
Это со всей очевидностью вывело нас на этические проблемы коммуникации, на
проблему правил передачи этих здравых рассуждений, то есть на проблему
коммуникации между тем, кто ими обладает, и тем, кому следует их передать,
чтобы составить из них жизненный багаж.
Рассматриваемые
со стороны ученика, техника и этика здравого рассуждения, очевидно, не были
сосредоточены на проблеме речи. Вопрос о том, что именно должен и может сказать
ученик, в принципе не ставится, во всяком случае, он не является первостепенным.
Напротив, ученику предписывается молчание как моральный долг и как технический
прием. Это было особым образом организованное молчание, подчиняющееся
определенному набору практических правил, включающих, таким образом, какое-то
количество знаков внимания, то есть своего рода техника и этика молчания,
слушания, чтения и письма, которые также являются упражнениями по субъективации
здравого рассуждения.
С того момента,
как мы обращаемся в сторону учителя, — того, кто должен изрекать здравые
рассуждения, — возникает проблема говорения: что сказать, как сказать,
согласно какому правилу, какой технической процедуре и какому этическому
принципу?
Центральным в
данном вопросе является понятие paresia. Этот термин, на мой взгляд, относится
одновременно как к моральному качеству (отношение ethos), так и к технической
процедуре, необходимой для передачи здравого рассуждения тому, кто в нем нуждается,
для того, чтобы он мог создать самого себя как субъекта, суверенного по
отношению к самому себе и говорящего себе самому истину о самом себе. Чтобы
ученик мог действительно воспринять здравое рассуждение должным образом, в
соответствующих условиях, необходимо, чтобы это рассуждение было высказано
учителем в общей форме paresia. Этимологически paresia значит «сказать все».
Paresia говорит все. Однако paresia означает не столько «сказать Все», сколько
искренность, свободу, открытость, благодаря которым человек говорит то, что ему
надо сказать, поскольку ему хочется это сказать в тот момент, когда он
испытывает желание это сказать, и в той форме, в какой он считает необходимым
это сделать. Термин paresia столь тесно связан с выбором, с решением
говорящего, что латиняне справедливо перевели его словом libertas. Paresia —
это свобода говорящего.
В античности
существовало противопоставление между paresia — искренней манерой говорить,
лестью (моральный противник) и риторикой (технический противник). Льстец — это
тот, кто мешает императору заботиться о себе должным образом и делает его
слабым как по отношению к самому себе, так и по отношению к другим. Лесть — это
ложное, лживое рассуждение. В риторике важна не столько правда, сколько
убеждение. Paresia передает истину напрямую, тогда как риторика, в лучшем
случае, только косвенно. Действительно, риторика — это всего-навсего техника,
которая должна обеспечить передачу общеизвестной истины (о лести см.: Сенека.
Исследования природы, введение к главам III и IV; о риторике см.: Цицерон и
Квинтилиан).
В чем состоит
paresia? Она не равнозначна своему содержанию (истине), а представляет собой
правила осторожности и правоспособности; функцией риторической формы является
оказание воздействия на других людей, тогда как в paresia говорящий занимает
иную позицию. Открываясь другому, он, конечно, оказывает на него определенное
влияние, однако в истоках этой открытости лежит его благородство; его
проявление имеет характер, незаинтересованный относительно его собственного
благосостояния. Риторика представляет собой другой случай, когда говорящий
стремится убедить. Существует переход от paresia учителя к paresia учеников. В
эпикурейском кружке правдивая речь считалась обязательной: я открываю другим
истину моей собственной души; я должен ответить правдивой речью. В этом истоки
христианской исповеди.
Для полной
гарантии paresia в том, что человек говорит, должно действительно ощущаться его
собственное присутствие. Иначе говоря, правда того, что он говорит, должна
обнаруживаться в его поведении и в образе жизни. Говорить то, что думаешь,
думать то, что говоришь, вести себя так, чтобы слова не расходились с поступками,—
это обещание, это своего рода добровольное обязательство лежит в основе
действия. Учитель придерживается данного обязательства, и потому его речи
выслушиваются. Глубинную сущность paresia составляет тождественность субъекта
высказывания и субъекта поведения. Именно эта тождественность дает право и
возможность выходить в речи за рамки надлежащих и традиционных форм, говорить
независимо от ресурсов риторики, которую, в случае необходимости, можно
использовать с целью облегчить восприятие того, что говорится. Paresia, умение
говорить искренне, является основной формой речи руководителя; это речь,
свободная от правил, освобожденная от риторических приемов в том, что касается
ее привязанности к ситуации, к конкретному случаю и к особенностям слушающего.
Это такая речь, которая со стороны говорящего равноценна обязательству и
представляет собой определенное соглашение между субъектом высказывания и
субъектом поведения. Субъект берет на себя обязательство в тот самый момент,
когда он искренне говорит, что будет делать то, что он говорит, и станет
субъектом такого поведения, которое постепенно объединит его с истиной, им
формулируемой.
Педагогика и психогогика
Мы можем назвать
педагогикой передачу такой истины, функцией которой является снабжение
субъекта какими-либо отношениями, способностями, знаниями, которых он до этого
не имел и которые должен будет получить к концу педагогических отношений. С
этого момента психогогикой можно было бы назвать передачу такой истины,
функцией которой будет не снабжение субъекта какими-либо отношениями, а скорее
изменение способа существования субъекта. В эпоху греческо-римской античности
основное бремя истины в психогогических отношениях приходится на долю учителя,
который обязан подчиняться целому комплексу правил, чтобы говорить истину и
чтобы истина могла произвести должный эффект. Основные задачи и обязанности
возложены на того, кто произносит истинное суждение. Именно по этой причине
можно сказать, что отношения психогогики находятся в относительной близости к
отношениям педагогики, так как в педагогике истину действительно формулирует
учитель. В педагогике истина и обязательства, которые она налагает, находятся
на его стороне. Это справедливо для любой педагогики, но это также справедливо
и для того, что можно было бы обозначить как античную психогоги-ку, которая
ощущается еще и как paideia. Напротив, в христианстве, по-моему, после серии
весьма существенных сдвигов — известно, что истина исходит не от того, кто
наставляет душу, и она дается по-другому,— произойдут изменения: станет видно,
что если действительно руководитель сознания обязан подчиняться определенному
набору правил, то основная цена истины придется на долю того, чья душа
нуждается в руководстве. С этого момента между христианской психогогикой и
психогогикой греческо-римского типа намечается глубокое различие и даже
противопоставление. Греческо-римская психогогика была очень близка педагогике;
она подчиняется той общей структуре, согласно которой истиной владеет учитель.
В христианстве же происходит разрыв между психогогикой и педагогикой, поскольку
оно требует от души, находящейся под психогогическим воздействием, то есть от
ведомой души, говорить ту истину, которую может сказать лишь она одна, которой
обладает она одна и которая является одним из основополагающих — хоть и не
единственным — элементом той операции, посредством которой изменится способ ее
существования; в этом заключается суть христианского признания. В христианской
духовности ведомый субъект должен присутствовать внутри истинного суждения как
объект своего собственного истинного суждения. В суждении ведомого субъект
высказывания должен быть референтом высказывания.
Фридрих Хайлер
РЕЛИГИОЗНО-ИСТОРИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ЛЮТЕРА*
©
Dr. Friedrich H e i 1 е г. Luthers
religionsgeschichtliche Bedeutung. Munchen, 1918. Verlag von Ernst Reinhardt.
Я выражаю сердечную благодарность о. Д. Г. Штенлейну-Ансбаху за
многочисленные дружеские советы и пожелания, которые помогли мне в работе над
текстом.
Мюнхен, 17 октября 1918 г. Автор
«Мы готовы доказать всему миру, что наше учение — не
поэтический соблазн и не мечтание, но Писание и ясное Слово Бога. Мы не
призываем следовать ничему другому, кроме спасения, и еще мы учим верить или
быть твердыми».
Luther, 3. Sermon
am Sonntag Trinitatis (Erl.l32.282)
«Но мы не обновили проповедь, а лишь возродили старое
и твердое учение апостолов; мы не создали нового крещения и причастия, Отче
наш, веры, мы ничего нового не хотели узнать или привнести в христианство, мы
лишь поспорили и поговорили о старом (о том, что Христос и апостолы оставили и
передали нам). Но это мы сделали: мы нашли все то, что Папа скрыл своим лишь
человеческим учением. Все, что было скрыто толстым слоем пыли и оплетено
паутиной, мы милостью Божией воскресили, очистили, стряхнули пыль и вымели сор,
чтобы оно вновь засверкало и все смогли увидеть, что есть Евангелие,
Крещение, Причастие, Таинство, Ключ, Молитва,— есть все, что дал Христос и как
нужно для спасения».
Luther. Auslegung
ties 16. Kapitels Johannis (Erl. 50, 86 f). (Ср. с высказываниями Лютера с. 316, 320-321, 325-326, 329-330, 333,
335-336 настоящей рукописи.)
Немногие из выдающихся религиозных личностей вызывали столь различные
оценки, какие вызвала личность Лютера. «Запутанный партиями любви и ненависти,
колеблется в истории его образ»,— ни к одному из великих гениев царства религии
эти слова поэта не приложимы более точно. Во-первых, Лютер является величайшим
из всех ересиархов, отступников и обновленцев, который разрушил более чем
тысячелетие остававшееся неприкосновенным единство западной церкви и оторвал
миллионы душ от материнского лона святого католичества. Во-вторых, Лютер
является величайшим реформатором, несравненным, божьей милостью отмеченным и
призванным человеком, который освободил христианство от иудейско-языческих
суеверий и вновь вынес на свет чистое и ясное Евангелие, долгими столетиями
пребывавшее под сором человеческих представлений. С одной стороны, Лютер —
бескультурный, темный, средневековый, верующий в авторитет. Он не может
сравниться с тонкими и образованием просветленными гуманистами Возрождения,
впитавшими духовное наследие греческой и римской античности. С другой стороны,
он — просвещенный мыслитель, который открыл Новое время, который зажег факел
Просвещения и освободил мир от эгоистического господства священников и власти
темных суеверий. С одной стороны, Лютер — символ немецкого варварства,
немецкой косности и жестокости, немецкого страдания и уныния; не один раз такое
осуждение высказывалось его противниками в войне, даже внутри протестантизма
враждующими лагерями. С другой стороны, и в противоположность этому, Лютер —
национальный герой, воплощение немецкой свободной воли и душевной глубины,
немецкой правдивости и устремленности внутрь. Все оценки выделяют определенные
стороны в образе этой, можно сказать, единственной в своем роде неисчерпаемо
богатой личности и освещают ее историческое значение лишь с ограниченной точки
зрения. Только тогда приоткроется нам выдающаяся личность Лютера в своих
сокровенных глубинах, когда мы будем рассматривать его в конце концов в
качестве того, кем он был прежде всего, в качестве религиозного гения. И
только тогда мы будем в состоянии понять его особенность и его
всемирно-историческое значение, когда поместим его в рамки общей истории
христианства и даже всеобщей истории религий. Конечно, чрезвычайно трудно
проникнуть во внутренний мир религиозного гения; вдвойне трудно понять и
оценить этого героя; его образ окружен ореолом энтузиазма друзей и
затемнен непониманием и ненавистью врагов. Но история и психология религии,
которые стремятся охватить религиозную мистерию в ее самых многообразных формах,
могут попытаться подойти к решению этой трудной задачи, осуществление которой
постоянно осложняется конфессиональными привязанностями. Когда исследователь
долгое время останавливается близ самых различных религиозных гениев,
индийских провидцев атмана и христианских мистиков, Будды и Плотина,
израильских пророков и псалмопевцев, Иисуса, Павла и Августина, когда он долго
и с глазу на глаз находится рядом с этими религиозными деятелями и расспрашивает
их о самом сокровенном, лучшем и глубоком, тогда он может оценивать эти
вызывающих жаркие споры личности с открытыми глазами и чистым сердцем, тогда
его взгляд незамутнен религиозной пристрастностью.
Кто хочет правильно понять Лютера, тот прежде должен понять католицизм,
из глубин которого и вырос Лютер1. При внешнем рассмотрении
католицизм кажется прочной и уравновешенной постройкой, единой и замкнутой
религиозно-церковной системой с удивительной логикой и железной
последовательностью; но если рассматривать его структуру в свете общей истории
религии, то он откроется как разноплановый, бесконечно сложный синкретизм,
охвативший самые различные духовные направления.
Холодные философские спекуляции и простая набожность сердца,
индивидуальный религиозный опыт и строгая ортодоксальность, личная свобода и
нивелирующая церковность, примитивный ритуал и утонченный экстаз, исконно
христианские Евангелия и античная мистика, иудейско-раввинская казуистика и
эллинистическая сущность мистерии, апостольская традиция и римская
государственная организация, аристотелевская логика и платоновский идеализм,
стоическая этика и неоплатоническая созерцательность, отшельничество и
всемирное господство папства, свободное от мира созерцание и предназначенная
миру культурная работа, строгая классовая сущность и коммунистические
социальные идеалы, апо-калиптико-хилиастический энтузиазм и церковная уставная
техника, горькое покаяние и мирская роскошь, хрупкая исключительность и гибкое
искусство приспособления, пелагианская оценка воли и августиновский опыт
благодати, евангелическая вера в Бога-Отца и античный культ богини-матери,
царская мистика Христа *1* и многообразное почитание святых — самого
различного вида феномены соединяются в католицизме в привлекательное единство;
он является — при религиозно-историческом рассмотрении — «сот-plexio oppositorum»
(объединение противоположностей.— Лат,). Все религии средиземноморского
бассейна вложили строительные камни в это огромное здание: египетская и
сирийская, иудейская и мало-азийская, эллинистическая и римская, а позднее — и немецкая.
Вряд ли имеются такая форма или такой тип религии, которые не нашли бы себе
места в католицизме. История не знает настоящего аналога подобному
религиозному синкретизму; пожалуй, только буддизм махаяны может быть приведен в
качестве отдаленной параллели. Макс Мюллер заметил: «"Кто знает одну
религию, Религии не знает"; но о католицизме должно сказать:
«Кто знает эту религию, знает не одну религию"», потому что
католицизм — это не одна религия, а совокупность их. Конечно, должны были Уйти
столетия на строительство этого грандиозного здания до полного завершения.
Современная история церкви, равно как и исто-Рия догм, постоянно отодвигают
начало католицизма в глубину веков и, естественно, показывают, что
первоначальное христианство и католицизм не разделены культом, что большинство
его первых положений следует искать уже внутри новозаветной истории религии.
Ведь справедливо считают ап. Павла отцом католичества, потому что всякий
экуменический и универсальный дух имеет в этом апостоле народов своего первого
и самого великого представителя: «Для всех я сделался всем» (I Кор. 9, 22) — так может сказать католицизм вместе с
Павлом. Католицизм не достиг полного развития и зрелости в четвертом столетии,
как неоднократно уверяли, но значительно позднее; в восточных странах — во
второй половине первого тысячелетия, в западных — только лишь в средние века.
Именно средневековье создало классические образцы набожности, богослужения,
мистики и теологии, которые живы еще и сегодня в западном католичестве. Только с
Тридентским Собором начался процесс упрочения *2*, который лишь постепенно
принес столь строгую и ценимую целостность, неподвижность и окаменелость,
которыми он хочет так восхищаться и с которыми стремится также бороться.
Католицизм —
это синкретизм.- Как бы ни было важно это знание, принесенное
сравнительной историей религии, все же оно не дает полного понимания этой
чрезвычайно богатой религиозной картины; оно не вскрывает самые глубокие корни
ее жизненной силы. Эти корни не находятся ни в системе догм, ни в иерархически-авторитарном
управлении массами, но, с одной стороны, в культе, а с другой — в мистике,
которая, в свою очередь, с культом тесно связана. Католицизм обладает, как все
античные религии, богатым ритуалом, что делает возможным для верующих
чувственную связь со сверхчувственным миром. Полная благодати действительность
Бога оказывается связанной с внешними объектами; ясные действия священника
сообщают молящимся непосредственное соприкосновение, усиленное эстетической
привлекательностью, с одновременно чудовищным и чудесным «святым», с «numen praesens».
*3* Таинственные сверхъестественные силы посредством руки священника
превращаются в очевидные акты души. Этот сакраментальный культ с крещением и
елеосвящением, рукоположением и жертвоприношением, святой водой, храмами,
процессиями и паломничеством остается несмотря на внутреннее очищение, которое
совершил в нем христианский дух, наследием примитивных религий; безразлично,
происходило ли прямое заимствование в ряде случаев из античных храмовых
ритуалов или литургий синкретических мистерий или речь идет о параллельных
новообразованиях. Посредством укрепления в примитивном культе католицизм пустил
удивительно крепкий корень в народность, который сохраняет ему непреходящую
жизненную силу в качестве народной религии. Мистика является
невидимой душой всего католицизма, его скрытым внутренним источником жизни *, который
не иссякнет даже в том случае, если когда-нибудь будет возможно преодолеть
тесно связанную с культом народную религию. Гарнак является одним из немногих
протестантских теологов, открывших этот скрытый источник жизни католической
церкви. «Мистика есть католическая набожность вообще, поскольку она — не
только церковное повиновение, что значит «fides implicita», ...
она не является также образом предреформационной набожности наряду с
другими образами, но она является католическим выражением набожности вообще"
2. С его суждениями согласуются слова одного из самых известных
евангелических учителей догматики В. Германа: лишь в мистике «мы должны видеть
род религии, принадлежащий католической церкви» 3.
Почти все великие католические мыслители были мистиками: ведь в самих
выдающихся теологах — в Августине, Григории Нисском, Альберте Великом, Фоме
Аквинском и Бонавентуре — под философской мантией стучало теплое сердце
мистика; мягкие и сладкие звуки мистической набожности сердца прорываются из
спекулятивных движений их мысли, даже если эти звуки и приглушены языком
рациональной метафизики. В Восточной церкви были свои мужчины-мистики с
характерной формой набожной жизни: Макарий, Иоанн Климакос, Николай Кавасила и
один из величайших византийских мистиков, хотя и мало известный, Симеон Новый
Богослов. Мистика живет в монастырях христианского Запада до сегодняшних дней;
мягко и тепло пронизывает она и сегодня весь слой католической набожности; она
господствует во всей молитвенной литературе и через нее продолжает влиять на
евангелические молитвенные книги; мистика — это то, что снова и снова манит
вернуться из протестантизма в католицизм, так как тот, «кто является мистиком и
не стал католиком, остается дилетантом»,— точно заметил Гарнак 4.
Да, католический модернизм, *4* который часто определяется только как
протестантское движение внутри католицизма, оказывается «настолько католическим,
насколько это возможно» **, согласно важному высказыванию Зёдерблома5.
Модернизм, несмотря на все критические и научные методы, несмотря на горячий
восторг перед прогрессом, в своем религиозном ядре остается неподдельной
католической мистикой. Тирелл, Фр. фон Хюгель, Фогацарро являются истинными
мистиками.
Так как мистика есть католическая набожность сердца, поэтому в
католических кругах, включая и католический модернизм, отсутствует глубокое
понимание евангелической набожности и прежде всего религиозной личности Лютера.
Ничто не является более показательным в этом отношении, чем тот факт, что один
из самых основательных знатоков немецкой средневековой мистики Доминиканец
Денифле написал сильнейшую книгу против личности Реформатора. Этот пасквиль
продиктован не подлостью и не злобой, а невозможностью для мистика понять тип
набожности, противоположный мистическому. Данная книга в своей основе — нечто
иное, как страстный протест католической мистики против евангелической
набожности.
Католическая мистика, получившая свою классическую форму в
средневековье, имеет длинную и запутанную предысторию. Ее ближайшие корни — в
отрицающей мир эллинистической освободительной мистике, которая образует
параллель с мистическими освободительными религиями Индии. Наряду с
египетско-эллини-стической мистикой Гермеса и синкретическими культовыми
мистериями, прежде всего неоплатонизм дал импульс возникновению христианской
мистики. Широкими потоками вливались мистические настроения и мысли из
античности в христианство переливаясь через дамбы апостольских традиций и
Евангелия! Александрийская теология (Филон, Климент, Ориген) на Востоке,
Августин на Западе были важнейшими пунктами проникновения. Совершенно особое
влияние на набожность Восточной и Западной церквей оказал Дионисий Ареопагит,
воспроизводимый теолог V в., который
идеи Плотина, Ямвлиха и Прокла закутал в легкие христианские одежды. Введенный
в латинскую церковь Скотом Эриугеной, он достиг наряду с Августином
господствующего воздействия на всю средневековую религиозность, причем
псев-донимность придала ему статус авторитета. Вместе с Гуго Кохом я мог бы
назвать его «отцом христианской мистики»6. В результате соединения
августиновской и ареопагитской мистики с римской эффективностью и немецкой
искренностью во второй половине средневековья возникла нежная и мягкая, тесно
связанная с сущностью культа христианская мистика, которая в XIV веке достигла расцвета и в XV пережила время заката. Бернар Клервосский, Альберт
Великий ("De adhaerendo Deo"),
Франциск Ассизский, Гертруда Хёльфтская, Мехтильда Магдебурская *5*, Сузо и
Фома Кемпийский были классиками католической мистики Спасителя. Экхарт,
Таулер, автор «Немецкой теологии», и Катарина Генуэзская близки
неоплатоническо-ареопагитской мистике бесконечности. В XIV и XV вв. мистика
вышла за границы узких монастырских кругов и распространилась в широких слоях
народа, продолжая средневековую народную набожность. В XVI в. она пережила в Испании, а в XVIII в. во Франции новый подъем и приобрела новые
характерные черты. И все же никакой другой более высокий вид набожности никогда
не мог получить права на существования внутри католичества больше, чем
мистика.
В обширном и полном противоречий синкретизме католической церковной
системы примитивная сущность культа и утонченная мистика являются самыми
важными и самыми жизнеспособными элементами. И культ, и мистика проникли в
христианство извне, причем относительно рано, и по своему происхождению не являются
христианскими. Исконно христианская религия, ведущая свое начало от пророков
Израилевых и подвергшаяся сильному влиянию позднеиудейской апокалиптики, само
исконное Евангелие Иисуса и евангелические свидетельства о Нем никогда не
смогли бы породить из своего собственного содержания католическую систему
культов и мистики. Только посредством соединения с низшими и высшими слоями
античной религии стало возможным возникновение католической набожности. В этом
соединении античные нравы были облагорожены и одухотворены; в нем античная
мистика утратила свое однообразие и безличность, достигла богатства форм,
невозможное для нехристианской мистики, включая и индийскую. Но психологическая
чистота христианской религии, выраженная в текстах Нового Завета, была
затуманена и затемнена чужеродными элементами. Неудивительно, что в истории
христианской религии никогда не было попыток, направленных на обновление
исконно христианских идеалов. Христианские секты вновь и вновь разжигали пламя
раннехристианских эсхатологическо-хилиастических надежд, пытаясь буквально
воплотить нравственно-религиозные требования Нагорной проповеди и коммунистические
идеалы апостольской истории. В движении францисканцев, на которое повлияли
вальденсы, католическая церковь вобрала в себя эти тенденции, дисциплинировала
их и тем самым лишила опасного острия. Но все эти движения были лишь наивными
попытками возобновления, попытками, стремящимися возвратить христианство к
иудейской секте, которой оно исконно и было. Но к действительному обновлению
ранне-христианского духа, т. е. к возрождению основной религиозной силы,
которая существовала в пророках Израилевых и певцах, в Иисусе, Петре и Павле,
никогда не пришли. Нечто подобное мог совершить только выдающийся пророческий
гений, вооруженный неповторимым религиозным даром. Таким геншгм стал Лютер. Он
был столь же мало новатором и основателем религии, сколь и восстановителем,
поэтому вообще правомерен вопрос: «А правильно ли называют его реформатором?»
Лютер не подражал, как сектанты, рабско-механически первоначальному
христианству, он даже не восстанавливал, как это обычно принято,
павло-иоанновское Евангелие в адекватной форме, — он более всего обновил
(причем в связи с опытом познания Христа ап. Павлом и четвертым евангелистом)
пророческо-библейский, израильско-христианский религиозный тип, обновил
с той суверенной свободой, которая придана религиозному гению. Лютер
решительным и смелым ударом разрушил синкретизм католической церкви и
Евангелие, которое в большом католическом соборе было одним из основных камней
наряду с другими, сделал основным и краеугольным камнем***. *6*Он предпринял колоссальное сокращение
христианства, которое нам представляется особенно бедным и пуританским в
сравнении с богатством католического синкретизма. Он отверг примитивные
чувственные античные культы и обряды, поставив на их место Духовно-словесную
службу Бету, которая на первый взгляд к тому же кажется слишком трезвой и
хрупкой. Он — и это с точки зрения истории религии его самое значительное
деяние — освободился от католической мистики и поставил на ее место
набожность, ориентированную на библейскую, пророческо-еванге-лическую религию. Подобно
тому как августино-ареопагитско-бер-нардиновская мистика Мехтильды, Экхарта,
Сузо и Таулера была оформлена немецким духом, так библейско-пророческий тип религиозности
был проникнут и оформлен благодаря Лютеру немецким нравом. У Лютера речь идет
не только, как утверждаем Трёльч, о чистом преобразовании средневековых идей,
о новом решении средневековых проблем, а о новом творении на совершенно новой
основе, о μετάβασις
εις άλλο γευός. И
при этом не следует забывать, что Лютер некоторое время учился у мистиков8.
Сначала его учителями были Августин и Бернар, потом Таулер, создатель «Немецкой
теологии» и его наставник в ордене Штаупиц. Лютер сам издал упомянутую выше
книжечку неизвестного руководителя франкфуртского хора; он же сопроводил
второе издание этой книги восторженным предисловием уже после того как стал
реформатором9. Еще в его сочинении «О свободе христианина» повсюду
встречает нас терминология и символика мистики. Но в период, когда его творчество
стало более зрелым, Лютер полностью покончил как с мистическими идеями, так и с
мистическим языком. Представления Бонавентуры о соединении души с Богом он
определил как «пустую фантазию и мечтание»10. Он же предпринял
борьбу против того авторитета, перед которым склонялась вся средневековая
набожность и теология, — против Дионисия Ареопагита. Он выразительно
предостерегает против его «Таинственного (мистического) богословия» и от
аналогичных книг других авторов, в которых много написано о бракосочетании
духа и в которых Бог рассматривается как жених души, а душа — как невеста Бога.
«Это лишь собственные учения авторов, которые они принимают за высшую мудрость.
И я когда-то этим занимался, конечно, не без большого вреда. Я говорю вам:
«Ненавидьте это «Мистическое богословие» Дионисия и подобные книги, в которых
содержатся похожие басни, как чуму» 11. Лютер все же не отважился
лишить Ареопагита нимба апостольского авторитета, который был создан
христианством, но в его идеях он видел неоплатоническое наследие античности.
«Своим «Мистическим богословием», вокруг которого невежественные теологи
поднимают так много шума, он принес самые большие неприятности. В нем больше
платонизма, чем христианства, и я не хотел бы, чтобы чья-нибудь святая душа
когда-нибудь знакомилась с этой книжицей»12. К этому же выводу
пришли современные историки церкви (прежде всего Гуго Кох13) в
результате подробного сравнения текстов, который много столетий ранее
предвосхитил Лютер своей проницательной интуицией, возможной лишь для
религиозного гения.
Радикальный разрыв с мистикой, чьи корни уходят в неоплатонизм,
расчистил дорогу обновлению библейской религии. Это обновление было не
механическим, а оригинальным творением; оно не относилось к отдельным
новозаветным текстам, а было направлено на внутреннее психологическое ядро
религии, творцами которой были пророки Израиля и которая достигла своей высшей
точки в Иисусе, а в Павле и в Иоанне приобрела всемирную универсальную форму.
Лютер освободил основные силы этой религии, при этом выделив нажные элементы
исконного христианства. Вся иудейская апокалиптика, которая продолжала жизнь
в исконно христианском
ожидании конца и
в хилиасти-ческих предчувствиях христианских сект,
была приглушена и отодвинута
на второй план.
Исконно христианская приверженность св. Духу
(Enthusiasmus), πυεύματι, 'αγεσθαι (Рим. 8,
14) вместе с чудесными
движениями души (что
было возрождено евангелическими
сектами, крестителями, квакерами и индепендентами) была
изгнана на периферию;
строгое священное рвение и убранство павловских христианских общин нашли новое пристанище в
кальвинистском «государстве Бога»;
мистико-аскетические мотивы, которые Павел вдохнул в духовную жизнь
позднеантичного мира, были
обособлены; его понимание
священного, возникшее из синкретических культовых
мистерий, было полностью
переоформлено и одухотворено. Только
типичные и основные черты
библейской религии обновил
и реформировал Лютер. Он
чисто психологическим образом так осмыслил внутреннее ядро религии, что
психология религии, которая старается предвидеть типы религиозного опыта, может
этому только удивляться. Эта мысль
будет более ясной
из примеров отдельных противопоставлений мистической и
библейско-евангелической веры 14. В религии Лютера возникает новое
чувство жизненной основы, которое
находится в резком
контрасте с мистическим;
это то самое основополагающее чувствование, которым
одухотворены ветхо- и новозаветные
личности. Корни мистики — в
пессимистической оценке
мира как естественной жизни души:
во всем сотворенном, в
пространственно-временной ограниченности видит мистик лишь
несовершенное, преходящее или совсем бессущ-ностную видимость и скопище
страданий. Он бежит от мира и заключает
себя в свою
собственную внутреннюю жизнь;
он убивает естественные страдания, порьшы воли и волнения чувств. Он
стремится к «освобождению от
творения», к «разрушению». Если в нем умерла естественная
жизнь и для него не существует более преходящих ценностей, тогда посылает ему свет мир бесконечного,
святого, абсолютного, божественного, в который
он погружается в безмолвной отрешенности и блаженном покое или к
которому он устремляется и по которому тоскует
в пламени страсти, до тех
пор пока он
может созерцать его
и наслаждаться им в полноте его
блеска. После того как земные страсти прервутся, захватят
его страсти небесные,
и он даст
им имя, которым обозначают
самое святое из
всех человеческих страданий — любовь: 'egos, "amor",
"Minne". И эта мистическая любовь не будет ни покоиться,
ни отдыхать, до тех пор пока не
изнурит себя своим горением, пока любящая душа не сольется со своим
возлюбленным предметом, пока
в экстазе субъект
и объект, любящий и возлюбленный, не
сольются в неразрывное единство. И эта мистическая
страсть по "fruitio Dei" *7* (здесь: «слиянию с Богом» — лат.) в
экстатическом порыве любви есть метафизическая
эротика; неудивительно, что
она, как в
романском и германском средневековье, так
и в Индии
и Персии, говорила языком естественной любви.
Но она не
только говорила тем же языком, но и любила теми же
чувствами: опьянение чувств вплоть до бессознательного наслаждения, пассивное
растворение вплоть до полной неразличимости, мягкая женственная отдача вплоть
до самопожертвования, иногда также жесткая скрытность и сердечное утешение —
все это основные настроения средневековой мистики Божества, которые наряду с более
холодной и уравновешенной мистикой бесконечного царили в высших слоях
религиозной жизни, когда на сцену вышел Лютер. Эта крепкая, здоровая и мужская
личность была исполнбна совсем иным восприятием жизни. Лютер не зачах от
аскетическо-пессимистической мировой тоски и скуки, для его сильного чувства
действительности этот мир тварей не был как для мистика бессущностной *8*
видимостью, несовершенной копией или печальным преображением более высокого
духовного мира. Лютер принял мир таким, каков он есть, с его радостями и страданиями,
с его ценностями и недостатками. Он принял действительность серьезно — всю
действительность с ее бездной нищеты без утешения и демонического зла. Он
пережил «нужду» ("Not") — это
любимое слово Лютера, как и псалмистов, — во всей ее тяжести и ужасе, как
внешние жизненные неудачи и притеснения, так и страх совести, возбуждающие и
приводящие на грань отчаяния. Но эта великая нужда не приводит его, как
мистиков, к бегству от мира и отрицанию жизни; нет! — как пророки Израилевы,
как паломники, как Павел, бросается он храбро, в страхе и печали сердца, в мир
и искренне обнимает жизнь. Из восприятия полной опасности и несправедливости
жизни поднимается полная сил и свежая воля к ней вопреки отчаянию и
смертельной нужде; страх и трепет уступают место доверию и созиданию; из
внутренней разорванности рождается непоколебимая и радостная жизнеутверждающая
надежда. Лютер называет эту решительную и смелую надежду старым библейским
словом «вера». Вера для Лютера, так же как и для личностей Ветхого и
Нового Заветов, заключается не в принятии определенных религиозных учений, не
в «воспоминании о Боге», но в «живой отважной надежде на милость Божью,
надежде, настолько определенной, что он не устает об этом повторять. Такая
надежда и сознание милости Бога делает его радостным, упрямым и веселым по
отношению к Творцу и сотворенному миру». «И так ты видишь, что значит верить в
Бога, это значит в борьбе обрести такое сердце, которое станет сильным и не
отчаивающимся по отношению ко всему, что могут черт и мир, к нищете, несчастью,
грехам и стыду»15. Эту веру показывает Лютер в самых различных и
тончайших нюансах. Сердечная надежда на Бога доносится из этих поэтических
строк:
И пусть продлится долго ночь.
И снова на рассвете
Под силу с Богом превозмочь
Сомненья злые эти.
Вера означает героическую решимость и безоглядное мужество отречения:
Не пожалеем в грозный час
Имения мирского.
Берите в полон
Детей наших, жен!
Лишите всего!
За нами — торжество!
И царство будет наше!
Вера возрастает до безрассудно смелого сознания победы; она предлагает
вызывающее и упрямое сопротивление всем силам зла; она не разрушима
несчастьями, сколь бы жестко и жестоко они себя ни проявляли16:
Пускай вселенная полна
Исчадиями ада,
Нас не проглотит сатана,
Не нам бояться надо! Осилим его!
(Перевод В. Микушевича)
Так как эта вера является не чем иным, как твердой и непоколебимой
жизненной надеждой, она не есть только лишь ожидания и поиски, но — внутреннее
достояние и обладание. "Ut credo, ita habeo" («Во что верю, то имею». —Лат.). «Вера —
это нечто всесильное, как и сам Бог» 17 . В преходящем мире и
жизненной нужде вера дает то, что есть вечная жизнь и вечная духовность. «Если
ты веришь Христу и предан ему, то ты освобожден от телесной и духовной смерти и
уже имеешь вечную жизнь». «Нет никакого различия между часом, когда ты
поднялся до веры в Бога, и часом, когда ты еще ничего не видел»18.
Эта религиозная уверенность, побуждающая к жизни и дарящая духовность, не может
быть достигнута посредством собственных волевых усилий; все этические и
аскетические достижения, самое высокое моральное совершенство не в состоянии
произвести эту чистую религиозную уверенность. Она должна зародиться спонтанно
и свободно, с исконной свежестью и силой из глубин постигшей Бога души; она
для Лютера — чудо, чистая милость Бога, действие божественного Духа в душе.
«Истинная вера — это доверие к Христу в сердце, и это доверие пробуждает в нас
только Бог»19. Вера переживается не как экстатическое блаженство
мистики по ту сторону бодрствующего сознания в святой бессознательности; она не
имеет в качестве своей предпосылки опустошение и сублимацию естественной
Душевной жизни; она проявляется более всего ежечасно, в простой обыденной жизни,
в привычном состоянии бодрствования, без переживания искусственного напряжения
чувственной жизни.
Эта вера, которую Лютер достиг в длительной борьбе с монастырями, с
точки зрения психологии религии есть не что иное, как основной феномен
библейско-пророческой и исконно-христианской религии. Вера имеет ту религиозную
силу, которую прославляли древнейшие израильские исторические книги вслед за
праотцами. И «Аврам поверил Господу, и Он вменил ему это в праведность» (Быт.
15, 6). Доверчивую веру в Яхве постоянно требовали пророки от Израиля. «Если вы
не верите, то потому, что вы не удостоверены» (Ис. 7, 9), — возглашал Исайя в
еврейской пословице, которая была точно воспроизведена Лютером. Надежда и
доверие есть то величественное настроение, которое было достигнуто великими
израильскими богомольцами Иеремией и псалмопевцами во время и после изгнания в
тяжелой внутренней борьбе. Вера дала Иисусу божественное имя «Абба». Вера
высказана в его парадоксально звучащем требовании о штурмующем небо усердии в
молитвах; она дала ему чудесную силу, двигающую горами:
πάυτα δύυατα
τώ πιστευουη (Мк. 9, 24) («все возможно верующему» (Мк. 9,
23)). «Праведный верою жив будет» (Рим. 1, 17) —вокруг этой центральной идеи
собраны все мысли и чувства апостолов. В вере в Христа постиг четвертый
евангелист жизнь вечную: ό
πιστεύουτι
εχεει οωήυ
αίώυιου
(«верующий в Меня имеет жизнь вечную» (Ио. 6, 47)) —это высказывание, а
не идея логоса Филона является лейтмотивом Евангелия от Иоанна. Учение
Лютера о "sola fides" («только верую»)
оказывается тем самым лишь наиболее острой и последовательной формой выражения
основного чувства библейской религиозности как ветхозаветной, так и
новозаветной.
Если «любовь»
и «соединение» — центральные понятия мистики, то доверчивая «вера» — центральный
феномен евангелической набожности. Здесь, как и там, сознание Бога есть излучение
собственного основополагающего переживания жизни. Понятие Божества мистики
является лишь гипостазированием экстаза. Бог — безличное Единое
(το,εύ, μόυου), "spiritalis sub-stantia" («духовная субстанция»—лат.), "lux insommutabilis" («свет неизменный»—лат.), "inefabilis pulchritudo"
(«невыразимая красота»—лат.), "summum bonum"
(«высшее благо»)2" — лишь выражения, которые Августин перенес
из неоплатонической мистики и которые на каждом шагу встречают нас не только в
мистически окрашенной теологии, но и в мистически набожной молитве. Бог —
вечное, завершенное в себе и достаточное для себя покоящееся величие,
επέκειυα ,
ευεδγειας (Плотин"'), "Deus tranquillus tranquillans omnia" (Бернар
Клервосский") («Бог — покоящийся покой всего» — лат.), но и «особая
деятельность в своем непостижимом покое» (неизвестный немецкий мистик23).
Идея Бога библейско-евангелической религии, напротив, есть отражение
переживания веры; "fides
est creatrix divinitatis"
(«Вера есть начало (букв, создательница) божественного» — лат.) — говорит
Лютер, используя парадокс24. Библейский Бог в противоположность
"deus semper quietus" («всегда покоящийся
(здесь — бездействующий) Бог» — лат.) мистики — "semper agens"
(«всегда действует» — лат.)23. «Отец мой доныне делает» (Ин.
5, 17), — говорит Христос у Иоанна. Лютер говорит: «Во всем, посредством всего
и над всем осуществляется его власть, и более не действует ничего...
Словечко «власть» не означает здесь покоящуюся силу, какой обычно обладают
преходящие цари, о которых говорят: «он силен, хотя спокойно сидит и ничего не
делает»; но силу действующую и деятельность постоянную, которая
непрерывно встречает нас и воздействует. Поэтому Бог не покоится, а постоянно
действует»26. В жизненной нужде и в страхе совести переживает
Лютер, как ветхозаветные пророки, страх и трепет перед неотвратимым
οδγή(гневном — греч.) живущего и действующего Бога.
«Бог — огонь, который изнуряет, съедает и усердствует»27. Но
доверчивая вера производит, как и у личностей Нового Завета, удивительный
парадокс, заключающийся в том, что гневающийся и взыскивающий Бог, «высшая
полновластная сила», есть не что иное, как «чистая любовь», «утешитель и
избавитель», «добрый и милостивый отец», чья природа есть «лишь благодеяние».
Верить и доверять Богу означает для Лютера «признавать его лишь Тем,
единственным, кто творит и дает все и всякое добро», «кто принимает нас и
внимает нашей мольбе, жалеет и помогает во всех несчастиях и бедах»28.
Лютер называет Бога «Тем, кто помогает в беде» ("Nothelfer"), и «Тем, кто внимает молитве». Он определяет
его в Большом Катехизисе: «Бог означает то, чем следует запастись, чтобы во
всех несчастьях иметь прибежище и находить благо во всех страданиях»29.
В этом сильно антропоморфном высказывании видна непоколебимая вера в
глубочайшую основу и силу жизни и всего происходящего. Возвышенную духовность
этой веры нельзя исчерпать понятием "summum bonum"
(«высшее благо» — лат.), которое мистики пытаются перефразировать с
помощью отрицаний и превосходных степеней; оно превосходит мистическое
понимание Бога в элементарной религиозной силе и динамике.
Покоящийся Бог, с которым мистик воссоединяется в экстазе, — по ту
сторону пространства и времени, без внутреннего отношения к миру и истории.
Идея откровения Бога в истории внутренне чужда мистике, она — надысторическая
форма набожности. Аристотелевский термин
αυστοδησιχ . («непостижимое в
истории» — греч.) находит в мистике самое подходящее применение30.
Иудейско-филоновская, равно как и христианская мистика должны в силу этого
иначе истолковать библейскую веру в историческое откровение Бога и превратить
историю спасения лишь в средство подготовки и созерцания мистического переживания.
Факты истории спасения библейской религии блекнут и становятся прозрачными
символами надвременных истин; они психологизируются и освобождаются от
единичности, переносятся из внешнего мира в глубины набожной души.
Средневековая набожность, вдохновленная идеями Августина, взрастила нежную и
тонкую мистику Спасителя; ее мысли предстают и движутся в библейских картинах
Сына Божия, ставшего человеком, его рождения и детства, его страданий и его
смерти. Бесконечное и безличное единое, «summum bonum» покоится
в картине, зажженной фантазией, в картинах человеческого Бога — Спасителя,
Освободителя, Жениха души. Эта картина Спасителя сильно затушевывает
исторически-библейскую картину Иисуса и становится образцом и примером для
мистических последователей Христа. Бедную жизнь Иисуса, его пассивно-квиетистские
добродетели humilitas, caritas и oboedientia
(смирение, милосердие и послушание — лат.) должен воплотить мистик в
своей собственной жизни31. Но эта «имитация Христа», *9* которая со
времен Бернара Клервосского придала средневековому религиозному идеалу,
особенно францисканскому, характерные черты, ни в коем случае не означает
возрождения исконно христианских идей, а в основе является лишь наглядной
картиной мистического «разрушения», выраженного в библейских образах. Но все
это лишь нечто предшествующее, не более чем "via purgativa"
(«путь (здесь — средство, ступень) очищения»—лат.), за которым следуют
более высокие ступени мистического восхождения.
Мистически переоформленная новозаветная картина жизни Иисуса имеет и
более широкое значение, чем просто «материя» мистической медитации, с которой
связана последующая ступень совершенной жизни "via illuminativa"
(«путь (здесь — ступень) просветления» — лат.). Мистическая молитвенная
жизнь питается сильной чувственной привлекательностью, которую излучает эта
полная красок и фантазии картина; из ее очарования черпает мистик силу и
душевность. Но на созерцательно экстатических вершинах мистической жизни должна
мистическая душа все эти полные чувств и страсти картины Спасителя преодолеть;
она должна, как говорят мистики, «прийти от картин». В тот момент, когда душа
созерцает высшее благо, наслаждается и полностью сливается с ним, все мысли о
человеческом историческом Христе исчезают. Аксиома Августина, восходящая к
александрийской теологии: "Per hominem Christum tendis
ad deum Christum"32
(«Через человеческого Христа идешь к божественному Христу») *10* — возвращается
у средневековых мистиков: «Ты должен, — говорит Христос у Сузо, — прорваться
сквозь моё страдающее человечество, если ты истинно хочешь прийти к моему
чистому Божеству»33. Ставший человеком личностный Бог-Спаситель
есть лишь наглядный символ бесконечного, вне времени и пространства
пребывающий "summum bonum". Он — лишь символ скрытого божества. Если
верующий хочет достичь его, он должен переступить через Христа исторического,
он должен отречься он него точно так же, как он отрекся от всего сотворенного.
Для мистики Бог — Бог покоящийся, сам в себе пребывающий и сам для себя
достаточный, "deus absconditus" («Бог — скрытый, неведомый»—лат.), безмолвный,
лучшая молитва которому совершается в беззвучном молчании. Для Лютера, равно
как для всей ветхо- и новозаветной религии, Бог есть "deus redelatus"
(«Бог открывшийся» — лат.), чья сущность — Откровение и который
воплощает свою волю и открывает свое сердце в истории. «Бог — это не какой-то
неизвестный и неопределенный Бог, но Тот, который сам открыл себя в
определенном месте и через свое собственное слово и посредством известных
знамений и чудес отобразил себя, равно как возвестил, запечатлел и утвердил для
того, чтобы можно было определенно узнать его и достичь»34. Для
ветхозаветных пророков судьба народа Израилева есть проявление воли Бога,
испытание Его гнева и Его любви. В исконно христианском опыте спасения на место
внешней цепи исторических событий приходит единственная в своем роде историческая
Личность как высшее проявление Бога: «Но когда пришла полнота времени, Бог послал
Сына Своего (Единородного)» (Гал. 4, 4). Личностный Бог говорит, думает и
действует через Христа и в Христе. Христианское понимание Бога становится
неразрывно связанным с исторической личностью Иисуса: «Никто не приходит к
Отцу, как только через Меня» (Ин. 14, 6). Новозаветная набожность является
строго христоцентричной; она не знает никакого иного общения с Богом, кроме как
«в» Христе и «через» "κύδιος
Ίησοΰς
Χριστος" («Господа Иисуса Христа» — греч.)
— в Откровении и через Посредника; она не знает никакой другой молитвы,
кроме той, которая обращена к «Отцу Иисуса Христа» и «именем Иисуса Христа»35.
Христианская мистика, устремляющаяся в даль, к бесконечности, отвергла эту
узкую христоцентричную точку зрения и видела в переживании Христа лишь
подготовку и побуждение к мистическим экстатическим переживаниям Бога. «Бог
иначе не постижим, он постижим лишь в теле Христа»36. «Если ты
правда хочешь достичь Бога и действительно встретиться с ним и понять, что ты
найдешь у него милость и помощь, тогда никогда не говори, что ты отыщешь его
где-нибудь в другом месте, кроме Христа, не придавайся никаким другим мыслям и
не думай и не спрашивай ни о каком другом творении, кроме того как он послал
нам христианство». «И где тебя поведет твоя собственная мысль и разум или
кто-нибудь другой, тогда закрой глаза и говори: «Я не должен и не хочу знать
какого-либо другого Бога, кроме Господа моего Иисуса Христа"». «Тогда мне
нисходит такой свет и познание, что я узнаю, что есть Бог и как он думает»37.
Павло-иоанновская религиозность возрождается здесь с той же силой****, но и с
тем же изначальным христианским ограничением, которое не переносит мистика.
Один из тонких знатоков и приверженцев мистической набожности Фридрих Хюгель
справедливо назвал эту христоцентричную религию, которая нашла сильное
выражение У догматика евангелиста В. Германна, примкнувшего к Лютеру,
«панхристизм»38. Христоцентричная точка зрения является узкой по
сравнению с духовной широтой любой мистики, но она показывает непреодолимую
силу и непостижимую глубину.
Со взглядами на историю и Откровение тесно связана еще одна проблема:
авторитет и свобода. Лишенная истории мистика объединяет самое смиренное
повиновение авторитету с самой радикальной свободой. Она одновременно является
и церковной, и надцерковной. В своей глубочайшей основе она максимально
индивидуалистична; она не знает никакого другого божественного откровения,
кроме непосредственного соприкосновения Бога с душой; она поэтому в конечном
счете выше всякого религиозного авторитета. Она чрезвычайно удалена от церковных
догм, несмотря на заверения в своей правоверности, и все же она является строго
церковной, потому что нуждается в защитной крыше церкви для того, чтобы
спокойно вести свою тихую созерцательную жизнь. Она терпима к народным верованиям
с их многообразными прорастаниями; она никогда не протестует против церковных
органов власти, и если она при последовательном проведении своих идей вступает
в конфликт с этими органами, то всегда готова подчиниться церковному приговору.
Майстер Экхарт и Мадам Гийон, отлученные от церкви, заверяли в своей
церковности; Малинос торжественно отрекся от своей мистики. И они могли сделать
это с чистой совестью, потому что повиновение авторитету есть все же лишь часть
мистического «разрушения», "mortificatio"
(«умерщвление» — лат.) и "annihilatio"
(здесь «опустошение» — лат.) и в качестве такого нечто временное. На
вершине созерцания Бога и единения с ним мистик свободен от всякого церковного
авторитета, равно как и от всякого исторического откровения, потому что он сам
стал Богом39.
В то время как в мистике покорное повиновение авторитету и радикальный
индивидуализм остаются неуравновешенными, у Лютера они объединяются в
своеобразной гармонии. Мысль об авторитете неразрывно связана с идеей
исторического откровения. Если Бог объективно проявляет себя в истории, то это
требует от каждого человека безусловного повиновения его воле. Для Лютера
божественное «слово» есть просто религиозный авторитет; Писание, в
котором изложено божественное слово, становится для него поэтому единственной
нормой веры и авторитетом, в противоположность учительской должности католической
церкви, которая основывается на двойном источнике веры — Писании и традиции. В
отказе от обязательной церковной учительской должности как от традиции состоит
религиозно-историческое значение, которое Лютер не мог предвидеть.
Католический принцип традиции и наличие живой учительской службы не было
элементом, препятствующим развитию, а, наоборот, способствовало ему. Кажется,
что эта учительская деятельность заботливо охраняет прочность развития, "quod semper, quod ubique, quod ab omnibus creditum est"
(«то, во что верят все, всегда и всюду» — лат.). В действительности в
тот момент, когда наряду с Писанием был признан еще второй источник веры,
пришел мощный поток чужеродных элементов, и прежде всего античной философии и
мистики, в котором христианское "depo-situm fidei"
(здесь «принижение, разрушение веры» — лат.) оказалось возможным и
узаконенным. Только так католическая догма смогла стать тем, что она есть, по
словам Гарнака — продуктом греческого духа на основе Евангелия. Евангелический
принцип исключительного авторитета Писания, напротив, предполагает
определенное оружие для сохранения психологической чистоты библейской религии,
которая, несмотря на индивидуальные различия, что сегодня признано современной
историей религии, представляет собой единый и законченный тип, который не
испытал никакого влияния со стороны внебиблейского религиозного развития.
Возвышение Писания до единственного религиозного авторитета имеет еще и другое
значение. С первого взгляда создается видимость, что Писание будто бы представляет
собой безличный авторитет в противоположность личностному авторитету живой
церковной учительской деятельности, которая представлена коллегией епископов и
непогрешимым папством. В действительности же за словом Писания, которому
поклоняется Лютер, стоит личный авторитет пророческих гениев, которые
являются носителями исторического откровения Бога. Эту мысль о личностном
авторитете, опосредованном словом Писания, великой религиозной личности Творца
Лютер не доводит до ясного осознания, но современный протестантизм проводит эту
мысль все более четко и последовательно40. Так как
пророческо-евангелическая религия не признает института церковного авторитета,
а только личностный авторитет выдающегося религиозного гения, поэтому она не
знает также чистого согласия с установленным и опосредованным авторитетом
религиозного учения, а лишь свободное, творческое овладение глубочайшим
религиозным переживанием, которое в том гении поднялось с особой силой.
Августин сказал: "Ego vero evangelio non crederem, nisi me catholicae ecclesiae commoveret auctoritas" («Я даже Евангелию верю лишь потому, что меня
побуждает верить авторитет католической церкви»—лаг.)41. Лютер
добавил к этому: «Это было бы ложно и не по-христиански. Каждый сам по себе
должен верить потому, что это слово Бога, и потому, что он сам внутренне
чувствует, что это истина». «Ты должен сам в своей совести чувствовать Христа и
непоколебимо верить, что это слово Бога». «Поэтому Бог должен сказать в твоем
сердце: «Это Божие слово» »42.
На этом свободном и творческом отношении к авторитету слова Бога
покоится также суверенная самостоятельность, которая отличает толкование
Евангелия у Лютера, самостоятельность и свобода, которую вновь быстро забыла
старая протестантская теология. В отличие от любого механического учения о
богодухновенности он приписывает отдельным местам Ветхого и Нового Завета
неодинаковую религиозную ценность. «Следует четко выбрать из всех книг те,
которые являются наилучшими»43. Лютер создал собственное
исследование о требованиях к истолкованию всего Писания. Это же постоянно
делали и мистики, но в то время как искусство аллегории, найденное Филоном,
вносит их возвышенные мистические переживания в Писание, берущее свое начало
от совершенно иной религии, Лютер отклонил это искусство и понял, и истолковал
Писание исходя из основного события библейско-пророческой веры, чье чистейшее
воплощение нашел он у Павла и Иоанна и которое было родственно по духу его
собственным переживаниям. «Это единственный пробный камень, позволяющий придирчиво
рассмотреть все книги, чтобы увидеть, вращаются ли они вокруг Христа или нет»41.
Так Лютер соединил сильнейшую личностную веру в авторитет с радикальной
личностной свободой. В то время как мистики сначала пассивно подчинялись
безличностному авторитету и на вершине своей внутренней жизни радикально
освобождались от него, Лютер поклоняется во всей своей религиозной жизни личностному
авторитету Божьего слова и в то же время противостоит ему в полной свободе.
Краткость отведенного мне времени заставляет лишь вкратце осветить
целый ряд важных различий между католической мистикой и религией Лютера и
перейти к основному выводу. Для мистики вина находится в обособленности
индивидуального существования; грех есть не что иное, как упорство в индивидуальном
существовании, в собственной воле, алчность. Вина в своей основе есть лишь
метафизический рок, судьба, греховное эгоистическое упорство, только лишь
происшествие, которое не затрагивает внутреннее ядро человека, глубины его души45.
Поэтому грех есть нечто несуществующее, μήόν, по Ареопагиту46,
"longe a
Deo esse"
(«находиться далеко от Бога» — лат.), согласно терминологии Августина4'.
Для библейской религии, наоборот, грех находится в личностном разладе с
нравственным порядком, установленным Богом, в отступлении от Бога, в недостатке
веры и доверия к Богу: «Тебе, Тебе единому согрешил я» (Пс. 50, 6).
Расстояние, которое отделяет человека от Бога, есть не метафизическое, а
этическое: грех — милость, вина — справедливость, проклятие — прощение; это
большие проблемы библейской набожности. Грех для нее есть ужасная реальность,
чувство вины достигает придавливающей вину силы, которой никогда не достигает
чувство ничтожности у мистика, несмотря на все безмерное самоуничижение.
Мистика ищет спасения в уходе от мира и всего сотворенного, от всего
несуществующего и хочет таким образом приблизиться к единственно истинному
бытию. Человек должен «разрушиться» и так сократить расстояние между конечным
и бесконечным; тогда он сам сливается с чем-то божественным, сам становится
Богом. «Я есть Бог», — так говорит мистик на вершине экстаза48. Путь
к освобождению является бесконечно трудным и крутым; многоступенчатая дорога
ведет к исчезающей вершине единения с Богом. Ее важнейшие отрезки — «очищение»,
«просветление», «единение». Собственное напряжение сил должно соединиться с
предупредительной и поддерживающей божественной милостью, чтобы человек мог
достичь этой цели. В отличие от этой сложной мистической «тропы спасения»
спасительное переживание библейско-евангелической набожности бесконечно
простое: ни «разрушение», ни «саморазложение», ни аскетизм, ни «погружение» не
являются необходимыми, только лишь простая и детская, покорная и радостная
уверенность в милостли-вом и милосердном Боге. «Назад к Яхве» — то, что
требовали пророки от греховного Израиля49. «Боже! Будь милостив ко
мне грешнику» — через это осознание вины и эту просьбу о помиловании достигает
грешник милости и справедливости у Иисуса (Лк. 18, 13). В вере в милостивого
Бога-Отца во имя Христа находится, согласно Павлу, прощение грехов и спасение.
Лютер своеобразно обновил библейское понятие спасения, к которому Августин,
бывший неоплатоник, даже не мог приблизиться50. Вера есть то, что
дарует спасение, и только она одна: "sola fides". Человек
не может ничего сделать для своего спасения, никакие нравственные и должные
дела не могут, как учили позднеиудейские религиозные законы, заслужить
спасение; они даже не могут, как верили мистики, создать основу и расположенность
для спасительной милости. «Никаким другим трудом нельзя достичь Бога или
потерять его, кроме как верой или безверием, доверием или сомнением; другие
дела не доходят до Бога». «Вера должна сделать все то, что должно произойти
между нами и Богом». «Ты не можешь создать добро, но лишь искать его, просить и
получать через веру в Бога»51. Библейско-еванге-лическая религия,
которой классические формы придали Павел и Иоанн и которую переоформил Лютер,
есть чистая религия милости; она полностью преодолела мысль о заслугах и жертвах,
что составляло сущность примитивных религий. Эта религия милости определила
совершенно новое отношение к этике. Для мистики нравственный поступок есть
прежде всего катарсис, аскетическая подготовка к молитвенной и созерцательной
жизни. Также и удивительный героизм, и готовность к жертве у некоторых
мистиков, как, например, у Катарины из Генуи, служат очищению, самоотдаче и
саморазрушению и должны лишь вы-равнять пути для экстатического единения с
Богом. Как историю искупления, как личность Христа, как церковный авторитет,
так мистик оставляет позади себя все святые дела самовоспитания и любви к
ближнему, когда он достигает созерцания Бога. Эта мысль в истории религий
впервые высказана в Катха-Упанишаде (2, 14): тот, кто стал единым с божеством,
«стоит по ту сторону добра и зла» 52. *11* Она же постоянно
повторяется у христианских мистиков. Глубочайшая религиозная жизнь является
чем-то самостоятельным и как таковая ничего не должна делать для воплощения
этических ценностей в индивидуальной и социальной жизни. В этом Лютер согласен
с мистиками. Но в то время как мистика рассматривает этический поступок как
необходимую подготовку к созерцательному наслаждению Богом, для Лютера
нравственная деятельность есть само собой разумеющееся следствие, необходимое следствие
сильного и радостного религиозного переживания. Мысль Павла о том, что
«праведность от веры» (Гал. 5,5), развита здесь характерным для Лютера образом.
Все собственные усилия ничего не приносят для достижения божественной милости и
прощения грехов; по отношению к Богу человек ничего не может сделать, только
верить и благодарить, просить и принимать. Но всю силу, которую религия
законов направляет на то, чтобы завоевать себе Божью награду ту силу, которая
прилагает мистика, чтобы подготовиться к созерцательной жизни и принятию
милости, всю эту силу Христос должен применить к ближнему, но не с какой-либо
целью, без задней мысли о небесной награде, а только исходя из свободы и
духовности, которую дарует вера. «Богу не нужны наши труды и благодеяния, но он
тем самым обратил нас к нашему ближнему, чтобы мы сделали для него то, что мы
хотели сделать для Бога...; (в ближнем) здесь мы должны найти и любить Бога,
здесь должны служить ему и творить добро, мы, которые хотели творить добро и
служить Богу; запрет любви к Богу полностью переходит в любовь к
ближнему». «Поэтому не следует спрашивать, нужно ли делать добрые дела, они
должны твориться без каких-либо требований» 53 . В этом глубоком и
тонком объяснении о соотношении религии и нравственности сохранена
самостоятельность религии по отношению к нравственным деяниям; религиозное
переживание — это чудо, подарок Божьей милости; нравственные поступки не должны
становиться средством на службе религиозного опыта. И все же религиозное
переживание и нравственное действие на благо ближнего гармонично связаны;
братская любовь и братская помощь спонтанно и свободно вытекают из духовной
спасительной милости, подаренной Богом. Понятие веры у Лютера не означает лишь
новое, хотя и своеобразное, объяснение отношения религии и нравственности, но
и новую позицию в светской и культурной жизни. Мистика, до тех пор пока она
остается верной самой себе, отрицает светскую жизнь и чужда культуре; она
является глубочайшим протестом против всех мирских целей общественной и
культурной жизни: "Ista est summa sapientia per contemptum mundi
tendere ad coelestia regna" («Тот наделен высшим разумом, кто через
презренный мир следует к царствию небесному» — лат.) — эти слова из 1-ой
главы «Подражания Христу» *12* ясно выражают позицию мистики в отношении к миру.
Идеал мистики — это отшельничество и монастырская жизнь и в Индии так же, как
на христианском Востоке и Западе. Великие христианские мистики были монахами и
монахинями. Распространение мистики в позднем средневековье обусловило при
этом позицию, открытую миру, которую еще в XVI и XVII вв. представлял
французский квиетизм. Подобно Бхагавад-Гите в Индии, проповедовала мистика не
внешнее бегство и отделение от мира, а внутреннее размежевание, подозрительное
отношение к миру и полную индифферентность к культуре. Верующий должен
умертвить мир в миру, жить в миру скрытой жизнью с Богом. Позитивная оценка
культурного идеала таким образом полностью исключается, равно как и
необходимость радикального внешнего отречения от мира. Совершенно явной
становится позиция мистической набожности по отношению к миру и обществу в
оценке брака и семьи. Для мистиков целибат в жизни есть внутренне необходимое
условие высокой религиозной жизни. Брак — оковы, которые препятствуют отдаче
«высшему благу». Тридентский Собор санкционировал это чисто мистическое
положение, которое предавало анафеме того, кто ставил супружескую жизнь выше
идеала девственности.
В библейском типе религии в противоположность мистике нет
принципиальной индифферентности к светской жизни и враждебности по отношению к
культуре. Основное переживание библейской религии — доверчивая вера в
Бога-Отца, проявляющего себя в природе и истории, — включает позитивную оценку
профессиональной деятельности и культурного творчества. Эсхатологическое
ожидание конца в раннем христианстве не является доказательством враждебности
культуре библейской религии. Древнейшая община страстно ожидала новый идеальный
мир и новую культуру, конечно, не как результат человеческих усилий и
деятельности, но как стремительное вторжение и чудесное творчество Бога. Если
у Павла и можно отыскать следы враждебного отношения к культуре, то они связаны
не только с эсхатологическим ожиданием, но с влиянием мистико-аскети-ческих
мотивов, которыми был пронизан тогдашний эллинский мир. Лютер своей высокой
оценкой светской жизни вновь вынес на свет основную мысль библейской религии,
которая была совершенно скрыта за эсхатологическими ожиданиями раннего христианства,
но содержалась в нем. Добросердечными словами о священности и ценности честной
профессиональной жизни (которые имели свои истоки и в отдельных высказываниях
Экхарта, Таулера и Биргитты Шведенской *13*) Лютер открыл новую эпоху в
отношениях между религией и культурой54. Он сам все же не смог
полностью освободиться от идеи, возникшей в позднесредневековои мирской
мистике, что профессиональная деятельность является «внутримирской аскезой»
(Трёльч55), но последующие столетия, в продолжение его мысли,
стремились к гармонии и соединению религиозной жизни и культурной деятельности.
То, что в таком стремлении существует большая опасность упрощения и опустошения
сильной религиозной жизни, не может служить упреком. Конечная цель всех
религиозных верований и надежд есть всегда Бог и его царство; соединение религии
и культуры, если религия не хочет утратить свою силу и свежесть, может
осуществиться только при подчинении мирских задач религиозной цели спасения.
Сравнение религии Лютера, с одной стороны, с мистической, а с другой —
с исконно христианской религией ясно и однозначно учит нас: Лютер обновил
ветхо- и новозаветный религиозный тип в его существенных чертах. Он придал
этому типу, возникшему внутри семитского мира и эллинизированному Павлом и
Иоанном, исконные духовные и нравственные силы немецкого народа и придал ему
форму, которая навсегда стала притягательной для немецкого человека. Только
исключительно одаренная религиозная личность, обладающая пророческой силой,
была способна на такое оригинальное обновление и соединение. В этом
обновлении библейской религии и в соединении ее с немецким духом и состоит
религиозно-историческое значение Лютера. Исследователь религии, который
исходит из всеобщей истории религии, должен признать абсолютно своеобразным и
могучим его деяние, имеющее мало параллелей во всей истории религий. Однако
значение Лютера не только религиозно-историческое. В качестве
библейского гения его имя приобретает религиозное значение во все
времена. Сравнительная история религий, на первых порах сбитая с толку
разнообразием и многочисленностью религиозных образований, столкнувшись с ними
на пространстве всей человеческой истории, постепенно установила основные типы
религии и решающие пути их развития. Она свела всю пестроту форм высокой
религиозности к двум основным типам, которые образуют непрерывные линии
развития и пересекаются в некоторых важных точках: с одной стороны, это
мистическая религия спасения, которая вот уже 2500 лет является высшей религией
в Индии; которая, родившись в умирающей греческой античности, проникла в
христианство и нашла свое богатейшее и прекраснейшее выражение в западном
католицизме; с другой стороны — пророческая религия откровения, которая в
начале была сообщена пророками Израиля, достигла своего завершения в Новом
Завете и была обновлена Лютером с немецкой силой и добродетельностью.
Более высоких форм религии, чем эти две — мистика и религия
откровения. — история религии не знает. Будущее развитие религии должно
принести дискуссию между ними. Когда наступит определенное спокойствие во внешнем
культурном развитии, человечество вновь обратится к религиозным проблемам с
таким страданием, примеры которому дали прошедшие столетия. Потом эти два
религиозных типа сравняются и бросят друг другу вызов. Какой из них одержит
победу? Несомненно, что в настоящее время больше шансов имеет мистика. Все
души, уставшие от жизни и работы, потрясенные трагедией человеческой культуры,
бросаются в объятия мистики, которая обещает им покой и блаженство в дали и
отрыве от преходящего мира и культуры. Все эстетические и художественные натуры
чувствуют притягательную силу чудесного очарования и блаженства мистической
созерцательности. Но мистика предлагает не только глубокую, чистую,
притягательную религию, но и религию, которой не грозят трудности философского
мышления и историко-кри-тического исследования, в отличие от библейской религии
откровения. Свойственная всей мистике склонность к пантеизму (Р. Отто
предложил для мистического пантеизма удачный термин «теофанизм»56),
ее привязанность к метафизике, проникнутой религиозным переживанием,
противоречит критическому философскому мышлению и разрешает компромиссы, что
для библейско-евангелической религии с ее иррациональными и дуалистическими
особенностями невозможно. Внеисторическая мистика ни в коей мере не затронута
теми необозримыми трудностями и опасностями, которые угрожают религии
откровения со стороны критики Библии, истории религии и догматики.
Мистика могла бы безболезненно перенести растворение исторической личности
Иисуса в мифе о Спасителе, растворение, которое разрушило бы до основания евангелическую
религию; позиция мистики посредством этого растворения стала бы еще сильнее.
Широко распространенная надцерковная мистика возвела мост между христианством и
нехристианскими религиями, и прежде всего религиями спасения Индии — ведантой,
буддизмом и индуистской бхакти-мистикой. Но все эти несомненные преимущества
не могут ввести в заблуждение относительно того, что более глубокая религиозная
истина находится на другой стороне. Конечно, есть у обоих типов в конечном
счете единые корни; оба они, как писал недавно Р. Отто в ответ на мое
разграничение двух типов, есть «два полюса одного и того же отношения к
трансцендентному объекту»57. Но оба полюса, как мне кажется,
неравноценны. Библейский религиозный тип, который ни в коем случае не может
рассматриваться как законченная система, но только как все новые и новые
возможности развития основного принципа, этот библейский религиозный тип, я
думаю, обладает преимуществом и в этом преимуществе сосредоточена большая
жизненная сила и плодотворность. Глубочайшие религиозные ценности мистической
набожности — живое чувство близости Бога, единение и чистота общения с ним в
молитве — свойственны как библейской пророческой религии, так и мистике.
Превосходство первой над второй состоит в том, что первая по своей сути
является религией личности, в то время как мистика, несомненно, исходит
из отрицания как личности, так и мира*****. Мистическая цель спасения,
экстатическое единение есть закат личности в бесконечном Едином, и путь к этой
цели есть бегство от мира, равнодушие к жизни, культуре, обществу, подавление
воли к жизни и здорового духовного мира. Так как мистика по своей внутренней
основе безличностна, она могла найти себе прибежище даже в католицизме, так как
его культ, его закон, его принцип авторитета, его догматика и теология
показывают ту же тенденцию к безличному, которая свойственна мистике.
Напротив, библейская религия откровения решительно утверждает мир и личность.
Ее вера — это личная убежденность, ее Бог — это личный господин и отец, ее высшее
откровение — личность Христа, единственный авторитет — личность религиозного
гения, цель спасения — личная милость Бога, общественный культ — объединение
личностей для лишенного жертвенности общения с Богом. Кто вместе с Гёте скажет:
«Высшее счастье для детей земли — это личность» — тот, несмотря на все
несравненные ценности мистики, предпочтет библейскую религию. И кто верит в
мирские ценности, цели и задачи, тот больше сил для радостной работы над ними
почерпнет из религии откровения, чем из мистики, так как религия откровения
дает ему мужество крепко стоять на ногах на этой сотворенной Богом земле. Эта
сравнительная оценка обоих типов еще более повышает религиозно-историческое
значение Лютера, так как Лютер — не только реформатор христианской личностной
религии, но после новозаветных личностей самый гениальный продолжатель их
идей. Он превосходит всех прочих великих последователей протестантизма:
Кальвина, великого систематизатора теологии и церковного организатора, без
сомнения, самой великой евангелической личности на романской земле; Джона
Бэньяна, «мастера по котлам», баптиста-проповедника, который наряду с первым
квакером Джорджем Фоксом — самый великий религиозный деятель английской нации;
Карлейля — этического энтузиаста и Кьеркегора, пророчески провозгласившего
иррациональность христианства. Все эти герои протестантизма не могут сравниться
с Лютером, который занимает особое место в истории христианства и в истории
религий вообще******. Лютер принадлежит к тем немногим деятелям, которые сохранили
самое непосредственное значение для современности. Из его богатейшего наследия
будущие поколения почерпнут силу и радость.
ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА
Erl.-Luthers
samtliche (deutsche) Werke. Frankfurt-Erlangen Ausg. Bd. 1—20. (2 Aufl.) Lutheri opera
omnia. Erlangen. 1829 ff. (romicne Banziffer). Walch-Walch. Luthers Werke.
Halle. 1740 ff. Weim.-Weimarer kritische Gesamtausgabe.
1. Denifle P. H. Luther und
Lithertum in der ersten Entwicklung. (2 Bd. bearbeitet von A. M. WeiB).
1904—1909.
2. Grisar S. J. H. Luther. 3
Bde. 1911 — 1912 (Steinlein H. Kritische Be-merkungen zur Neuesten
Lutherbiographie. Neue Kirchl. Zeitschr. 1911. 391 ff. 450 ff. 503 ff.).
3. Harnack Ad. Lehrbuch der
Dogmengeshichte. III4. 1910.
4. Harnack Theod. Luthers
Theologie mil bisonderer Beriicksichtigung seiner Versohnungs — und
Erlosungslehre I, 1862. II. 1886.
5. H e i 1 e r Fr. Das Gebet.
Eine religionsgeschichtliche und religionspsycholo-gische Untersuching. 1917.
6. Heitmuller W. Luthers
Stellung in der Religionsgeschiphte des Christen-tums (Universitatsrede zur 400
jahrigen Reformationsfeier). Marburg. 1917.
7. Herrmann W. Der Verkehr des
Christen mit Gott im Anschlus an Luther dargestellt.5 1908.
8. H о 11 К. Luthers
Auffassung der Religion (Universitatsrede zur Reforma-tionsfeier). Berlin.
1917. (Was verstend Luther inter Religion? Reformationsreden 4. 1917.)
9. Lehman E. Mystik im
Heidentum und Christentum (Aus Natur und Geisteswelt). 1908.
10. Loofs Fr. Leitfaden zum
Studium der Dogmengeschichte,1 1906.
11. Loofs Fr. Luthers Stellung
zum Mittelalter und zur Neu-Zeit. Rektorat-srede. Halle. 1907.
12. Otto R. Das Heilige. Uber
das irrationale in der Idee des Gottlichen und sein Verhaltnis zum Rationalen.
1917.
13. P r e u 6. Luthers
Frommigkeit. 1917.
14. Seeberg R. Lehrbuch der
Dogmengeschichte. IV2. 1917.
15. Soderblom N. Luthers
Religion (Svenska sporsmal 18). 1893.
16. Soderblom N.
Religionsproblemet inom Katolicism och Protestantism. 1910.
17. Soderblom N. Predigt am
Reformationsjbilaum (Reformationens fjarde jubileum I Uppsala. 1917. 16 ff.)
18. Troeltsch E.
Protestantisches Christentum und Kirche in der Neuzeit (Die christliche
Religion, Hinnebergs Cultur der Gegenwart. I. 4. 1906. 253 ff.)
19. Troeltsch E. Luther und
die moderne Welt. (Das Christentum. Fiinf Einzeldarstellungen, Wissenschaft und
Bildung. No. 50. 69 ff.)
20. Т г о e 11 s с h E. Gesammelte Schriften. I. Die Soziallehren der
christlichen Kirchen und Gruppen. 1912; II. Zur religiosen Lage.
Religionsphilisiphie und Ethik. 1913.
См. так же:
21. Boehmer H. Luther im
Lichte der neueren Forschung 4. 1917.
22. G о t tsc h ic k }. Luthers Theologie. 1914
(Erganzungsheft zur Zeitschrift fur Theologie und Kirche).
23. Griiizmacher R. H. Luthers
ewiges Evangelium in seiner religionsge-schichtlichen Eigenart. 1917.
24. I h m e 1 s L. Das
Christentum Luthers in seiner Eigenart. 1917 (Leipz. Universitatsschrift).
25. К 6 h 1 e r W. Martin Luther und die deutsche
Reformation (Aus Natur und Geisteswelt) 1916.
26. S с h e e 1 O.
Martin Luther. Vom Katholizismus zur Reformation. I. 1916.
27. Walter W. Luthers
Charakter.3 1917.
УКАЗАТЕЛЬ ЦИТИРУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1. Ср.: Troeltsch. Der Modernismus. Ges. Schriften. II.
50ff.
2. Dogmengeschichte. III.4
434.
3. Verkehr des Christen mil
Gott.5 17.
4. Dogmengeschichte. III. 436.
Dagegen Troeltsch. Soziallehren. 860, 862.
5. Religionsproblemet. 6.
6. Pseudodionysius Areopagita
in seinen Bezienhungen zum Neuplatonismus und Mysterienwesen. 1908. X.
7. Protestantisches
Christentum und Kirche in der Neuzeit. 257 f. 283.
8. Ср.: H e r i n g H. Die Mystik Luthers im Zusammenhang
seiner Theologie und ihrem Verhaltnis zur alteren Mystik, 1879; Miiller A. V.
Luther und Tauler auf ihren theoiogischen Zusammenhang neu untersucht, 1918.
9. Erl. 63. 238 ff. Ср.: Lehmann E. Mystik im Heidentum und Christentum,
1906. 116.
10. Erl. 57. 9.
11. Disputationen Dr. M.
Luthers in den Jahren 1535— 1545 an der Universitat Wittenberg gehalten. Hsg.
v. Drews, 1895. 294. (Цит. по: L о о f s F. Leitfaden zum Studium der Dogmengeschichte.
724). Ср.: de capt. Bab. Erl. V
(XXXVI) 103 f; Opp. lat. var. V (opp. lat. omnia XXXVI) 303 f.
12. Erl. V (XXXVI). 104.
13. Pseudodionysius Areopagita
1908. Ср.: Merx A. Idee und
Grundlinien einer allgemeinen Geschichte der Mystik 1893; Stiglmayr J. Das
Aufkommender diony-sischen Schriften und ihr Eindringen in die christliche
Literatur (Jahresbericht des Gymn. Feldkirch), 1895.
14. См.: Das Gebet. 212—338.
15. Erl. 48. 5; 49. 23; 63.
125.
16. Erl. 15. 540.
17. Weim. 10. 3 Abt. 214.
18. Erl. 47. 367 ff.
19. Erl. 15. 542.
20. H a r n а с k A. Dogmengeschichte. III.
Ill, 120. См.: Das Gebet. 219 f. 247 ff.
21. Enn. I. 7. 1.
22. Serm. in Cant. 23. 16.
23. S p a m e r A. Texte aus
der deutschen Mystik des 14. und 15. Jahrhunderts. 1912. 96.
24. Weim. 40. 1 Abt. 360.
25. См.: August. Conf. I. 4.
26. Erl. 45. 252.
27. Erl. 36. 237. Ср.: Otto R. Das Heilige (особенно гл. 14. «Нуминосное
у Лютера») Р. 98 ff.
28. Erl. 7. 159, 168; 12. 354
f.; 15. 330, 352; 18. 31 Iff.; Weim. 40. I. Abt 360 = Walch 8. 2040 f.
29. Weim. 30. 1. Abt. 133f.;
Erl. 1. 247; 2, 270; 44. 246; 60. 111.
30. См.: Bernart J. Der Symbolismus des Mittelalters (вскоре выйдет в т. 3).
31. См.: Н а г п а с k. Dogmengeschichte. III. 421 ff.
32. Serm. 261. 7.
33. Leben c. 13; Deutsche
Schriften hsg. v. Bihlmeyer 1907. 34.
34. Erl. XIX. 76 = Walch 5.
785.
35. Ср.: Das Gebet. 388 f.
36. Erl. XXII. 45; Walch 6. 75
f.
37. Erl. 20. I. 162; 50. 182.
38. Ср.: Herrmann W. Verkehr des Christen mit Gott; v. H ii
g e 1. The mystical element of religion as studied in Saint Catherine of Genoa
and her Friends. J908. II. 266. См. об этом: Soderblom. N.
Religionsproblemet. 235 ff.
39. Uber das
"Gottwerden" der Mystikers. Das Gebet. 216. 440, 453.
40. Ср.: Soderblom. Religionsproblemet. 357 ff.
41. Contra ep. Manich. 5, 6.
42. Erl. 28. 298 ( = Weim. 10.
2. Abt. 23), 340; 13. 230.
43. Erl. 63. 114.
44. Erl. 63. 157.
45. Ср.: Н о 11 K. Luthers
Auffassung von der Religion. 10 f.
46. См.: L о о f s. Leitfaden der Dogmengeschichte ' 320.
47. Sermo 81. 6; Loofs. Op.
cit. 396.
48. Ср. с прим. 39.
СЕ. См:. Das Gebet. 411. Anm. 75.
50. Ср.: Loofs. Op. cit. 396 ff.
51. Erl. 10. 25f.; 16. 142; Ср.: 18. 20.
52. См.: Das Gebet. 225 f.
53. Erl. 8. 65 f.; 12. 175 f.;
Ср.: 17. 260.
54. Ср.: Soderblom. Kallet in Narstunderna vaxta och skrida.
I. 1909. 177 ff.; Beruf und Berufstreue (Predigt). Leipzig, 1914; Birgitta och
reformationen (foredrag), 1916.
55. Protestantisches
Chistentum. 263. 53. Texte zur indischen Gottesmystik. I, 1917.
57. В частном письме по поводу выхода в свет моей рукописи «о
буддийском погружении».
ПРИМЕЧАНИЯ АВТОРА
*Уже в ходе дискуссии по докладу я должен отвергнуть упрек в том, что
отождествляю мистику и католицизм. То, что католицизм как синкретическое учение
содержит много элементов, не тождественных мистике, выше было уже ясно сказано.
В то же время на Западе во второй половине средневековья мистика является
характерной формой более высокой католической набожности — факт, который
не станет оспаривать никто, кто знает католическую молитвенную и назидательную
литературу. При этом не следует забывать, что в индивидуальной набожности
действуют и другие мотивы: евангелический Иисус и павло-иоанновская вера в
Христа, староцерковная литургия, староцерковная догма, дух ордена Бенедиктинцев,
раннесредневековое покаяние. Но все эти мотивы подчинены в католической набожности
лейтмотиву мистики: мистика — владыка; все более древние формы религиозной
жизни находятся в услужении у нее. Так же и в протестантизме есть мистика;
евангелическая набожность имеет даже больший мистический уклон. чем это
предполагалось ранее. Но при этом она, как решительно подчеркнул Ричль в
отношении пиетизма — не евангелическая и зависима от католической
мистики. Евангелическая молитвенная и назидательная литература обязана своим
мистическим налетом влиянию католической богословской литературы, которое стало
заметно уже во второй половине века Реформации. (Ср.: А 11 h a u s P. Zur
Charakteristik der evangelischen Gebetsliteratur im Reformationsjahrhundert,
1914.) Так же „ ценное богатство
евангелических церковных песнопений показывает мистическое католическое
влияние, которое не было осознанным. В пиетизме Германии и Нидерландах оживает
пламенная эротика средневековой бернардинской монастырской мистики.
Уравновешенная Арнольдом и Терстегеном духовная мистика есть лишь протестантский
отпечаток католического квиетизма, завершенного в Молиносе. Так, история
возникновения протестантской мистики доказывает весьма спорное утверждение, что
мистика есть индивидуальная католическая набожность вообще. Протестантские
«спиритуалисты» (Швенкфельд, Себастьян Франк, Себастьян Кас-телльон, Дирк
Корнхирт, Джордж Фоке) не являются действительно мистиками, несмотря на
очевидное влияние на них мистики Экхарта — Таулера. Их духовный энтузиазм,
сделавший их равнодушными к любому внешнему авторитету Писания, в основе своей
не мистический, а исконно христианский. Он оттеснил другие (и более важные)
элементы пророческо-израильской и исконной христианско-павловской набожности:
веру в Откровение Бога и спасительную весть в истории, приобретя тем
самым мистический вид. По своему внутреннему духу «спиритуалисты» тесно связаны
с набожностью, господствующей в протестантских сектах, особенно у крестителей.
** На возникшее в ходе дискуссии возражение, что католический модернизм
был осужден Пием X и поэтому не может
рассматриваться как католический, я должен ответить: «Официальное осуждение
церковными властями церковного или теологического направления не является (с
чисто историко-религиозной точки зрения) достаточно авторитетным для
квалификации его как католичества. В истории церкви нередко бывают случаи, что
то или иное течение на первых порах подвергается нападкам, потом к нему
относятся терпимо, а в дальнейшем даже санкционируют. Ничто не является более
показательным в этом отношении, чем изначальное осуждение Римом применения
аристотелевской философии в теологии; потом аристотелизм посредством Фомы
добился церковного признания, и, наконец, Пий X под угрозой церковного наказания рекомендовал его к
применению. Трагическая ирония состоит в том, что (как установил впервые
Тирелл в «Hibbert Journal» Januar-heft. 1908) Пий X в «Encyclica Pascendi»
осудил модернизм в таких же выражениях, в каких Грегорий IX в «Epistala
ad magistros theologiae Parisienses» (1328) осудил
рекомендованный ныне Пием X томистский
аристотелизм. При
этом он явно цитирует тот же документ: «Quidam apud vos,
spiritu vanitatis ut uter distenti, positos a partibus terminos profana
transferre satagunt novitate; coelestis paginae intellectum... ad doctrinam
philosophicam rationalium inclinando, ad ostentationen scien-tiae, non
profectum aliquem auditorum... ipsi, doctrinis variis et peregrinis abducti,
redigunt caput in caudam, et ancillae cogunt famulari reginam» (Denzinger 379,
Michelitsch, Der Syllabus Pius X. 1908. 215).
Если к этим удивительным превращениям относиться серьезно, то вполне
вероятно, что Луази и Тиррелл когда-нибудь получат признание церкви. (Ср.
исто-рико-религиозные характеристики модернизма: Soderblom N. Religionsproblemet inom Katolicism och Protestantism. 1910. Forsta boken: Modernismen).
*** Ср. приведенные здесь положения с высказываниями Лютера, помещенными
в начале статьи.
**** Догматическая спекуляция о божественной природе Христа и ее отношение
к его человечности нашла у Лютера свою основу в сильном переживании Христа (как
я уже говорил ранее в ходе дискуссии). «Бог в Христе». Христология
Древнейшего христианства возрождается здесь с новой силой, в противоположность
Догматической христологии IV века, которая
воплотила в своем учении о двойственной природе эллинистическую концепцию.
Очень характерными в этом отношении являются следующие слова Лютера (выбранные
Гарнаком ко II части 3-го тома «Истории
догматики»): «И так софисты изобразили Христа, как будто бы он был человек и
Бог; посчитали его ноги и руки, странным образом смешали обе его природы, что
является лишь софистическим познанием Господа Иисуса Христа. Христос же был
назван Христом не потому, что имел две природы. Как меня это касается? Он носит
свое утешительное имя за свои дела, которые он принял на себя. То, что он по
природе своей человек и Бог, касается только его, но то, что он творит в мире,
распространяет свою любовь на всех и на меня и становится моим спасителем и
утешителем, — это происходит мне в утешение» (Erl. 35, 207) Ср. также точное замечание Ф. Лоофса (Loofs F. Leitfaden zum Studium der Dogmengeschichte 4 724): «Теология, ориентированная на историю спасения,
возвращается к этим мысленным построениям без какого-либо знания истории
догматики от древнего религиозного модализма. Это соответствует мысли Лютера
(уже с 1519 года и до конца его деятельности), об этом же поется в песенке
времен Реформации: «За нас борется тот справедливый человек, который называется
Богом. Ты спрашиваешь: «Кто это?» Его зовут Иисус Христос, Господь Саваоф И
больше никакого другого Бога нет» (Erl. 56, 344). Это древняя 6;л/.ог хт|ог;уца
(«двуначальная (двуединая) керигма» — греч.) в отношении исторического
Христа вновь демонстрирует его непреходящую истину».
***** Только однажды в истории мистики произошел сильный толчок к личностной
религии. Это касается Майстера Экхарта. Основная мысль его мистики идентична
мистике Атмана в ведических Упанишадах. Мистик отбрасывает оболочку за
оболочкой в постоянно продолжающемся «разложении», пока, наконец, не будет
постигнуто божественное сущностное ядро, «атман», «искорка» в сияющем блеске.
По Экхарту, верующий познает божество не в экстазе, разрушающем личность, а в
возрастающем самосознании. Переживание божественного в глубинах души сближается
здесь с лютеровским религиозным переживанием, так что Наторп («Die Seele des Deutschen. 1918, 83) мог с полным правом утверждать, что
«существенные черты, за которые мы должны благодарить его [Лютера], уже были
заложены Экхартом». Но несмотря на свою склонность к сильной личностной жизни
Экхарт никогда не покидал глубочайшей основы безличностной мистики; Лютер же
отказался от этой основы и встал на позиции библейской религии; только так
стало для него возможным обновление христианской личностной религии. Если выше
я говорил, что в мистике была тенденция к безличностному, то при этом я ни в
коей мере не утверждал, что она не обладает индивидуальными чертами и всегда
шаблонна. Безличностное мистическое спасение, в котором человеческая личность
растворяется в бесконечном, мистический эрос, стремящийся к этой цели,
наоборот, столь могуч и индивидуален, сколь это вообще возможно. Мистическая
жизнь, обращенная к Всевышнему, даже внутри христиансства предполагает большое
разнообразие и ярко выраженную индивидуализацию, равно как и в не-христианской
мистике, — эту мысль я уже достаточно часто высказывал. (Ср.: Die buddhistische Versenkung. 50 ff.)
****** В дискуссии мне был брошен упрек, что я ставлю Лютера выше
личностей Ветхого и Нового Завета. Важно в этом замечании только то, что я
рассматриваю развитие библейской религии не как нечто законченное, но считаю,
что возможности для его последующего развития заложены уже в Новом Завете. Я
считаю ветхозаветных пророков, псалмистов, Иисуса, Павла и четвертого евангелиста
в высшей степени творческими и гениальными личностями (среди них Иисус занимает
особое место). Они были учителями Лютера; Лютер же остался позади них несмотря
на свою религиозную гениальность, истинную силу и оригинальность мысли и
личную свободу в творчестве.
КОММЕНТАРИИ ПЕРЕВОДЧИКА
«28 апреля 1967 года скончался Фридрих Хайлер. Он умер в своем родном
городе Мюнхене, полностью свершив жизнь ученого». Этими словами открывается
предисловие Курта Гольдаммера к последнему изданию последней книги одного из
основоположников сравнительного религиоведения Фридриха Хайлера. Приостановим
на время наш комментарий и вслушаемся в слова последней молитвы Фридриха
Хайлера, взятые им из работы Николая Кузанского «О мире в вере» («De pacem fidei). Ими заканчивается
последняя книга Фридриха Хайлера «Религии человечества». В них — средоточение
интересов его творчества и выражение его надежды. «...Ты, дарующий бытие и
жизнь, Ты — тот, кто облекается различными культами в различные формы и
называется разными именами, потому что Ты остаешься тем, кто Ты есть, неузнанным
и непроизнесенным... Господи, не скрывайся больше и покажи Свой Лик, и вновь
вернется спасение ко всем народам... Вели ты милостлив, то сделай это. И
прекратится раздор, и утихнет ненависть, и все поймут, что есть лишь одна религия
во множестве религиозных обычаев...
Ты один есть, и есть одна религия и один культ» (Н
е i I
e r
Fr. Die Religionen der Menschheit. Neu herausgegeben von Kurt Goldammer.
Stuttgart. 1982. P. 554—555. Ср. с
положениями о будущем религии, приведенными на последних страницах публикуемого
текста). «Молитва. Опыт религиозно-исторического и религиозно-психологического
исследования» (1917) открывает творческий путь Хайлера; молитва неизвестному,
неузнанному, непроизнесенному, но существующему Богу завершает его. Тем самым
очерчивается поле сравнительного исследования религий, классиком которого стал
Фридрих Хайлер, и формулируется вопрос, на который сравнительное религиоведение
ответа не дает.
Фридрих Хайлер (1892—1967) —профессор богословского факультета
Мар-бургского университета — получил католическое образование и воспитание,
академическое признание принес ему фундаментальный труд «Молитва», а широкую
популярность и известность — публикуемый здесь небольшой по объему доклад
«Религиозно-историческое значение Лютера» (1918). В этот же период его биографии
происходит переход из католичества в протестантство. Теоретический вопрос,
который решает Хайлер в своих работах, тесно связан с этим религиозным поиском.
В чем специфика и сила католицизма? Каков смысл деятельности Лютера? В чем
специфика и сила протестанизма? Эти же вопросы решают религиоведы и сегодня. И,
как подчеркивает издатель и редактор трудов Хайлера, а также его ученик Курт
Гольдаммер в частном письме ко мне, ответы, данные поколением ученых, к
которому принадлежит и творчество Хайлера, еще сегодня нуждаются в осмыслении.
Уже в начальный период своего творчества, что хорошо видно из публикуемого
доклада, Хайлер решает поставленные вопросы, исходя из точки зрения всеобщей
истории религий, т. е. масштаб исследования значительно превосходит формальные
границы вопросов, очерчиваемые внутри христианскими конфессиональными
различиями. С 1925 по 1939 гг. масштаб исследования расширяется еще более и
охватывает всю область всемирной истории религий, завершившись 8-томным сочинением
«Христианство и другие религии». На завершающем этапе своего творчества Хайлер
стремится довести свой анализ до того пласта религиозной жизни и религиозного
опыта, где проявляется духовное единство человечества, затемненное различием
исторически существующих религий и религиозного опыта. Этот поиск отражен в его
книге «Религии человечества», последнее издание которой вышло в новой редакции
К. Гольдаммера в 1982 году. Имя Фридриха Хайлера широко известно на Западе не
только специалистам, но весьма широкому кругу читателей. Его трудам и его опыту
доверяют не только религиоведы, но и те, кто просто интересуется этой сферой
духовной жизни или же стремится распознать и проверить свои религиозные
переживания и интуиции. Его работы включены во все антологии и хрестоматии по
религиоведению, постоянно переиздаются, дополняются и комментируются. Его
ученики развивают идеи Хайлера в различных учебных и научных центрах Европы.
Относительно обстоятельств написания и издания публикуемой работы Фридрих
Хайлер считал нужным отметить следующее: «Настоящее издание представляет
неизмененный вариант устного сообщения, которое сделал автор в Университете
Людвига-Максимилиана в Мюнхене. Философский факультет из трех предложенных ему
тем выбрал эту и установил для ее разработки срок, определенный порядком
конкурса, 8 дней. Печатный вариант, с одной стороы, удовлетворяет желание
слушателей, с другой, желание автора противодействовать разрастающимся
искажениям содержания доклада. Для того чтобы избежать непонимания, в примечаниях
автор ответил на замечания, которые были высказаны в процессе дискуссии
Уважаемыми представителями католичества. Цель работы состояла лишь в том, чтобы
рассмотреть и оценить личность Лютера исходя из высоких истин всеобщей истории
Религии. То, что при таком способе рассмотрения появляется новая точка зрения,
неудивительно; столь же малоудивительно, что в свете сравнительной истории
Религии исчезают все лишние конфессиональные обвинения. Само собой разумеется,
что в рамках доклада могут быть освещены далеко не все стороны религиозной
личности Лютера».
По соображениям объема мы ограничиваемся очень краткими комментариями.
" текст статьи внесены авторские исправления.
*1*
«Царская мистика Христа» — Хайлер имеет в виду значение для мистики
переживания казни Христа. Мистическое переживание в свою очередь есть лишь
символическое замещение ритуального жертвоприношения, в данном случае особого
его вида — «царской жертвы». «Царская жертва» — центральный пункт многих
мистерий и культов, смысл которой — передать силу царя его последователям (Н е i I
e r
Fr Die Religionen der Menschheit.
P. 62).
*2*
«...с Тридентским
Собором начался процесс упрочения» — Тридентский Собор (1545—1563), согласно
Хайлеру, наряду с реформами христианства, догматизировал ряд форм средневековой
народной набожности. В частности это относится к положению о «семи таинствах»,
число которых еще в XI11 веке колебалось от 2 до 30 (op. cit. P. 459, 473).
*3*
Соприкосновение с «numen
praesens» — Рудольф Отто определяет соответствующее
переживание как «благоговейный страх». Хайлер — как то, что одновременно
удивляет и пугает, т. е. религиозный, нуминосный предмет — предмет, содержащий
или проводящий сверхъестественную силу. Для обозначения этой силы
используют слова примитивных народов — «мана» (меланез.), «табу» (подинез.)
и «оренда» (индейск.).
*4*
«Католический модернизм» — Пий X энцикликой «Encyclica Pascendi» (1907)
осудил католическое философское и теологическое движение, возникшее в конце XIX века и стремящееся совместить католицизм с современной
культурой. Во Франции его представителями были А. Луази и М. Блондель, в Англии
— Г. Тирелл, в Италии — А. Фогаццаро.
*5*
Мехтильда Магдебурская (ок. 1212—1283) -— бегинка, чей трактат «Об истекающем
свете Божества» выдержан в мистико-эротических тонах. Некоторые представления
этого трактата были переработаны в «Божественной комедии» Данте.
*6*
«... Евангелие... сделал основным и краеугольным камнем» — «Ибо сказано
я Писании: вот Я полагаю в Сионе камень краеугольный; и верующий в Него не
постыдится» (I Петр. 2, 6).
*7*
"fruitio Dei" то же, чго "fruiti deitatis" (лат.) В
средневековой христианской философии и теологии «наслаждение Бога» или
«божественное наслаждение», достигаемое «воссоединением человеческой жизни с
её источником, из которого происте кает всякая жизнь» (Николай Кузанский. «О
мире в вере», гл. XIII). Ср.: «И всякая жизнь и
всякое жизненное движение проистекает из Жизни, которая превосходит всякую
жизнь и всякое начало жизни» (Псевдо-Дионисий Ареопагит. О божественных
именах. Буэнос Айрес. 1957. С. 82. Пер. Игумена Геннадия (Эйкаловича)).
Выражение "fruitio" в этих случаях
употребляется в противоположность к "usus" (чувственная интимная связь) и "qaudium" (чувственное удовольствие). «В отличие от наших
представлений об удовольствии и наслаждении, "fruitio" означает то, что называется радостью.» (Worterbuch der
philosophischen Begriffe. Hrsg. von J. Hoffmeis-ter. Hamb. 1955 S. 238.) «Итак, что же богословы желают выразить называя Его то
любовью и вожделением (эросом), то желанным и возлюбленным'.' С одной стороны
Он является иновником и как бы Производителем и Породителем (любви и желания),
с другой же стороны — Он Сам есть (любовь и желание). (Иными словами) то Он ими
движется, то их приводит в движение, или Сам себя и (в то же время) к Самому
себе ведет и движет (все)» (Псевдо-Дионисий Ареопагит. Там же. С. 57.)
*8*
«Мистика бесконечного» — к ее представителям Хайлер относи: Шанкара,
Плотина, Дионисия Ареопагита, Экхарта.
*9*
«...но эта "имитация
Христа"» — аллюзия; кроме прямого смысла имеется в виду и средневековый
трактат, приписываемый Фоме Кемпийскому (1380—1471), «О подражании Христу».
*10*
Ср.: «Per crucem ad lucem» («Через крест к свету»).
*11*
«Стоит по ту сторону добра и зла» — Хайлер дает свой вариант перевода
ведического понятия «дхарма» — порядок,
закон, намеренно акцентируя этический дуализм. Ср.: «Поведай, что видишь ты
Отличным от дхармы и не-дхармы. Отличным от содеянного и не-содеянного.
Отличным от прошедшего и будущего». (Катха-Упанишады. 2, 14, перев. В. В.
Шеворошкина)
*12*
«Слова из 1-ой главы «Подражания Христу» — см. прим. к стр. 328.
*13*
Биргитта Шведенская (Биргитта Шведская) (1303 — 1373) — одна из
наиболее известных женщин-мистиков средневековой Европы, «Откровения» Биргитты,
по-видимому, — плод коллективного творчества так называемого «биргиттинского
кружка».
А. В Кураев.
АБСЕНТЕИЗМ В СОВРЕМЕННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ КРИТИКЕ*
* © А. В. Кураев.
Эта статья написана в начале 1985 г.
в аспирантуре Института философии Академии наук СССР. При написании ее была
использована классическая уловка советских философов — некоторые свои идеи,
расходящиеся с официальной идеологией, высказывались как пересказ взглядов
зарубежных авторов. В качестве «соавтора» в этой работе был взят Ганс Кюнг.
Столь же типична была в те годы личина «объективизма»: там, где надо было бы
сказать «я думаю», «я убежден», говорится в третьем лице: «теологи утверждают».
С 1985 г. многое изменилось и в жизни
советского общества, и в ситуации нашей философии, и в моей судьбе. Осенью 1985
г. я из аспирантуры ушел в Московскую духовную семинарию, после окончания
которой был направлен на учебу в Богословский институт в Бухаресте. Но эту
статью писал еще аспирант-философ, а не богослов.
Непрерывное
нарастание секуляризационных процессов, начиная с эпохи Возрождения и особенно
Просвещения, все более и более грозит вытеснить религию на периферию, а то и
вовсе за грань общественно значимой жизни. Была ли неожиданна секуляризация
европейской культуры для религиозных мыслителей? Исторически, конечно, — да. Но
с точки зрения логической ответ отнюдь не столь очевиден. Ибо, как оказалось, у
христиански ориентированной философии имеется достаточно логических и других
ресурсов для того, чтобы дать собственную интерпретацию секуляризационных
процессов, в значительной степени сводящую на нет опасность последних для
религиозного мировоззрения.
Конец XVIII века
и век XIX в теологии ушли преимущественно на выстраивание оборонительных
редутов, на спасение того, что еще можно было спасти от всесокрушающей и не
знающей пределов критики французских материалистов. Стратегия, заданная
Шлейермахером и романтической школой, эту задачу в целом выполнила — религия
не была окончательно вытеснена на периферию интересов «образованного
общества». Остались отдельные островки сопротивления, защитники которых,
правда, не имели должной философской выучки и методологической строгости. Эти
последние причины, а также уход с путей традиционного богословствования.
Страницы,
посвященные современным «секулярным религиям», написаны совместно с А. А. Захаровым,
тогда аспирантом кафедры атеизма философского факультета МГУ, ныне
преподавателем Технологического института в г. Благовещенске привели к тому,
что оставшееся после них наследие по своей значимости не выходило за рамки
документов личной духовной одиссеи того или иного мыслителя. Решающим их «окном
уязвимости» было незнание реальных сильных и слабых сторон своего противника:
нередко, считая, что они наносят ему смертельный удар, они боролись с ветряными
мельницами и третьестепенными следствиями, а не с исходными посылками,
которые, бывало, только укреплялись за счет такого рода критики.
Более того,
зачастую подобные апологии, будучи не в силах строго обосновать исходные
посылки своих собственных построений, неадекватной формулировкой своих принципов
лишь подставляли их под еще более сокрушительную критику. Так было, например,
с психологическим обоснованием религии у Шлейермахера, неудача которого вызвала
известную оценку С. Н. Булгакова: «Шлейермахер сам, несомненно, религиознее
своей философии».
Ситуация
изменилась с появлением в европейской культуре феномена богоискательства. Два
основных потока богоискательства — поток от Достоевского до Честертона,
влившийся в русло ортодоксии, и поток от Ницше до Сартра, вернувшийся в атеизм,
— несмотря на свои противоположные итоговые результаты, сделали одно и единое
дело. Проведенная ими «разведка боем» позволила выявить реальные сильные и
слабые стороны противоборствующих сторон. Поле боя было освещено шарящими
лучами разума, взыскующего истины. И некоторые казавшиеся неприступными
бастионы обнаружили свою практическую необороноспособность, а ряд позиций,
защита которых считалась уже делом безнадежным, напротив, обнаружили свою
неординарную выживаемость. Позиции апологетов религиозного мировоззрения
оказались в результате двояко подкрепленными: с одной стороны, даже те искавшие
Бога, которые вернулись к атеизму, делали это с явной неохотой и нередко более
всего были озабочены тем, чтобы оставить в своих собственных позициях брешь для
«возможного откровения ожидаемого Бога». С другой стороны, мыслители, взявшие
сторону религии, укрепили ее личным опытом своих — сначала богоборческих, потом
богоиска-тельских — отношений с трансценденцией. Повествованием об этом своем
пути, осмыслением своих бытийственных злоключений и обретений и явилась
философия таких «обращенцев», внесших самый значительный вклад в религиозную
культуру Европы XX столетия. Главным итогом такого рода изменений явилось то,
что место борьбы теизма и атеизма заступил — пусть спорящий, но — диалог,
понимающий и знающий диалог между теизмом и абсентеизмом.
Здесь настала
пора объяснить наше понимание этого термина, вынесенного в заголовок статьи.
Общепринятое употребление помещает его в политологический (реже — в
политэкономический) лексикон. В нем он означает отказ избирателей от участия в
выборах органов власти. Мы же предлагаем вычленить в нем две смыслообразующие
основы (absen'- и te'-) и провести следующее смысловое Разбиение: абсен-теизм.
Это, конечно же, разбиение не синтаксическое, затрагивающее грамматическую
структуру слова, а семантическое — долженствующее четче подчеркнуть тот новый
смысл, который мы вкладываем в уже имеющийся термин. Абсентеизм в таком
понимании предстает как теоретическое повествование об отсутствии Бога — в
отличие от теизма как учения о Боге Живом и Действующем.
При таком
понимании абсентеизм вызывает реминисценции типа гельдерлиновского «боги
удалились» или ницшевского «Бог умер». Промыслив этот комплекс идей, мы сможем
понять место абсентеизма в европейской культуре и выйти к поставленному в
начале статьи вопросу: является ли неожиданным и роковым появление секуляризма
и абсентеизма в христианской культуре?
Трудно сказать,
порожден ли сам секуляризм (колыбелью которого являлась христианская Европа и
до сих пор остающаяся ареалом преимущественного его распространения)
христианской культурой. Но пройти сквозь несколько веков «богооставленности»
под силу, на наш взгляд, только этой культуре — культуре, основанной на
религии Бога умершего и воскресшего. Это становится почти очевидным, если
знать, что знаменитые слова Ницше «Бог умер» являются цитатой из составленного
Лютером песнопения Страстной Субботы. Поэтому религиозная критика абсентеизма в
основу своей оценки современной секулярной и богооставленной культуры кладет
усмотрение триадической смены Страстного Четверга (времени Тайной Вечери и
Причастности Божеству) Страстной Пятницей и Субботой, и смены — «на третий
день» — этих часов «смирения Бога даже до смерти» утром Воскресения. «И пройдут
такие трое суток, и столкнут в такую пустоту, что за этот страшный промежуток я
до Воскресенья дорасту...» (Б. Пастернак).
Ныне «Бог умер»,
потому что «мы убили Его». Отличие же драмы, разыгрывающейся на подмостках
современной европейской культуры, от трагедии, происшедшей в Палестине двадцать
веков назад, в том, что тогда Воскресенье произошло силою Самого Бога, сейчас
же — человек должен сам до него «дорасти». Какие же философские средства
позволяют современным критикам секуляризма перебросить мостки из Субботы к Воскресенью?
Начнем с
рассмотрения «оборонительных средств». Процесс выработки такой оборонительной
стратегии теологической мыслью XIX—XX веков напоминает, на наш взгляд,
выработку Декартом противоядия скептицизму и агностицизму. Декарт решил
отказаться от удержания тех «очевидностей» натурального сознания, которые не
могут устоять перед фальсифицирующими и разоблачающими доводами скептицизма до
тех пор, пока не найдена некая абсолютно достоверная и неоспоримая их основа.
Поисками этой опоры и занялся французский мыслитель. Мир достоверностей,
стремительно сужаясь, сколлапсировал в ослепительно яркой, интуитивной и
неоспоримой вспышке картезианского «когито». Именно «эго коги-то» оказалось той
субстанциальной абсолютной и неопровержимой точкой, откуда возможна была
последующая реконкиста мира и познания.
Аналогично и
философская мысль, ищущая опоры для теологии, пришла к факту веры — «эго кредо»
— как к последнему основанию религиозного мировоззрения. Как в «когито эрго
сум», в опыте мысли Декартом было показано нерасторжимое единство «только
мыслимой сущности» и «реального» существования, слиянность мысли и бытия, так
же и в опыте веры, в акте веры, понимаемом как встреча с Богом, была усмотрена
та нерасторжимая связь человека и трансценденции, которая является сущностью,
самоцелью и — в рассматриваемом контексте — самооправданием религии.
«Основное переживание религии — встречу с Богом — можно либо позабыть, либо
утратить, но нельзя опровергнуть», — подчеркивал С. Н. Булгаков 1.
Но если «основное переживание» религии представляет собой «встречу с Богом»,
то стержнем абсентеизма, в свою очередь, оказывается переживание отсутствия
Бога. Сталкиваются два экзистенциальных опыта — разных, но не разнородных. И
потому-то и возможен диалог между ними, что источник суждения о предмете спора
—- один и тот же: личный опыт контакта с трансценденцией. Даже если такой опыт
негативен — он получается из религиозного по своей сути источника и
религиозным путем. Секуляризм касается выводов, но не метода решения вопроса и
даже не постановки самого вопроса. Секуляризм оказывается мировоззрением, не
имеющим своих корней и своей базы, независимой от религии. Абсентеизм
существует за счет религии, питается ее же корнями, действует на ее территории.
В попытке самообоснования он должен применять ту же тактику, что и религиозное
мировоззрение — в конце концов в самом же богооставленном человеке находит он
свою опору и исходную свою интуицию. Вот знаменитая исповедь Сартра, выражающая
суть абсентеизма: «Я умолял, я выпрашивал, слал послания к небесам — никакого
ответа. Я ежеминутно задавал себе вопрос: что я в глазах Бога? Теперь мне
известен ответ: ничто. Бог меня не видит, Бог меня не слышит, Бог меня не
знает. Ты видишь эту пустоту над нашими головами? Видишь этот пролом в дверях?
Это Бог. Видишь эту яму в земле? Это Бог. Это тоже Бог. Молчание — это Бог.
Отсутствие — это Бог. Бог — это одиночество людей». Но не обнаруживается ли
тот же самый источник не только в абсентеизме, понимаемом как несостоявшееся
богообретение, ненашедшее богоискательство, но и в более традиционных антирелигиозных
доктринах? Изучение текстов показывает, что практика атеистического
переживания мира, опыт безрелигиозного миро-чувствия и в этих случаях
предшествует теоретическим конструкциям. Просто этот источник не подвергается
рефлексии. Он действительно трудноуловим — известно ведь, как трудно заметить
отсутствие предмета. Тем более — отсутствие незнакомого предмета. Для
замечания отсутствия необходимо представлять себе предмет, которого нет, помнить
о нем. Нужно знать, что такое теизм, чтобы понять, что означает его
противоположность.
Вот Гольбах:
«Нам непрестанно повторяют, что наши чувства показывают нам лишь оболочку
вещей, что наш ограниченный ум не может постигнуть божества. Допустим это. Но
эти чувства не показывают нам даже оболочки божества»2. Вот
Писарев еще более четко указывает методологию принятия такого решения основного
вопроса философии: «Идеалисты стремятся вывести истину из глубин собственного
духа, а не из фактов»3. Это высказывание русского материалиста не
может не вызвать недоумения, во-первых, своим предельно наивным пониманием
факта, во-вторых, довольно-таки странным разведением сфер истинного и
идеального, в-третьих, своим поразительным нечувствием к проблематике духа.
Можно достаточно легко реконструировать возможную критику этого мировидения
различными идеалистически ориентированными методологическими и онтологическими
течениями современной философской мысли. Справедливости ради, однако, отметим,
что среди самих русских материалистов — у наиболее глубокого и философичного из
них — А. И. Герцена — были попытки преодолеть такого рода нигилистическое
отношение к области духа: «Древний мир поставил внешнее на одну доску с
внутренним; так оно и есть в природе, но не так в истине — дух господствует над
формой» 4.
Понятно, что религиозная критика абсентеизма, обнаружив в своем
экзистенциальном исходном опыте несокрушимую цитадель, усматривает негативное
содержание аналогичных структур секу-лярного сознания и отгораживается от возможных
нападений на себя словами послания Иуды: «Сии злословят чего не знают» (Иуд. I, 10). Такого рода апология опирается на некоторые
общелогические, общеметодологические принципы.
Еще Поппер подметил асимметрию доказательства и опровержения:
множество фактов не может окончательно подтвердить теорию, но, чтобы ее
опровергнуть, достаточно одного факта. Любая совокупность фактов
абсентеистических не может неоспоримо верифицировать свою теорию;
фальсифицируется же она современными ее критиками ссылкой на факты
состоявшегося диалога с трансценденцией. Позиции защитников теизма укрепляются
еще и тем, что попперовская асимметрия доходит до предела в тех случаях, когда
необходимо проверить теорию, основывающуюся на негативном экзистенциальном
суждении (экзистенциальном в логическом смысле слова: как суждение о бытии или
небытии предмета суждения): здесь одно-единственное «протокольное суждение
наблюдения» может фальсифицировать такую теорию. Более того, поскольку и теизм
и абсентеизм имеют дело не с нормативными, а с экзистенциальными суждениями — и
для верификации положительного экзистенциального суждения логически достаточно
одного «наблюдения».
Далее, абсентеистические теории представляются религиозным критикам как
содержащие логическую ошибку a dicto secundum quid ad dictum simpliciter, то есть перенос
частной ситуации появления предмета на общее состояние этого предмета самого
по себе.
Вывод получается парадоксальный: теистическая теория, будучи сама не
фальсифицируема абсентеистическими фактами («Строго экзистенциальные
высказывания, — отмечал К. Поппер, — не могут быть фальсифицированы»5),
сама способна фальсифицировать любые факты, ей противоречащие, — то есть не
существует такого факта ( = теоретически осмысленного наблюдения), который мог
бы в принципе фальсифицировать саму теистическую теорию. Но это еще не парадокс
— все это еще достаточно логично и ожидаемо. Парадокс — не логический, а
историко-философский — состоит в том, что в итоге теизм по определению
оказывается антинаучным в попперовском смысле этого слова: ведь для Поппера
антинаучной является такая теория, для которой не могут быть указаны
фальсифицирующие ее факты, или, иначе говоря, — теория, подтверждаемая любыми
фактами, поскольку она согласуется с каждым из них.
Теистическая критика абсентеизма в этой плоскости сводится к
соответствующему теоретическому осмыслению «протокольных предложений»
абсентеизма — при этом абсентеизм оказывается вырожденной формой теизма и в
качестве такового не отвергается, а «понимается» и даже принимается (как
эйнштейновская теория приняла в себя галилеевское понимание принципа
относительности в качестве своего собственного предельного, но отнюдь не
исчерпывающего случая). Конфликт тяготеет разрешиться вследствие простого
недопонимания, как это и предлагает ключевая для понимания этой тематики фраза
немецкого писателя Шницле-ра: «Если бы верующие имели немного больше
воображения, а неверующие были поумнее, то они легко могли бы сговориться между
собой». Приводя эту фразу, С. Л. Франк замечает: «Это не только остроумно, но и
близко к правде. Различие между верой и неверием не есть различие между двумя
противоположными по своему содержанию суждениями: оно лишь различие между более
широким и более узким горизонтом. Верующий отличается от неверующего не так, как
человек, который видит белое, отличается от человека, который на том же месте
видит черное; он отличается так, как человек с острым зрением — от близорукого
или как музыкальный человек — от немузыкального... Богатый, видящий сокровище и
пользующийся им, должен просто попытаться предъявить сокровище невидящему его,
...тем спор и исчерпывается»6. Аналогичное решение этого спора
предлагается и Тейяром де Шарденом, смысл своих творений видевшим в том, «чтобы
научить видеть Бога везде. То, что содержится и предлагается на этих страницах,
— это научение глаз: пожалуйста, не будем об этом спорить, но вы встаньте, как
я, сюда и смотрите» 7. Суть такой «понимающей» критики
абсентеистских разоблачений религии можно передать и словами И. А. Ильина:
«Если я не знаю, где дорога в Иерусалим, — могу ли я заключать из своего
незнания, что ни Иерусалима, ни дороги к нему не существует»8?
Собственно, такого рода аргументация от мистического опыта отнюдь не является
модернистским открытием удачливых богоискателей. Уже новозаветное повествование
исходит из рассказа «о том, что мы слышали, что видели своми очами, что
рассматривали и что осязали руки наши, о Слове жизни» (I Послание Иоанна I, i) Спустя
тысячетелие Симеон Новый Богослов обосновывает аналогичный критерий истинности
мысли и жизни: «Тщетно именуется христианином тот, кто не имеет в себе
благодати Христовой ощутительно, т. е. так, чтобы опытно знал, что
имеет в себе такую благодать»9. Или вот как Августин описывает свой
опыт обезбоживания и возвращения к Богу: «Чаще же — увы! — только мыслью помню
о Тебе, но холодна душа моя. И тогда бываю я свой, а не Твой, замыкается
небо, один остаюсь я в своем ничтожестве, на жертву ненасытного и
бессильного «Я». Но Ты зовешь, и радостно вижу, что только я отходил от Тебя, а
Ты всегда меня видишь». У сартровской исповеди, как видим, может быть и иная
концовка...
Религиозная критика абсентеизма не сводится к «понимающему»
разъяснению того, что в абсентеизме «Бог присутствует в модусе отсутствия».
Этот метод, по мнению религиозных идеологов, действен лишь тогда, когда
поисковая установка на трансценден-цию еще сохраняется в сознании абсентеиста.
Если же уже и брешь, пробитая ощущением отсутствия истины в секулярном
сознании, начала затягиваться ряской секулярных же вопросов и ответов, то
задача религиозных критиков состоит в обнажении глубинной экзистенциальной
тематики под наносами секулярных интересов и исканий. Путей такого рода
редукции к видению собственно трансцендентной проблематики можно выделить в современной
религиозной литературе два. Один — трактовка сугубо секулярных интересов как
вытесненных и неудовлетворенных религиозных потребностей. Второй — показ
неисчерпаемости религиозной тематики ее безрелигиозными трактовками,
исходящими из понимания сферы религиозного как сублимированной сферы земного.
Остановимся сначала на втором пути, для рассмотрения которого как иллюстрацию
возьмем критику современным католическим теологом Г. Кюнгом концепций
фейербахианского типа.
Кюнг почти не утверждает. Он соглашается и вопрошает. Приведем длинный
перечень его вопросов, чтобы было видно, как постепенно выявляется тот круг
секулярно непостижимого, который вновь и вновь ставит под вопрос
просветительскую критику религии. Итак, по Фейербаху, человек — это
колоссальный проектор, а Бог — это колоссальная проекция. Что ж, предлагает
Кюнг, попробуем проверить. Бог как разумное существо — это проекция
человеческого рассудка? Но откуда появляется сверхрациональная непостижимость
Бога, постулируемая теологами? Бог-промысли-тель — проекция человеческой
способности целеполагания? Но откуда же появляется неисповедимость промысла,
как из знаемого получается незнаемое? Бог-Любовь — проекция человеческой
нравственности? Но откуда перед Иовом ставится вопрос — принимать или не
принимать злое от Бога! Или Бог — восполнение того, чего не хватает
человеку? Но неужели незнание — мечта человека? Неужели подчинение — это то,
чего ему не хватает. Пусть прав Фейербах в психологической критике религии. Но
исключается ли признанием того, что психологические факторы играют в религии
немаловажную роль, наличие направленности этих факторов на реальной объект? Не
может ли человеческое стремление к счастью иметь некую вполне реальную цель? И
если в каждом акте познания, а значит, и в познании Бога, человек проецирует в
объект познания много своего, показывает ли это, что данный объект — лишь его
проекция и больше ничего? Неужели Бог лишь нечто человеческое только оттого,
что человек говорит о Боге так, как говорят люди? Нельзя назвать справедливым
утверждение, что нечто не может существовать, когда его существование желанно.
Вся фейербаховская критика религии строится именно на этом единственном
положении, а точнее — по Кюнгу — на логической ошибке. Критику Фейербаха можно
обернуть против него самого: не объясняется ли его атеизм тем, что он не хочет
Бога? Не является ли его атеизм проекцией его желаний? И не оказывается ли сам
критик проекций под подозрением в проецировании? Пусть Бог — это утешение,
обусловленное интересами. Да, земные страдания обращают поиск людей к горним
предметам, земное горе обращает к небесному утешению. Действительно, мир столь
бездушен, бессердечен, что тварь, жаждущая успокоения и жизни, находит смысл и
душу не в этом мире, но лишь воззрев вверх. Да, земные трудности способствуют
обращению к религии. Но означает ли это, что объекта таким образом пороженного
интереса не существует? Или же призвание земных трудностей в том и состоит,
чтобы выполнять функцию трансцендирующего самого себя указателя: мы не Правда,
мы не Смысл, мы не Бог — вот что говорят человеку земные неудачи и жизненные
катастрофы, требуя обращения к за-их-пределами-лежащему. «Многими скор-бями и
надлежит войти в царствие небесное...» Грохот и какофония уличного шума
побуждают человека — чтобы остаться человеком — по возвращении домой
отгородиться от них Бахом, Моцартом, Бетховеном. Человек вспоминает о музыке,
когда испытывает голод по прекрасному. Значит ли это, что прекрасного не существует
только потому, что обращение к нему нередко происходит как реакция на
безобразное? Тяготы мира подогревают молитву — значит объекта молитвы не
существует? Религия действительно является «вздохом угнетенной твари». Мир
сдавливает человеку грудь, он задыхается в нем и всеми силами пытается вобрать
в себя животворящего воздуха. Означает ли это, что воздух, которым он все-таки
дышит, нереален? «Сердце бессердечного мира» бьется в верующем человеке. И как
сердце в человеческом организме начинает работать интенсивнее, когда получает
информацию о нехватке кислорода в каких-либо тканях организма, — так же и
сердце духовное всеми силами пытается насытить духовный голод, испытываемый
«бессердечным миром». Да, сердце — вне бессердечного мира, и работает оно тем
активнее, чем больше голод в этом мире. Но следует ли из этого, что сердца нет
или что оно не бьется? Кюнг приводит фразу Фейербаха: «Бог — это эхо наших
стенаний» 10. Но может ли это заглушить крик, утереть слезы! Да и
само эхо не возникает без причин. Крики животных не порождают такого эха. Эхо
не отвечает и человеку, кричащему в толпе. Но эхо живет под сводами храмов. И
звучит оно там столь сильно, что человек, пришедший туда с целью выкричать свою
боль, улавливает в себе отклик иных звуков — и уносит в себе эхо любви и мира.
Налицо чистейшая спекуляция: здесь, на торжище нищих духом, боль обменивается
на счастье, бремена неудобоносимые — на иго легкое и благое, крик истерзанного
человеческого естества —. на мягкое свечение благодарственной молитвы. Способно
ли эхо совершить такое пресуществление? Эхо может унести вдаль человеческий
крик, но может ли эхо вернуться со словами «примите, вкусите»?.. Какие
превращения должно пройти человеческое слово, в каких скитаниях должно оно
преобразиться столь неузнаваемо, что, сорвавшись с уст человеческих, оно
возвращается (как эхо??) к нему, но — иным глаголом, порождающим в душе
человека (как эхо!!) смиренно-откликающееся «да будет мне по глаголу Твоему»...
Человеческому стенанию может ответить слово — не потому ли, что Слово было в
начале? Обычное эхо не может распространяться в безвоздушной среде — подобное
откликается и переносится подобным. Звуковые колебания воздуха, порожденные
речевым аппаратом человека, должны, распространившись, отразиться от
ретранслятора, чувствительного к волнам аналогичной длины. Не будет
объективного, вне человека находящегося резонатора — не будет эха. Подобным же
образом дело обстоит и с откликами духовными: вне человека должна быть среда,
переносящая волнение его души, и должно быть Нечто, откликающееся на них.
«Человек создает религию». Можно согласиться с тем, пишет Кюнг, что это
выражение справедливо в том случае, если под религией подразумевать религиозные
представления и формы жизни, то есть человеческие учения, молитвы, песнопения,
обряды, церемонии. Но остается ли оно справедливо, если под религией подразумевается
сущность религии — сам Бог? Человек создает для себя представление о мире. Но
создает ли он тем самым мир? Человек создает для себя свои представления о
Боге, но создает ли он тем самым Бога? Не означает ли это, что из идеи Бога
выводится не Его существование, а Его несуществование — как бы онтологическое
доказательство наоборот? «У нас есть идея о чем-то — значит этого чего-то нет
нигде, кроме как в нашем представлении», — такова здесь логика.
Череда этих вопросов-рассуждений подводит религиозных критиков
абсентеизма к выводу о том, что секулярные концепции сублимативного
происхождения религии не в состоянии дать удовлетворительное объяснение всего
круга религиозных феноменов. Имманентное не может вместить в себя
трансцендентного. Но означает ли это, что трансцендентное не может проявиться в
имманентном? Может, отвечают они — и предлагают повнимательнее присмотреться к
миру секулярности. Военные действия переносятся на территорию противника. Под
вопрос ставится сама правомочность его юрисдикции над его же территорией.
Отвергнув попытки фальсифицировать (или, на языке иной теории, идеологизировать,
представить в качестве ложного сознания) себя как сублимацию земного, религиозная
мысль переходит в наступление: а нельзя ли фальсифицировать самодостаточность
абсентеистического секуляризма, истолковав его как заглушенный призыв трансцендентного?
Фактом, ранее совершенно невозможным, стала борьба за осмысление
секуляризации.
Трагедия богооставленности, определившая развитие западной культуры в XX веке и ставшая важнейшим стимулом новых духовных
исканий, оказалась тайной пружиной многих секуляриза-ционных процессов —
человек, попытавшийся жить без Бога, в конце концов пал перед «богами иными».
«Человек ищет, кому поклониться» — таковы антропологические истоки идолатрии.
Война против Бога единого обернулась тотальной войной вновь обретенных божков
между собой и против человека. «Настоящий, не календарный XX век» (слова А. Ахматовой), начавшийся 1 августа 1914
года, стал растянувшимся на десятилетия закономерным финалом векового
нарастания вседозволенности. Обезбоженный мир оказался миром обесчеловеченным.
«Для вас абсолютной реальностью был Бог, затем — человек. Но человек умер вслед
за Богом», подвел итог Мальро11.
Человек умер вслед за богом — в обнаружении этого состоял самый важный
вклад абсентеизма в осознание европейской культурой самой себя. Абсентеизм
завершил свою миссию, теперь нужно было сориентироваться в новом, обезбоженном
мире. Выяснив, что «бог умер, но человек не стал от этого атеистом» (Сартр),
абсентеизм полностью раскрыл себя для религиозной критики. К тому же к середине
столетия мысль о том, что секуляризация современного мира не тождественна его
атеизации, стала общепринятой. А раз так — то секуляризация прошла фактически
мимо самой сущности религии, не ликвидировав, но, напротив, лишь растревожив
коренящуюся в самой духовной сущности человека потребность в сакральном.
Оказалось, что процесс секуляризации, в течение веков влиявший на институты и
сознание западного общества, вовсе не влечет за собой полной и постоянной
десакра-лизации поведения; современный человек гораздо менее а-религио-зен, чем
провозглашается некоторыми идеологиями.
Следовал очевидный вывод — религиозные идеи в наше время не отмирают;
всякая аксиология, пытающаяся противостоять нигилизму, всегда — сознает она
это или не сознает — питается не отмершими религиозными инстинктами, движется
за счет инерции еще не затухшего стремления мира к теозису. Перед лицом нигилизма
вопрос ставился вполне недвусмысленно: или вновь обрести Утраченное, но не
переставшее из-за этого быть самым важным, измерение человеческого бытия и
выжить — или же и дальше сползать в пропасть самоподхлестывающихся отрицаний,
не знаю-Щих никаких границ и сдержек и полностью проститься с надеждой обрести
потерянный смысл жизни. Трудности, переживаемые традиционными формами
христианства, заставили теоретиков секулярной религиозности предположить, что
вытесненное и модифицированное чувство Бога переносится в чисто светские
области При этом религиозные искангя и устремления прежде всего проникают в
политическую сферу; по замечанию Леви-Строса, политические идеологии
превратились в мифологии, а многие политические лидеры обрели поклонение,
достойное богов.
Религиозная потребность в глубинным образом осмысленном и очеловеченном
мире — потребность, которая тысячелетиями выстраивала человеческий космос
вокруг источника правды и бытия, не заглохла и в хаосе «мира без Бога»,
созданного европейскими Прометеями. Смысла во что бы то ни стало — требует она,
и вот уже Прометей уподобляется Фаусту. Богооставленный мир обнаружил, что он
создан «из ничего» — и только мистерия культа не давала вырваться наружу
дионисийскому ничто-жествованию. В поисках хотя бы чего-то прочного и
смыслообразующего не в меру «свободолюбивый» правдоискатель, отказавшийся от
вечности, жаждет найти хотя бы мгновение, которому он мог бы сказать
«остановись», но боится в этой абсолютизации потерять произвол своего
«свободного» поиска. Вот почему в нем воплощается, на наш взгляд, Фауст, а не Прометей.
Секулярные попытки опереться на некий светский объект в качестве носителя всей
полноты ценности и смысла являются лишь иноконтекстуальной транскрипцией
собственно религиозных интенций человека, модернизацией религиозного омысления
мира. Возникает закономерный вопрос: если чувство святого сохраняется,
модифицируя себя, то нельзя ли сохранить его без всяких модернизаций?
Абсентеизм и его следствия подтолкнули христианскую мысль к пониманию
секуляр-ности как болезни религиозной жизни, болезни, после которой возможно
выздоровление. Рано или поздно человек перестанет выкраивать себе божков по
собственному образу и подобию, — обожествляя то одну свою сторону, то другую
(то разум, то чувственность, то эротизм, то коллективизм), — но, пройдя все
искусы возрождения язычества, откроет в себе самом свою подлинную сущность как
образ Бога, осознает свое призвание как возрастание из образа в подобие Божие
и откроет себя истинному Богу. Гарантия выздоровления — памятование о
секуляризации как о болезненном состоянии духа, наличествующее в абсентеизме.
Выздороветь можно — пока еще «сердце знает горе души своей» (Книга Притчей
Соломоновых 14, 10).
Сам абсентеизм с самого своего возникновения также признавал себя
болезненным искажением подлинного положения вещей (вернее, положения вещей,
долженствующего быть подлинным). Но, в отличие от христианства, философия
«смерти Бога» была лишена внутренних потенций для решения поставленных ею же
вопросов. Секуляризация с самого начала воспринималась как трагедия — даже
многими далекими от традиционной религиозности людьми. Весьма характерно,
например, следующее заявление: «Мир находится в состоянии шизофрении... Богов,
к которым мы могли бы взывать о помощи, больше нет. В нашей нынешней
господствует обожествленный Разум — наша величайшая и самая трагическая
иллюзия». Автор этих строк, К. Юнг, жил в те десятилетия, когда переживание
смыслоутраты, вызванное «смертью Бога», было доминирующим мотивом европейской
культуры (вспомним хотя бы литературу «трагического гуманизма» или «героического
пессимизма»). Что касается современных исследователей секулярных религий, то
им пессимизм Юнга чужд. Секулярная религиозность открыла совершенно новый этап
в исканиях западных интеллектуалов; сознание «бунтующего человека»,
штурмовавшего небеса в поисках смысла, не смогло пойти дальше того, что в их
мире «Бог — умер». Современное же стремление обосновать секулярную
религиозность свидетельствует о том, что «смерть Бога» отнюдь не означает
победы атеизма. Более того, миф о «смерти Бога» был в сущности мифом
теологическим: по меткой характеристике С. Великовского, это не что иное, как
«крайне изощренная философская ересь внутри христианской мысли XX столетия»
12.
В самой этой мнимой смерти уже был залог воскресения трансценденции в
христианской культуре, В неспособности признать это заключается глубокая ложь
секуляризма. По словам Кюнга, «идеология секуляризма пыталась из действительной
и необходимой секуляризации вывести безрелигиозное мировоззрение, согласно
которому должен наступить если не конец религии вообще, то, по крайней мере,
конец организованных форм религии как христианских церквей» 13.
Однако истина состоит в том, что секулярные процессы разложили «религиозный
спектр на все новые, доселе неизвестные социальные формы религиозности, церковные
и внецерковные» 14 — но не более того. Ныне этот спектр вновь начал
сужаться — к тому исходному пункту, из которого все начиналось. Трудно
недооценить роль бесплодных поисков «умершего Бога» в различных чисто светских
областях человеческой жизни; поисков, закончившихся обожествлением творений
рук человеческих, созданием этатистски-сциентистских религий. Сакрализация
государства и техники обернулась настоящим кошмаром — человек поклонился
силам, внутренне чуждым ему. Человек поклонился монстрам, питающимся людьми.
«Машина, — по словам Н. Бердяева, — дегуманизирует человеческую жизнь.
Человек, не пожелавший быть образом и подобием Божиим, делается образом и
подобием машины» 15.
Секуляризация раскрыла европейскую культуру всем соблазнам «мира сего».
Но дружба с «миром» означает не только вражду с Богом: она оборачивается
рабством «миру». Человек стал рабом темной стороны своего «Я».
Абсентеизм опустошил небеса, и за это ему пришлось платить непомерную цену:
ответ на вопрос — вопрос всех вопросов, — какою мерою мерить человека, —
остался без ответа: ответ сверху услышан не был, а нашептывания и подсказки
снизу очень скоро обнаружили свою онтологическую лживость.
Сломать оказалось гораздо легче, чем построить новое. Новая Иерархия
бытия вышла неустойчивой — все рукотворные кумиры один за другим ставили
человека на колени перед собой, но взамен не давали ему защиты. Все,
буквально все в мире лишилось последних оснований — опереться было не на что,
и, когда это выяснилось, логически последний удар абсентеизму был нанесен
сначала смутно бродившим в умах, а потом все громче и громче высказывавшимся
вслух подозрением (или прозрением) о том, что «вера в достоинство человека, в
неприкосновенность человеческой личности, в равенство всех людей есть, по
существу, не в меньшей степени вера в догматы, чем вера в первородный грех или
в бытие Бога; столь распространенная среди современных людей вера в «прогресс»
по общему своему характеру находится на одной плоскости с противоположным ей по
содержанию церков-но-христианским убеждением, что «весь мир во зле лежит». И то
и другое суть лишь разные догматические решения одного и того же вопроса» 16.
Но между новым и
старым миропониманием открылась существенная разница: раньше ищущий мог
обрести источник Любви, делающей человека человеком, теперь этого источника
явлено человеку не было. Человек-скиталец бродит по лабиринту истории; в каждом
тупике этого лабиринта таятся новые ужасы — чудовища, порожденные самим
человеком, убивают его десятки и сотни раз. Но вновь и вновь ничему не
научившийся и ничего не понявший человек ощупывал очередную — воздвигнутую им
же самим — стену, с нелепой и безосновательной надеждой на ее преодолимость. А
выхода из лабиринта все не было: чтобы найти его, нужно было, в сущности,
немного. Однако подрезавший себе крылья не может взглянуть на себя сверху. Хотя
только сверху видны все тупики, понятны все реальные падения и несостоявшиеся
взлеты этого беспримерного блуждания.
Какие выводы
сделала религиозная критика из анализа «секулярной религиозности»? Прежде всего
— ив секулярности человек встречается именно с религиозностью. Во-вторых,
несмотря на всю свою пагубность для человеческого духа, «секулярные религии»
были осмыслены и позитивно — в качестве закономерного этапа долженствующего
быть замкнутым цикла «христианство — богоборчество — секулярная религиозность
— христианство», который приобретает все более четкие очертания в европейской —
по крайней мере — русской культуре. Небывалые формы отчуждения, порожденные
непомерной ставкой на религию этатизма и техницизма в деле решения «проклятых
вопросов» человеческого бытия, привели европейскую мысль к закономерному
заключению: если «смерть Бога» оборачивается духовной трагедией, а упование на
всемогущество человекобожеских усилий приводит совсем не в рай, а в
бюрократически-техницистский ад, то... Многие вплотную приблизились к этому
выводу, но промыслить его до конца и в волевом усилии реализовать его следствия
не смогли. Нарушенное цело-мудрие подрывает волю. Ржавчина нигилизма поразила
души, сделав их неспособными принять единственное, что осталось — сказать «да —
христианскому Богу» (Г. Кюнг).
Подведем итог:
наше предположение о связи «философии мертвого Бога» с христианством имеет
своим следствием признание того, что коррелятом абсентеизма является теизм, а
не атеизм, устойчивое возрождение трансцендентного, находящего все новые и
новые формы реализации в культуре Запада, позволяет сделать вывод о переоценке
секуляризационных процессов, причем не только светскими философами, но и
теологами. Анализ религиозной критики абсентеизма позволяет с уверенностью
заявить: христианская религия в эпоху секуляризации отнюдь не исчерпала всех
своих возможностей. Напротив, в определенном смысле секуляризация раскрыла
перед христианством новые возможности и новые перспективы. Апофатическое
богословие развертывается в самом историческом процессе: «Вытеснение Бога из
мира дает новый шанс вере, так как благодаря этому становится более ясным, чем
Бог не является. Выясняется, что Бог не может отождествляться с законами
природы и истории» 17.
Религиозная
критика абсентеизма представляет собой частный случай более широкой
историко-философской проблемы — взаимоотношения традиционной христианской
мысли с новейшими течениями философского мышления. В этом диалоге со светской
философией теология, вновь обретшая уверенность в себе в начале века,
продемонстрировала наличие у нее не предполагавшихся ее критиками ресурсов
гибкости, быстроты и точности реакции. Позитивизм, психоанализ, атеистический
экзистенциализм, лингвистическая философия, прагматизм и структурализм — все
эти течения, начав с вызова религиозной метафизике, в результате завязывавшегося
диалога оказывались ассимилированными религиозной мыслью. Каковы некоторые
общие принципы построения такого диалога — можно увидеть на примере нашего
рассмотрения религиозной критики абсентеизма.
1. Булгков С. Н.
Свет Невечерний. Сергиев Посад. 1917. С. 12.
2. Цит. по: Плеханов
Г. В. Собр. соч. в 5-ти томах. Т. 2. С. 42.
3. Писарев Д. И.
Идеализм Платона. Спб., 1861.
4. Герцен А. И. Избр. произв. Т. 1. М, 1946. С. 34.
Впрочем, это место у Герцена столь хорошо, что хочется продолжить цитату:
«Греки думали, что вываяли все, что находится в душе человеческой; но в
ней осталась бездна требований, усыпленных, неразвитых еще, для которых резец
несостоятелен; они поглотили всеобщим личность, городом — гражданина,
гражданином — человека, но личность имела свои неотъемлемые права, и по закону
возмездия кончилось тем, что индивидуальная, случайная личность императоров
римских поглотила город городов». Если бы эти строки были написаны нашим
современником, взор читателя заметался бы по странице в поисках ссылки на А. Ф.
Лосева.
5.
Поппер К. Р. Логика и рост научного знания. М.,
1983. С. 95.
6. Франк С. Л. С
нами Бог. Париж, 1964. С. 63, 67.
7. Т е i I h a r d de Chardin P. Le
Milieu divin. 1957. P. 17.
8. Ильин И. А.
Путь духовного обновления. Нью-Йорк, 1962. С. 59.
9. Цит. по: Новоселов М. А. Забытый путь опытного
Богопознания. М. 1912. С. 35.
10. Фейербах Л. Избранные философские произведения. М.,
1955. Т. 2. С. 153.
11. Цит. по: К у ш к и н
Е. П. Альбер Камю. Ранние
годы. Л., 1982. С. 40
12. Великовский С. И. Философия «смерти Бога» и
пантрагическое во французской литературе XX века. В кн.: Философия. Религия. Культура. М., 1982
С. 73.
13. Kiing Н. Christ sein. Muchen, 1974. P. 155.
14. Ibid. P. 53.
15. Бердяев Н. А.
Судьба человека в современном мире. Париж, 1934. С. 14
16. Франк С. Л.
Цит. соч., С. 108—109.
17. Кüng H. Op. cit. P. 73.
В. М. Парамонов.
ПАНТЕОН. ДЕМОКРАТИЯ КАК РЕЛИГИОЗНАЯ ПРОБЛЕМА*
*©
Б. Парамонов. Пантеон.
Демократия как религиозная
проблема/ Страна и мир, 1989.
1
Русскому,
выросшему в СССР, но сумевшему сохранить застарелые привычки «таинственной
славянской души», постоянно кажется, что некие злоумышленники (скорее всего,
большевики) намеренно лишают его основополагающей Истины. Поэтому его усилия
направлены главным образом на отыскание Книги, на поиск Единственно Верного
Учения. Сдернутая с глаз повязка — такова у него метафора освобождающего
знания, и эту метафору он склонен овеществлять, представлять освобождение от
тьмы и зла как единовременный акт. Русский — это аргонавт, искатель
философского камня. Этим поискам можно посвятить всю жизнь; золотое руно,
однако, существует в единственном экземпляре, так же как и философский камень делает
всю прочую таблицу элементов чем-то вроде груды булыжника для мощения провинциальных
улиц.
У меня нет
оснований выдавать себя за носителя какого-то света с Востока, и не истину я
возглашаю, а делаю заметки на полях чужих книг. В таком контексте истина — это
монтаж цитат. Однако эти заметки (и цитаты) концентрированы на одной теме: в
русской литературе начала века, в период так называемого русского культурного
ренессанса эта тема называлась «религиозные аспекты общественности».
Здесь именно
американский материал дает богатую пищу для размышлений.
Споры о религии,
так обострившиеся недавно в Америке, затронули, конечно, много интересных
вопросов, но самой религии коснулись, кажется, в очень малой мере. Как-то
очень быстро разговор сбился с религии на аборты и на то, чему
предпочтительнее учить детей в школе: молитвам или правильному употреблению
противозачаточных средств. С другой стороны, не только содержание дискуссий,
но и тон их оставляли желать лучшего. Создавалось впечатление, что все
участники спора — или религиозные консерваторы-фундаменталисты, или атеисты. Не
слышалось голоса людей (по крайней мере, в массовой печати), которые бы внесли
в дискуссию ноту раздумья; говорили только несомневающиеся и говорили
безапелляционно. Русскому трудно было чему-либо научиться, слушая эти споры;
трудно было поверить, что спорят люди, выросшие в культурном регионе,
обладающем колоссальной религиозной традицией. Не было увязки религиозных
вопросов с базовыми основами здешней общественно-культурной жизни. А между тем
такая связь просматривается под любым углом зрения: коснемся ли мы культуры,
истории, даже географии Америки — везде мы столкнемся с религиозной проблемой
в первую очередь. Сама география Америки наталкивает на мысль о религиозном
диссидентстве. Америка — это выселки инаковерующих, колония еретиков.
Вот, к примеру,
тема, заслуживающая самого пристального внимания: верно или неверно утверждение
о безрелигиозности демократии, об отсутствии среди ее духовных основ темы о
вере? Николай Бердяев говорил, что демократия — это скептическая общественная
гносеология. Для него эта черта демократии была несомненным минусом (если не
просто злом) — манифестацией безверия, отказом от истины. Демократия ему
виделась задающей сама себе пилатовский вопрос перед лицом Истины. При такой
оценке трудно, конечно, говорить о вере, — атеизм кажется не только явлением,
стилистически сродным демократии, но ее единственным духовным фундаментом.
Между тем именно
русский может многому научиться, размышляя о теме «демократия и религия». Под
этим углом зрения он сможет по-новому увидеть русский опыт — и из этого опыта
извлечь кое-какой небесполезный комментарий к событиям и тенденциям здешней
жизни.
2
Начнем с
упомянутого уже Бердяева, столкнем его с Петром Струве; обозначится очень
интересная конфронтация. О Струве ценное двухтомное исследование написал Ричард
Пайпс, и я отсылаю к нему читателей, интересующихся подробностями. Но одной из
этих подробностей я и сам хочу воспользоваться.
В 1929 году, уже
в эмиграции, Струве написал о Бердяеве статью под названием «О гордыне,
велемудрии и пустоте». В ней есть такие слова:
«Несостоятельность
и соблазнительность (Бердяева) — в двух прямо противоположных пороках. В
отрешенности от живой жизни, с одной стороны, и, с другой стороны, в
горделивой мании — от каких-то общих положений философского или богословского
характера прямо переходить к жизненным выводам конкретного свойства. Это — та
ошибка, о которой в свое время, как о специфической слабости многих русских
философствующих умов, и в частности самого Бердяева, я уже писал, — ошибка
короткого замыканияния.
В этом отношении
советская власть оказала воистину медвежью услугу таким людям, как Николай
Александрович Бердяев, выслав их. Удаленные из той обстановки, в которой они были
поставлены лбом к стене, а спиной — к стенке, люди, попав после этого на
вольную волю пусть убогого, но свободного «эмигрантского» существования, свое
собственное кошмарное стояние на коротком расстоянии между стеной и стенкой
превратили в какую-то историческую перспективу, и эту воображаемую историческую
перспективу одни стали для себя еще укорачивать, а другие наполнять
мистическими туманами.
Вот почему
случилось то, что ясные и простые, при всей их трудности и запутанности,
проблемы конкретной человеческой политики они возжелали подменить
апокалиптическими вещаниями, ненужными и соблазнительными, ибо никому не дано
конкретно-исторически истолковывать апокалипсис, а тем менее его
исторически-действенно «применять».
Эти слова —
конденсат уже нажитого опыта. А опыт был колоссальным: крах великой империи и
великой культуры — русской империи и русской культуры. Нельзя, конечно,
говорить, что Струве, в цитированных словах, прямо обвиняет Бердяева — и его
приемы мышления — в подготовке этого краха; он просто указывает, что с такими
мыслями нечего делать в политике, что они не дают политической альтернативы
нашему падению. С такими приемами мысли России не спасешь — вот точка зрения
Струве.
Что же было
утрачено в русской катастрофе? Да прежде всего свобода — элементарная свобода
торговать с лотка или разрабатывать темы религиозной философии. Нельзя
сказать, что Бердяева тема свободы не интересовала, наоборот,— только ею он и
интересовался. Бердяева называли апостолом свободы и даже ее пленником. Но свобода
для Бердяева менее всего была вопросом политического характера. Бердяев —
скорее бунтарь, анархист, чем либерал; свобода у него понятие
религиозно-творческое, а не общественно-политическое, вопрос экзистенциального
назначения человека, а не практического общественного устройства. Но религиозно
обосновывая свободу (что вообще-то верно), Бердяев не имеет средств защитить ее
в эмпирическом бытии — и не потому, что он не принимал участия в вооруженной
борьбе с большевиками, как это делал Струве, а потому, что он вообще не ищет
такой возможности и не верит в нее. Подлинное бытие разворачивается для
Бердяева в сверхэмпирическом плане, там уже укоренена у него свобода и другие
ценности высшего порядка. А Струве — принципиальный и бескомпромиссный номиналист,
он говорит, что либерализм (то есть свободу) можно утвердить и обосновать
только номиналистически и плюралистически (как напомнил нам Р. Пайпс, он,
Струве, сделал это еще в 1901 году, в статье «В чем Же истинный национализм?»).
При этом сам Струве остается человеком верующим и убежденным в существовании
ценностей трансцендентного порядка. И у него совершенно противоположный
бердяевскому взгляд на «истоки и смысл» происходивших в России событий. Там,
где Бердяев говорил об апокалиптичности русского сознания,— там Струве вел речь
об эмпирически-конкретных фактах: например, о разобщенности государства и
общества в России; там, где Бердяев утверждал коллективистскую, стихийно-христианскую
душу русского крестьянина,— там Струве говорил о запоздавшей отмене
крепостного права и крестьянской поземельной общины. Бердяев видел русскую
историю в терминах судьбы, рока, — а Струве настаивал на том, что белые могли
бы выиграть гражданскую войну, будь у них хорошо организованная кавалерия.
Ничего «апокалиптического» в таком подходе нет, — если не считать, конечно,
четырех всадников Апокалипсиса.
3
Путь из России в
Германию — тот, что проделал, среди прочих, Бердяев в 1922 году, — это путь на
Запад. Сама Германия — это, однако, не Запад, это все еще путь. И здесь мы
встречаемся еще с одним странником, пилигримом духа — Томасом Манном.
Совсем недавно,
в мае 1983 года, вышла в Америке впервые на английском языке знаменитая книга
Томаса Манна «Размышления аполитичного» — и не была замечена, точнее вызвала
ряд снисходительно-пренебрежительных отзывов. Если это пренебрежение есть
свидетельство непоколебимости духовных устоев здешней «атлантической»
цивилизации — это, конечно, хорошо. Но не есть ли это просто невнимание,
непонимание и глухота к вопросам, которые по самой сути своей были и остаются
проблематичными?
Та критика
цивилизации, которую дал Томас Манн, противопоставивший ей культуру (еще до
Шпенглера или одновременно с ним), должна войти как интегральная часть в само
понятие цивилизации, так же как и в ее духовную практику. Собственно, книга Т.
Манна и есть тот духовный концентрат, который должен быть включен в число
предметов здешнего аварийного запаса. Ценности Запада взяты у Т. Манна в
движении, в критической рефлексии, в моменте становления. Именно в процессе
критической рефлексии эти ценности осознаются у Т. Манна; они, как сказали бы
русские формалисты, выводятся из автоматизма восприятия, делаются заново
ощутимыми.
Томас Манн хотел
в этой книге подвести итоги, — на самом деле она оказалась путеводителем или,
лучше сказать, картой, на которую наносится маршрут исследователя. Путь его к
демократии — это путь писателя, литератора, осознающего свою проблематическую
природу. Литература оказывается моделью политики и в конечном счете —
демократии, демократической цивилизации. Общее у них — ирония, ибо ни политика,
ни литература не должны, да и не могут по своей природе быть радикальными; ни
та, ни другая не знают общеобязательной истины и не выносят аподиктических
суждений. «Аполитичной» оказывается в конечном счете сама политика — когда она
правильно понята. Это и есть то, что Бердяев называл скептической общественной
гносеологией, говоря о демократии, — но у Томаса Манна в признании того же
факта содержится уже не осуждение, а готовность приятия. Впрочем, одну истину
Т. Манн призывает понять до конца:
«Нужно до конца
понять одну истину: тот, кто не привык говорить прямо и брать на себя
ответственность за сказанное, но дает говорить через себя людям и вещам, —
тот, кто создает произведения искусства, — никогда не принимает вполне всерьез
духовные и интеллектуальные предметы, ибо его работа всегда стремится брать их
как материал для игры, для репрезентации различных точек зрения, для
диалектического спора, всегда позволяя тому, кто говорит в данное время, быть
правым».
Эксплуатируя
Томаса Манна, можно сказать, что единственная реформа, которую он не отказался
бы осуществить на англосаксонском и латинском Западе, — это превращение
республики адвокатов в республику писателей. И это отнюдь не потому, что писателей
он рассматривает как некий высший человеческий тип, — совсем нет; не наоборот
ли? Именно проблематичная природа писателя, его фундаментальная
двусмысленность, готовность его молиться многим богам делают его фигурой,
адекватной демократии. Томас Манн пишет в своей книге, что он достаточно рано
открыл в себе способность думать двумя взаимоисключающими способами об одном
предмете. Такая — и подобные — способности необходимы демократическому
политику в первую очередь. Многочисленные критики демократии говорили в один
голос о том, что она страшно снижает и мельчит тип политика. Манн готов считать
такого «мелкого человека» более человечным. Демократия способствует
скромности, критической самооценке людей. В этом, конечно, немалое ее
достоинство.
Поэтому
принципиальной ошибкой Томаса Манна в «Размышлениях аполитичного» являются не
реликты романтического консерватизма, а понимание демократического XX века как
реставрации просветительской и руссоистской концепции человека — концепции
некритического гуманизма, культа человека. Оказалось, однако, что нынешняя
демократия — при мощной поддержке психоанализа — отнюдь не обольщается
человеком. Она перестала строить гуманистический миф, — что не мешает ей
принять человека таким, каков он есть. Она склонна прощать, а не осуждать и
карать. И что больше отвечает религиозному подходу к человеку: прощение или
кара? Это вопрос не риторический; я действительно не знаю на него ответа. Не
является ли, однако, такое незнание более адекватным религиозным состоянием,
чем какой угодно догматизм?
4
В русской
научной (или, если угодно, философской) литературе есть одна повсеместно
известная книга «Проблемы поэтики Достоевского» М. М. Бахтина. Считается, что в
этой книге Достоевскому дана новаторская трактовка. Главное в этой трактовке —
мысль автора о диалогичности творчества Достоевского, о полифонии, что якобы и
отделяет его радикальным образом от прочих писателей — по крайней мере,
новоевропейских, ибо корни указанной особенности Достоевского М. М. Бахтин
находит в древнегреческой культурной традиции, в так называемой мениппо-вой
сатире, или мениппее. Художественный космос Достоевского — это открытая
система, в ней принципиально отсутствует завершающая и резюмирующая
универсальная истина — или «монологическая» истина, употребляя терминологию
Бахтина. Герой Достоевского — тоже незавершенный, необъективированный человек,
а не носитель той или иной отчуждающей социальной маски, — он, этот герой,
нетождествен самому себе. Система Достоевского строится как взаимодействие и
сосуществование живых человеческих голосов, в ней столько же центров, сколько
человеческих сознаний. Бахтин согласен с тем, что романы Достоевского
идеологичны, но говорит, что идеи берутся здесь в качестве личностей и
субъектов, а не как абстрактные интеллектуальные концепты. Это и есть
полифония, установка на диалог. Мир Достоевского — не бытиен, а со-бытиен; в
нем царит не единогласие, а согласие не совпадающих друг с другом голосов.
Идеи не имеют у Достоевского решающей силы, они не доминируют над человеком.
М. М. Бахтин
всячески подчеркивает, что его интерпретация Достоевского имеет в виду прежде
всего и единственным образом художественные особенности, а не философию или
идеологию Достоевского. Если уж говорить об идеологии, то Достоевский-художник
характерен в первую очередь тем, что у него идеологии не было. Один пример: в
«Дневнике писателя» Достоевский строит идеологическую программу, близкую к той,
что развивает в «Бесах» славянофильствующий Шатов; но в публицистике
Достоевского — это именно программа, идеология, а в романе — только один из
«голосов». Другими словами, у романов Достоевского столько же авторов, сколько
в них героев. Это и есть главная особенность художества Достоевского.
Настойчивые
попытки М. М. Бахтина представить свою книгу исключительно в качестве
эстетического трактата вполне понятны и, я бы сказал, извинительны — имея в
виду культурную обстановку в Советском Союзе того времени. Книга Бахтина вышла
первым изданием в 1929 году, написана же была лет на пять раньше. Это, однако,
не может помешать нам увидеть в этой замечательной книге своеобразное
философское сочинение, выдвинувшее некое целостное мировоззрение. Следует
сказать об экзистенциальном звучании книги Бахтина. Достоевскому дана в ней
чисто экзистенциалистская трактовка. Некоторые пассажи книги Бахтина звучат
как цитаты из Сартра (например, о нетождественности человека самому себе). Но
главная ассоциация, вызываемая книгой, — это, конечно, «Я и Ты» Мартина
Бубера. Не исключено, что Бахтин был знаком с этим сочинением; учитывая
хронологию обоих произведений, можно даже, пожалуй, допустить, что «Поэтика
Достоевского» была написана под прямым влиянием Бубера. Маскировка своего
мировоззрения под эстетический трактат — старый, испытанный прием русских авторов,
идущий из дореволюционной России (где это получило название «реальная
критика»). Не мог же в 20-е годы XX века русский автор, живущий в Советском
Союзе, излагать то, что потом было названо экзистенциальной философией, от
своего имени, — для этого требовалась некая крупная фигура, в тени которой
можно было спрятаться. Безусловно, Достоевский был весьма удобен для такой
маскировки: историки идей находят у него важнейшие основоположения экзистенциализма.
Все это, однако,
не убеждает меня в том, что данная М. Бахтиным интерпретация Достоевского
специфична именно для этого писателя. По существу, полифония, диалогичность,
многоголосие являются всеобщей характеристикой литературного творчества; это
его родовая черта. И если на этом выросла философия экзистенциализма, то
ничего удивительного здесь нет: давно уже было замечено, что экзистенциализм
можно понимать как философскую проекцию опыта художественно ориентированной
личности. В этом контексте писатель, более или менее отвечающий этому званию,
может быть назван если не Достоевским, то уж экзистенциалистом во всяком
случае. И понималось это — теми, кто вообще был заинтересован эстетическими
феноменами, — более или менее всегда — во всяком случае, задолго до
экзистенциализма.
Вот что писал
Шопенгауэр:
«Природа — это
не тот плохой поэт, который, изображая негодяя или придурка, делает это столь
неуклюже, столь старательно, что вы видите, как он стоит за каждым из своих
персонажей, постоянно снимая с себя ответственность за их слова и дела и
указывая предупреждающим голосом: «Это мошенник, а это дурак; не обращайте
внимания на то, что он говорит». Наоборот, природа действует, как Шекспир и
Гёте, в чьих произведениях каждый характер, будь это даже сам дьявол, прав —
когда выходит на сцену и начинает говорить; мы привлечены на его сторону и
вынуждены симпатизировать ему, потому что он взят столь объективно, потому что
он развивается из своего собственного внутреннего принципа, как создание
природы, и его речи и действия по этой причине кажутся естественными и
необходимыми».
Речь у
Шопенгауэра идет о природе, но основополагающая мысль высказывается об
искусстве. Впрочем, понимание искусства как модели природы (скажем общее —
бытия) всегда было интимным убеждением романтизма, с которым вполне можно
связать и Шопенгауэра. Объективность природы у Шопенгауэра делается
субъективностью идеи у Бахтина. Слова о правоте выходящих на сцену и начинающих
говорить персонажей великих писателей вполне могли бы появиться на страницах
«Проблем поэтики Достоевского». За всем различием терминологии —
тождественное, в сущности, понимание экзистенции человека, как она явлена у
гениальных писателей. Ибо эстетическое измерение литературы не должно быть
самодостаточным и уводить от понимания того, что здесь в литературе, дан некий
идеальный вариант общественной жизни, той «политики», о которой писал Томас
Манн.
В одном месте
своей книги Бахтин обмолвился — и намекнул на то, как нужно понимать интимный
план его трактовки Достоевского: он сказал, что наиболее адекватным аналогом
художественной системы Достоевского является в историческом мире христианская
идея Церкви как мистической общности неслиянных и нераздельных душ. За личиной
нейтрального литературоведа таился верующий христианин. Возникает вопрос:
нельзя ли обнаружить се-кулярный вариант такой аналогии, и не будет ли этим
секуляр-ным вариантом — демократия? Так в нашем контексте демократия обретает
если не религиозный смысл, то соотнесенность с религиозными содержаниями. Во
всяком случае, у Томаса Манна в «Размышлениях аполитичного» обнаруживается
подобное соотнесение понятия демократии с тем Достоевским, о котором писал М.
М. Бахтин.
5
Здесь я хочу
коснуться одного эпизода из истории русской мысли незадолго до ее
насильственного прекращения: как русские философы искали смысл войны 1914 года.
Это дает, между прочим, интересную параллель к Т. Манну и «Размышлениям
аполитичного». Как и следовало ожидать, у русских, бывших в этой войне противниками
Германии, в подавляющем большинстве их размышлений о войне не было никакой склонности
к романтической идеализации Германии, каковая идеализация составляет основное
задание книги Манна. Наоборот, русским Германия явилась в этой войне наиболее
адекватным воплощением «цивилизации», тогда как Манн видел ее носителем
«культуры». Напоминаю, что это различие было дано Манном совершенно независимо
от Шпенглера. Вообще шпенглерианские темы и даже самый метод творца
«сравнительной морфологии культур» носились тогда в воздухе1. Едва ли не лучший
пример такого шпенглерианства до Шпенглера в России — статья молодого русского
философа Владимира Эрна, ставшая сенсацией осени 1914 года. Она называлась «От
Канта к Круппу». Эта статья нашумела тогда в России не меньше, чем в Германии
«Мысли во время войны» Томаса Манна. Шпенглерианская установка прослеживается
уже в самом названии: автор задался целью обнаружить единое стилистическое
начало в самых разнообразных, казалось бы, — полярных феноменах германской
культуры. Он против тезиса о «двух Германиях — плохой и хорошей» (осознавая
опыт уже Второй мировой войны, к такому же выводу придет и Томас Манн - нельзя отделять Германию Канта и Гегеля от
тевтонских зверств.
1
В мемуарах Андрея
Белого утверждается, что
метод Шпенглера предвосхитил у нас Эмилий Метнер в своей
книге о Гёте.
Выбор Канта в
качестве репрезентативной манифестации германского духа глубоко понятен:
кантовский имманентизм и феноменализм деонтологизируют мир, отрывают его от
Сущего — и тем самым суть «богоубийство». Отсюда — напряженный активизм германского
отношения к миру, внесение в его объективный, но непонятный нам порядок
субъективного законодательства «чистого разума», мнящего себя, однако,
единственным источником всякой нормативности. Артиллерия Круппа, говорит Эрн,
это априори немецкого военно-политического опыта. То, что у Канта было формой
организации теоретического мышления, ныне становится методикой и практикой
прямого политического завоевания мира. Эрн говорит о «глубочайшей
философичности» крупповских пушек:
«Феноменологический
принцип аккумулируется в орудиях Круп-па в наиболее страшные свои сгущения и
становится как бы прибором, осуществляющим законодательство чистого разума в
больших масштабах всемирной гегемонии».
Точку зрения
Владимира Эрна разделял и по-своему развивал С. Булгаков. Им обоим возражал С.
Франк. Среди контраргументов Франка один кажется особенно интересным:
«...если
источник зла, с которым мы боремся в этой войне, есть «имманентизм» и
«феноменализм» германской мысли, то как нам быть с родственными течениями
позитивизма и эмпиризма у наших союзников, Англии и Франции»?
Сами по себе
имманентизм или позитивизм в философии не являются злом, писал С. Франк, они
морально и религиозно нейтральны, но приобретают злокачественную силу именно
тогда, когда соединяются с традицией и навыками религиозного мышления: «Ибо
источник современного зла германской культуры заключается в идолопоклонстве, в
обожествлении земных интересов и ценностей, а источник этого идолопоклонства
заключен в соединении религиозного инстинкта с безрелигиозным позитивистическим
миросозерцанием».
Получается, что
уравнение «позитивизм минус религия» (Англия, Франция) дает более приемлемую
формулу общественно-культурного бытия, чем та, в которой минус сменили на плюс
(Германия и коммунистическая Россия; не забудем, как Бердяев двадцать лет
спустя в «Истоках и смысле русского коммунизма» давал сходную формулу, трактуя
вышеуказанный коммунизм как репрессированную, трансформированную
религиозность, переключение Религиозной энергии на мирские цели). Создается
впечатление, что в современном мире, при господстве в нем секулярных и позитивистских
концепций бытия, лучше вообще обходиться без каких-либо религиозных реликтов.
Это, однако, только предварительный вьшод, совсем не исключающий необходимости
дальнейшего исследования.
Пора связать
разделившиеся литературные и философские нити наших размышлений. Но задержимся
еще немного на философской стороне: в статье Владимира Эрна не только ощущается
шпенглерианская методология, но и — в содержательном отношении — наличествуют
зачатки той концепции «диалектики Просвещения», которая столь суггестивно была
представлена Хоркгеймером и Адорно и развивалась затем в многочисленных
построениях Франкфуртской школы. У Эрна есть уже понимание технической экспансии
человечества как некоего абсолютного зла. У авторов «Диалектики Просвещения»,
в свою очередь, кантианство выдвигается на первый план как важнейшая
теоретическая схема пресловутой доминации. Интересно, что Хоркгеймер и Адорно,
так же как и Франк, натолкнулись на необходимость соотнести опыт демократических
стран с тоталитарными тенденциями позитивистской цивилизации, но в отличие от
русского западника Франка, они не поколебались интегрировать этот опыт в
сконструированную ими концепцию; правда, при этом оказалось, что ничего более
зловещего, чем голливудские фильмы и вообще индустрия развлечений, западные
демократии в этом плане не создали.
В русской
литературе есть один писатель, творчество, да и судьба которого, при всей их
элементарности, глубоко философичны. Этот писатель — Максим Горький. Конечно,
сам он не сознавал своих проблем — это не Достоевский; он являл их
инстинктивно, но этим он и интересен, в этом он и художник. Философская проблема,
связанная с Горьким, — это как раз проблема «диалектики Просвещения». Этот, как
принято его называть в Советском Союзе, «революционный романтик» был на деле
истовым «классиком», «классицистом». Романтический культ стихий у Горького —
это, конечно, его раннее «босячество». С ним Горький вошел в русскую
литературу, этим и прославился. Но, войдя в «большой свет» русской культуры,
Горький, как и всякий парвеню, поддался сильнейшему комплексу неполноценности.
Отсюда пошли две тенденции, прослеживаемые у Горького до конца его дней: с
одной стороны, хамские наскоки на культурные высоты (в частности, непрекращавшиеся
выпады против Достоевского), с другой стороны — робкое и старательное
ученичество, сделавшее Горького едва ли не самым горячим русским партизаном
культуры или, лучше сказать, просвещения. Известно, что Горький был одним из
самых начитанных русских людей своего времени. Но культура у Горького неожиданно,
парадоксально — и, в общем, крайне интересно! — осозналась как жесткая система
норм, как «доминация». С уст Горького не сходили слова о культуре как «борьбе с
природой». Он, можно сказать, был в России стихийным «франкфуртцем». Именно с
этой стороны подошел Горький к большевизму (первоначально довольно остро
критиковавшемуся им): думая сперва, что большевики несут гибель русской
культуре, он примирился с ними, когда увидел, что не анархические стихии они
развязывают, а заняты жесткой организацией бытия. Другими словами, Горький
понимал культуру как насилие — в точном соответствии с концепцией Хоркгеймера и
Адорно, но только, в отличие от них, видел в этом насильничестве культуры не
минус ее, а плюс. У Горького, в его публицистике, есть формулы, до удивления
напоминающие высказывания философов франкфуртской школы: например, о
«технологии как идеологии». Поэтому Горький стал самым представительным
выразителем коммунизма в его глубинно-психологическом смысле, — куда более
представительным, сказал бы я, чем сами Маркс и Ленин. У него нет никаких
следов остаточных гуманистических иллюзий. Горький воспел большевистский
террор, НКВД и ГУЛАГ как культурные явления, большевизацию России он видел как
ее европеизацию. Вообще Горький — самый пылкий и самый грубый наш западник.
Публицистика Горького 30-х годов — кошмарное чтение, ее боятся переиздавать
(даже в составе академического полного собрания сочинений Горького, которое
приостановилось именно по этой причине): переиздать сейчас горьковские статьи
того времени — все равно что вывесить на Красной площади портреты Ягоды, Ежова
и Берии.
Но в то самое
время, когда на страницах «Правды» и «Известий» появились его статьи,
прославляющие строителей нового мира — чекистов, Горький писал роман «Жизнь
Клима Самгина». Я не хочу сказать, что это произведение — художественный шедевр
(хотя первый его том относится к лучшему из написанного Горьким). Это, однако,
художественное произведение; Горький в нем снова и опять художник. Роман этот —
род иронического комментария к горь-ковским статьям в советских газетах. Опять
же оговариваюсь: ничего видимо антисоветского и антикоммунистического в «Климе
Самгине» нет, но в нем зато нет и ничего советского и коммунистического.
Просто в этой вещи, как нигде у Горького, раскрывается ироническая, игровая
природа художника.
Сам герой романа
в этом отношении очень интересен. Это якобы тип интеллигента-скептика, из
попутчика революции становящегося ее врагом. Горький всячески уверял своих
корреспондентов в том, что Клим Самгин нехороший человек; но он не мог спрятать
до конца одну истину о своем герое: что это его, Горького, психологический
автопортрет. Скепсис Самгина — это ускользающая от определений, ироническая и,
как сказал бы Томас Манн, проблематическая природа художника. «Не верь, не
верь поэту, дева», — сказал Тютчев. Горький в «Самгине» — вот этот самый поэт,
которому не следует верить. Интересно, что когда появилась первая книга романа
(1927), — то есть в то время, когда Горький не был еще объявлен священной
коровой «социалистического реализма», — советские критики отозвались о романе
примерно так же, как пишущий эти строки, а известный тогда литератор-коммунист
Федор Гладков Написал Горькому истерическое письмо, обвинив его в предательстве
всех светлых идеалов революции. И Гладков был прав, поскольку он уловил
бессознательный мотив у Горького. Эпиграфом к можно было бы взять шекспировское
«чума на оба ваши дома». Горький уходил в «Самгина», чтобы разрушить самоотождествление
со статьями в «Правде», вот почему роман так непомерно длинен: это было у
Горького лекарство до конца дней, вроде инсулина у диабетиков.
Перевод тома
«Самгина» на английский был озаглавлен «Свидетель», — издатель тоже ощутил эту
«внепартийную» природу горьковского героя, то есть в данном случае природу
самого Горького, игровую природу художника. Не обязательно было декларировать
ненависть к марксистам, достаточно было передать ее Самгину.
Клим Самгин
размышляет в четвертом томе: «Моя жизнь — монолог, а думаю я диалогом, всегда
кому-то что-то доказываю. Как будто внутри меня живет какой-то чужой,
враждебный, он следит за каждой мыслью моей, и я боюсь его». Это Горький сам
себя боялся: обнаруживая в себе эти бездны ненависти и презрения к нашим
культуртрегерам и европеизаторам. Главное слово в процитированном отрывке —
«диалог», «бахтинское» слово. Роман Горького «Жизнь Клима Самгина» полифоничен,
в нем нет единого центра, и это не просто потому, что Горький бессознательно
ненавидел то, чему в сознании поклонялся, но и потому, что полифонична, иронична,
сомнительна и проблематична суть писательства как такового, — не только
писательства Достоевского. Нельзя верить поэту — потому что он сам по
определению безверен.
Я хочу тем самым
сказать не только, что Бахтин был неправ, приписывая исключительно Достоевскому
общее свойство писательства, но и что литература может быть искуплением — как
это показывает случай Горького. Искуплением могут быть безверие, скепсис,
ирония, готовность предать любых богов, — то есть все эти негативы могут дать в
результате некий вполне ощутимый позитив.
Считается, что
Россию всегда воспитывала ее литература — заменявшая ей и церковь, и
парламент. Теперь выясняется, что это неверно: русский ум не был на высоте
своей литературы — именно потому, что не ощущал «низость» этой высоты, — и
поклонялся как святым профессиональным иллюзионистам. Русский религиозный пыл
растрачивался не по адресу. Отсюда — обожествление тех начал, которые никакого
обожествления не требуют, та духовная эксклюзивность, которая в конце концов
обернулась «однопартийной системой».
Горький называл
себя монистом. В этом качестве он отождествлял себя с большевиками — и писал
тогда статью в «Правде» под названием «Если враг не сдается, его уничтожают».
Написав статью, он хватался за «Самгина», в котором мог делаться плюралистом,
— уходил в «диалог». Плохо в этом было то, что установка на диалог не
осознавалась в своей непосредственной, а не зашифрованной в художественном
тексте ценности. Подлинно ли монистическое стремление — жажда Единой Истины -^
есть определение религиозного сознания и признак истинной веры?
7
В Америке
существует книга, которую ее издательская аннотация называет «маккиавеллически
умной»: это «Истинно верующий» Эрика Хоффера. Рекламные приемы в данном случае
недалеки от истины. Правда, я бы не стал судить по книге Хоффера о природе
коммунизма, специфика этого явления не ясна ему; лучше уж обратиться к Ханне
Арендт. Коммунизм нельзя сводить к фанатизму его последователей; это не вера, а
идеология, а в идеологию не нужно веровать, ее достаточно принимать. Вообще
книгу Хоффера портит ее, сказал бы я, психологический редукционизм: на психологическом
уровне делаются неразличимы адепты христианства, ислама, нацизма и коммунизма,
содержание доктрин ускользает от внимания исследователя. Трудно, даже не будучи
христианином, признавать единосущность христианства и его злейшего врага —
коммунизма. Однако если взять «Истинно верующего» не как трактат, дающий
компаративный анализ «массовых движений», а как исследование по социальной
психологии, то ценность книги едва ли можно оспорить. В конце концов Эрика
Хоффера интересовало не столько содержание доктрин, сколько психология их
приверженцев. Как пишет об этом сам Хоффер, для «истинно верующего» важность
представляет не объективная ценность его веры, а сам (психологический) факт
верования. Отсюда — то явление, которое Хоффер называет взаимозаменяемостью
вер. Обращаются к единой истине, но в течение жизни делают это дважды или трижды.
Полюса сходятся, — коммунист делается конвертированным нацистом, и наоборот.
Но обоим невозможно обратиться в либерала-скептика.
Я не встречал в
Америке людей более близких к психологическому типу фанатика-коммуниста, чем
старые русские эмигранты «правой» ориентации. Скажу больше: в самом СССР
фанатик-коммунист — очень редкий ныне зверь. Господствующий сейчас там тип
коммуниста отнюдь не фанатичен. Он, если угодно, прагматичен. Вот почему
нельзя описания Хоффера (первое издание его книги — 1951) считать ключом к
пониманию коммунизма и создаваемого им стиля жизни. Вообще о коммунизме трудно
думать как о массовом движении того типа, который описывает Хоффер, — с самого
начала он был у нас головной, идеологической революцией. Это готова признать и
Ханна Арендт в «Происхождении тоталитаризма».
Но когда
эмигрантская, а теперь уже и советская пресса говорит о религиозном
возрождении в России, — то ли в фактическом, то ли в гадательном и
рекомендуемом смысле, — мне каждый раз вспоминается книга Хоффера, и я задаю
себе вопрос: какого возрождения ожидают — возрождения идей или возрождения
«истинно верующих»? '
В одном из
номеров бердяевского журнала «Путь» (за 1928, кажется, год) я обнаружил статью
о признаках религиозного возрождения в текущей советской литературе; наиболее
многообещающими в этом плане автор статьи считал Леонида Леонова и Валентина
Катаева. И снова приходится спрашивать: не есть ли характерный признак
истинной веры (без кавычек) — не столько рвение и прозелитизм, сколько скепсис
и терпимость?
8
В России был,
однако, философ, который не только учил истине, но учил тому, что Истина — та
самая, с большой буквы, — искажает мир и порабощает человека. Это, конечно,
Лев Шестов. Одна из книг Шестова («Апофеоз беспочвенности») носит подзаголовок
«Опыт адогматического мышления». Значит ли это, что Шестов был неверующим? Мало
сказать, что это был верующий, это был человек, упоенный Богом. Русский
читатель, впервые знакомящийся с Шестовым, с трудом избавляется от соблазна
зачислить его в разряд знаменитых наших «нигилистов» — и готов поначалу
связать Шестова именно с этой весьма заметной русской традицией. И у Шестова,
действительно, заметна некоторая стилизация под нигилистов как провоцирующий
литературный прием; «Апофеоз беспочвенности», кстати сказать, вырос из книги о
Тургеневе, которую Шестов оставил недописанной; он был очарован тургеневским
Базаровым. На деле кажущийся «нигилизм» Шестова вводит в проблематику так
называемого апофатического богословия: можно дать только отрицательное определение
Бога, перечислить только те черты и качества, которые Ему не присущи.
Конкретная полнота, бытийная целостность не поддается определениям. У Шестова
нет перехода от этого отрицательного богословия к богословию положительному:
попытка позитивных определений безначального, безграничного и бесконечного
бытия создает ту ненавистную Шестову «истину», которая связывает человека — и
готова связать самого Бога, поставив над Ним «объективный» миропорядок. Эти
греческие идеи Шестов решительно отвергает, Афинам он противопоставляет
Иерусалим. В этом смысле он действительно еврейский философ. Но еврейство
Шестова надо брать не в локальном, а в универсальном смысле — следует назвать
его скорее «иудеем».
Пример проекции
тем Шестова на русскую литературу дает его эссе о Чехове «Творчество из
ничего». Основной объект анализа — повесть «Скучная история». Шестову глубоко
родственна установка чеховского профессора, отвечающего на смятенные вопросы
«ищущей мировоззрения» Кати одной короткой фразой: «Не знаю». Из Чехова Шестов
извлек еще один catchword: словечко «тарарабум-бия», которое напевает в «Трех
сестрах» доктор Чебутыкин. На философском языке эта «тарарабумбия» называется
абсурдом. Альбер Камю, сделавший из абсурда философскую категорию, — ученик
Шестова.
Но для Шестова в
этих «не знаю» и «тарарабумбия» — начало истинного богопознания. В ситуации
растерянности, в ощущении полной негарантированности бытия происходит, согласно
Шестову, пробуждение сознания о Боге. Скепсис у него сопределен вере, не безверию, релятивизм и адогматизм —
феномены религиозного, а не атеистического сознания.
Можно было бы
сказать, что в этой установке сказалось выразительнейшим образом иудейство
Шестова, если бы сходную структуру сознания мы не находили и в других местах,
в христианской традиции. Вспомним Монтеня, его «Апологию Раймунда Сабундс-кого»
(«Опыты», 11, 12): религия, вера защищается аргументами именно скептицизма, в
результате невозможности познать Бога путем рационального размышления, по
принципу certum est, quia im-possibile est 1 (один из любимейших афоризмов
Шестова).
1 «Бесспорно, ибо невозможно» (лат.).
9
В 1906 году
Максим Горький побывал в Соединенных Штатах, собирая деньги на русскую
революцию. Денег он собрал много; дело, однако, не обошлось без скандала:
американцы выяснили, что дама, сопровождавшая экзотическую знаменитость, — не
жена Горького, что жена с ребенком осталась в России. Плюрализм существовал в
Америке уже тогда, но он не доходил до терпимости к полигамии.
В Америке
Горький свел знакомство с философом Уильямом Джемсом и неоднократно в
дальнейшем высказывал восхищение этим человеком. Есть все основания полагать,
что Горький, будучи вообще великим книгочеем, внимательно изучал книги Джемса
(кстати, все до одной переведенные в дореволюционной России). Следы влияния
джемсовского прагматизма легко обнаруживаются у Горького. Вся его идеология,
вполне адекватно моделируемая по Хоркгеймеру и Адорно, с таким же успехом может
быть моделирована по Джемсу; последний путь будет к тому же не только логически
правильным, но и исторически правдоподобным, ведь в отличие от франкфуртских
философов Джемс был современником Горького. Горьковский жесткий активизм, его
«борьба с природой» как цель человеческого бытия и путь культуры находят свое
обоснование в прагматической установке: истина — это не состояние сознания, а
состояние бытия, формируемого нами в соответствии с нашими целями. Сюда же,
конечно, подключается Ницше, воспринятый Горьким в молодости, и позднее
усвоенный Маркс; если есть что-то общее у обоих (Маркса и Ницше), так это
именно элементы прагматизма, позднее выделенные и методологически осознанные
американским философом. Волюнтаристский активизм всех поименованных философий
близок Горькому, сродни его душе, сформировавшейся под действием того
психологического комплекса, который Ницше назвал ressentiment.
Так и
получилось, что проповедь «классовой» ненависти, которую вел Максим Горький на
страницах «Правды», была у него философски мотивирована мыслями одного из
благороднейших американских умов. Если и была в таком толковании Джемса вина самого
Горького, то она смягчается двумя обстоятельствами: тем во-первых, что он, при
всей своей начитанности, был и остался человеком малограмотным, во-вторых,
тем, что все-таки, как мы уже знаем, в литературе своей он сумел остаться
«полифоничным» -_ и показал большевикам не один кукиш в кармане. Но чем
объяснить такой, например, отзыв о прагматизме, принадлежащий Бертрану Расселу:
«Во всем этом я
чувствую серьезную опасность, опасность того, что можно назвать «космической
непочтительностью». Понятие «истины» как чего-то зависящего от фактов, в
значительной степени не поддающихся человеческому контролю, было одним из способов,
с помощью которых философия до сих пор внедряла необходимый элемент
скромности. Если это ограничение гордости снято, то делается дальнейший шаг по
пути к определенному виду сума-шествия — к отравлению властью, которое
вторглось в философию с Фихте и к которому тяготеют современные люди — философы
или нефилософы. Я убежден, что это отравление является самой сильной опасностью
нашего времени и что всякая философия, даже ненамеренно поддерживающая его,
увеличивает опасность громадных социальных катастроф».
И тут мы снова
должны вернуться к Шестову.
10
Шестов написал
статью о Джемсе и опубликовал ее в своей книге «Великие кануны» (1912). Статья
называется «Логика религиозного творчества». О Шестове говорили, что он всех
авторов, о которых пишет, стилизует на свой манер, «шестовизирует». Но надо
сказать, что именно в случае Уильяма Джемса такая «шестовиза-ция» наиболее
оправдана. Вот как передает Шестов основную мысль философии Джемса:
«Вероятно, если
бы его спросили, в чем основной грех всех философских и теологических
построений, он ответил бы: в постоянном стремлении подчинить вселенскую жизнь
одной идее».
Шестов ясно
видел необходимость плюралистического понимания прагматизма — то, чего не
видел дилетант Горький и почему-то не заметил высокий профессионал Рассел.
Джемс — автор «Плюралистической Вселенной», а книга его о религии называется
«Многообразие религиозного опыта». Именно при допущении плюралистической
установки прагматический активизм теряет все свои яды. Но и «сумасшествие», и
«отравление властью» неизбежны, когда прагматическая позиция сочетается с
монизмом: случай Горького, а лучше сказать — Маркса.
Что же касается
«сумасшествия», то, как известно, Джемс исследовал его возможности в
религиозном творчестве. Шестов вполне оправдывает эти попытки, находя их
«верификацию» в словах апостола: «Мудрость мира сего — безумие перед Богом».
То, что Шестова
не устраивает в Джемсе, — это все-таки стара-ние последнего подчинить «безумие»
некоему критерию, в данном случае — прагматически-утилитарному; здесь
прагматизм Джемса, говорит Шестов, возвращается вспять — к рационализму.
Еще одно
высказывание Шестова:
«Рыцарь
свободного творчества, Джемс, в конце концов, потребовал для своего безумия
санкции, общественного признания, иными словами, он, не давая себе в том
отчета, с самого начала исходил из мысли, что его рассуждения все же сложатся в
стройную теорию познания, которая найдет способ подчинить себе общественное
мнение, станет общепризнанной, общеобязательной. Он стал делить «безумие» на
категории и разряды и отбирал только такого рода безумия, которые могут
оказаться общественно полезными. И эти отобранные, полезные безумия он возвел в
высокий сан истины...»
Тестов
распространяет на Джемса свой любимый тезис (не лишенный, кстати, некоего
иронического прагматизма): что «истина» признается таковой, когда она дает не
теоретическое постижение мирового порядка, а реальную власть над людьми,
«власть ключей», potestas clavium, — когда она социально организует массу,
«стадо». То, что Джемс признает такое толкование истины уже не иронично, а
всерьез, — это и есть, по Шестову, его грехопадение.
В толковании
Джемса Шестов сделал одну ошибку: он не заметил, что в джемсовском прагматизме
нет понятия «стада». Джемсу некого и незачем организовывать. В его
плюралистической вселенной столько же центров организации, сколько
самосознающих воль.
Джемс писал в
книге «Воля к вере» — слова, которые не заметил у него «монист» Горький:
«...вспомните
Зенона и Эпикура, Кальвина и Пэли, Канта и Шопенгауэра, Герберта Спенсера и
Дж. Г. Ньюмэна и представьте себе, что они — не просто поборники односторонних
идеалов, но учителя, предписывающие нормы мышления всему человечеству, — может
ли быть более подходящая тема для пера сатирика?.. Мало того, представьте себе,
что такие индивидуалисты в морали будут не просто учителями, но
первосвященниками, облеченными временною властью и имеющими право решать в
каждом конкретном случае, какое благо должно быть принесено в жертву и какое
может остаться в живых, — это представление может прямо привести в ужас».
В философии
Джемса, другими словами, достигнут тот же результат, что и в романах
Достоевского, с той только разницей, что если, как полагает М. М. Бахтин,
модель мира по Достоевскому — Церковь, то у Джемса такой моделью будет
демократия. Его плюрализм, в социальном соотнесении, есть не что иное, как
философская формулировка опыта гражданина демократического общества.
Транскрипция установок русского сознания в терминах американского опыта делает
религиозную заданность социальной данностью. Демократия сама в себе
приобретает тот религиозный смысл, который американские партизаны религии хотят
отыскать в каких-то внеположных ей (демократии) инстанциях.
Короче говоря,
американский плюрализм имеет глубокий религиозный смысл. «Скептическая
общественная онтология», как назвал Бердяев демократию, становится аналогом
апофатического богословия — единственным методом религиозного гнозиса. Агностицизм
оборачивается путем богопознания; такова религиозная пара-доксия, явленная у
Шестова философски, а у Джемса (коли мы говорим о глубинных истоках его
философии) — в практически-социальном действии, которое называется
демократией. Плюралистический прагматизм предстает у Джемса единством
религиозной интуиции, философского познания и политической идеологии. В России
же, при ее склонности к «синтетическому мировоззрению», к целостной истине, не
было понимания этой парадоксальной природы высших начал знания и бытия, —
понимания их многообразия, несводимости их к единому принципу. Опыт России
показывает опасность монистического мировоззрения прежде всего. Опасна сама
структура монистически ориентированного духа, — а не содержательные его
наполнения. В Америке индустриальное общество справляет куда большие триумфы,
чем в Советском Союзе, но оно не перерастает в тоталитаризм, потому что не
ограничивает истину единством «технологии как идеологии», — потому что вообще
здесь не ищут последней и всеразрешающей формулы бытия.
Еще одно
небольшое замечание о шестовской статье, посвященной Джемсу: Шестов заметил,
что первый немецкий перевод «Многообразия религиозного опыта» вышел без главы,
в которой Джемс сделал попытку обоснования политеизма. Политеизм — это, видимо,
все-таки то, что американцы называют too much. Достаточно того, что в Америке
есть 240 миллионов свободных граждан. Приходилось читать в американской
газете, что иностранцы никак не могут решить, что же такое Америка: нация или
Церковь?
11
Русский
эмигрант-интеллектуал, очутившись на Западе, тем паче в Америке, почти всегда
обнаруживает весьма болезненный идейно-психологический комплекс: его
монистическая духовная установка резко обостряется. В мышлении его нарастает
эксклюзив-ность, чреватая фанатизмом; последний провоцируется зрелищем видимого
распада духовных и социальных связей самой западной жизни, ощущением
апокалиптичности здешнего бытия, катастрофических канунов — и приводит
эмигранта к позиции некоего про-фетизма. Запад очень легко критиковать: что ни
скажешь о нем обличающего — все попадает в цель. Это легкая, потому что большая,
мишень. Пессимистическое пророчество эмигранта становится мотивировкой неприятия
этой, западной, жизни. Но основа указанного комплекса — чисто психологическая:
проекция вовне собственного катастрофического опыта, ибо эмиграция и есть
катастрофа, психологическая катастрофа. Мировоззрение такого эмигранта
продиктовано элементарной ностальгией, и ему кажется, что неприятие и обличение
должны сделаться его экзистенциальным статусом, его «посланием» и его
«миссией». К сожалению, миссия не может стать профессией.
Следует
произнести одну «низкую истину» об эмигранте-интеллектуале, обличителе Запада.
За редкими исключениями это человек «не устроившийся», социально не
реализовавшийся на Западе. Ироническая формула эмигрантского бытия — «зелен
виноград», другими словами, сознание эмигранта определяется его бытием.
Имя автора
последней формулы хорошо известно в Советском Союзе, оно сделалось «жупелом» и
«металлом». Маркс для русского — враг номер один, исчадие ада. Между тем этот
враг человечества был сам прежде всего — эмигрантом, то есть человеком, находившимся
в состоянии фрустрации, как об этом говорит, к примеру, Британская
энциклопедия. Это наш коллега по несчастью. Самый его «материализм»,
продиктовавший пресловутую формулу, — попытка психологической идентификации с
ненавистным преуспевающим буржуа. Это ведь не Маркс, а этот буржуа был материалистом.
Маркс проповедует материализм по причине собственной незадавшейся жизни
идеалиста, социального мечтателя. Вот так же Ницше говорил, что у больного нет
права на пессимизм. Маркс, по-видимому, знал, что, будь у него деньги, он не
стал бы пророчествовать.
В любом случае
это более интересный вариант, чем носталь-гирующее стояние на камне идеальной
истины. В таком экзистенциальном повороте сказалась талантливость Маркса, его
чисто человеческая одаренность, если угодно — известный артистизм. Творец мифа
не может быть бездарным человеком. «Низкая истина», провозглашенная Марксом,
есть, несомненно, реактивное образование, убедительное в чисто психологическом
плане.
И это не мешает
ей быть одной из истин. Как ни странно, Маркс подлинен именно на Западе, а не в
стране «победившего социализма», подлинен потому, что он здесь частичек. Мы и
производим его частичную реабилитацию.
В «New Jork
Times Magazine» появилась однажды статья Дж. Атласа, посвященная
переориентации американских (даже нью-йоркских) интеллектуалов. Они на глазах
«правеют». Происходит это потому, что общество сумело их
институционализировать. Механизм этой эволюции, конечно же, включение их в
«общество потребления». Способствовали этому два обстоятельства: растворение
бывших левых в mass-media и послевоенный университетский бум, наделивший
вчерашних левых идеалистов вполне приличными заработками в бесчисленных
университетах. И тогда они стали замечать нечто не замечавшееся ранее: к
примеру, что «буржуазная» Америка много лучше небуржуазного СССР. В описываемом
случае верность формулы о бытии, определяющем сознание (даже и не
«общественное»), оказалась как нельзя очевиднее. Урок для «наших»: ведь
американские левые в 30-х годах были именно эмигрантами, хотя бы и «внутренними».
Все это
говорится к тому,
чтобы «прозу» Маркса
противопоставить его «поэзии», идеалистическому мифу о наконец-то обретенной
единой истине. Маркс не стал на Западе патогенным фактором, потому что
воспринимается здесь частично; его имя ставится, так сказать, в окружение
запятых: Конт запятая Маркс запятая Спенсер — и так далее. Ему не дают здесь
красной строки.
12
Русским, чающим
религиозного возрождения, необходимо прислушаться к протестантскому опыту
напряженно-личностного переживания религиозно-бытийных реальностей. В этом
отношении Бердяев с его персонализмом более интересен, чем достаточно (для
«отцов-пустынников» все же недостаточно) ортодоксальный о. С. Булгаков.
Собственно, этим же — в религиозном плане — интересен и Солженицын, человек
уникального, не генерализуемого опыта. Это ведь тоже «рыцарь веры Авраам»,
готовившийся принести в жертву своих детей. Именно о Кьеркегоре мы здесь должны
говорить. Даже не о Лютере, имея в виду чуждую русским протестантскую
установку (хотя, как известно, неопротестантское богословие, идущее от
Кьеркегора, вернулось как раз к Лютеру от построений так называемой либеральной
теологии). У Кьеркегора религиозная истина не едина, а единична, это не
экстраполируемый экзистенциальный опыт, то есть «безумие». Кьеркегор производит
«устранение этического»: религиозная истина не может быть нормативной, не
может быть всеобщим правилом, категорическим императивом — в отличие от этики,
как раз и построяющей систему всеобщих и обязательных моральных норм. Тезис
протестантизма «каждый сам себе священник» находит у Кьеркегора не теоретическое,
а экзистенциальное обоснование. Авраам религиозен, потому что он безумен. Его
пример невозможно возвести в (этическую) норму, потому что он «беспримерен».
Религиозная истина ищется в одиночку, она не обладает качеством коллективной
репрезентативности — и не может поэтому вести к коллективному спасению, к
окончательному устроению. Она не объективируема, ей нельзя научить —
следовательно, ее нельзя проповедовать. Она не социо-морфна. Это и есть
глубочайшая религиозная основа индивидуализма, понятого не как психологическое
качество, а как метафизическое состояние свободы.
Социальным
коррелятом протестантского типа религиозности стала демократия; она же строит
религиозно провокативную ситуацию. «Вызов», создаваемый демократией,
апеллирует, как это ни парадоксально, к экзистенциальной глубине человека, его
способности выжить в одиночку. Этого не могут заслонить никакие социалистические
прививки к демократии, никакие коллективно предпринимаемые поиски
гарантированного бытия. В этом ключе должен быть понят и русский эмигрантский
опыт. Его адекватная формулировка поможет осознать пороки и грехи русского
прошлого и главный из них — ничем до сих пор не истребимая вера в Единую Истину, способную организовать коллективное
спасение. Русскому человеку не хватало до сих пор опыта одиночества. Эмиграция
дает такой опыт. Она может дать и большее: то трансцендирование от наличной
действительности, которое и есть самое ценное в любой религии. Русская жизнь
была всегда слишком «массовидной», чтобы человек мог найти в ней собственную
судьбу или осознать необходимость таковой. Демократия, если она когда-нибудь
утвердится в России, будет опытом всеобщей эмиграции от русской реальности и
русских мифов. Она не сделает нашу жизнь «лучше» — но сделает ее более
отвечающей замыслу о человеке.
Вадим Козовой. СФИНКС*
* © Vadim К о z о v о y. Фрагмент из
незавершенной книги. Вчерне готовый два года назад, он сегодня — самое время —
вправе сказать свое, не дожидаясь целого.
(...)
— Повторю свой вопрос: есть ли еще у нас право мыслить — не просто
осмысливать — до конца! Право не юридическое, не логическое, не
моральное либо аморальное, но то именно, перед которым нас ставит страх,
которое, может быть, и есть только страх?
X. — Это ли сфинкс?
— Я думаю о Гёте, о его часто вспоминаемой фразе по поводу битвы при
Вальми и судеб мира, по-видимому, там решавшихся. Очевидность первая: чтобы
суметь распознать, а затем это распознание сформулировать, необходима была не
только необычайная интуиция Гёте; нужны были, с одной стороны, битва при
Вальми, именно такая, по месту и времени, и, с другой стороны, присутствие
Гёте, такого-то немца в таком-то историческом контексте и, стало быть, не в
Китае, не в Турции или еще где-нибудь, а на верном месте, достаточно отстоящем
от переживаемого события и при этом достаточно к нему причастном**. Но
произошла ли, в таком случае, встреча? Встреча человека со сфинксом, смысла с
собственным двойником, вопрошания с данным ответом? Чем был бы или мог бы быть
Гёте вне своего нахождения, включающего как Вальми, так и то, что ему
предшествовало и за ним последовало? И чем было бы, чем быть могло бы Вальми
без Гёте, без его влюбленностей и путешествий, без его поэзии и романов, без
его обязанностей при дворе? Тут напрашивается очевидность вторая: Гёте не был
бы вполне Гёте и, вероятно, совсем бы не стал им для нас, тогда как — при всем
моем почтении к отзвучному гётевскому слову — Вальми 1792 года было бы и
осталось тем же самым, до скончания века, Вальми за вычетом, разве что,
формулы того или иного Гёте. Но нуждается ли оно вообще в какой-то формуле, в
суждении здравомыс-ленном, а то и бессмысленном, не отвергает ли оно суждение
всяческое?
** На всякий случай оговорюсь: хотя
Гёте был свидетелем этого пушечног сражения,
он в нем
прямо не участвовал;
«жар» и «лихорадку»
опасности он переживал недолго,
заехав в горячее
место «от скуки
и духа безрассудства».
X. — Можно подумать, что вы судите об истории по учебникам
и хронологическим таблицам. Но кто выдумал это сито? Почему такое-то, а не
иное? То, что вы именуете переживаемым событием, происходит повсюду и
ежемгновенно, им перенасыщена каждая точка пересечения времени и пространства.
Ведь недаром, должно быть, на ставшей тесной земле нам выпало изведать опыт тотальный;
он-то как раз нас и убеждает, что в ходе развития связано все: величайшее
и мельчайшее, самое близкое и самое удаленное. И потому Вальми, конечно же, не
было бы Вальми без Гёте — не только автора «Вертера», но и Гёте придворного и
натуралиста, без его Италии, его Шарлотт, его будущей переписки с Шиллером и
даже, быть может, без его отношений со своим лакеем*...
— Который и вызвал битву?
X. — И он тоже. Но почему «Гёте и Вальми»? Зачем такой
режущий свет? Наш исторический взгляд уже не прикован ко всем этим
помрачительным вспышкам, он, напротив, все дальше и дальше погружается в
празелень глубоководности, забираясь в такие толщи, где еще вчера царила
невозмутимая тьма и где история теперь ему открывается атом за атомом.
— Вот именно. Наше предпочтение к безоглядному поиску и познанию
микроистории как раз и означает, что история, а тем самым и сито ее открытых
возможностей, со всей стремительностью от нас ускользает.
X. — Не история ускользает от нас, а скорее мы сами,
столкнувшись с пучком ее вероятных дорожных развязок, пытаемся на малом
пространстве либо круто ее затормозить, либо, еще лучше, от нее уклониться. Но
разве такое ей выпадает впервые? Как может она укрыться от самой себя, чтобы
хоть на мгновение, на повороте дороги, пускай и спиральной, не бькь или
не совершаться? И поскольку такая немыслимость исключена, истории, чтобы
совершаться неудержимо, разумеется, недостаточно быть только переживаемой,
претерпеваемой или творкмой. Потому что она, конечно, не то, о чем вы сейчас
говорили: не просто отдельные события или же сцепление событий, или даже
какая-то прикровенная глухонемая основа, шевелящаяся под этими проблесками откровений.
Чтобы история могла с нами статься, могла быть собой и быть здесь-сейчас, она
неизменно нуждается — и умеет, еще невнятная, диктовать свою волю! — нуждается
в зеркалах, в отражениях, в вопрошании человека, в его суждении — и, применительно
к данному случаю, раз уж мы о нем заговорили, в необычайной интуиции
Гёте, по необходимости сформулирован ной.
* Пауль Геце, оставивший, кстати,
записки о военной кампании 1792 года, которыми, кажется, Гёте
воспользовался для своей книги о ней.
— Индия, ацтеки, Китай, вавилоняне великолепно обошлись бы без наших
множительных зеркал и того исторически корыстного смысла, какой в них
придается задним числом их живому времени и его срокам. Что понятие
человечества вряд ли мыслимо без понятия историзма, более или менее единого,
более или менее обожествленного, — это наша забота, им она ни к чему. И она-то
возвращает нас к Гёте, чья морфология, кстати сказать, весьма далека от наших
унылых линеечных горизонтов. Почему же он, к той поре уже прославленный маньяк
порядка, закоренелый эволюционист, со скептическим недоверием относящийся к
любым переборам и перехлестываниям через край, так жаждал встретиться с беспре-делыциком
Бонапартом? Дело ведь явно не только в его несомненной гордыне или в
буквальном на сей раз, по вертеровскому счету, нарциссизме. Почему эта
одержимость сфинксом, воплощенным в истории или историей воплощаемым? Имеет ли
еще смысл это его вопрошание, и не является ли сам сфинкс, будь то Наполеон или
кто-то другой, всего лишь приманкой, обманчивым призраком среди пустыни времен?
X. — Призрак, нет ли, какая разница? Чем, по сути дела,
отличается веймарский олимпиец, страстно желающий Бонапарта узреть, от
беспокойного толстяка Безухова, поглощенного мыслью о его убийстве? У каждого,
надо думать, свой сфинкс, которого он у эпохи заслуживает, подобно тому как у
каждого, в соответствии с воздухом его привычек и зеркалом его снов, есть свой
воспроизведенный с необходимостью образ, и наше единственное отличие от
обезьяны — то, что лицом к лицу с этим сфинксовым двойником мы не строим гримасы,
разве что в редком случае, но играем с ним, не узнавая себя, в куда менее
уморительные загадки. Так проходит время, сменяются времена и история получает
возможность пробегать и запечатлеваться.
— Как забавно! Какой благостный и утешительный фатализм! Мы, однако,
поставили крест на просветительских хлестких словечках. Кто в наши дни
удовлетворится мишурой подобных формулировок? Даже то, что наш совместный
жребий представляется нам столь непривлекательным, столь уродливым в своей
тягости, а подчас просто пакостным до омерзения, то, что некоторые из нас,
более удачливые или менее, быть может, гордые, считают единственно для себя
возможным со всех ног от него бежать, — даже все это явное еще ничто по
сравнению с незримой ставкой, которая исподволь обезображивает наше
общее — слишком общее! — выражение лица. Какой образ, в какой зеркальности прояснит
и удержит эти стершиеся пятаки?.. Вспомните: сфинкс — существо твердокаменное; цепенеющий в
ожидании, замирающий перед прыжком, этот хищник, хотя и разносоставной,
каменеет всем телом, с ног до головы, да и в ней-то недаром читается жесткая
девичья неумолимость. Ничего, стало быть, удивительного, что он не умеет
отвечать гримасами на наши гримасы. Но способен ли он, раскрыв рот, за которым
скрывается людоедская пасть, — способен ли этот зверь нам ответить, пускай хоть
сыми-тировав по-человечески собственный наш вопрос? Я думаю о разговоре
Пастернака со Сталиным — поразительном телефонном разговоре 1934 года, о
котором рассказывали многие и в первую очередь, разумеется, сам Пастернак. В
то время он жил в коммунальной квартире, где постоянно искал одиночества среди
разговоров, крика детей, стука посуды и тому подобного. Так что, когда
зазвонил телефон и чей-то неведомый сумрачный голос объявил ему, что «товарищ
Сталин» хочет с ним говорить, его недоверчивое изумление обязано было, я
думаю, не столько необычности, невероятности, почти чудовищности объявленного
события, сколько чудовищному до гротеска несоответствию с ним обстановки.
Такая встреча могла произойти лишь в бесконечном отдалении от любых
посягательств повседневности, от ее вторжений, лиц, запахов, от ее мимолетных
фраз; и уж никак она не должна была совершиться на расстоянии, по воле
холодной, погрязшей в своей отрешенности техники, не знакомой со взглядом. Ее
единственной возможностью, — осознал это или нет Пастернак, хотя бы
впоследствии, — было «с глазу на глаз» в сухостойном безмолвии пустыни или,
разве что, за неимением таковой, в засушливой строгости ночного пустынного
Кремля. И поскольку это было не так, а Пастернак оставался всегда Пастернаком
*, то, заслышав из трубки обещанный голос, и начал он со всей своей юношеской,
сбивающей заданный тон непосредственностью, жаловаться — не то телефону, не то
телефонному Сталину — на условия своей жизни, работы и, наконец, на совершенно
невозможные условия их беседы.
* В ту пору нередко цитировали
двустишие профессионального насмешника-эпиграмматиста:
Все изменяется под нашим зодиаком,
И только Пастернак остался
Пастернаком.
Но позвонивший ему спешил и был предельно точен. Происходило это, как
известно, после первого ареста Мандельштама, и он, прежде чем вынести приговор,
хотел знать безошибочно и наверняка, был ли тот, да или нет, в своем
искусстве действительно «мастером». Так и задал он, в лоб и без обиняков,
продиктованный текущей минутой вопрос. Впрочем, нелепый характер этого
последнего, выразившего по-сталински кратко, но исчерпывающе представления
вождя о поэзии и искусстве, разумеется, не главное, что меня здесь поражает.
Кого не коснулись его, правда, скудные, зато всякий раз служащие уроком
«примеры из литературы» и «сопоставления» с ее героями? Кто забудет его
учебно-юмористические ссылки на бедного Гоголя и полемически-назидательные
взывания к классикам, лишь бы те были вполне мертвы, окончательно
безопасны и пригодны классически к любому использованию? Удивляться в
этой связи, пожалуй, следует только тому, что подобный взгляд на «сокровищницу
культуры» как на отмеченный непреложностью памятника, раскрываемый для нужд
почитателя саркофаг стал почти что повальным в чуть вылезшей на свет стране,
начиная с несметных стад книголюбов, с их пасущего печатного
министерства 'вплоть до искуснейших публикаторов, сверхученейших
комментаторов, д0 издателей всевозможнейших «наследий» и
«наследств»...
X. — Но разве нет для вас на сей раз ничего загадочного
в таком из ряда вон выходящем внимании к живущему?
— Да, действительно, это могло бы озадачить нас куда сильнее, потому
что ведь автор прославившейся надолго максимы о «незаменимых», каковых,
дескать, «у нас» не имеется, Сталин следовал ей буквально и применял ее без
ограничений — не к одной только массе еще живых, копошащейся в своей мнимой
единственности, но и — неразделимо — к полчищам мертвых, понапрасну
тревожащим сон живых своим будто и впрямь единственным эхом. Но если даже
слепо довериться его особому вниманию, стоит ли вдобавок столь же
беспомощно поддаваться изумлению? Тому, сердце останавливающему заволакивающему
взгляд, каким он дивил сам себя, любуясь собственным неотразимым оружием?..
X. — Хорошо вам теперь, оставленному без внимания, с
горделивым бесстрашием от загадки отмахиваться...
— Нет, дело тут, надо сразу сказать, вовсе не в нашей взыскующей
гордости и не в настоятельных, десятилетия спустя, требованиях отваги. Я
только предлагаю вам призадуматься; эта явно неодолимая и, как знаем мы,
неуемная потребность ошеломительно отозваться в другом — безразлично в ком
именно, ибо люди-то «у нас» взаимозаменяемы, — есть ли она выражение такой же
неуемной, самовозгорающейся, ни перед чем не останавливающейся силы или,
напротив, свидетельство гложущего подспудно сомнения в себе и даже, может
быть, — где-то там, не у нас — несомненности призрачного, как дым,
бессилия, или же — если под силой разуметь в этом случае власть, а сомнение
отнести к самой особи его носителя — оба они вместе, движимые общей
потребностью, отрывающиеся разом от стола и поднимающие трубку кремлевского
телефона?..
X. — Достаточно оставить в покое телефон, и тотчас
станет очевидно, что вы изображаете здесь двойственную природу сфинкса —
человекозверя, говорящего с нами на нашем языке и пожирающего нас так
без разбору, но разгадкой пришлой, еще не нашей уязвляемого однажды
насмерть.
— Да ведь именно пришлая, она в нашем царстве оказывается своей, когда
к нам возвратившийся, хотя о том и не подозревающий герой, разгадывая за всех
нас и каждого, находит единственно общий с чудовищем и потому убийственный для
чудовища язык. Загадка-то, согласитесь, простенькая, раскусить ее — дело
нехитрое, а зверь все же не смог пережить своего человеческого бессилия... Так
вот, — давайте-ка поразмыслим дальше, — представляете ли вы себе Сталина в
роли самоубийцы? И не Сталина всего лишь темного, к власти пробирающегося и «в
минуту жизни трудную» предлагающего свою отставку, а Сталина неприкрыто
загадочного, в полноте ее и на ее вершине, если только бывает у такой власти
завершительно-сытая полнота... И с другой стороны, когда он изрекает свое
откровение о «незаменимых», что это: угроза, приказ, наставление в мертвых
полуживой, а в живых полумертвой череде пред-стоящих либо, наоборот,
клич, подсказанный скрытой необходимостью в них — не живых и не мертвых, а
просто наших,- вроде тех, что под ручки ведут коренастого Вия, и в тех
тоже, особенно в тех, кто, пока без замены, нужный до крайности, еще
колеблется — да или нет? — заглянуть ли в глаза на железном лице? А
поскольку, должно быть, и без уподоблений в равной степени верно то и другое,
к каким же властям, к какому в них чину отнести надлежит
Пастернакова искусителя и по какому ведомству проходит в мирах столь любезное
его духу «у нас», где мы, кстати сказать, все на одно лицо, до сих пор
безвылазно числимся в ожидании запропавшего Гоголя? Не по тому ли как раз, ведущему
строгий учет мертвым душам, за которым охотно, с тайным, может быть,
облегчением Сталин запишет и бедного «мастера», еще вчера ему недоступного,
зато теперь, в таком признанном качестве, удобоваримого и насквозь своего *?..
Вопросов, как видите, целая вереница, и я сомневаюсь, что можно с ней
справиться по-геройски, выпалив односложный и однозначный ответ.
* Требуется ли еще уточнять, куда
записана и где читается мастеровито-Унылая и юмористически-общедоступная бедная
Лиза, то бишь «Маргарита», Булгакова?
X. — Но наш сфинкс обо всем этом и не спрашивает! Ни
вас, ни, конечно же, Пастернака! Ну а если вы надумали подменить древнего
вопрошателя своим собственным, местным чудовищем, придется вам напомнить, что
такое гоголевский землистый Вий и чем, несмотря на явно общее хтоническое
происхождение, он отличается от твердокаменного сфинкса. Прежде всего, отличие
наиболее очевидное: Вий загадок не загадывает, поскольку, не в пример
человекозверю, он сам — сплошная безвыходная загадка. Кто он? Что у него в
глазах? Об этом нам ничего не сказано, однако, судя по всему, они совершенно
мертвы и, когда ему поднимут веки, страшны именно дышащей — или кишащей? — у
прямостоящего могильной пустотой, в противоположность сфинксовым, горящим
ужасающей избыточностью жизни. Вий вообще, надо признать, существо, — я чуть
было не сказал вещь, — напрочь искусственное и едва ли не механическое,
а если он все-таки живуч и даже, может быть, живуч сверх меры, то обязан этим
лишь отсутствию в нем всякого признака тлетворной жизни. Кое-какие органические
детали не ему принадлежат и привнесены извне, у Гоголя, правда, он именуется
человеком, но что же у него, за исключением косолапой дюжей фигуры,
хоть намеком свидетельствует о его человечности? Какой-то, быть может,
недоработанный, вырвавшийся из рук, спотыкающийся на ровном месте Голем? Но уж
слишком, право, он несамостоятелен, слишком нуждается на каждом шагу в
поддержке и услугах нечистой силы. Вурдалак ли? О том нет у нас сведений, и
ничего не расскажет грянувшийся бездыханно на землю Хома. Даже все то
скотски-звериное, которое напропалую беснуется вокруг, мельтеша скверной
крыльев, жал, клешней и хвостов, ни в какой степени к самому Вию не относится.
Или он, как и вызвавший его мертвец, но зато без ненужных животных придатков,
просто-напросто черноземный ходячий труп, уже весь проросший, превратившийся в
человекорастение, с шапкой лесных волос на голове, с корневыми жилистыми
конечностями и с тянущимися до земли отростками век? Но тогда откуда же, из
каких таких залежей, взялись у него железное лицо и железный указующий перст?
Нет, чего уж тут думать, это не минерал, не растение, не зверь, не человек и,
тем более, конечно, не человекозверь, а откровенное черт знает что, какая-то
несусветная, в слове и словом живущая чертовщина. Потому-то сама она, — есть
ведь логика и у этого слова, в котором Гоголь утопил навсегда простоватое
народное поверье, — потому-то Вий только кричит не своим или, как нам
здесь сказано, подземным голосом, но вопросов задавать не умеет и ответы
выслушивать не собирается. Ну какой с ним общий язык! Лишь завидишь его — тут
и сказке конец, и вообще конец всякой истории. Пока веки опущены, гадайте
вволю... Непутевый философ, стоящий перед ним, как Эдип перед сфинксом, но
приведенный сюда не героической необходимостью и даже, пожалуй, не роковой
страстью знания, а бесплодным и беспредметным, снедающим душу любопытством
страха, погибает — от страха же — неминуемо, и не потому что в глазах пред-стоящего
распахнулась, взглянув на него, какая-то внятная, нестерпимо-последняя
тайна, но потому, вероятно, что, его обнаружив, наконец встретилось
завороженному то, что не лезет и впрямь ни в какие ворота: никаким
сверхмаг'ическим или сверхисступленным заклинаниям не подлежит, ни в каких
сокровенных молитвах, в обжигающих губы проклятиях не растворяется...
— Что же это, право, за встреча, если глядят на Хому глаза
мертвые и пустые? Пусть они даже чем-то кишат, их слепое зияние еще очевидней;
ну а раз уж они сослепу узнают, то, конечно, не Виевым встречным зрением...
X. — ...Так и вы, боюсь, — хотя на суеверия, должно
быть, не падки и на ногах, кажется, еще держитесь твердо, — так и вы, и,
пожалуй, все ваше «у нас», уклоняясь от темы, избегая поставленного нужным
сфинксом вопроса, забредаете по бездорожью в какие-то развалины, где перед
ненужным страшилищем теряетесь в никому не нужных догадках.
— Нужны кому-либо наши догадки или нет, о том мы поговорим особо. Но
спорить не стану: искушение уподобить Сталина несусветному Вию действительно
велико; правда, как и сама эта не-сусветица, оно вряд ли поддается объяснению.
Дело, я думаю, не только в разительном наружном сходстве двух фигур и даже не
столько в их двусмысленной, до конца не выясненной связи с землей. Вы ведь,
надеюсь, заметили, что стихия, из которой Вий вылез, которая таким его и
создала, на поверхности, там, где проявить себя надо, ему буквально в тягость:
если движется он, тяжело оступаясь, это потому, что ноги и руки его засыпаны
землей, и если он собственной волей не в силах поднять свои веки-отростки,
это, должно быть, не из-за их непомерной длины, а оттого, что они землей
примагничены. Вспомните же теперь, — никаких натяжек здесь не понадобится, —
что, взращенный «со товарищи» перегнойным подпольем, с ними вынесенный
оттуда наружу не каким-то «сознательным пролетариатом», а разгулом деревенской
и вчера еще почвенной страны, выбравшийся мало-помалу на самый твердокаменный
верх, где, отсеяв ненужных, он оставил вблизи только тех, кто, если надо поддержит
и, если потребуется, откроет ему глаза, Сталин в крутом движении
отряхнул-таки с себя чернозем, когда по-вурдалачьи разделался с обременяющим
его крестьянством, и, казалось, на винтиках и шестернях от земли ушел
окончательно, угодив наконец под стеклянный колпак Мавзолея, — но стихия
могильная его не забыла, протянула спустя малый срок чьи-то руки и у
стен векового Кремля дала блудному сыну приют в своем лоне, откуда и
вызывают его по делу оживающие среди мерзости запустения мертвецы...
X. — Но почему же именно Сталин? Подумайте: неужели ваш
уподобительный соблазн или, скажем прямо, ваше наваждение связаны, по существу,
с ним одним, и разве не относятся они фактически, по принципу
взаимозаменяемости, к самой породе железных большевиков, среди которых
тот, кто избрал себе стальное имя, выделяется — даже рядом с его
бессмертным «предшественником и продолжателем» — лишь несравненной степенью
«виеоб-разности»?..
— Перед нами, пожалуй, тождество,
а отнюдь не подобие.
X. — Тем более. В таком случае нельзя ли сказать, что,
согласно тому же принципу, он в этом тождестве вполне равен другим, что
превосходит их лишь как единственно, может быть, совершенный образчик породы и
что настоящая его единственность выявляется только там, где его устами, из его
нутра к нам обращается сфинкс?
— Вот уж, поистине, сталинские уста! А впрочем, на первый взгляд
вы действительно правы: этот принцип бьет также и по нему, растворяя его —
вопреки иерархии — в массе более или менее удавшихся чудовищ. Не является ли и
сам он, пусть сверхудачной, пускай даже образец поглощающей, но все же простой
заменой того, кто, отвергнутый не простившей землей, без остатка истаяв в
зряшном куклоподобии, тщетно тычет куда-то с бесчувственных постаментов,
надрывается попусту с безголосых плакатов и, заученно глядя будущему в глаза,
понапрасну страшит его тусклым в орбитах сиянием «лампочек Ильича»? Так оно,
вероятно, и есть, и список замен на том не кончается, да недаром, должно быть,
— пора спохватиться! — разговор наш от давящего ужаса перешел к умозрительным
легковесным художествам. Ну а если от соображений отвлеченных вернуться к
смрадной, приземистой, на земле устоявшейся и в смерти разросшейся, всякую меру
превышающей живучести, то немедленно обнаруживается, что, как это ни странно,
серо-стальной или вовсе бесцветнейший Сталин в массе растворяться
отказывается, и становится ясно, почему я теперь, часто во сне обмирающий при
одном только шевелении на портрете его безвременно смежившихся век,
ощущаю нерастворимость его концентрированного присутствия столь же несомненно,
как некогда Пастернак, который, к слову сказать, — эта простейшая очевидность
особенно для нас поучительна, — волею судьбы столкнулся и по телефону говорил
не с породой вообще, не с мыслимой или идейной совокупностью ее представителей,
а именно с его присутствием, незаменимым и неотменяемым...
X. — Телефон — значит голос. И этот голос в
трубку не заглядывает, не кричит в нее «вот он!»; голос из трубки задает вопрос.
— Это еще как сказать. Разумеется, что бы Пастернак в ту пору о Сталине
ни думал и каким бы себе его ни представлял, он был законно разочарован
неполноценностью встречи, ее безглазой и нечувствительной технической
опосредствованностью. Разочарование, если только я его не выдумал, человека
мало-мальски осмотрительного повергнет в недоумение, но, с другой стороны, —
вспомним, кстати, какое место в нашей жизни отводил Пастернак негаданным
встречам, — могло ли оно не возникнуть и можем ли мы его не понять? Как, в
самом деле, совместить в уме такое искусственное — при всей его искушающей
искусности — посредство с явственностью чьего-то близкого и, тем более,
чудовищного присутствия? Не случайно ведь чудо, чудовище связаны с чувством,
с чуять, а латинское monstrum, еще
откровенней, происходит от montrare:
«показывать», «указывать» и т. д. Но давайте вдумаемся: почему эти глаголы не
просто переходны, а, если можно так выразиться, переходны по преимуществу и в
высшей степени? Нельзя ли будет сказать, что чуемое нами и, значит,
навстречу приоткрывающееся тем самым нечувствительно от нас укрывается или
что-то значительнейшее от нас укрывает, что показывающееся нашему
встречному ужасу неуловимо указывает на что-то иное, уходящее в более страшную
или более глубокую тьму? Быть может, таящееся за соблазнами техники, лишь
обозначенное их намеком чудовище не столько утрачивает в откровенной
наглядности, сколько выигрывает в ощутимой чудовищности, весь ужас которой
даже не в том, что она настигает нас на расстоянии или по прошествии множества
лет, а в том, что, будучи, таким образом, здесь, пожирая вокруг
наши кровные пространство и время, она еще ими не ограничивается, их пределами
отнюдь не исчерпывается и, гнетущая своей близостью, заставляет их попусту
вглядываться до последнего видимого конца? Но в таком случае, чтоб.ы решить, встреча
или невстреча, следует, пожалуй, прибегнуть к иным критериям — единственным,
скажу сразу, которые по-человечески меня занимают...
X. — Если бы вы доверились слову, его прямо
поставленному вопросу, вам не пришлось бы ссылаться на «переходность», благодаря
которой невстреча оказывается у вас во сто крат насыщенней встречи!
— Я уже
говорил вам: разве Виевы пустые глаза не посредство? Разве его глазницы
и весь его искусственный автоматизм убийственны сами по себе, а не чем-то
маячащим в них, выявляться отказывающимся и в слове не умещающимся? Не так же
ли точно ведут и к нему, нагнетая жуть в тайном предвестии, гроб
ведьмы-панночки, страшная тишина, пробудившийся мертвец и наполнившие церковь
чудовища? Вспомним еще раз: Хома умер от страха. И только. Но как это много!
Страх и боль, — я от темы не уклоняюсь, — превышают всякое «чувствовать» и
«казаться». Им-то и доверимся, чтобы вернуться к простой очевидности: злосчастный
философ, куда бы его незримо через пред-стоящее ни заносило, сам стоял
наконец именно перед Вием, незаменимым и неотменяемым, так что он бы, конечно,
изумился до крайности, — а нечистая сила и вовсе бы адски расхохоталась, —
если бы какой-то умник по секрету им сообщил, что Вий не то вынашивает в себе,
не то уже наплодил многочисленное потомство...
X. — Что же тут невероятного? Как всякий образ...
— Нет уж, какой там у Вия образ! Тема, правда, обогатит бедных
школьников, которым, быть может, — не в Миргороде, так в Москве — придется
однажды писать сочинение: «Образ Вия — пример для несгибаемых большевиков».
Либо что-нибудь наподобие этого. В самом деле, представляете ли вы себе Вия
согнувшимся? То-то! С равным успехом можно наводнить его двойниками «фильм
ужасов» или, еще лучше, записать его в число стоических бекеттовских
персонажей... Впрочем, вы сами на этот счет выразились вполне недвусмысленно.
И если говорить серьезно, — а тут нужно взвешивать слова не на шутку, — должен
признаться, что, слушая вас, я изрядно поколебался в своем искушении. Ну а что
если Вий, говорю я себе, в историческом множестве не распыляется и серийно не
воспроизводится, потому что вообще лишен такого чудесного или чудовищного
механизма, который позволил бы ему хоть раз в ком-то с дьявольской
точностью автоматически повториться? Что осталось бы от его искусственности, а
с ней и от его сатанинской механики, когда бы гоголевское слово не вырвало его
сплошным куском из нерасчленимой стихии и, проведя с чужой помощью на место
действия, не поставило куда надо? Такая постановка вопроса законно
покажется вам абсурдной, но почему же тогда, — это ли не абсурд? — несусветный
Вий, уже вытащенный на свет, уже взору явившийся в виде плотной и властной
фигуры, остается, однако, какой-то бесформенной, неотесанной и, главное,
собственного содержания не имеющей глыбой, от которой любые заклинания
отскакивают, как от стенки горох, ибо наталкиваются, по-видимому, — это было бы
еще полбеды, — не на железное сверхмогущество призрака, не на его сверхчудовищную
растительную живучесть, а просто-напросто на отсутствие в нем какого-либо
объекта для их точной, прицельной, демонологией выверенной техники?..
X. — Предположения, блуждания, догадки... или вы не
отдаете себе отчета, что ни вам, ни, тем более, Пастернаку отсрочки не дано?
Так можем ли мы распроститься с Вием, сделав наконец вывод, что его
призрачность ничего общего со сфинксом не имеет?
— Не знаю, как с выводами, но, будь он призраком, нашлась бы, конечно,
и на него управа. А ведь и для Хомы, и, признаемся честно, для нас, читателей,
Вий — самая что ни на есть тяжеловесная реальность. Читатель, правда, не
вполне свидетель и даже соглядатай лишь отчасти, — разве заглядывает он Вию в
глаза? — но почему все же нам так трудно с ним распроститься и совсем
невозможно от него отделаться? Нет, я не стану вас больше томить. Дело,
мне думается, в том, что Вий действительно не минерал, не растение, не зверь и
не человек, а все это вместе взятое, разом грубо и наспех схваченное, поневоле
напялившее под волчьи завывания слишком тесное, рвущееся по швам мертвецкое
обличье, — одним словом, не примитивный оборотень, не просто выходец из земных
недр или их наглядный образчик, но полуживой-полумертвый, совершенно
тождественный с целым кусок самое себя поедающей и в себе обновляющейся
природы, — и не природы такой или этакой, не той, что взирает на нас из
учебников, а той именно, что в наших книгах о ее «загадках» и не ночевала, и
ночевать не. собирается; добавьте к этому наконец, что из предположений и тут
нам не выбраться: ведь роящимся, гложущим нас догадкам Вий, — вы заметили сами,
— противопоставляет свое невозмутимое «черт знает что», а на бездонно зияющий
взгляд любопытства отзывается лишь отраженной, в смертный омут затягивающей
пустотой («Не гляди!» шепнул какой-то внутренний голос философу. Не
вытерпел он, и глянул), — и зы неизбежно придете к выводу, что эта чуемая
в чудище природа может быть понята только по-тютчевски: «Природа — Вий. И
тем она верней...»
X. — Наконец-то! Конечно, у Тютчева здесь всего лишь
статический образ-уподобление, как будто забыл он о двойственной сущности
сфинкса и о его плачевном конце. Зато ваша подмена меня целиком и полностью
устраивает. Я же говорил вам, что Вию внутри истории не место...
— Если бы все было так просто! Но, во-первых, у Тютчева нет никаких
«наподобие» или «как»; сфинкс и природа в подразумеваемом есть сочетаются
знаком равенства: «Природа — сфинкс. И тем она верней//Своим искусом губит
человека...» Нет, это не аллегория и даже не закрепленный символ: «тем верней
губит» означает, что загадки — в кромешной загадочности испытания — есть, но
что при этом все они ложны, ибо в сфинксе звучат эхом самих догадок, которые, может
статься, по мере возрастающего в итоге искушения, и ведут человека к верной
погибели. Во-вторых же, на сей раз у Пастернака, искуситель, ему
задающий вопрос или, лучше сказать, коварную головоломку, — кто и что бы за
его мембранным голосом ни таилось, — сознает себя — или и впрямь пребывает? —
не внутри истории, а на самом ее конце, для кого-то, быть может, и крайне
плачевном, но для него-то вершинном, венчающем и, уж конечно,
покойно-статичном, как то окончательное по значению место, с которого Вий
ставит в повести точку *.
* В классическом фильме «Падение
Берлина» художественный Сталин, как известно, читает
восторженно-подобострастному пролетарию пушкинские строки:
Кавказ
подо мною. Один в вышине Стою над снегами у края стремнины: Орел, с отдаленной
поднявшись вершины, Парит неподвижно со мной наравне.
Читает с таким самодовольным
упоением, словно Пушкин-пророк именно ему эти стихи посвятил или даже как будто
он сам вложил их в доверчиво вдохновляющиеся уста. Особенно многозначительное
ударение делается, не без помощи грузинской акцентировки, на «отдаленной
вершины» и на «со мной наравне»: по праву гордая, любящая одиночество,
высматривающая издали добычу птица вынуждена смиренно застыть перед
таинственным хищником, на которого равняются ее природные качества и которому
следует весь подлежащий органический мир.
Кто из нас не похохатывал над этими
«кадрами»? Мало ли потешающихся До сих пор? Знай поэт о таком перевоплощении,
что есть духу сбежал бы с мастерской высоты и растворился в толпе стихоплетов.
Представьте-ка себе заоблачную вершину, поневоле превратившуюся в пьедестал для
несусветной сказочной фигуры...
А ведь смеемся мы гут невпопад. Не
над чем зубы скалить! Разве что над своей же младенческой слепотой или над собственным
страхом, которому иначе не совладать с чудовищнейшей реальностью.
Вот и выходит — не парадоксально ли? — что в первом случае, уже
нисколько не удивляясь мрачности тютчевского озарения, мы все-таки находим
ситуацию развивающуюся и человека исторического, который, если даже он и
обречен, сохраняет в себе неразгаданность будущего, тогда как в случае втором
мы по сей день дивимся непостижимости особого — с подведенной черты — внимания
к человеку всего лишь смертному, испытуемому опосредствованно в замкнувшемся
кругу и, главное, окажись он действительно мастером, безвозвратно
лишающемуся исторического, более или менее гадательного горизонта. А ведь это
я о Мандельштаме, который так хотел верить, что «небо будущим беременно»!
Спрашивается: может ли отраженно-загадочное, отовсюду лезущее, повсюду
заглядывающее, во все стороны пальцами тычущее, на тысячи голосов бормочущее
либо горланящее природное чудище, — способно ли оно однажды, когда выйдут
сроки, перерасти или преобразиться — по примеру тютчевского тождества — в
чудовище сверхприродное и двойственное, подстерегающее одиноко и
целенаправленно, сосредоточившее в себе наши пути и перепутья, в человекозверя,
загадывающего на первый взгляд внятные и смысловые, а на самом деле путаные и
бессмысленные головоломки, — и преобразиться именно для того, чтобы теперь уже
собственной волей утвердить у нас раз навсегда такую технику террористической
власти, при которой ложность загадки оборачивается непреложной истиной бытия,
тщетность гаданий — законом осознанной необходимости, а их общее, призрачное в
застойности время — единственной мерой смертного ожидания? Только прежний ли
это окажется сфинкс, и то же ли самое перед ним ожидание? Или, быть может, пока
оно длится, кто-то свыкнется с мыслью, что разгадки тут нет, есть лишь
сфинксоподоб-ное, на пружинах, страшило: подберет за туманом бессмыслицы самый
грубый смыслооткрывающий ключ и, решительно вставив его в механическое
отверстие, распахнет снова настежь время истории? Хоть в уме только, хотя бы
задним числом... Или же, может быть, кто-то другой, в механизмы не веруя и об
истории не заботясь, просто-напросто скажет себе, что Эдипова смысла в отверстии
нет, так что не к чему попусту и пружины нащупывать?.. Словом, выход нашелся
бы, с ключом или без, да и за Пастернака я бы тотчас ответил, если бы не стояло
в ушах чье-то — вползвука, одними губами — пронзительное «за что?», на
которое не приносят ответа все эти благоразумные или и, разумеется,
ответа не даст тот, кто спрашивать привык только сам *...
*
Как говорят в таких случаях на допросе следователи: «Здесь вопросы задаем
мы».
X. — Хотите вы того или нет, ситуация восходит к
древнему мифу. Но время-то в ней сегодняшнее! Ибо если крик жертв вас не
покидает, если их голос не дает вам покоя, значит от вас-то и требуют они
разгадки, пока вы все ходите вокруг да около. Ну а если ее вообще не
предвидится, если самой загадки не было и нет, тогда скажите прямо, что ждут
они понапрасну; Пастернаку же при таких обстоятельствах надо было не
ввязываться в разговор и в чужую судьбу не вмешиваться, так как ведь, следуя
этой логике, Сталин оказывается, по вашему выражению, лишь чьей-то
обманчиво-иллюзорной приманкой. Не потому ли вы, едва начав рассказ, на
полуслове его прервали, так и не выяснив для себя, кто же задал Пастернаку
вопрос?
— Что ж, к рассказу мы сейчас вернемся, да только, — не так уж далеки
вы от истины, — рассказывать тут, собственно, нечего. Но можно ли хотя бы
надеяться, что в результате станет яснее — а поэтому и безобидней — приманка?
Увы!.. Ведь не ради такой прозрачности пустился я в тягостные отступления,
вызывающие во мне самом чувство растущей несообразности и головокружительный
привкус тошноты! Мало, что ли, у нас свидетельств о Сталине? Недостает ли еще
каких уточнений? Но, скажем, был или не был он агентом охранки (крайне
сомнительно), умертвил Горького или нет (вполне вероятно), — освещения это уже
не прибавит, а тьмы за очевидностью не шелохнет: ни разглядеть получше
чудовище, ни, тем более, его одомашнить ответ, разумеется, нам не поможет. Что
же в той темноте? Человекозверь? На сей счет, в связи с польской «кампанией»
1939 года, Гитлер так отзывался о своем недавнем союзнике (которого, впрочем,
ставил высоко): «Даже если у него в руке револьвер, а противник вооружен лишь
ножом, он дождется, пока тот уснет; это — Голиаф, опасающийся Давида. Лютость
дикого зверя сочетается в нем с малодушной низостью человека» *.
* Согласно записи Германа
Раушнинга, в марте 1944
года Гитлер делился этими мыслями с
румынским диктатором Антонеску.
Это ли приближает нас к вашей разгадке? Однако и здесь речь идет
просто-напросто об исторической особи, которая не только предельно ясна, но в
самой этой ясности так опостылела, что, пожалуй, могла бы служить абсолютным
мерилом той беспросветно-убийственной скуки, какой вообще неизбывно разит от
всяческих «деятелей истории». Что ж тогда остается во мраке? Быть может,
беспримерная — не столько даже по силе упорства, сколько по затаенной, вплоть
до посмертных глубин, живучести — воля? Но насколько же,— тайное снова выдано
явным, — тускл, тяжел и топо-рен несущий ее сосуд! Нет, этого
вероломно-опасливого Голиафа никак не запишешь в романтические герои. Что в
нем, пусть скажут мне, интригующе-загадочного? Где и в чем — как у того же
Адольфа — без удержу вспыхивающий демонизм? Если он в Сталине подчас себя и
выказывает, то уж выражение себе находит какое-то сумеречно-мутноватое,
проявляясь не в нагляднейших формах государственной пакости или политического
окаянства, не там вовсе, пожалуй, где он исподволь ставит подножку
обескровленному противнику или ошарашивает жертву внезапным приступом своего
людоедского юмора, а в рамках, с позволения сказать, гораздо более интимных,
когда, насупившись в углу за столом на кремлевской вечеринке, предоставленный,
в сущности, самому себе, он швыряет для развлечения в лицо жене чьи-то
слюнявые, из пепельницы, окурки. Но какая же тут неясность? Сценка до того
знакомая, почти антологически
характерная, что, вывод, по-видимому, напрашивается сам собой. Нужно лишь
сделать еще одно отступление Русская литература уже смолоду довольно быстро
разглядела за хмурящейся в туманах фигурой демонического господина самые
заурядные, плоские, стершиеся, как трюизм, черты мелкого беса Странные судьбы,
диковинный мир и удивительная «логика слова»! Ведь лермонтовский демон, несмотря
на кое-какие по сторонам совпадения, так и остался один, родственников не имея
и потомками не обзаведясь. А вот одинокий и загадочнейший когда-то Печерин,
должно быть, не просто ровесник по сей день не разгаданного сиротливого
Чичикова*! Неужели же он, а быть может, и благороднейший Чацкий несут ответ за
потянувшуюся вереницей по чичиковским следам канитель, которая, до предела
напрягшись в двусмысленной паре Ставрогина — Верховенского, завершилась вскоре
бесславно марионеточной недотыкомкой Передонова и судорожными, на
революционном ходу, чертиками Белого? Ну а что если не завершилась, если магией
книжной не обошлась? Неужто все эти с юношества исстрадавшиеся,
незрело-мизантропические «лишние люди», сохранившись на уровне молекулярном
даже в крайних, грубейших перевоплощениях, действительно проложили дорогу к
уныло-бесцветному и безвозрастно-мстительному «мелкобесию» И.B.C.? Расстояние
здесь и впрямь преогромное, да и поиск виновных — занятие праздное, но подумайте
только: ведь дистанция размера не меньшего, едва ли не бесконечная, отделяет
этот тяжеловесный итог и от резво кружащихся, жалобно воющих,, куда-то
— как Чичиков и Вечный Жид — гонимых пушкинских бесов, хотя тут-то уж
ряд несомненно один: Достоевский знал, что делал, когда эти строфы выбрал
эпиграфом, а от Достоевского ведет линия явная**, и до нас потом — рукою
подать...
* Мережковский, многое в Гоголе
разглядевший, все же слишком, мне кажется, к Чичикову жесток, когда
безоговорочно зачисляет его в серо-мышиное чертово воинство. Я-то так до сих
пор и не знаю, кто он: Улисс посреди чудовищ, бес гонимый среди пригвожденных
людей (у него-то свой гвоздь в неприличнейшем месте), предвосхищающий
литературных антигероев человек без свойств (а по ремизовскои расшифровке,
рядовой человечий цветочек) или просто-напросто («жить хоцца») опередивший
время, заурядно-незаурядный, беспризорный и поднадзорный советский плут.
** Надо признать, что в «Бесах», где
наматывается устами рассказчика витиеватая, вся из намеков и оговорочек,
сплетня много схваченного надолго и вглубь, но до крайности мало пророчески
увиденного. Идеи идеями, идеология идеологией, а Шигалев все же еще не Сталин,
которого Достоевский, конечно же, не предусмотрел (как не добрался и до
Передонова). Зато совсем по-визионерски угадан в заезжем маньяке-профессоре, в
его бородке, лысине, машущем кулаке и всех вообще митинговых повадках наш
незабвенный до последнего жеста Ильич. Желающие убедиться пусть заглянут в
часть г ратью: «Праздник. Отдел первый». Но пусть и вчитаются: разве в
визгливой маньяческой демагогии одна только голая ложь?
Вот и оказывается «яснее ясного»: Сталин — лишний, Сталин — трюизм
и общее место... но я все-таки не стал бы убаюкивать себя таким
«дважды два», не советовал бы толочь его в ступе романов, статеек и анекдотов.
Та же странная наша литература — сплошные «словечки», как выразился о Гоголе
Розанов, да разве этого мало?* — та же логика заговаривающего себя говорения слово
за слово и от цветочка к цветочку обнаружила, что у беса, в его кромешной
узости и тесноте, никакого нет дна. Не нашлась и покрышка... Замечаю,
что люциферический блеск в этой литературе почти не отразился, а вот меленьких черных
дыр, засасывающих и заглатывающих, откуда, как всякий знает, свету наружу
выхода нет, порассыпано на ее страницах изрядно. Бог весть — и не все ли
равно?— какое в потемках таится чудовище; писатель ведь и там старался доискаться
до человека. И человек себя показал! Да такой чернотой и такой дырой, что
сожрала она заодно и писателя. Кому искать?..
* Хотя нюхом и всяким прочим чутьем
Розанов богат был сказочно, ему частенько недоставало чуткости поэтической.
Потому-то и припечатал он Гоголя стеклянным идиотом, помешавшимся на
пустопорожнем нигилистическом «мастерстве». А когда прогремел 1917-й и
пришлось идиотом зачитываться «до дыр», тогда вспыхнуло в Розанове небывало
самое верное, необходимейшее чутье и признал наконец он в бездоннейшей пустоте
правоту тоскующего гоголевского взгляда.
X.— Я вас спрашиваю еще раз: это ли сфинкс? Как нам
быть с его особым вниманием!
— Вы же видите: что бы я об И.B.C. ни сказал, сказанное неминуемо обернется
банальностью. Потому ли что он не страшен сегодня и что мог быть,
следовательно, не страшен вчера? Или, наоборот, потому,— механизм нам
известен,— что заклинания тщетны там, где чудовищность неуловима, где за
мерзкой наглядностью кроется ужасающая непроглядность? Но в таком случае
призванный к ответу вниманием искать должен — вчера, сегодня,— не
обольщаясь иллюзорностью вызова, а пребывая в неизбывном страхе, из
самых застойных его трясин...
X.— Итак, мы вернулись к тому, с чего начали. Разве
страх — ключ к разгадке? Не есть ли он в известном смысле высшая,
не-стерпимейшая точка изумления?
— Вот именно! И потому-то, если сравнения вообще тут уместны, всего
удивительней, несуразней, бредовей казаться в загадке, заданной Пастернаку,
может лишь абсолютно произвольная связь между жизнью и смертью человека и его
человеческим или даже сверхчеловеческим качеством.
X.— Но ведь Пастернак знал отлично, что именно в ту
минуту поставлено было на карту. Не слишком ли он, как некоторые утверждают,
это выпустил из виду, оставаясь на протяжении разговора человеком без хитрости
и вне прозы, антиподом Улисса и больше, чем следовало, самим собой?
— Если вспомнить, что Архимеда сразил слепой взмах римского меча, а
Веберна укокошила безрассудная пуля американского патруля, ничто в сравнении не
покажется менее удивительным и более естественным. Между созревшим органически
именем и механически настигающей гибелью нет пробела ни для загадки, ни вообще
для знака вопроса. Почему же тогда, в силу какой зависимости они
предположительно на сей раз возникают? Разве не испарились бы они тотчас, не
будь произвольно составленного отношения, внушаемого глуховатой хрипотцой
заядлого табаковеда, которая выдает себя с конца кремлевского провода за голос
древнего сфинкса? Ведь в таких уравнениях безносая не нуждается, и если
для поэта собачья смерть — удел привычный или, может быть,
отличительный, не нужны ей в обоснование чьи-то запутан-нейшие выкладки... Так
что вполне естественно, нисколько не удивительно и по-человечески, я сказал
бы, понятно, что Пастернак в ответ, не распространяясь о Мандельштаме-поэте,—
всего несколько сбивчивых неуклюжих фраз,— настаивал как раз на неуместности
любого ответа: «Дело не в том». В чем же можно его упрекнуть, и кто из
нас вправе его судить? Попытаться внимать ему, найти в себе для него очаг
взаимности и гостеприимства — ничего иного нам не дано. Ибо до сих пор он
несомненно сумел выдержать испытание. Если вопрос он, по существу, отклонил,
то от него все же не уклонился, к околичностям не прибегал и в оговорках не
путался, а, напротив, в немногих словах объяснившись начистоту, отозвался тем
самым на чужую беду наипрямейшей, не рассуждающей справедливостью... И однако
ужасная двусмысленность этой встречи — и вместе с тем этого недоразумения — не
ограничивается навязываемой связью, за которой мерещится и манит взгляд
загадочность зыбкая, хотя и цепкая, в самой своей чрезмерности едва различимая,
как сеть разрастающейся впотьмах паутины. Вечный сфинкс... здесь ли он? Этот
голос... его ли? Таков, по-видимому, и впрямь единственный вопрос, который
стоит принять во внимание, чтобы, то ли его исчерпав, то ли отвергнув за
неправомочностью, уйти поскорее прочь. Потому что невыносимое
заключается тут, пожалуй, не в том, что чудовищность безликая, безглазая и
бескрылая притязает на звероподобие мифически-твердокаменное, а ее извращенное
человекообразие губит с помощью головоломно-бессмы-сленнейших тенет,— ведь, в
конце концов, двум смертям не бывать, и с такой несусветностью мы бы еще
смирились,— самое нестерпимое все-таки в том, что испытуемый — ибо он не
ответчик, а только невольный гарант и свидетель — связан косвенно чужой
безответностью и отвечать должен чужой головой. Вот что значит на деле
громкое «мы» с его предрешенной круговой порукой *, которую движимый
состраданием Пастернак принять, как мы видели, отказался...
*
На ней держится планетарный
механизм заложничества. Если
каждый них перед нами в ответе, то и все они с нами повязаны одной веревочкой.
Все ли это? Неужто разрыв? Без малейшей надежды на общий язык, пусть
хоть через открытое столкновение? Но теперь уже так наш сфинкс распалился,— до
того он нуждается в отголосках для своей темной паучьей игры,— что, не в силах
более ждать и.выдавая последний свой козырь, он ставит прямо в упрек Пастернаку
недостаточное, на его взгляд, усердие в защите друга. Для него ведь,
ясное дело, «мастера» в каждом цехе друзья и приятели. «Я бы на
вашем месте...» Мы-то знаем прекрасно,— да кто ж не знал?— что делал он —
на месте собственном — с друзьями и и свойственниками, с мастерами и
приятелями мастеров: прогоняя их неразличимо сквозь ту же игру в
ночные загадки, передоверенную, тюрьма за тюрьмой, игровой уравниловке ночных
допросов, он их опутывал, выпускал из них кровь и щелкал их запросто, как мух
или вшей. И если друзей он подчас выделял, если оказывал им предпочтение, то
лишь изуверством особенно мстительным, истязательством особенно изощренным,
словом, смертью более личностной, пока не обретала она, бесконтрольная, своего
общего лица...
X.— Что ж необщего
в том, что,
увы, ей предшествовало?
— В том-то и ужас, что ужасное не звучит] Потому ли что звучит
банально? Что уже набило оскомину?..
X.— «Вошло» в
историю...
— Если бы!.. Я вас недаром предупреждал: рассказа у меня не получится.
В нас ли дело, в самом ли чудовище, но оно к нам повернуто своей тривиальнейшей
стороной. Ну а если она-то и невыносима, нам надо угрозу в ней разглядеть и хищнику-искусителю
отдать справедливость: в дружбе, в ее незаменимых связях он, избравший
кромешное одиночество, разбирался мастерски.
X.— Но разве древний хвостатый сфинкс был более дружелюбен
и менее свиреп? Разве не служит и он воплощением деспотической извращенности,
которая,— вы и сами заметили,— беотий-цев губит загадкой банальнейшей,
бескрылой — несмотря на его крылатость — и с ним вместе точно прикованной к
твердокамен-нейшей скале?..* Как бы то ни было, Пастернак в этой встрече, хотел
он того или нет, дал свой личный ответ.
* Об этой символике — в книге: D i е 1 P. Le
symbolisme dans la mythologie grecque. Paris,
1966.
— Да это ведь точь-в-точь ответ Эдипа... но только куда он, к кому
обращен? Вы же видели: разговор не состоялся. Встреча оборвалась на
полуслове... хотя, действительно, паутина до того раздулась и ожидание
Пастернака достигло сразу же такого перенапряжения, что в конце концов (а
вернее, после конца... если только было здесь какое-то начало) он все-таки
попадается в западню. Как может быть, чтобы встреча не состоялась? Как мог
разговор оборваться на полуслове? Провал нестерпимый! И он обращается к
Сталину: «Иосиф Виссарионович, я хотел бы вас видеть».— «Зачем?»— «Чтобы
поговорить о жизни и смерти», ц тут Сталин вешает трубку. Изумительный
Пастернак! Но какая слепота у сверхзрячего, какое ослепление ясновидца! Какая
одержимость призраком!
X.— При-зрак... Не то же ли это самое, что и
одержимость образом? Пастернак ведь, в конце концов, был всего лишь
поэт...
— Поэт не живет в мире образов; его мир ничего не отражает и ни к чему
не отсылает. Там, где образы ведут массовое наступление, где они продвигаются к
безраздельному господству, поэт увядает, сходит на нет. Впередсмотрящий в море
стершихся лиц, обезличенных сходств, близнецовых подобий, он, бывает подчас, и
обманывается и, случается, терпит постыдный провал, но, пускай он вчера не смог
различить, пусть сегодня придется ему промахнуться, он зато никогда,— так ему
суждено!— не пытается ввести в заблуждение. Близнец в тучах — такое имя
ему подходит вполне (как бы впоследствии ни судил Пастернак свое первое детище:
книжка «незрелая» — разумеется, а вот что касается «до глупости
притязательного» названия — надо же было суметь начать с имени, с его
безошибочного притязания): пароль, распахивающий перед ним вселенную, где не
только под знаком тождества сходятся взрывчатые интонацией слова-двойники,
но откуда, меченые тем же признаком, ни тот, кто настигнут был немотой, ни тот,
кого похитила забота, ни даже тот, кто обрек себя на бесконечную инерцию
письма и ее, по выражению Рембо, «мелких подлостей», уже не выберутся ни за
что. И если мы — прочие...
X.— Это вы —
«прочие»?
— Да, мы все и такие, как все, в том числе и поэт, когда он сознает
себя ничтожней всех детей ничтожных мира... Если мы уверены в своем
пребывании вовне и если нам позволено в этой вере упорствовать, ссылаясь на
наши требовательные дела, нашу многозначительную болтовню, наши ограниченности
или различия, одним словом, на все, что устанавливает отношения каждого с другими
и с самим собой, то это, быть может, лишь потому, что мы уже прочно, необратимо
заключены внутри. Разве этот исконный или вечно предстоящий мир, с самых
первых, косноязычных его шагов, не единственно жизнеспособное жилище, которое
одно только и нуждается в своих обитателях? Совсем иное мы...
X.— Если вы хотите, чтобы вас слушали и чтобы разговор
продолжался, вам надо бы слегка умерить ваш профессиональный монологический
пыл. Как же вы не замечаете, что, причисляя себя ко «всем», то бишь ко всему
миру, вы, однако, наглухо закрываетесь от их врожденной, ни к чему не сводимой
множественности и что на самом деле вы заново прибегаете к нехитрому соединительному
маневру, столь характерному для поэтической утопии.
— Отнюдь! Всем нам, действительно, уши прожужжали напоминаниями о Едином
и множестве, но — хотя, спору нет, сам предмет исключителен —
приводило это, как правило, лишь к величайшему ущербу для злосчастного
множества и туманнейшему помрачению Единого, этого величественного недотепы.
Принято верить неколебимо, что поэт — это тот, кто сочетает различное, сближает
разделенное, связывает чуждое и несоединимое. Аристотель сказал! Кто посмеет
ему возразить? Ну а я решусь утверждать, что всякое поэтическое слово, начиная
с его громовых раскатов и вплоть до полушепота, заминки, паузы, есть прежде
всего такое слово, которое дифференцирует в тождественном, различает среди
двойников и вносит туда, где все кошки серы, невообразимое распознавание.
Замечу, однако, что независимо от жанров и даже приемов, из которых самый
диковинный — сам акт письма, речь здесь идет о слове всеобщем, о том
именно, что лучше всех выговаривается, записывается, читается и снова
произносится,— слове в действии и, главное, в избытке сил, какое усваивает контекст
не для того, чтобы его выражать или истолковывать, но чтобы преобразить его в
текст нескончаемый, без противостояний и границ,— короче говоря, о слове, не
совместимом ни со сторонним допытыванием, ни даже с самим внутренним
вопрошанием. Ему ли играть в догадки, уморительные или отнюдь не веселые? Если
поэзия отзывается в нас вопросами, ничего в ответ она от нас не требует, если
она ошарашивает, это лишь для того, чтобы явиться нам во всей красе своего
изумленного взгляда, и если она заражает нас неудержимой тоской или паникой,
она делает это только затем, чтобы непроизвольно вдохнуть в нас порыв своей
собственной маховой силы. «Она тревожна, как зловещее круженье десятка мельниц
на краю голого поля в черный, голодный год». Пастернак, написавший эти
строки...
X.— Тот ли самый их написал, кто вел или хотел вести
беседу со Сталиным?
— ... да, тот самый, как все, Пастернак должен был, пожалуй, первым
распознать самозванство в этой дутой загадочности и самозванца в этом
раздувшемся пауке, который вздумал за пояс заткнуть первородного сфинкса. Как
всякое недоразумение между людьми, ситуация может показаться комической. К нему
обращаются за справкой о «друге», о его кустарном или цеховом «мастерстве», —
вопрос не столько даже бессмысленный, сколько никчемно-пошлый, а учитывая
обстоятельства, грубый до непристойности,— и, пропустив его мимо ушей,
высказавшись намеренным Умолчанием, он затем вдруг спохватывается, проникается
сожалением об упущенном и ответить решает — вопрос на вопрос — самой
осмысленной, самой небезопасной серьезностью, как если бы тот, Другой,
упивающийся пустым эхом, но глухой к любому полновесному отклику,— эта
сумеречная тварь, произвольно играющая счетом смертей и жизней,— как будто мог он хотя бы отблеском
озарить жизнь-и-смерть*.
* Существуют, как мы знаем, и другие
свидетельства об этой беседе, не столь для Пастернака выгодные: согласно одному
из них, он, недолюбливая Мандельштама, хотя о нем и ходатайствовал, но о
«несуществующей дружбе» что-то Сталину в ответ ляпнул, а о «жизни и смерти» не
заикнулся или просто сказать не успел. Памятуя, однако, что любая версия могла
исходить изначально лишь от самого поэта, я выбираю наиболее убедительную и по
праву ставшую легендой,
X.— Это вечно запаздывающее и в утраченном времени
теряющееся сокрушение именуется, как вам известно, задним умом. История — его
место действия (или бездействия?) по преимуществу... как, впрочем, и частные
наши истории, усеянные болячками, кровоточащими ранами, незаживающими
гнойниками. И если вы, «прочие», задним числом как-то все же удары парируете...
— Именно так Мишо,— я запомнил его рассказ,— контратаковал когда-то
«Сражением», одной из сильнейших своих вещей, заряженной взрывчаткой
неологизмов. Едва не заболев после того, как вовремя не сумел отразить
оскорбительный выпад в каком-то издательстве. Тут все очевидно, кроме одного:
куда и в кого,— о неологизмах я упомянул не случайно,— метит и, может быть,
попадает его ответный удар... Примерно так же, мне думается, от того же
толчка, не столь откровенного, но не менее обжигающего, а под спудом отсрочки
особенно нестерпимого, родились, возможно и «Моби Дик», и рогожинский нож, и
сон Свидригайлова, и даже, кто знает, «Метаморфоза», в которой неистовство и
ярость бессилия оборачиваются — все сроки прошли! — своей жертвенной и
безответной изнанкой... Я здесь имею в виду не «травму»,— с ней мы забрались
бы в дебри безвылазные,— и не ее бессознательную «компенсацию», а тот
элементарный механизм уязвленных, то противоядие затронутых за
живое, с которыми сам отлично знаком. Тот же Мишо, по моим переводам
что-то, по-видимому, угадав, но свое впечатление, должно быть, утрируя, заметил
однажды, что поэзия французская не располагает средствами для подобной
молниеносной реакции и ее прицельного боевого заряда. Вспоминая об этом не без
удовольствия, я все же спрашиваю себя: существует ли в каком-либо языке
арсенал, позволяющий крепости «заднего ума» настигать цели «ума переднего»? К
кому могут еще обращаться, все перетерпев и забыв всякий стыд, порождаемые им
чудовища? Чем они выраженней и отчетливей, тем несоизмеримей со своим возбудителем,
и чем в своем порыве чрезмерней, тем неудержимей заносит их в сторону...
X. — ...Если, стало быть, вы, бойцы и борцы на
смиренной, многотерпеливой бумаге, располагаете подчас возможностью противодействия
и самооправдания на стороне, это ведь отнюдь не значит, что всем на
свете позволено с равным удобством наверстывать упущенное, да и сами вы в
исторической повседневности не блещете ни удачами, ни избытком находчивости.
Отсюда и возникают трагикомические ситуации, наподобие этой встречи поэта с вождем:
очередной пример исторического разрыва и несоответствия двух языков, двух
способов выражения. Причем можно заметить, что такие недоразумения как бы
невзначай удесятеряются в каждом конце и на каждом повороте истории, там, где с
особой легкостью она ставит объект и субъект в самые двусмысленные отношения.
— Кто же на сей раз субъект, и кто из двоих объект? Сталин, как мы
видели, гораздо больше нуждается в эхе Пастернака, чем Пастернак в его слишком
прямолинейном вопросе.
X.— Потому-то как раз что объект и субъект беспрестанно
меняются ролями, само соотношение должно оставаться незыблемым, чтобы при
любой ошибке и путанице какое-то слово могло послужить мостом. Всякий шанс,
дуновение или проблеск исхода мы от истории получаем — и ей же их передаем —
лишь в том случае, если упорно доискиваемся в ней смысла, если то и дело его
утрачиваем и если постоянно находим опять нить ее повествования и очертания ее
перспективы. И когда руки у нас опускаются, когда больше ничто не сулит нам
надежды на ее распахнутый горизонт,— ибо откуда же возник Гёте? разве менее
был он, чем Пастернак, обделен простором для слуха и отклика?— неожиданно
вдруг встает на дороге кто-то — кто он? — как тать в ночи, хищник, тигр,
по слову поэта, бог, герой,— у него столько лиц!— одним словом, держатель и
вестник искуса, в ком завязаны крепким узлом наши разноголосые судьбы. Что ж,
по-вашему, раз он здесь, перед нами, надо потребовать, чтобы он предъявил документы
и рекомендации? Как хотите вы уклониться от неотвратимого сфинкса, от его
вопросов, истинных или ложных? Нет, пока мы еще здесь...
— Можно подумать, какое-то «отдавайте кесарю»... который оказывается
сфинксом.
X.— Ничего подобного. «Отдавайте кесарю» либо не знает
нашего «еще здесь», либо выбрасывает его на свалку.
— Вы забываете конец фразы, который может быть лишь апокалиптическим.
Апокалипсис же — это то, что чуть движется, Движется и не больше того:
неуловимое грозное шевеление, которое опрокидывает не только времена, но и синтаксис,
сводя начало Фразы Иисуса — на какое-то время, на целую вечность —к нулю или
почти к нулю: «... а Божие...»
X.— Я это и
говорю.
— В таком случае вы должны бы заметить, что наш телефонный, подчас
микрофонный, а еще чаще телепатический сфинкс, размножаемый по миру печатно и
образно, цепенеющий же лишь монументально, несгибаемо-памятный,
наглядно-бессмертный вопреки своим именным документам и даже посмертным
рекомендациям*,что, как сущий нарыв посреди этой фразы, он силится ее
сковать изнутри и, заполнив собой надвигающийся горизонт...
* Мы еще, кажется, как следует не
задумывались: откуда наши твердокаменны позаимствовали свой статуарный принцип!
X.— Он и есть
горизонт... пока вы еще здесь.
— ... да,
пребыть вечно здесь, вечно там, самый близкий и самый далекий — как
оживший вдруг дух ужасавшей Паскаля, из себя в себя погружающейся пустоты,—
тщится, фразу закупорив, лишив движения, упразднить ее непредсказуемость и
оставить без выхода: здесь и там. Тут-то и выяснится,— я нисколько не
иронизирую,— что этот усатый, щербатый, приземистый и косолапый палач
заключает в себе всю ее неразгаданность, ее раз навсегда воплотившийся смысл...
X.— Умный, безумный ли, но смысл — в нем: вплоть до
опровержения.
— ... как если б история, в назначенный срок воздав нераздельно Богу и
кесарю, признала в нем, владыке смертей и жизней, нынешних, бывших, а равно и
грядущих, сфинкса сфинксов, поправшего всех остальных светоносным и
непроницаемым одиночеством.
X.— Ничего не попишешь, если он и неправ, то не более
прочих вопрошающих тварей, исключительность у которых в крови. Ведь загадочен
всякий человекозверь, а загадчик, пока свое не отслужит, и вовсе дивит
нас, как неслыханный уникум или заблудший во времени миф. Так и этот сегодня
торчит у вас над душой, одолевает бессонной морокой, пробирается, крадучись, в
ваши тайные сны...
— Мало сказать...
X.— ... и он же, навязчивый, может быть, и невольно,
неотступный, кто знает, и по вашей вине, заставляет вас твердить давно
пережеванное, повторяться до изнеможения языка, обращаясь,— но знаете ли вы
сами?— не то к равнодушно помалкивающему собеседнику, не то к собственной
свидетельской немоте, не то, столь же впустую, ко всему миру. В
результате вы только сами себя завораживаете и в силу какого-то миметизма
ужаса уныло маячите неприкаянным, коченеющим на обочине сфинксом. Тогда как
он-то, подражательств не терпящий, пребывает, по-видимому, именно там, где все
еще сходятся перспективы.
— Что он там, то есть здесь,. я нисколько не сомневаюсь. Но
вопрос, который он нам задает — мне и тем, кто помалкивает,— не у него звучит
на языке и не его голосом произносится. К нам взывает посреди фразы само
нарывное его присутствие: древний сфинкс — он ли тут?., этот голос — его ли?..
X. — Зачем мудрствовать? Ответьте-ка прямо, не ища
подьоха, и он, делать нечего, отпустит вас с миром. Пока вы беспрестанно и
тщетно гадаете, столько прочих, целые племена, проходят мимо и кишат в
стороне.
— Не всяк в стороне, кто хочет. Но позвольте мне, чтобы ответить, зачем,
раз уж помянуты мои сны, рассказать вам один из них или, еще лучше,
прочесть его запись, сделанную лет девять-десять назад.
X. — Лишь бы с этим покончить... Валяйте!
— «Предрассветный сон. Наконец-то! Еще недавно в письме M-у Б. признавался: сны напрочь ушли; глядишь, отпустит
бессонница, а в провале «очищения» нет. У Н.И. в гостях вчера только плакался:
лучше хоть раскошмары, их вязкий поток, западни, обмирания сердца... Но на сей
раз стоит вокруг «тишь да гладь»; сухо, настежь распахнуто; не для невропатов.
Я у зеркала, где себя нахожу (хотя никуда ведь и не «пропадал») выступающим в
роли последнего человека. (То ли слово? От Ницше, М. Б.? Перед тем как
заснуть, уловил его в листаемой книге.) Что ж происходит? Повальная
смерть; мрут вокруг поголовно. И только. Но «повальность» не сразу осознаю;
проясняется исподволь. Просто. Сперва И. объявляет мне новости: не стало Ф., А.
горюет; вскоре следом и сама А.; затем П. исчезает, старенький «метр»... и
т.п. Наконец — в один вечер — по разным (каким? хоть убей... зато ясно,
что разным) причинам вымирают все —до единого! — близкие:
ветхие, крепкие, нежная И., дети тоже. В довершение (но какой же тут «верх»?.,
мелкий знак...) убеждаюсь в своем увечном ничтожестве: рука правая явно
отсутствует, левая — норовит отказать, да и ноги-то... так себе, не ноги, а
якобы. Впрочем, как-то бреду, слоняюсь — один: то ли жду кого, то ли без цели —
один... или разбежались, как от чумы? Мысль о самоубийстве — с
неопровержимостью: монотонно в мозгу сверлит, без задоринки, — хотя солнце
поблескивает под ногами, ветерок над обрывом колышет траву... Нет, не
решусъ\ Прошу — есть ли кто? — себя убить, в одолжение; вижу (вид
заговорщицкий; лица в тени) кучку серых и сирых (но что ж затевают?), тем
же помыслом (мойГ) одержимых фигур; шушукаются, озираются... Или это запрещено?
Там и сям лужайка с пролысиной; вспышки голой, бесстыжей земли; с неба — чистый
ультрамарин; краски лета — насквозь чужие, отчужденные в их нестерпимости
(«цвет парменидов»). Хочу всучить кому-то («надо платить!») две-три блеклых купюры;
одна, зеленоватая,— из несуществующих: 125. Нет, никто не берет.
Какой-то чернявый, жалкий, всклокоченный (С.М.?.. узнаю затравленный взгляд)
клянчит их у меня... дозарезу, туда же: последний расчет.
Когда, поколебавшись, неловко отказываю, вдруг бросается (взяв разбег
широко, по-спортивному) в пропасть. Еще этого не хватало! Угрызение,
хоть зубами скреби: стать виновником — тут\ — такой смерти!! Вконец
уничтожен... куда ноги несут?., уничтоженный, лищ-ний. Дети были... но где они?
как их зовут? Вижу в воздухе их расширенные зрачки; потемнели, следят, не
мигают... Плачу, что ли? Ничуть; все во мне как-то сморщилось; каждой
клеточкой, чувствую, пересох. Вес пера. Ни души] Нет любимых] Зато мир
вокруг неузнаваем («кто мог бы подумать?»), переливчатый, преображенный (во
чтоТ),— в чистом виде «новые времена» и совсем как (или?..) после
светопреставления. Ну а впрочем, «жизнь продолжается». Задняя («во двор»)
часть стадиона. Тень пространная («Кирико»), наискось, фиолетовая. На стене —
жанр обычный (плакаты, лозунги), неудобочитаемый. Пусто. По каким-то
словам оратора (хотя отсюда едва слышны; выступает же, кажется, Т., наш милейший
профорг) заключаю, что «минула тысяча лет». Длинный пассаж об И.В.С. Здесь
ли он? То есть трубка, сапоги, погоны? Нет, игра тут идет куда более тонкая.
Ломаю голову: разве что... По откуда-то спущенной веревочной лестнице деловито
(«не на трибуну ли?») поднимается седоволосая (острижены коротко; отливают
стальным) женщина ростом, так сказать, с лилипутицу, в голубоватой до пят
(«медицинская служба?») шинели. За ней — личная (громоздко) свита (вверх).
Лицо: губы — краткой тесемочкой, носик востренький, аккуратный, морщины —
как перышком; лет, пожалуй, семьдесят с хвостиком. Нет, дальше не может,
стара. Возвращается наземь. «Нет, нет, слишком поздно», — кому-то из свиты.
Знаю: поздно. Завечерело. Куда себя деть! Сумасшествие тихое,
вкрадчиво-нежное... лишь бы только не вспыхнуло, чужих напу.-гав. Голые дети (плоть
иных веков]), лестницы (задохнешься]), беглый, рассеянный промельк
глаз, молодые, в объятьях сплетенные люди с каплями, струйками пота на теле, —
все глядит отстраняюще, замкнуто, слепо: своих нет, я ни в чем себя не
нахожу. Свет домашний, почти абрикосовый в этих низких, но зато просторных
залах-комнатах, тянущихся анфиладой; где-то в простенке — постная, плоская
физиономия Сталина; подчас вдруг проблеснет пыльный стоячий луч; щеки, плечи,
зубы, колени... все струится, скользит, мельтеша белизной. «Мелочи жизни»...
быть может, привыкну? Или лучше покончить сразу, угадав наконец, что
нечего ждать! Да и нет, за и против, их акробатический калейдоскоп (нет ни
штор вокруг, ни ковров; окна светятся, пол лоснится), за которым
гонюсь, не умея решиться, до последних на свете концов. С тех концов истончаются
в голове облака — буква к букве, строка за строкой: настоящая голова ясновидца!
В остальном же (но что там нужно девчонке1?.. прямо в душу с
порога уставилась, теребит худую косичку)... в остальном — пересохлый,
скукоженный; с боку правого крылышка нет как нет, да и левым-то не
встрепенешься. Куда себя деть! Как вдруг на концерте, издалека,
невзначай замечаю И.: в парке («отдыха и...?») зал громадный, под открытым
небом; публика, однако, жидкая; изумрудные после дождя, кой-где с лужицей
полупустые скамейки; чьи-то головы нехотя поворачиваются, смотрят искоса, невозмутимо.
Неужели меня не узнала? Странно... рыжая юбка плиссе; никогда на ней не
видал. В прежней жизни, в ином (или?..) мире быть такой не могло. Нагибаюсь, стало
быть, за опавшим и ржавым листком; держу, вглядываюсь: сверху знаки
бегут... опять Т., его речь? Да, похоже, — но юбка? Мозг орудует бешено,
вычисляет до тысячных, несмотря на гвоздящую под черепом боль. Тоска! Почему,
почему так обидела? Ты... «Тысяча лет между нами». (Поздно! Эта лишь мысль.
Слишком поздно!)
... По какому-то, впрочем, наитию с ветерком на миг пронеслось: а
что ежели новых детей «заведу»? Тоже выход... да кто ж позволит себя
подмять такому обрубку? Спать кто будет с ним? КтоП! Нет уж, ясное дело,
здесь это не принято. Трезво, как алгебра. Вывод. Математически и без
промашки. Ни души\ Нет любимых! Только шорох — сквозь вату («Закрой
дверь!») — в деревьях, где-то справа, за тем злым, лохматым кустом. Кто там
снится? что затевается? о чем мне нашептывает невнятный шумок? Опять об И.,
должно быть, о «Кирико», о серо-стальных, остриженных коротко, о травке над
пропастью, девчонке с косичкой, об игре мудреной вокруг И.В.С., ведущего счет
их пыльному времени... но, не-званно-непрошенно (куда себя деть?) пробираясь
по темной, во тьму уводящей аллее (лишь верхи густолистые — черный их креп —
чуть-чуть тронуты золотым ободком), я беспомощно вслушиваюсь в лепет сна
— ни словечка! — отлученный нещадно, безоговорочно от светящихся по-домашнему
«анфилад» и скользяще-белеющих «мелочей жизни»...
X. — ..?
— Здесь-то как раз и таится «зачем», которого вы от меня добивались.
Ищите же! Ищите и вслушивайтесь! Лучшего выражения для него не найдется.
X. — Что, скажите на милость, могу я ответить? Ваш сон,
выразительный или нет, принадлежит вам и вашему опыту.
— Как всякий иной, этот опыт — а значит, и сон! — не может быть
моим исключительным достоянием. Один китайский мудрец, уж не знаю, истинный или
ложный, так определил сновидение: «Это когда во сне тебе кажется, что ты
действуешь наяву». Будь я Чжуан-цзы, я бы ему ответил: но ты — это кто?
Кому кажется? Быть может, и Сталину, и девчонке с косичкой, и даже летним
«цветам парменидовым»? Чьи — с какой стороны — явь и действие, в
противоположность сну и переживанию? Или «кажущееся» — Двусторонне и сообща — и
есть явно единый действенный опыт?
X. — Опыт предполагает субъекта. Где же он у
Чжуан-цзы? Вспомните-ка его притчу: не то бабочка ему приснилась, не то он
бабочке; разгадки у него нет. Так и у вас теперь: то ли Сталин вам снится, то
ли вы ему, а выхода не видать...
— Смотря с какой стороны...
X. — Нет, ваша фантазия выглядела бы не столь
фантастически, если бы не бросалось в глаза коренное различие двух этих
«сторон». Сновидение варится, так сказать, в соку собственной метаморфозы,
пока, выбравшись из него и преодолевая беспамятство, вы — более или менее
приближенно — не переложите его на язык бодрствования. Только тут выявляется
какое-то «сообща» мира действительного с миром сна, да и оно ведь достаточно ограниченно;
благоприобретенная членораздельность всегда имеет мало общего с оригиналом
откровения. Все дело в том, что сон нем, а если он тем не менее изъясняется, то
— какие бы в нем ни плавали голоса — говорит исключительно образами, тогда как
вы, пересказывая его, орудуете словами или, если угодно, словообразами.
— Сталин, И., анфилада, травка, косичка, — разве все это, в самом моем
сне, еще — или уже — не слова?
X. — В лучшем случае все это, может быть, лишь ваши
различные, из образного откровения, имена...
— Ну и сподобился! Что же тут «лучшего»? Благодаря сну, выходит, мы со
Сталиным одно и то же разноименное лицо...
X. — Вы ведь только что сами заметили: смотря с
какой стороны... Так вот: бабочка, приснившаяся Чжуан Чжоу, не знала, что
она — это он. В этом неведеньи она им и была. Зато он во сне, уверенный, что он
бабочка, свое имя, естественно, позабыл. В том же неведеньи он оставался собой.
Когда он проснулся, то не сразу опомнился, а когда опомнился, об этом сказал...
— Вы забыли,
что происшедшее комментирует сам «приснившийся» и что, по его словам, между
Чжуаном и бабочкой, — причем не какой-нибудь, а ликующей, на верху
блаженства, полностью разделяемого спящим*, — «несомненно, существует
различие».
* Чжуан, надо думать, во сне обрел Дао:
обрел — ибо вспомнил, а вспомнил — познал; он познал и себя, слившись с
летучим Дао, но не потому, что силился знать, а без всяких усилий,
непроизвольно, как сон приходит, как носится бабочка, как в неузнаваемом вдруг
себя узнаешь; и слился не просто, как мы бы сказали, со своей бессмертной
«бабочкой души» (тогда она, быть может, лишь мнится Чжуану), не просто даже с
круговоротом мировых соответствий, всеобщего тождества (тогда ему, быть может,
лишь мнится Чжуан), а с той радостью возвращения к Ь> ...лмянно-му, с тем
его совершенным, как само Дао, блаженством, которые уже не помнят
себя, так что им, право же, все равно, чей это сон и чья это явь, кто кому
снится, перевоплощаясь, кто с какой стороны себя узнает и кто, пробудившись,
себя забудет, чтобы в изумлении сызнова вспоминать. Хотя нигде, пожалуй, не
встретишь такого свирепого релятивизма, такой неразрешимой амбивалентности
«памяти» и «беспамятства», «сна» и «пробуждения», не так уж тут все-таки
далеко, при всех очевидных различиях, и до орфиков, и до пифагорейцев,
и до гнозиса, ими совместно вскормленного, и, конечно же, до «Федра» Платона с
его восторженно-крылатой душой (об универсальной «крылатой» символике
см.: Е 1 i a d е М., Histoire des croyances et des idees religieuses, Paris, 1984, t. 2, p. 196).
Только где оно? Как его в «неведеньи» разглядеть? То, что вы именуете
метаморфозой, индивидуальным сновидчеством у Чжуан-цзы не исчерпывается и
разгадывается как «превращение вещей»... Но оставим китайца в покое и вернемся
еще раз к Пастернаку. Когда он — а точнее, поэзия в нем — восклицает:
Как усыпительна жизнь!
Как откровенья бессонны!
значит ли это, что откровенья здесь противополагаются жизни...
X. — Опять слова... нельзя ли прозаичней?
— ... то есть дробно-мигающий ледяной свет ее нераздельно-теплящейся
сонливости...
X. — А это еще что такое?
— ... и что, вспыхивая потусторонне, извне, за пределами ее
общих широт и ее прямой речи, говорят они с ней — изнутри, хотя в каждой
точке особо — на каком-то посмертном обезголосевшем языке?
— X. — Не говорят, пожалуй, а
пишутся: на смещенном языке символических знаков.
— ... Или смысл тут совсем иной: откровения эти не что иное, как
жизнь, нагнетающая самое себя и себя самое усыпляющая, 'чтобы разом с
двух (только ли?) неразличимых сторон достичь наивысшего
своего напряжения — и напряжения именно в том, кто жизни снится, кому снится
жизнь, явно-целостно, без изъятий...
X. — Жизнь целостная безмолвна...
— ... в том живом, который и восклицает... X. — Во сне?
— ... и восклицая — сквозь немоту сна — различает в неразличимом?
X.— Все это звучит красиво, хотя, скажем так, и
чересчур знакомо. Но, во-первых, напрасно вам в поэтическом восклицании
слышится слово всеобщего откровения. Ведь если внушенное цельной истиной
откровение — будь то наяву или даже во сне — и впрямь относится непременно ко
всем, то на сей раз читающему Пастернака неизбежно бросается в глаза, что две
эти строки расшифровываются в том же цикле их парафразой:
Как усыпительно — жить! Как целоваться — бессонно!..
— Парафраза? Или метаморфоза? Но тогда нет в ней ни шифров, ни
расшифровок.
X. —... из которой явствует неоспоримо, что за восклицанием,
то бишь словом безличным, стоит опыт бессловесный и сугубо личный. Во-вторых,
повторю еще раз, жизнь целостная — если только это не явленный Бог — сама
безмолвствует и посредников не нанимает: то ли вовсе за неимением слов, то ли,
может быть, за их ненадобностью...
— Что ж, по-вашему, голос ее — это слова из толкового словаря?
X. — Даже взятая в микрокосмах, в ее, по выражению
Пастернака, «подробностях», она, — вы, надеюсь, с ним согласитесь, — помалкивает,
как осенняя тишина...
— Разве
сквозь ее тишину — жизнь сквозь жизнь — не откровенничают те же самые
Пастернаковы поцелуи?
X. — ... История же, — ведь мы толкуем о ней, о ее
откровенничающей (в меру) бессоннице, — история, из которой (как раз
потому что она история!) непосредственное общение с полнотой жизни изгнано если
не с эпохи мифической, то уж во всяком случае со времен патриархов, пророков
или евангелистов...
— Полнота — сквозь]
X. — ... история и в помине не знает такой словесно
выражающейся тишины: свое звучание и осмысленность языка она приобретает не в
каких-то множественных Сталиных, разбредшихся по нашим снам, а в том
уникальном их первообразе, который въявь задает Пастернаку вопрос...
— Это, быть может, и есть призрак дробный, дробящийся — с той
стороны, — которому не отвечают.
X. — ... и наяву же, — попробуйте-ка против шерсти: не
слишком ли он для призрака зубаст? — ждет и требует недвусмысленного ответа.
Ну а если вы, в свой черед, ждете от него содержательной цельности... что ж,
он в себе заключает и солнце над пропастью, и стадионы, и самоубийц, и шинели
до пят, и девчонок с косичкой, — да только не тех ведь, что мельтешат в вашем
сне, повинуясь капризам немой и затекшей руки, но единственных по наиточнейшей
формуле, из каких образуется неповторимая смесь,— потому что, конечно
же, — ив этом вы правы, — цельность, ограниченная местом и временем,
достаточно или весьма относительна, отчего и предстает она, с ними
властно отождествляясь на перепутье, смесью насильственной, чудовищной
донельзя, — и вот на эту-то совокупную чудовищность, сочетавшую в единой загадке
неразрешимость всех частных вопросов, от вас и требуется — не где померещится,
а лишь в ее неусыпных пределах — бесповоротно, как охранная грамота, разрешающий
и цельный ответ.
— Забыли вы или просто не поняли, что было нам сказано об иной
неусыпности? Вряд ли ее откровения нуждаются в таких грамотах. Даже в той,
безоглядной, что подписана Пастернаком... Ибо кто же тут попусту кого
спрашивает и кто безрезультатно кого допытывает? Что может быть
совокупно-чудовищней и неразрешимо-загадочней сна — и особенно сна наяву?
X. — В-третьих, наконец, — я нисколько не ухожу от
ответа, — вам для пущей серьезности ссылаться, по-видимому, следовало не на
Пастернака, а на предшественников куда более ранних и, пожалуй, более
авторитетных: еще Сократ в «Апологии» уподобляет смерть, — если только она не
ведет в Аид, — нескончаемой и беспробудной ночи сна, где нет сновидений... но
хотя мы легко соглашаемся с ним, — ведь недаром, должно быть, с непроглядных
времен для всех нас, разобщенных и разноязыких, «вечный сон» стал поистине общим
местом*, — ибо судим-то мы, как всегда, от противного, да и в мыслях имеем
не смерть «вообще», а сперва лишь «мою», потом «твою», «вашу» и прочая...
* Потому-то равным
образом ужасны глухая
спячка учеников Христовых в Гефсимании и восклицание
псалмопевца: «Восстань, что спишь, Господи!»
— Иной не дано; эта есть сквозь... и без формальной логики.
X. — Что ж, пусть даже Сократ и прав в своем предположительном
уподоблении, — по какой же логике отсюда следует, что наше «здесь» есть
зеркальная противоположность нашего «там» и что жизнь, наша частная жизнь,
должна уподобиться беспрерывному или, лучше сказать, бессонному сновидению...
— Вы же видели:
у Пастернака уподоблениям места
нет.
X. — ... и сновидению вдобавок, — ибо так у вас
неминуемо получается, — тем более жизненно-смысловому и всеобще-значимому, тем
более откровенному и даже провидческому (каким, согласно грекам, положено ему
быть на пороге смерти), чем больше оно, сплошь и насквозь, видение, чем
более прикровенно и зашифро-ванно, темно и тайно, глубинно-причудливо и
прихотливо-личност-но...
— Я сказал: ищите и вслушивайтесь. Я не говорил: вчитывайтесь и разгадывайте.
X. — ... одним словом, тем ближе к разгадке сфинкса,
чем само оно сфинксообразней и неразрешимей? В этой связи подозрительно мне
также и то, что, если Сократ, — а у нас нет причин ему не доверять, — готов был
приветствовать как приобретение сон, сжимающий время в одну беспросыпную ночь —
и сжимающий именно потому, что лишен начисто, бесповоротно «девчонок» и
«травки» под сенью того или иного «Сталина», вы, напротив, при вашей-то нелюбви
к историческому времени, чувствуете себя без сновидений обделенным и,
сколь бы ни был сон безутешен, жаждете растворения в его истории...
— Что ж тут удивительного? Каждому свое. Вспомните, кстати, прощальные
слова Сократа после вынесения ему смертного приговора: «Но пора уже идти
отсюда, мне — чтобы умереть, вам — чтобы жить, а что из этого лучше, никому не
ведомо, кроме бога». Заметим: у Сократа здесь умереть и жить не
«вообще», — хотя к тому он, вероятно, и клонит, — а умереть мне, жить вам,
уйдя отсюда, после такого судилища. Заметим — и скажем себе
иначе: куда кому пора идти, в какой, может быть, сон уходить? Уходить-то надо,
сейчас, немедля... Жизнь жизни рознь, но и смерть смерти рознь, и Лермонтов,
например, в отличие от умней-ше-разумнейшего Сократа — всю жизнь, кстати, бежавшего
от «девчоночьих» и «травяных» голосов, повинуясь нашептываниям бесстрастного
демона, — Лермонтов не только, как вам известно, безумно хотел так
«навеки заснуть», чтобы слушать — не в могильном холоде, а в живящем
земляном тепле — сладкий поющий голос и шум склоненного дуба, которые
— сквозь сон или наяву? — нас баюкают — полуживых! — обволакивая из его
полусмерти, но и видывал себя, спящий, въявь — сон сквозь сон и
даже сквозь смерть — себе посмертно снящимся в живых видениях. Где
граница? «Никому не ведомо...»
Подумать только! Свет из темной тьмы исходит, Из
смерти — жизнь и то, что есть, — из ничего.
Это — Ангелус Силезиус, вполне к месту. Потому что такова, должно быть,
и неделимая природа сна — точь-в-точь как подвижная цельная фраза, о которой
мы говорили...
X. — Да вы же сами себе противоречите! Сперва было
«жизнь как жизнь», теперь...
— ...и различает в нем — в неразличимости, от жизни к жизни, сквозь
тьму свет и свет — это вот самое «подумать только!» его безотносительная
интонация*: голос лермонтовский, пастер-наковский, голос, быть может, из моего
сна, а не тот безголосый, «властный на перепутье», кто, заставляя сон
топтаться на месте, — ибо какую же вы нашли в нем историю! — устанавливает
границу между жизнью и смертью, ночь и день погружает в пограничные сумерки и сводит
их говорящий, с двух сторон единимый о-пыт к ограниченно-единичному выпыту.
* Различающая, она все еще слышится у
невесты в Песне Песней: «Сплю, сердце мое бодрствует».
X. — Но я не оспариваю нисколько цельность вашего опыта
и его живой, без границы, выраженности во сне. Дело лишь в том, что этот опыт —
ваш и что выражается он вовне по частям. Оставим же общие
рассуждения; постараюсь быть точным. Если внимательно в ваш сон вглядеться,
обнаруживаешь немало значительного в личном плане: ваши детские травмы,
сказавшиеся прежде всего на способностях ориентации; мнимо-органическую и
компенсационную символику красок, которая вами движет, вас направляет, а то и
переносит запросто в сферу воображаемых тайных связей; ваш несомненный, глубоко
засевший комплекс кастрации; ваши двусмысленные, эмоционально-амбивалентные
отношения с тем, что, отождествляясь с вашим желанием, раскрывая вас навстречу
миру, вносит в ваше я содержательность, полноту и одновременно его, так
сказать, похищает: с И., с вашими детьми, со словом общения, со знакомыми,
даже близкими и однако чуждыми лицами, со временем, хотя, конечно, своим, но
явившимся вчуже или отчужденно, со смертью, наконец, выступающей
в роли самозаклания... И отсюда же, — но я могу ошибиться, — чрезвычайно
болезненное чувство вины и самоистязательный или, если угодно, искупительный
характер сна.
— Но сам-то сон? Куда он подевался? Сон единственный — неописуемо —
как чудовище на нашем пути...
X. — На вашем, только на вашем... Добавлю, впрочем,
чтобы вас утешить или успокоить, что я мог бы вычитать в нем не только
мучительность пребывания на положении внутреннего эмигранта, отвергнутого
тоталитарным миром, но и удивительное предчувствие вашего изгнания...
— Если бы это ночное страшилище — испытующее, хотя и текучее, — даже
окаменев в дневном слове, сохраняло еще свою темную хищную власть и держало в
боевой готовности свои честные плотоядные зубы, не сомневаюсь, что после такой
«расшифровки», в ответ на такое «умывание рук» оно сожрало бы без лишних фраз
толкователя вместе с его непричастностью.
X. — Но на самом-то деле сфинкс ест заживо вас: без
пощады и без передышки. Или вы позабыли, что эта чудовищнейшая тварь,
порождение двух наимерзейших чудовищ, их сверхчудовищной кровосмесительной
связи, — что она кормится исключительно теми, кого сама призывает к ответу и
кто вольно или невольно уже призван в самом себе?
— Но за всех отвечающий — вольно, невольно — и есть, разумеется, эти
самые все. Кто ж не призван так или иначе, настигаемый сфинксовым
утробным эхом, ненасытимым взглядом безумия? Согласитесь, что его, как угли,
горящие, с расширенными зрачками глаза, которые достались ему от пещерной,
рождающей страшнейших монстров, женственноликой матери-змеи*...
X. — Глаза постного Сталина, ваших детей, спортивного
самоубийцы, девчонки с порога, обитателей нового мира в их
«абрикосовых» анфиладах и на «изумрудном» концерте, — все они, глядя
пристально либо искоса, пронизывают не меня, а вас.
— ... что эти множащиеся — из одних и тех же — близнецово-подобные сверла
умеют, и не дожидаясь ответа, лучше всяких иных видеть дальше
непосредственно видимого и, тем паче, привыкли молниеносно распознавать как
фальшивые отговорки, так и ложное самоустранение. Потому-то на сей раз, — если
уж вы решили всерьез, не просто метафорически и не для красного словца,
поверять мифом чужое или отчужденное время, — чудовище, пожалуй,
выслушав вас, уже не только плотоядно облизывается...
X. — Вы что, смеетесь?
— Нет, мне не до шуток. Я и впрямь склонен думать, что в самом процессе
дешифровки аналитики** и вообще всевозможные наши интерпретаторы...
X. — Аналитики вовсе не заговаривают вам зубы, а
пытаются разговорить в вас сонного молчуна, чтобы ответ в разговоре возник
непроизвольно, тогда как интерпретаторы, угадывая молчком чью-то брезжущую в
вашем слове фигуру, заполняют за нее на свой страх и риск вопросники с
письменными ответами.
— ... что все они, независимо даже от степени их вынужденного
касательства, в самом деле пожираются до костей и до призрачного, как тень,
состояния. Этой плачевной участи избегает, по-видимому, лишь тот, кто настолько
сживается со своей изумленной причастностью, что в конце концов, после тысячи
приближений...
X. — Ваша «тысяча лет»?
— ... уже не находит иного ответа — за нас, за себя или за целый свет —
кроме самой простой и банальной — элементарнее односложного восклицания —
фразы, прозвучавшей однажды в устах Эдипа.
* Русская, прямиком заимствованная у
греков ехидна: потому что язвит?., потому что коварствует?.. Или сперва
и прежде всего потому, что своим взглядом-сглазом видит насквозь"! Ведь
Ехидну древнейшую, по преданию, убил стоглавый Аргос.
** Не любые, конечно, а лишь «наши»: психо-.
X. — Значит ли это, что при такой сопричастности,
которую лучше назвать совиновностью, мне приходится поневоле оставаться вашим
подобием?
— Вы мой двойник.
X. — Разве я тот, неузнанный и неприкаянный, кто не находит
себя ни в чьем образе, ни в каком месте, кто невольно, почти рассеянно, сам не
в силах себя убить, толкает другого на самоубийство, кто слоняется живым
призраком в мире, где царит по-прежнему, в силу тайной игры, среди оборотней
безвременья, тень диктатора, опочившего тысячу лет назад? Как могу я, как могут
другие присутствовать в вашем сне, оставаясь — в том-то и дело! — за
пределами вашего отсутствия, которое именуется у вас «мелочами жизни»? Ваша
фантасмагория записывает в эту категорию всех и вся, вплоть до «постной и
плоской» тени; но вот всех-то как раз, порознь и вместе, вам, слава Богу, не
удалось — не получается! — заполучить в ваши сети.
— Да ведь сети-то не мои: ни в ночи, когда зоркий или ясновидящий сон
гуляет в зыбкой скорлупке моего затонувшего тела...
X. — Тело — ваше, а сон — наш?
— ... ни средь бела дня, когда, чуть всплывет оно на поверхность,
перед ним вырисовывается тело сна, уносимое в те же, без конца и без края,
просторы, которые однажды ночью, тысячу, может быть, лет назад, поглощенные
этой, иной ли бездной, его вызвали к жизни. Это значит...
X. — Значит ли это, что беспредельный ночной океан
избрал, — призванных много! — именно вашу скорлупку, ваш скудельный
сосуд*!
— ...это значит, что, если и есть тут какая-то западня, ее строит наш
общий — мелочь к мелочи** — мир, который сам расставляет сети, чтобы
неминуемо в них угодить.
* Даже у Юнга, который, правда, не
спящее тело, а лишь само сновидение сравнивает с несущимся парусником, где от
паруса до киля сознательное постепенно переходит в бессознательное, а тем
самым отчасти и в праобразно-энерге-тические «сны человечества», наш сон,
однако, как правило, по происхождению субъективен, и он «почти всегда о нас или
через нас».
** Либо по-пастернаковски: подробность
к подробности. Что, конечно же, никак не согласуется с недоверчивым и
неразличающим скептицизмом Монтеня («спящие, мы бодрствуем и, бодрствующие,
спим» — потому что, мол, в обоих случаях равно полуслепы), а, напротив,
предполагает в известных случаях, как, например, «наверху бабочкина
блаженства», предельную — хотя и не чисто зрительную или не зрительную вовсе —
дифференциацию.
Так что дело теперь за его двойником — за мной и за вами, за теми
«нами», которые снятся ему «всем миром»; покуда нам чудится, что мы вовне, всякий
по-своему, всякий различно, мир — наш единственный, в немоту провалившийся мир
— к нам взывает из собственной западни. Он зовет голосом таким далеким, так
причудливо-странно — сквозь неузнаванье — знакомым! И зовет, завораживает с
такой силой, что в конце концов не избежать никому его пристальных взглядов,
пронизывающих зрачков, его серо-стальных и стриженных коротко, его косичек,
всклокоченных косм, палых листьев, веревочных лестниц, его шинелей, трибун, его
Сталиных... всегда тех же самых, неразличимых, но всегда тем не менее ждущих в
темной ловушке (где, как у Пастернака, все они подобья) различения в
слове ответного голоса.
X. — Неужели вы не замечаете, куда заносит вас
безудержная лирика? Немножко серьезности! Вы все же, надеюсь, не принимаете
себя за нового Даниила или Исайю...
— Пророков? Но есть лишь один Исайя, один Даниил... X. — Поскольку вы все тут толкуете о двойниках...
— ... которые различают и распознают, никогда ни в чем не
повторяясь!
X. — Ну а все-таки, после такого или подобного сна,
аккуратно записанного, тщательно переписанного, отпечатанного на машинке, не
взбредет ли вам в голову возомнить себя пророком?
— Нет и впрямь искушения соблазнительней... X. — ..?
— ... ни чудовищнее по рискованности*.
X. — И ведь равным образом вы, надеюсь, не вздумаете
ожидать от других...
— Все мы другие...
X. — ... чтобы, разделив с вами ваш личный опыт, а
точнее, взвалвв его неразделимо на плечи, они вдобавок еще и прониклись им
вплоть до ничтожнейших его миражей и даже усвоили наимельчайшие его интонации,
то есть начисто растворились во всеядной химере вашего излюбленного языка, в
этом чудище с
* Иеремия передает слово Божие: «Может ли человек скрыться в тайное
место, где Я не видел бы его?» Но тем же словом сразу и предупреждает: «Я
слышал, что говорят пророки, Моим именем пророчествующие ложь. Они говорят:
«мне снилось, мне снилось». влажным, слезой подернутым взглядом, заклинающим во
искупление жертвенную смерть.
— Вы себе не доверяете и недооцениваете себя.
X. — Разумеется, если я только ваш двойник...
— И наоборот. Как всякий иной.
X. — Остается сказать вам в заключение следующее: вы
вольны до скончания века искать в себе ненаходимый ответ и бесплодно копаться
в вашем чувстве вселенской вины, — это нисколько не оправдывает вашего
стремления обвиноватить весь свет...
— Разве сон — это я? Я здесь с вами.
X. — ... и требовать от какого-нибудь чернявого,
парменидо-вым солнцем обугленного египетского феллаха или же от девчонки с
косичками, зазывающей с порога «клиентов» в какой-нибудь Маниле, чтобы ночи
напролет и на тысячу лет вперед они грезили с вами вместе о Сталине...
— Одного озарения, будь оно истинно, хватит на всех: и на тех, кто «участвует»
в нем сознательно, и на тех, кто «помалкивает», и на тех даже, кто о нем и не
слыхивал. И дело тут вовсе не в объединяющем имени. Вопрос — при условии, что в
наших снах наяву сквозит общность единой судьбы, — вопрос известен издавна и
звучит просто, на грани тривиальности: где мы? куда мы пришли и куда
движемся?
X. — Мы-то с
вами находимся в данную минуту там, где ваши сны никогда не имели
действительной почвы и внелитературного обитания, поскольку мир этот, хотя и
соприкасался иногда с вашим, отзываясь на него тревогой, опаской, ужасом,
зачарованно-стью, изумлением или полнейшим равнодушием, всегда оставался за
пределами и в стороне от анфилад, которые, как резину, растягивают
один-единственный день на целое тысячелетие...
— А ведь совсем недавно тысячелетие в том же роде, пусть и под
тевтоническим именем, не ограничилось в соприкосновении с ним легким и
безболезненным промельком...
X. — Время
этого бедствия — метеорово, вашему
не сродни.
— ... И сколько же других, ощерившись и выпустив когти, косятся на
него все хищней и поглядывают все пристальней, пока он медлит и не желает
признать, что эти якобы запоздалые, со стороны надвигающиеся, разнородные по
составу страшилища чуждого времени равным образом суть — хотя бы по логике сна
—и его тоже детища...
X. — Совсем напротив, не осознавай он столь болезненно
отравленность собственных источников, он, несомненно, реагировал бы с меньшей
стеснительностью, деликатностью или слабоволием.
— ... Так что при всем могуществе его технического приумножения и
неслыханное™ его охвата, — но ведь это, признайте, палка о двух концах, — без
сознательной волевой реакции ему, конечно, не обойтись, а реакция такая не
обретет, пожалуй, внутренней силы, пока не встанет перед нами и не потребует в
нас ответа вопрос: эти тысячелетия и эти страшилища — в сени ядерных мегатонн,
в преддверии всяких «пришествий» из космоса — заслуживают ли они еще
имени сфинкса?., звучит ли еще в человеческом зверстве — не дубинкой,
разумеется, вооруженном (но причисляемом почему-то, даже при самом
механизированном и бюрократическом его обличьи, к архаизмам или пережиткам),
— звучит ли в нем, сквозь загадочность его исторических тупиков, голос
древней судьбы и древнего испытующего чудовища? Ни отмахнуться, ни пройти мимо
не сможет тогда и тот, кто сошлется на свою глухоту либо непонимание рокового
вопроса — везде однозначного и тождественного, который, быть может, и есть
наваждение моего личного, слишком личного сна.
X. — Что ж поделать? Ваш сон устарел. И даже больше
того: устарел, еще не приснившись. Эти тысячелетние, в прямом и
мил-ленаристском смысле, чудовища уже давно здесь выглядят птицами
перелетными. Какое бы имя они ни носили: Хозяин Замка, Господин Тэст,
Человек Без Свойств или даже Гитлер, — ничто не позволит им закрепиться тут
прочно и свалить окончательно стену, отделяющую мир сновидческий (сколь бы ни
был он кровав наяву) от царства господствующей повседневности. Тогда как ваше
чудовище до того обжилось у вас в лабиринтообразных анфиладах, что уже ничем не
отличается от кишащих там «мелочей жизни», так что даже ваша отсутствующая либо
затекшая правая рука оказывается точной зеркальной копией высохшей левой руки
вездесущего зверя-диктатора... Ничего удивительного, что посторонним эти
лабиринты в высшей степени безразличны; ваш действительный или так называемый
сфинкс, на их взгляд, не более чем выживший из ума Минотавр... разделывайтесь
же наконец с ним сами! Здесь о вашем «финальном нарыве» не хотят больше
слушать! Скажу резче и жестче: быть может, моды в этом мире столь же легкомысленны^
сколь эфемерны их витрины, но, если людям тут за последний десяток лет
приелись до смерти ваши чудовищные откровения и ваши зловещие «сны наяву», это,
право же, не в силу какого-то особенного, под бегемотовой шкурой, равнодушия, а
всего только потому, что, на вашу беду, они никого больше и впрямь не касаются,
что от них действительно ушли без оглядки и что, попросту говоря, у людей этих
нынче иные заботы или, как выразился бы француз, «другие кошки для хлыста».
— Эти кошки, а лучше сказать, кошачьи, — не в родстве ли они с той
породой, которая нас интересует?
X. — В отдаленном, но несомненном.
— Со сфинксом?
X. — С ним. Надо только увидеть множество особей, цепенеющих
вереницей в перспективе времен.
— В таком случае должен признаться, что с трудом себе представляю,
чтобы этот хищник, даже в миниатюрнейшем виде, позволил кому-либо себя
хлестать.
X. — Если ваш экземпляр для этого слишком горд и
свиреп, тем лучше для животного царства... но дело ваше: выкручивайтесь как
умеете!
— Вы непременно хотите, чтобы нас разделяла тысяча лет? Не удастся! И
не удастся до тех пор, пока не выйдут сроки, то есть покамест бодрствует
сон...
X. — Значит, я двойник из вашего сновидения?
— ...мир которого, потяжелей наших сонных видений, — мир стершихся лиц,
сумеречных двойников и всеобщего, не отпускающего вопроса, — подсказывает нам
внятно, что время отныне — по крайней мере время ожидания — «внутри» и
«снаружи» неразделимо и что считать себя к ожиданию непричастной, пребывающей
безотносительно в мирах отдаленных, равносильно для мысли пребыванию в недоумии
не просто самом тщетном и, по-видимому, самом опасном, но еще и — по смыслу
слова — таком, у какого отсутствует внутренняя пружина, распрямляющаяся при
всякой попытке и даже поползновении мыслить до конца...
X. — Сон подсказывает — но кому? Только вам да вдобавок
мне, вашему невольнику.
— ... А поэтому вас, пожалуй, не удивит, что при всем том невежестве,
на котором трагикомически она замешана, некоторая снисходительность дошлого
советского прохиндея по отношению к западным «богачам» и «счастливчикам» —
куда более, чем к голодающим где-то в темной дали «голопузым», —
представляется мне не то чтобы справедливой, но, если можно так выразиться, сослепу
дальновидной в отличие от его невольной и неистребимой зависти...
X. — Странное дело! У вас получается так, что мысль
заглядывает тем дальше и тем неудержимей порывается мыслить до конца, чем
плотнее давящий нас гнет и чем ближе мы благодаря ему к неразличимо-сумеречному
состоянию. Каковы же, спрашивается, должны быть озарения под г,юбовой доской?!!
— Что ж, многие из нас в самые страшные годы привыкли жаловаться:
«Живем, как в гробу». Но когда наконец вырвался, когда полнота дыхания стала
нормой, а над головой протянулось, без особых угроз и надежд, рыхлое, нудное,
заурядное небо, тогда вспомнишь вдруг и ответишь самому себе: «Да ведь была в
гробу одна такая щелочка, и сквозь ту щелочку такие распахивались глазам
небеса!..» Впрочем, не все, разумеется, столь безумно 'просто, и мы еще
вернемся, надеюсь, к этому парадоксу. Я хотел лишь сказать, — но кто этой
азбучности теперь не усвоил? — что пребывание вовне давно уже географией (и
даже хронологией) не определяется, что оно завоевывается единым (вы назвали его
тотальным), постепенно себя изживающим опытом — и, конечно же, не в
отдельной искусственнейшей теплице, лелеющей свои салаты за глухими, чуть-чуть
потрескавшимися стеклами. Если же опыт рискует затянуться до конца света, а
вопросительная его заноза торчит в нас по-прежнему глубоко без движения, мы зато
ощущаем вокруг ее острия, как в ответ шевелится холодная сила нашего личного
выбора. Поскольку вы, быть может, правы и сменяющиеся горизонты времен,
изначально отравленные, с неизбежностью — от загадки к загадке — докатились до
этого гнойного тупика, не следует ли — воля наша! — покончить раз навсегда с
темной игрой последовательных, горизонтами обозначаемых искусителей?
X. — Почему же покончить? Потому ли что слишком они, до
тошноты, последовательны? Но усталость для истории не довод и для ее зверей не
оправдание. Потому ли что последние из них по счету возомнили себя и впрямь
распоследними? Но ведь после того как воля неслыханная воздвигла на русской
почве планетарного сфинкса, а затем попыталась разыграть ту же роль в чудовище
Третьего Рейха, история — не без нашей помощи — хорошенько проделала свою
работу, расчистив дорогу для дальнейшего счета: один зверь провалился, как ему
и положено, самоубийцей в тартарары...
— Значит, Гитлер развязал самоубийственную войну, а затем и сам
размозжил себе голову потому только, что его секрет разгадали.
X. — ... исчез начисто, оставаясь лишь наваждением
нашей памяти или беспамятства, тогда как другой, наваждение ваше, хотя все еще
как будто держится, вопросов, однако, больше не задает...
— Но в том-то и дело: он ли их задавал"?
X. — ... а если их все-таки в себе таит, если их пока
порождает, то единственно, как вы сказали, самим фактом своего присутствия. Ибо
нет такой воли, которой хватило бы, чтобы поставить на ноги завершительного
сфинкса, ни такой — чтобы раз навсегда сокрушить их всех. Неужели вы всерьез
полагаете, что вашей решимости, будь она даже помножена на миллионы, может для
этого оказаться достаточно?
— Важен выбор, и сила — в нем.
X. — Но ведь надо еще знать с точностью, где и куда эту
силу употребить. На чем именно остановиться? Каков он, избранный последний
сфинкс? Человек-то последний нам отныне известен, но «у вас» во сне он лишь
бесцельно ждет и праздно шатается в мучительном ожидании... Не являются ли ваша
«отмена» исторического механизма, волевой отказ от него со стороны
отвечающего такой же попыткой отменить всю предшествующую историю, как и
та, чисто сфинксова, какую вы саркастически изобличили? Ведь если искать
тупикам родословную и выяснять, кто кого породил: Гитлер, Сталин с «учителем»
вкупе, первое мировое побоище, «век девятнадцатый, железный», Достоевский,
Маркс, Гегель, фригийский колпак, «чересчур человеческое» Просвещение,
«слишком сверхчеловеческий» Ренессанс... в результате мы без труда доберемся и
до Ионова кита, и — по линии нашего интереса — до Эдипова сфинкса, во чреве
которого все последующие разместятся матрешками упраздненного времени. Так-то
оно, быть может, и так, но решать нам нужно здесь и сейчас...
— Выбор и есть «здесь и сейчас».
X. — ... решать, не выбирая там, где нет выбора, и не
пытаясь поставить точку в ряду чудовищных, больших и малых, головоломно-загадочных
величин, которые вне ваших снов еще поджидают нас впереди. Ибо, что там ни
говори, ваш антисфинксовый нигилизм не столь невинен (хотя и объясним),
как это может кому-либо показаться. Вы все же не в силах воспрепятствовать тем,
кого с чрезмерной легкостью заключаете в теплицу (и что в ней отвратительного?
ее греховная «отдельность»? или «искусственность» лелеемых в ней салатов?), —
вы не сумеете воспретить им различать — в том же страхе и трепете, сквозь
разбитые кое-где, а подчас и вылетевшие с грохотом стекла — надвигающуюся
череду иных, более или менее «достойных» чудовищ, и если даже микроскопические
тепличные Гёте (но не таков ли, по сути, и их прототип?., как бы они
ему ни уступали в своей интуиции, выдающей формулы моралистические, по старинке
эстетизирующие или просто идейно готовые наперед), — если они почти
неотвратимо сталкиваются с предъявителями загадок, которые — независимо от
своих реальных масштабов — на поверку оказываются пока (и не только в
вашем «контексте») всего лишь пылинками в вече-реющем воздухе либо марионетками
в какой-то еще не ясной игре, отношения исходные, тем не менее, остаются
неизменными: у каждого на пути — зверь, какого он, жертва или герой, заслуживает,
с каким он образует единство места и времени, и поскольку история находит тут пищу,
поскольку она себя не исчерпывает, открывая — взгляните-ка вокруг
себя! — просветы невообразимые, никому до сих пор не снившиеся, вы не можете с
пренебрежением утверждать, что все эти сфинксы, памятные и живые, постепенно
сливающиеся с фигурами победителей и разгадчиков...
— Нельзя ли
поточней?
X. — ... за примерами недалеко ходить: полистайте хотя
бы «Антимемуары» Мальро...
— Хватит с меня одного Карлейля. Мученики? У нас их предостаточно. Но
единственный и последний в безгеройное время герой — это, увы, не какой-нибудь
избавитель, а безумный Адольф*.
* По вагнерианскому счету... Зато
рука не' повернется, чтобы записать в герои — по такой же мифической мерке —
Черчилля или даже Де Голля, Неру и (даже?) Мао Цзэдуна.
X. — ... что эти вчерашние сфинксы или, если вам так
угодно, сменившие их микросфинксы...
— А это что еще за порода?
X. — ... вроде того, обезличенного, какой замаячил вдруг
в парижском мае 68-го...
— Он-то откуда взялся? Куда ближе ему, без всяких загадок, год 1848-й,
чем август собственного в соседней Праге.
X. — ... что ваш местный свирепый «тысячелетний нарыв»
отсылает их неумолимо в какой-то плюсквамперфектум и что так же свирепо они (и
другие, с виду вовсе лишенные лица человеческого) не требуют от нас
ответа то ли в стороне от него, то ли совсем уже по ту сторону.
— Если вы ратуете за «страх и трепет», возражений с моей стороны не
последует. И не потому что их «гробовая щелочка» мне дороже или просто милей
вольной «полноты дыхания» и неба — пусть «рыхлого», «заурядного» и будущим вряд
ли «беременного», а все же тянущегося безвозбранно во все свои голубые концы.
Да только ведь это «живем, как в гробу» — опыт по-своему тоже тотальный: и
там, где гроб — ратный, по имени не называемый, в мыслях смутно
выказываемый инстинктом самосохранения... Нет, я не против «страха и трепета»
хотя бы потому, что мы с вами, кажется, договорились: тот, кто призван к ответу
особым вниманием, искать должен, — было бы что искать! — лишь в их
безвременно-стоячей трясине. Но оглянитесь же теперь и вы: где оно здесь,
избирательное внимание, и не распылился ли, не рассеян ли по ветру — уносясь,
как от К. перед замком, за строку неоконченной книги — сам его источник
с человечьим лицом? Разве вы не замечаете, что тот поистине мифический ужас,
какой дается нам иногда во спасение, — тот, что Эдипа ведет от загадки к
разгадке, чтобы наверняка окунуть его в загадочность куда более жуткую, — что,
размытый, разъеденный до основания (если, впрочем, он зиждется на чем-то
вообще), ужас этот отныне лишь едва проступает снаружи, как шорох сквозь
вату из-за лохматых кустов*! Неужели вы в самом деле не видите, — но,
сказать по правде, кто ж из нас видит! — что перед стелющейся над
скелетом Освенцима той же постылой, блекло-мышиной, сумеречно-обесцвеченной
дымкой само создание еврейского государства — факт не просто ярчайший, но и
устоявшийся в своей обыденности, — пребывает, однако, сознанию вопреки, в каком-то
полувопросительном ожидании?... что перед мерзлой, пепельно-сизой,
дребезжащей и топчущейся костляво на месте колымской ночью, которая еще и рта
не раскрыла, несмотря на легенды или книгу Шаламова, слово тех, на кого вы
ссьшаетесь, выглядит обветшалым и как будто просроченным?... что не только
подразумеваемые вами загадчики, но и раздавленные «на гусеничном ходу»
Будапешт и Прага, расстрелянный и тотчас вычеркнутый из списков Новочеркасск,
изничтожаемое акульим и недо-ч'аловеческим сбродом племя лодочных беженцев из
Вьетнама и многие, многие — несть им числа! — другие, кто игру в загадки,
по-видимому, отверг, — что все они, ни с кем и ни с чем, разумеется, не
сопоставимые, помеченные неотъемлемо своей датой и болью, опрокидывают
временную перспективу, вновь и вновь возвращаются на круги своя и замирают
неслышимо перед тем безымянным, которое в графе дорожных бедствий не
умещается, в хронику путевых превратностей не укладывается и, не поддаваясь
осмыслению, не отзываясь на голоса помощи или солидарности, никаким
оправданиям, покаяниям, реабилитациям не внемля и не подлежа, пронизывает нас
зрачками расширенными, нашего приближения не различающими, — этими дырами в
«историческом сите», трещинами в теле «нарыва», — из вечно угадываемой и вечно
же ускользающей потусторонности! Но отсюда, конечно, не следует, что
оно, безымянно-чудовищное и чудовищнейше-безли-кое, где-то там, за пределами
нашего земного присутствия, наших сроков и пира во время чумы; нет,
сверхбанальное, ибо неуловимое, оно именно «здесь и сейчас»: одновременно
воплощенная немыслимость и залог нашего выбора в чумном тупике без выбора, в
той гноящейся злокачественной безысходности, которая, как бы она извне ни
именовалась и как бы со стороны ни выглядела, разливается неумолимо по всем
этим ближним и дальним микросфинксам микроистории.
* Уж если телевизор «успокаивает
одних дураков», надо признать, что он делает это мастерски и что, в
сущности, нет больше границы между «дураками» и умными». (Еще Толстой однажды
сказал: «Не знаю, кто глуп, кто умен».) Наводняя наши жилища ужасами извне —
с чужой улицы, из чужих краев и особенно из бредового «космоса», — он
весьма успешно осуществляет функцию зрительного заклинания. Обкладывает
кошмарами, как войлочной прокладкой... Спокойной ночи, дамы и господа!
Приятных снов, дорогие товарищи!
X. — Никто не станет спорить: если пир во время чумы,
то, конечно же, не без чумы. Но вы забываете, что у Пастернака* этот
пир, и не какой-нибудь, а пир Платона, именуется — в его связи с
кромешной погибелью — «вековым прототипом». В конце концов, — как бы оно ни
свирепствовало, — что такое чумное поветрие? Ветер принес, ветер унес...
вместе с пришлым царствующим виновником. Исторически-неповторимое тут — наше
ответное понимание или, лучше сказать, разгадка: «... и поняли мы, что мы на
пиру в вековом прототипе...» Так что напрасно вы настаиваете на «чрезмерности»
каких-то чудовищ и на их якобы «последнем» вызове. Разве то и другое не
свойственно всякому стающему сфинксу, начиная с самого первого, который
вводит чью-то — одну из многих — историю в историческую судьбу всех? И вводит с
улыбкой загадочной, странной — потому что, должно быть, таинственно знает: с
его смертью, с разгадкой он весь не исчезнет; история — личная, но она же и
общая — еще предстанет перед сфинксом чумным... Что ж, скажите мне, с тех пор
изменилось, что произошло такого, чтобы наша воля могла либо вовсе этот
исконный механизм одолеть, либо — если я вас правильно понял — его в корне
преобразить, переставив местами человека и сфинкса?
— Изменилось? Нет, он тот же самый — четырехногий, двуногий, трехногий
Человеко-зверь, которым — под стать животному разумению — исчерпываются
зеркальный капкан и зеркальная же наживка загадки**. Но с тех пор как ее
загадавший исчез, Эдипу — и нам! — с нею нечего делать. Ответ-то, быть может,
звучит один, но зато интонация в нем многосмысленна. А в интонации — воля...
X. — Воля — к чему?., куда?.. Не для очередной ли разгадки?..
* Для тех, кто позабыл: в
стихотворении «Лето», написанном в черный «велико-переломный» год
1930-й.
** Относится ли она, отраженная,
непосредственно к Эдипу, ищет ли, самоубийственная, именно его? Ибо что он для
нее такое? «Двуногое с палкой», которому она напоминает — тщетно! —
о его хромоте и о соответственной душевном изъяне. В Колоне он даже четвероног
— старец «впадает в детство», — поскольку опорой ему служат «два посоха»,
его дочери, пока, временно их лишившись и еще раз, по высшему счету, прозрев,
прямостоящий «без провожатых», он не направляется к вещей, таинственно
уготованной ему могиле. Только теперь это — тютчевский странник, гость
«благих богов», которому «отверста вся земля».
— Нет, хватит с нас аллегорий и уподоблений! Не всяк тот Сфинкс, кто
хочет. Пора наконец покончить с этим образным самовнушением: древний фиванский
полиморфный Зверь ничего не отражает и ни к чему не отсылает; в нем самом есть
все, что хотите... и чего не захотите ни за какие коврижки. Улыбается в нем
(или в ней — в «певице смерти»?) погибающий миф, зная, что он единственный: раз
навсегда. Этой предсмертной улыбки мы, наверное, вовек не забудем*, а вот его
примитивно-утробный вопрос... Вспомните, кстати, — мы ведь начали с Гёте, —
что, когда наконец его мечта исполнилась и он принят был в Эрфурте Наполеоном,
первым делом из уст «венценосного сфинкса» он услышал, — не странное ли
совпадение? — тривиаль-нейшую и загадочнейшую разгадку: «Вы человек»...
X. — Но ведь я уже вам говорил о двусмысленной перемене
ролей. Что ж тут нового? Все это есть или в мифе, или у Софокла ... и их
комментаторами пережевывается на тысячи ладов. Резюмирую по-своему: когда Эдип
отправляется на встречу с чудовищем, им движет героическая (на первый взгляд)
воля — и ничего более. Однако задним числом выясняется, что, уже стоя перед
зверем-загадчиком, он сам таит в себе роковую загадку, а потому, как во
сне, — такова его самоуверенность, — не видит, что его ждет. Зрячий сфинкс
перед сфинксом (животное), он в своей воле слеп (человек), так что, жаждущий
власти, он ее лишь заимствует у Человекозверя, а когда в ужасе прозревает,
когда ни для себя, ни для прочих слепцов он больше не сфинкс (и не власть), ему
только и остается что — в искупление и в жертву сфинксу чумному — ослепить
себя наяву. Субъект и объект, как видите, взаимозаменяемы; зато
неизменно само их отношение. Спрашивается: что может тут воля?
— Это
противостояние мы еще встретим в пастернаковской «Теме с вариациями»... Но к
ней мы, надеюсь, вернемся; я сейчас не о том. Из вами сказанного я удерживаю
следующее: зрячесть не различает. Воля?..
X. — Вот именно. Что видит воля? Что позволено выбирать
ее голосу?
— Вместо того чтобы растягивать наши препирательства до бесконечности,
я лучше перескажу вам, не отступая от темы, одну историю — одну из многих, —
которую вычитал недавно в книге, собравшей свидетельства первостепенной
ценности**. Тем более что она относится к моровому времени пастернаковского
«пира», а потому, естественно, вполне заурядна и чрезвычайно проста...
* Если она у Сфинкса чисто
наследственная, от матери Ехидны, и если, как некоторые полагают, таит в себе,
за внешней формой вопроса, извращенно-ироническое, к смертному обращенное
«познай самого себя», в таком случае можно довериться Леонардо, посадившему на
чье-то женское дымчатое лицо ее змеевидно-иллюстративный, книжно-гуманитарный
слепок. Но если понять ее расширительно, если это улыбка действительно
предсмертная и состоящая с нами «в секретном сговоре», тогда опять лучше
обратиться к Тютчеву, у которого «двусмысленная и тайная» улыбка природы,
молчащей «о днях былых», возвышается до «божественной стыдливости страданья»,
доступной лишь существу разумному.
** Поповский М. Русские мужики
рассказывают... Лондон, 1983. Но, мужикам не в обиду, я перессказываю на манер
собственный.
X. — Еще один из ваших банальных снов?
— Судите
сами... В двадцатые годы неподалеку от Москвы, на Урале, на Украине, в Поволжье
весьма многочисленные толстовцы, преимущественно из крестьян,
объединились в сельскохозяйственные коммуны. В начале «коллективизации» или
даже чуть раньше, когда придирки и преследования властей стали невыносимы, эти коммунары,
одновременно с различными сектантами, народом работящим, стали покидать
родные места, переселяясь в поисках спасения — и, разумеется, не без предварительной
санкции Москвы — на девственные земли в глубинах Сибири, особенно по берегам
Томи, почти на краю непролазной тайги... Сделаю сразу же отступление. Чтобы
оценить как следует эпоху в самой ее чрезмерности, поскольку она-то, воистину без
предела, и составляет наш единственный измерительный ориентир, задумайтесь,
к примеру, над следующим: кто из живущих на Западе, даже среди «понимающих и
сочувствующих», способен не то что поверить (а мы сами смогли бы?), но
хотя бы отдаленно или гипотетически вообразить, что кое в каких деревнях,
затерявшихся в непроходимо-дремучей сибирской глуши, крестьяне-старообрядцы
на протяжении десятилетий после 1917 года сумели уберечься от всякой связи и
соприкосновения с вездесущими щупальцами «советской власти», в неописуемых,
поистине героических лишениях сохранив нетронутыми свою бесцерковную веру,
свои нравственные и бытовые устои, свои исконные ремесла и образ жизни, вплоть
до старинной, довольно грубой, зато простой домотканой одежды и еще более
редкостных русских имен, давным-давно позабытых в стране, — и все это по сию
пору, пока совсем в наши дни, лет семь или восемь назад, не открыл их
некий официальный «защитник природы»?.. Такого спасительного уединения, увы,
не дано было нашим мирным, кротким и не менее стоическим толстовцам. В 1931—33
годах их деревни, уже вполне процветающие, состояли под неусыпным надзором,
находясь по соседству, километров за двадцать, с почти новым, охваченным бурной
стройкой, возводимым безрадостными усилиями заключенных городе, бывшем поселке
Кузнецке, который нарекли при вторичном рождении Новокузнецком, затем к вящей
славе торжественно перекрестили в Сталинск и в котором царило сперва
деревянное и незамысловатое, а впоследствии, как полагается, каменное и
величественное здание ГПУ—НКВД. Оттуда-то, от местного начальника и всесильного
заправилы Попова, которого невзирая на его усердие ликвидировали без церемоний
пятилетку спустя, и исходили самые подлые и болезненные удары, достававшиеся,
в частности, коммуне «Всеобщее братство». Всеобщее? Об этом трудно судить; но в
коммуне братство чувствовало себя неплохо. Коллективистский и даже
коммунистический идеал осуществлялся здесь сам собой, почти невзначай, и
командующие власти, казалось бы, должны были этому только радоваться, тем более
что в отношении поставок хлеба, их запланированной безотказности прожорливое
или, лучше сказать, ненасытное, а то и вовсе опустошительное государство могло,
как выяснилось, положиться спокойно на этих довольных совместной жизнью и
близостью к земле людей. Преткновение, впрочем, заключалось в том, что
объединила их совокупность общих, у Толстого заимствованных идей, в том числе
непреклонное, без компромиссов, хотя и без малейшего вызова, неприятие любого
государства, построенного на насилии. И потому не только не соглашались они,
убежденные вегетарианцы, убивать скот и участвовать в мясозаготовках, но,
избегая всячески, лишь бы оставили их в покое, проявлений открытой враждебности
к большевистскому «строю», также и не признавали у себя никакого управления,
кроме собственного, не хотели для своих детей никакой школы, кроме ими же
созданной, с учителями, разделявшими полностью их убеждения и повседневный быт,
не голосовали во время «государственных выборов», не подписывались на
непременные военные займы и уклонялись от обязательной военной пропаганды, а
службе в армии предпочитали, как правило, испытание тюрьмой. Обо всем этом они
сами же предупреждали заранее высокостоящие московские инстанции, где
заседали еще в качестве партийной совести кое-какие «старые
большевики»... но что могли бы они для коммунаров сделать и как —
согласно собственным заверениям — помочь, даже если бы — вероятность ничтожная
— того пожелали? И поскольку их обещания особого, снисходительного в свирепой
заварухе статуса так и не были выполнены, приехавшая из деревни
делегация о них еще раз напомнила и попросила для коммуны охранную грамоту в
виде точного, скрепленного нужной подписью и правильной печатью документа.
Результат был, однако, плачевный и прямо-таки катастрофический: ходатаи с
первых же фраз натолкнулись на ледяное, трусливо-уклончивое безразличие
сановных марксистов, которые, вооружившись коварством немногословным, но явно
угрожающим в намеках и недомолвках, поскорее выпроводили этих бесполезных,
быть может, небезопасных и, конечно же, «идеологически» тлетворных просителей.
А тем временем всемогущий в Сталинске Попов лез из кожи вон, обремененный
неисправимейшими мужиками, которые вдобавок на своих собраниях уже вовсе не в
меру распускали языки: мало было им обсуждения текущих дел и хозяйственных
изобретений — они на этом так просто не останавливались, а забирались следом в
запутанные дебри этики, поминая в ряду с бесценным Толстым имена Эпиктета,
Шопенгауэра и Ганди. Административные придирки, чекистские выходки, угрозы,
тайные убийства, яростные нападки газет, попытки вербовки доносчиков, — все
было пущено в ход, чтобы согнуть в три дуги беззащитных строптивцев и
преобразить их свободный союз в еще одну ячейку колхозного рабства. Напрасный
труд! И вот однажды, в холодный осенний день 1933 года, изумленные и
встревоженные коммунары видят въезжающий в их деревню длинный порожний
обоз с оперативным отрядом НКВД. Неутомимый Попов думал, думал и нашел-таки
хитроумное средство, чтобы избавить себя от обузы нежелательного элемента. Средство
тоже элементарное: высылка! Но не какая-нибудь, а что надо. Все
триста человек без исключения — женщины, мужчины, старики, дети — должны
незамедлительно, не слишком мешкая и не трясясь над своим барахлом, погрузить
на телеги самое необходимое, покинуть с надежной охраной насиженные места, добраться
до ближайшей станции, затем, как следует набитые в товарные вагоны,
проследовать до Новосибирска, а оттуда, по-прежнему на север, но теперь уже на
баржах, спуститься вниз по течению Оби и, наконец, — в лохмотьях, голодные, при
наступлении самой лютой зимы — выгрузиться и остаться в местности дикой,
бесплодной и непроходимой. Устраивайтесь! Плодитесь и умножайтесь!.. Мы ничего
больше не знаем об этих несчастных — ничего, кроме одной-единственной
несомненности: подстерегавшая их на берегу смерть оказалась, конечно же, более
или менее скоропостижной...
X. — Но какая тут связь? Какое отношение к поглощающей
вас, не решенной вами загадке?
— Отношение — в самой без-относительности, какую усвоили раз
навсегда тот неотчуждаемый выбор без выбора и та привольная поверх своеволия,
неотъемлемая и в предельной уязвимости воля, которые странным образом сближают
с Ницше — часто отсутствующим как раз там, где им более всего клянутся, — этих
смиренно-упрямых, съевших собаку на моралистике мужиков. Ибо как они
реагируют? Ничего хорошего не ожидая ни от конвоя, ни от тех, кто его послал,
ни, разумеется, от чудовищней-шей, хотя и малозагадочной ткани нарыва, которая
вырабатывает эту нечисть, чтобы поддерживать свой безвыходный жар, коммунары
не отвечают им ни единым словом жалобы либо упрека, удивления либо
вопрошания: ни малейшим намеком на те отношения связи и зависимости, какие и в
единственном числе лишают нас всякого — в тысячах вероятии
открывающегося — выбора. Едва зашагав за подводами, тщетно подгоняемые
нервничающей охраной, они запевают хором одну из своих любимых песен; закончив
первую, тотчас подхватывают следующую и так, все вольнее дыша от песни к
другой, наконец приходят на станцию. Что они поют? Песни народные, большей
частью старинные, на слова, впрочем, Анны Чертковой, жены верного друга Толстого;
а еше печальные, за душу хватающие песни русских — из века Стюартов* — революционеров,
те самые, что лет тридцать, а может быть, и
ятьдесят назад звучали негромко в табачном дыму нелегальных сходок или
разносились под кандальный звон по ссылочным сибирским трактам... да только
теперь, когда не стало нигде горизонта, прежний ли в них слышится звук и те же
ли вдаль плывут отголоски? Небо заспанное, безучастно-щемящее отзывается эхом
где-то низко над головой, возвращая их нехотя на грешную землю, где притянутые
как магнитом к обозу бабы и мужики из соседней деревни провожают, бредя за ним
долго вслед, мелодичное шествие обреченных. А потом, точно так же заслушавшись,
не спешит в уже пышущий, ждущий хозяина паровоз пожилой машинист на станции:
«Спойте, братцы, спойте еще! Уж больно они хороши, ваши песни!» И они, должно
быть, нисколько не хуже, но даже, пожалуй, свободней и краше, когда вырываются
из задраенных наглухо и бегущих весело в Новосибирск вагонов, а затем льются,
плавные, с плоскодонных барж, прокатываясь и замирая по берегам Оби...
* Лучше, чем когда-то Пастернак, о
них и сейчас не скажешь.
X. — Это — выбор?
— ...Такова она, воля, историю на повороте покидающая, — ни сон, ни
явь, но сквозная воля, не знающая более ни цели, ни границ...
Как тут, право же, не вспомнить одержимого волънопевца Ницше и
его меланхолический, без конца поминаемый всуе amor fati:
Мир — зияющий
выход
В несметность немых леденящих пустынь.
Кто утратил то, что утратил ты,
Не найдет покоя.
Или ницшевский сумеречный, на канате тончайшем одноголосый нигилизм
здесь вовсе — даже в парадоксальном совпадении — не к месту? Или — ибо и так
всерьез говорят — при всей нашей захлебывающейся сообщной тяге к шири ермацкой
(и соловецкой), к размаху (и вспыху) аввакумовскому, к гоголевскому колесящему
(или ведьминскому) простору сама по себе голая воля ради воли человеку
русскому — и, конечно, русскому страстотерпцу — не нужна и не свойственна? Что
ж, не только, по-видимому, ледяные пустыни полнятся этими хоровыми
сибирскими песнями*...
* Что наркоманически уносящая «до
конца света» воля оборачивается для несомого клеткой беспросветной неволи,
знает нынче каждый младенец и давно навязло в зубах. Но на что бедолаге прописная
мораль? Нет, не в том дело. Не там, может быть, и его непоправимейшая беда...
Кто ж не видит, что перед этими песнями, их прощальным и безымянным,
тянущимся «в один голос» обозом о человеке русском толковать не
пристало, да и слыхом ведь больше о нем не слыхать: только мнутся и топчутся перед
тем голым местом очумелые кучки и кучищи «лиц русской национальности»?
Неволя безвременья в застоявшемся
повороте времен перед сверхволевой и сверхвременной интонацией
Апокалипсиса... Как, с какой стороны — и с какого конца — это «перед» мыслимо до
конца! И возможно ли вообще мыслить, будучи неотвратимо во власти
интонации?
Но как же тогда еще раз, пусть он будет хоть тысячным, не
процитировать тут безусловно уместного песнелюбца и песнепроходца
Хлебникова:
Когда умирают кони — дышат, Когда умирают травы —
сохнут, Когда умирают солнца — они гаснут, Когда умирают люди — поют песни.
X. — Но кому же дано свидетельствовать об их голосе?
— Потому как раз,
что эти песни
всему конец и
венец... X. — В таком
случае вы бы лучше набрались
целомудрия...
— Вот об этом-то сказал Пауль Целан: никто свидетелю не свидетель...
В. В. Винокуров.
ФЕНОМЕН САКРАЛЬНОГО, ИЛИ ВОССТАНИЕ БОГОВ *
©* В. В. Винокуров.
Поведай, что видишь ты Отличным от дхармы и не-дхармы,
Отличным он содеянного и несодеянного, Отличным от прошедшего и будущего.
(Катха-упанишада. 2, 14)1
Говорить о сакральном, пытаться разворачивать его в дискурсивном
изложении — значит заниматься использованием логической и коммуникативной
функций языка, значит опираться на его горизонтальную структуру, значит
находиться внутри континуума слов, внутри существующей сплошной непрерывности
связей между ними в контексте языка, значит находиться в поле голоса,
простертого по всему пространству наблюдения и покрывшего все пространство
культуры. В пределах отмеченных функций языка можно лишь прояснить отношение к
сакральному, но нельзя выразить его, ибо, пребывая на поверхности, можно лишь
видеть и выразительно изображать то, что изображению в общем и целом не
поддается, порождая картины нездешние и неправдоподобные. Членораздельно
говорить о сакральном — значит находиться в ситуации между «Да» и «Нет», в
ситуации сомнения и в области предположений, во власти оп-редмечивающей силы
языка, в сфере истории и коммуникации. Несомненное в языке, истории и
коммуникации невыразимо, в лучшем случае лишь прослеживаемо по вторичным
признакам, по напряжениям, отклонениям, обрывам... Прямое рассмотрение
«священного» требует обращения к «некоммуникативным функциям текста»2
— к молчанию3 и интонации4, к «крику немоты» — «слову без
образа», вносящему в непрерывную протяженность языка «пустоту», — к образу,
которому в видимом космосе, возможно, не соответствует ничего, но которое
«сочетает человека не с другими людьми, но с самыми нечеловеческими образами
Природы»5.
То, что скрыто, то, что пребывает в молчании — «невыразимое» (Л.
Витгенштейн), — свидетельствует о себе само, «оно показывает себя»6,
внешнего взора не терпит и на вопросы не отвечает, а потому затягивает
созерцание в свое собственное пространство-глубину. Это пространство видения, а
не наблюдения в отличие от истории отражения не знающее и в нем не
нуждающееся, «бесконечно тонкую логическую сеть» — «зеркало»7
сознания — напряжением в образе разрывающее, это внутреннее пространство вещей
(Р.-М. Рильке), где вещи суть видения, внутри мира присутствующие, но не сущие,
массы и плотности не имеющие, свидетели лишь самих себя. Это пространство,
связывающее созерцание с пред-данностью мира, с вселенской игрой стихий,
влекущей в свое нечеловеческое прошлое, к точке катастрофы свернутого
пространства-массы космоса, тихо вспыхнувшей до всякого вопрошания и в
отсутствие спрашивающего, потому ни голоса, ни имени не имеющей и различий не
знающей... а, стало быть, нет у нее ни прошлого, ни будущего, а есть иное.
То, что поистине
[существует] здесь, существует
и там. То, что [существует] там,
[существует] и здесь.
(Катха-упанишада. II, 1, 10)
Время «Оно», влекущее сознание, — время развернутой драмы космогонии,
которые (как говорят ныне) разыгрались «до сотворения мира», в мировых
религиях оставившие лишь следы, реконструкции поддающиеся лишь отчасти, с
известной долей фантазии и научного вымысла. Время, о котором культуры прошедшие,
от нас дальние, вопрошали владыку мертвых и в мифе и ритуале верность ответам
слышанным хранили. Потому ли культуры дальние, «ритуально символические» ,
критического вопрошания не принимали и вопросов «почему?» и «зачем?», образующих
обозримый горизонт нашего культурного опыта, сторонились.
На границе с иным, с «оным», где кончается история и горизонт нашего
опыта, в котором слова связаны лишь со словами, мысль — с мыслью, а дела — лишь
с делами, и начинается миф и ритуал, в котором мысль, слово и дело связаны друг
с другом и возвращены к своей первооснове, «владыка мертвых и первый умерший»
своей внутренней антиномией связывает и разделяет «здесь и там», очерчивая
вообразимый предел человеческой субъективности и исторической свободы. Граница
эта, внутренней антиномией отмеченная и персонифицированная, а потому именуемая
словом личным — Яма, а не абстрактно описываемая — «живая смерть», связывает
горизонт нашего опыта с его вертикальным истоком. Время мифа — время
вертикальное, качественное, событие несущее и сохраняющее, порождает в истории
действие «архетипичное». бывшее раз в ином-«6ном»-времени, где, по выражению
Мирчы Элиаде, оно было «произведено и пережито ранее кем-то другим, и притом не
человеком» 9 Время мифа — время непреходящее, оно «все время» есть и
есть, стало быть, то, что было, и чего никогда не было. Такова природа
мнимости невыдуманной, но существующей, которую обсуждал близкий к нам по
времени и месту поэт, ученый и провидец.
«А вы знаете, что природа чисел та, что там, где есть
да-числа и нет-числа (положительные и отрицательные существа), там есть и
мнимые (√—1)? Вот почему я хотел
настойчиво увидеть √—1 из человека и единицу, делимую на человека.
И его лицо преследовало меня всюду в шуме улиц».
(Велимир Хлебников. Ка2 )10
И если я и сопоставил фрагменты разновременные и разнородные, то лишь
затем, чтобы показать, что опыт космогонический не исчез вместе с культурой,
его постигающей, зримо и персонифицированно лично его представившей и перед
ним предстоящей, но и ныне в забытьи существует и из глубин памяти о себе
свидетельствует. О том ясно дает понять и сопоставление, в котором Ф. Б. Я.
Кейпер угадал за пренатальным психическим опытом основы космогонические, связав
пребывание «мирового яйца» в первичных водах мира с «океаническим чувством»
Фрейда, с ощущением «одной лишь бесконечности и того, что яйцо составляет
часть этой бесконечности...» 11. И в снах «данный опыт часто
предстает в виде больших водных пространств, а также представлений о
коллективности...»12 Надо признать, что свидетельства эти невнятные
и безликие, на вопрос «кто?» в отличие от мифа не отвечающие, а стало быть и
историей неперсонифицированные, и если последняя и встречается с ними лично на
одном из своих поворотов, то в ужасе не отшатывается.
На этом первом этапе космогонии ни миф, ни сопоставления не кончаются,
а доходят они до конца определенности, до самых «сумерек Богов», не выдержавших
рождения сознания и не вынесших человека разумного'13, а потому
изгнанных в страну мертвых и оставивших мир в неопределенности относительно
дальнейшего своего пути. Этой-то сущностной чертой отмечена, согласно М.
Хайдеггеру, эпоха Нового времени, поставленная в состояние «обезбоженное», в
«состояние нерешенности относительно бога и богов»14.
Эта фундаментальная неопределенность и не дает Новому времени
воплотить свои последние принципы и явить торжество разума и воли человека, а
если уж оно со всей страстью к этому устремится, то, может статься, это будут
совсем иные принципы, чем те, на которые она рассчитывала по мере своего
самосознания.
И все же одну оговорку необходимо сделать по отношению к предыдущему
абзацу и интерпретации, в нем представленной. Дело в том, что «разум»,
угрожающий верховным богам мифа, — это еще не столько разум человеческий,
сколько похожий на него, отмеченный и умом, и хитростью, но принадлежащий
персонажам мифическим, «второму поколению богов» 15, а потому расстающийся
не с мифом, а с его началом, сохранив его не в своей природе, но в структуре и
тем самым создав предпосылку Для перехода в историю и в горизонт исторической
культуры, мороком антиномий исторический путь размечивая и второй неопределенностью
наделяя. Эта-то «вторая неопределенность» и прозвучала с особой силой в трудах
глашатаев европейской судьбы XX века Фридриха
Ницше и Освальда Шпенглера, имена которых и доныне затемняет печать
экстравагантности, которой старая и новая философская критика их отметила. Но
та же самая критика — и если б она одна! — вздрогнула, оказавшись перед лицом
праисторического ужаса, когда вслед раздавшемуся «петушиному крику» 16
во тьме «слишком человеческого Просвещения» грянул «возрожденческий, слишком
сверхчеловеческий»17 рассвет. Недобрый песенник и сказочник
Заратустра рассказывал не сказки, а возвещал миф, в котором слова сольются с
делами, да только, по древнему учению Гераклита Темного, в «гармонии
перевернутой» (51 DK), в которой сошлись «лук и
лира», образуя становящийся морок истории XX века, зовущего не «к миру, но к победе», не к
«счастью, но к делу»18, ибо и Гераклит учил, что «луку имя —
«жизнь», а дело — смерть» (48 DK)19.
В ситуации принципиально новой, когда первоначально единое «древо
жизни» разделено различием «старших и младших богов»20, нарушившим
космический союз, когда разум восстал против своей божественной вертикальной
основы, все же оставшись пребывать в границах мифа, утрачено доверие человека к
тео-космическим «архетипам» культуры — в пределе полностью
де-ритуализированной, о чем и свидетельствовано и пророчено в тексте,
начинающем учение о карме и сансаре, о «двух ритуальных путях» и намечающем
два «типа знания»: «Те же, кто этих двух путей не знает, становятся червями,
мошками21, кусающимися тварями» (БрУп 6.2), — он не может более
принести «жертву знанием» (даже лишь возможным, как в истории Адама), как того
требует вера и равно формула Вед22, чтобы вернуться к началу, во
время сакральное и «оное». Происходит замена, образующая бьющую в глаза
параллель к библейской драме грехопадения. Ибо на вопрос «Не ел ли ты от
дерева, с которого Я запретил тебе есть? Адам сказал: жена, которую Ты мне дал,
она дала мне от дерева, и я ел» (Быт. 3, 11 —12). Иными словами: «Я ел, потому
что мне дала жена, потому что ее сотворил ты». Затем и последовало изгнание из
рая, ибо «с такой логикой, конечно, в раю делать нечего»23.
Происходит замена знания ритуального, которое во всякого рода объяснениях спрашивающему
и непросящему отказывает, предписывающего, на логическое, объяснение
предлагающее, предписывающую функцию текста ослабляющее и устраняющее,
происходит замена Веды — Логосом, видения — наблюдением, «бытия в сущем» —
знанием о существующем. Так боги покидали землю, свершив свой путь — «путь
богов» — в обратном космогонии направлении, оставив человеку «путь предков»,
начало которому на земле, на земле ему и конец, «из праха в прах». И след «пути
богов» — учение о нем сакрального текста — остывал, уходил в глубины истории, в
забвение, что, по выражению Мирчы Элиаде, означает конец мифа, когда набирает
силу трансформация космогонических богов в богов, удалившихся и безучастных к
дальнейшим судьбам мира, в мистическое "deus otiosus"24.
Напротив, «путь предков» в различных формах учения о «перевоплощении» и
«предсуществова-нии» получил широчайшее распространение в античном мире от
Пифагора и Гераклита до гностиков и Оригена, да и в Новое время Ницше, как мы
знаем, вовсе не был ему чужд, когда учил, что «души так же смертны, как тела.
Но связь причин, в которую вплетен я, вновь возвратится и вновь создаст меня!»25
Поэтому я соглашусь с Зигрид Хунке, что преодоление учений Ницше и
Шпенглера лежит на пути инволюции, на пути возвращения к космогоническому
истоку, к изначальному мифу, через мистическую традицию в западной философии и
теологии, согласно классификации Фридриха Хайлера, к этим истокам восходящую26.
«Демифологизация» — гибель мифа и гибель богов, о которой говорит
Элиаде, — на мой взгляд, процесс, до завершения которого весьма далеко, если
вообще возможно говорить об исключении мифа из социальной истории. Во-первых,
боги уходят не без следа, они оставляют пророчество, хранящее голос и несущее
весть-керигму, рождающую веру. Для тех же, кто почитает «веру как сущее» (БрУп
6.2), сакральный текст обещает «путь богов». «Демифологизация» при сохранении
керигмы приведет к свободе мифотворчества, что будет уже не мифом, а мифологемой,
по Вяч. Иванову, сознательной символизацией мифа27. Эта возможность
мифом учитывается, ибо «младшие боги» и есть мифологемы, позволяющие разуму
играть добром и злом, зрение и знание — но не видение! — обещавшие, и обещание,
кстати, выполнившие, сделавшие человека «как боги» и «вне бога» оставившие, то
ли выше, то ли ниже размышлять предоставившие. Керигма и миф, пророчество и
космология есть результат все того же разделения «древа жизни» и «древа
познания».
Это разделение сохраняет в себе и отмеченное двусмысленностью
дохристианское слово «религия» ("religere"),
которое в своем исконном значении, как пишет Ф. Хайлер, означает то, что
«требует особого внимания», чем «нельзя пренебречь» (здесь оно
противопоставлено слову "negligere"),
то, «к чему следует приближаться с осторожностью», то, «что несет в себе
таинственную и первичную силу» — «мана»28. Религия в этом значении
указывает на предмет, своим присутствием континуально-горизонтальные связи
разрывающий, свидетельствующий об ином, «ужасном и удивительном святом» (Р.
Отто), встреча с которым рождает «благоговейный страх», пробуждающий
экзистенциальное знание о конечности своего существования и его безосновности
перед лицом первозданной стихии Космоса, этических различий не знающей,
пребывающей по ту сторону «дхармы и не-дхармы», «по ту сторону добра и
зла» . В этом ракурсе Христос есть абсолютная
этическая граница истории, за которую переходить не следует и ни с какими
абсолютами не соединяться и от вопросов, выходящих за пределы истории,
воздерживаться. Во втором своем значении слово «религия» означает «связь» — в
пределе мистическое соединение человека и Бога, предполагающее прорыв за
историческое существование Христа, к его божественной природе. Логос,
представленный как связующее звено между человеком и Богом, как бы ни была
непостижима природа Христа в догмате, предполагает наличие онтологического
отношения постижимого разумом и культурологического требования переосмыслить
античность.
Вот этот путь переосмысления, а не отрицания внешнего и надолго на
неудачу обреченного, если вообще возможного, я рассмотрю на конкретном фрагменте
«Исповеди» бл. Августина, воплотившего опыт переживаний и поисков периода
жизни, когда прибыл он в Карфаген, в «живую смерть», где «котлом кипела
позорная любовь» . Эта конкретизация от темы нас не отклонит, ибо Августин
масштабами исторического значения своей личности границы индивидуальные
разрывает, соединяя трагедию человека с трагедией культуры, выявляя ее
антропологическую основу, а учением о субъективности времени соединяет человека
с мистерией космоса. Поэтому не стоит пренебрегать «осенними подробностями
жизни», противопоставляя им «загадки вечные»31, а, напротив, следует
сосредоточить на них внимание самое пристальное, что не свидетельствует о
«проявлении болезненной впечатлительности» (или, точнее, свидетельствует о ней
лишь на первый взгляд) не «современного ума»32, но вскрывает
неочевидное-бесконечное, «бесконечное в малом»33. Проявляя к
«мелочам» внимание, а в анализе их поразительную настойчивость и проницательность,
христианская мысль открывала последствия неочевидные, ускользающие от внимания
сознания повседневного. У истоков разработки этой тематики и инструментария,
пригодного для ее анализа, и стоял Августин, пережив трагедию среды и
культуры, в которую попал, лично.
Окунувшись в наслаждения социальной среды, выше названной, Августин
пережил не только наслаждение, но и неясное, осмысленное лишь в ретроспективе
«Исповеди» напряжение, тревожащее и беспокоящее его внутренний мир, в описании
которого появляется хаос смыслов противоречивых и антиномичных: «любил»,
«ненавидел», «томился», «искал», «голодал» и др. Это нагромождение
результируется изящным, сильным и удивительно парадоксальным выражением: «Я
еще не любил, и любил любить» .
Как любовь к кому-то оборачивается любовью самого себя? Как возрастает
смысловая дистанция между «Я» и «Ты», лишающая внутренний мир устойчивой опоры
и онтологии? Восстановим пунктирно линию этого превращения. Любовь — это
конкретное отношение к конкретному человеку, не размещающегося в плоскости
собственного внутреннего мира, это отношение "Я" и «Ты», где «Ты»
такой же, как «Я». В этом смысле любовь предполагает равенство, в горизонте
культуры и общества неустранимое, любить можно только личность. Любовь,
стремящаяся к подчинению себе предмета, к поглощению его своим желанием и волей,
лишает его прежде всего личностной основы, важным становится не сам предмет
любви, а цель вне его, то, что можно достичь посредством него. Он должен стать
полностью прозрачным для воли и чувств другого, где другой — «Я сам». Важно
лишить предмет его метафизической основы, дарующей ему собственный смысл и
суверенитет, того, что делает его «вещью в себе», если воспользоваться здесь
понятием классической философии. На первый план выходят стороны предмета,
посредством которых достигаются индивидуальные, культурные и социальные цели;
так он подчиняется и тиражируется. Неважным оказывается все неповторимо
уникальное, все то, что не позволяет тиражировать «удобную нам» личность, все
то, что и есть «личностное начало». Простая индивидуальность — это уже
абстракция. Прогрессирующее обезличивание превращает любую индивидуальность в
индивидуальность абстрактную, в которой выделяется «самая главная сторона»,
только то, что нужно. Единственным действительным предметом, а стало быть,
предметом любви оказывается и объявляется «Я сам», конституирующий себя в
качестве единственной реальности, несущей миру смысл и диктующей ему волю. Все
остальные и всё остальное — лишь средства, лишенные собственного смысла и
права на свои собственные цели, лишь количество, «масса». За стремлением
человека лишить мир метафизической основы Августин усматривает частный интерес
человека, которому для реализации себя нужен не мир, а видимость мира — «живая
смерть» — мир, лишенный в перспективе человека (и ангажированный ею)
собственной онтологической основы. В этом он и увидит суть «первородного греха»
и предмет его исповеди. Как известно, развитие по этой сюжетной линии было
прервано обращением Августина к сакральному тексту, где в выбранной наугад
странице он прочел: «Не в пирах и в пьянстве, не в спальнях и не в распутстве,
не в ссорах и в зависти: облекитесь в Господа Иисуса Христа и попечение о плоти
не превращайте в похоти» (см.: Рим. 13, 13—14)35. Августин прервал
развитие этого сюжета, предоставив резюмировать его конец другим, история
которых смысла иметь не будет, разве что оставив им одну непокоренную и
неотменяемую реальность — смерть, сам же вернувшись в жизнь. Я все же резюмирую
этот сюжет не столь ясными словами одного из героев А. Камю: «Этот мир лишен
смысла, и тот, кто осознал это, обретает свободу»36.
Если в начале сюжетной линии смысл этого выражения отнесен к «Ты», то
в конце он неизбежно будет отнесен к «Я», возвращен ему природой с той силой,
что раскроет глаза на «смерть» как на последнее благо и последнюю надежду, раскроет
ему глаза на смысл «последней мистерии» природы, что и выразил Артур Рембо, но
не прежде, чем попытался «достичь неизвестного расстройством всех чувств»37,
неприкрытой смыслом и свободной природы
Там, Истину узнав, беседуя со Смертью
И грезя без конца, все ночи напролет,
Таинственную Смерть сестрою милосердья
Всем существом своим впервые назовет.
(Артур Рембо. Сестры милосердия) 38
После того как я наметил пунктир сюжетной линии, стараясь очертить и
ее крайние точки, вернемся к выражению Августина, чтобы взглянуть на него с
риторической точки зрения. Свое состояние Августин передает парадоксом, в
котором очевидная реальность — «не любил» — отрицается, а затем замещается
значительно менее очевидной — «любил любить». Место отрицания занимает
отрицающая инстанция, и, следовательно, речь идет об акте любви, который лишен
основания, или, точнее, всякий раз разрушает основу своего собственного
существования, вспыхивая, чтобы погибнуть, не преодолев, а усилив внутренний
разлад, вернуться и обратиться в «прах». Если перевести эти положения на язык
риторики, то мы можем фиксировать предельное, бесконечное отклонение от нормы,
отклонение, лишенное нормы. Поскольку Августин прочно связывает себя со средой
и культурой, в которые он попал, то масштаб этой интроспекции заведомо
выходит за границы индивидуального восприятия, порождая вопрос о наличии в
существующей культуре и обществе оснований для иного, праведного образа жизни.
Расширяя границы своей интроспекции, Августин найдет ряд положений, которые в
это основание входят, но прочности вне христианства не имеют. Вывод хоть и
неутешительный, но и не ригористичный, как, например, монтанизм Тертуллиана.
«Любил любить» — приговор, который выносит Августин не только себе, но и
существующему миру, утратившему прочность основания и беспорочность чувств,
бесконечно отклонившемуся от истины и потому не могущему преодолеть свою
агонию.
Если мы приблизим выражение Августина к повседневному опыту жизни, то
оно должно быть значительно ослаблено. То, что в повседневном опыте разрушает
чистоту чувств и естественное «дыхание любви», он назовет «дыханием желания»,
в ракурсе же своего анализа — «дыханием ада» («адским дыханием желания»), но
это не просто «естественная смерть», это желание смерти и «живая смерть» —
мнимость, кажимость, мистерия.
«Любил любить» — это не только фигура риторическая, но формула
ритуальная, знаменитое «тождество тождеств»39. Ритуал — жизнь
культур прошлых — для Августина лишь техническая риторическая формула, лишь
форма ритуала, равно как грандиозные римские культы в ту эпоху практически
полностью утратили свой сакральный смысл, приобретя политическое и культурное
значение . «И от всех своих подданных Рим требовал только одного: внешнего
участия в... государственном культе, как выражение лояльности, как подчинения
себя римским ценностям и включения в римскую традицию. Сжечь несколько зерен
ладана перед изображениями отечественных богов, назвать императора «Господом»,
исполнить обряд — вот всё, что требовалось от гражданина, и, исполнив это, он
был свободен искать подлинной веры или вечного смысла жизни где угодно»41.
Если результатом ритуала, «плодом» было «сакральное тело», «второе рождение» —
благо-родство, то здесь мы приходим к результату, прямо противоположному, к
десакрализованной культуре, использующей мифы и ритуалы в своих собственных
целях, но ритуальную функцию выполнить не способной, «летящей на свет,
попадающей в пламя»42. Дело не в том, что у культуры не было души,
скорее у нее не было «плоти», распадающейся и сгорающей в чувственной стихии,
«плоти», о которой призывал заботиться священный текст, и потому никакие
гностические системы этот мир не спасали, ибо учения о «воскресении тела» не
содержали43.
«Живая смерть» — «море призраков» (В. Хлебников)44, морок,
игра смыслов в антиномии , мнимость46, произвольная и естественная
одновременно47, сохраняющая структуру ритуального символизма и
парадоксально обращающая её, на место «тождества тождеств» ставящая
«Лротиворечие противоречий» («гармония перевернутая»). «Призрак», как
известно, — существо бесплотное, ни жить, ни умереть не могущее, в истории свое
противоречие не решающее и требующее взгляда иного, оного, слова вертикального,
но, как свидетельствует современный апокриф, «у лишенного плоти нет ни бога,
ни деяний»48, и, стало быть, нет у него того, что я, вслед за Р.
Бартом, называю вертикальным измерением, того «опыта плоти», что создает
напряжение в слове, в пределе разорванном и смолкшем, и даже «невысказанное становится
формой сказанного»49. Вера — то «вертикально сущее», что принес
Августин в умирающий античный мир, прозрев за его агонией агонию Христа,
восстанавливающего «древо жизни» тем, что соединил его Крестом50.
История и даже Космос в свете концепции времени Августина охватываются
субъективностью, следовательно, и решения жизненные ищутся им не в
исторической и не в этической плоскости, но в области метафизической и
мистической, восходящей к мифологической основе. «Верую, чтобы понимать»
("Credo ut intelligam") — максима
Августина, одновременно выражает то, что я назвал древним словом «керигма», на
котором настаивал Рудольф Бультман, и требует переосмыслить миф.
Вспомогательные сопоставления с максимой другого знаменитого апологета
христианства, уже упомянутого мной ранее, — Тертуллиана, помогут точнее понять
это положение.
Мысль Августина движется по логике парадокса, мысль Тертуллиана — по
логике антиномии51. Тертуллиан требует отказа от культурного и
философского наследия античности, закрепленного в последующем максимой, ему
приписываемой: «Верую, ибо абсурдно» ("Credo quia absurdum est");
Августин требует переосмысления в свете истины христианства — «Верую, чтобы
понимать». У Тертуллиана античность и христианство — рядоположенные и
противоположные миры, у Августина античная культура в христианстве приобретает
внутреннюю прочность и силу, а христианство — широту52. У
Тертуллиана человек оказывается в точке пересечения противоположных сил, в
точке эсхатологии, у Августина — в сфере их действия и в эсхатологической
перспективе. Вера Тертуллиана открывает иную «физику» мира, вера Августина —
его метафизическое основание03.
То новое, что внес Августин в последний синтез античной мысли — в
неоплатонизм, пролагая ему путь в Возрождение, в его прошлое и будущее, точно
отмечено и резюмировано А. Ф. Лосевым, и потому я ограничусь здесь цитатой.
«Греческий и восточный неоплатонизм являются системами слишком логическими,
слишком абстрактно-философскими, слишком объективно-онтологическими. Им чужда
та теплота чувства, та субъективная взволнованность, та жажда покаяния и искупления
и вообще вся та субъективно-психическая жизнь, которую Августин так с глубиной
и блеском выразил в своей «Исповеди». Дело не в том, что у него не все так
точно и диалектично, как в законченном неоплатонизме. Поэтому как ни близок
неоплатонизм к западному Ренессансу и как ни является его основой или, вернее,
одной из основ, все же он не может заменить августиновских слез, августиновской
интимности переживания и авхустиновской сердечной любви к христианскому
учению, хотя бы еще и далекому от окончательных логических формулировок»54.
В Возрождении, конечно, было всего много и много разного: и «слишком
человеческих» слез и переживаний, которым христианство придало особый смысл и
глубину, и слишком «сверхчеловеческого смеха», принесенного другими богами, богами
мифов и мифологем, враз ожившими и в историю ворвавшимися, в мистическом
соединении влекущими ее в «по ту сторону добра и зла». Слишком многие «сверхчеловечные»
не остановились там, где прервал свой путь Августин, обратившись к священному
тексту, а исчерпали путь, до конца, став для Ницше и истории прообразами
будущих Заратустр55.
Что же касается борьбы христианства с монтанизмом Тертуллиана, то это
был ключевой момент для истории христианства, что справедливо подчеркивает А.
Шмеман56. В лице Тертуллиана христианству пришлось выступить против
собственного этического идеала, понятого абсолютно, пришлось встать перед
необходимостью осудить не зло, а проистекающий из абсолютного идеала добра
нравственный ригоризм, пришлось осудить наиболее требовательных и непримиримых
последователей* Необходимо оказалось дать более продуманное и глубокое
понимание исторической реальности, обосновать ее перед лицом этических
требований, противопоставить этику метафизике5'. С новой силой
эта«проблема проявила себя много позже, в споре Лютера с католической церковью.
Как хорошо заметил Ф. Хайлер, онтологии католицизма Лютер противопоставил этику
протестантской проповеди, он же предпринял решительную попытку
демифологизировать христианство и устранить из него мистику. Но то было не
только личное желание Лютера и понимание им христианства, то было и проявление
глубинной сущности Нового времени.
«Десакрализация», обезбоженность, по мнению М. Хайдегге-ра, глубоко эти
проблемы уяснившего, относятся к сущностным чертам Нового времени. Сущность же
Нового времени он усматривает в его новизне, где последняя понимается не
исторически, но сущностно, то есть Новое время не потому новое, что ему предшествовало
какое-либо старое, а сущностно, в том смысле, что оно всегда должно быть новым 8.
Метафизическая установка культурной эпохи на первый план выводит не какую-либо
«сущностную предметность» — историческую цель, а само изменение. Поэтому все
связи и отношения, которые укореняли человека и мир в неизменном и вечном,
должны оборваться, и только их уничтожение позволяет Новому времени
реализовать свою сущность59.
Религия же есть учение об Абсолютном в его связи с относительным 60,
и в этом качестве она оказывается поперек метафизической установки времени,
поперек пути к цели, которую стремится реализовать и все более стремительно
реализует новая и новейшая история. Эпоха Нового времени знает только одну
абсолютную реальность — само изменение, или, другими словами, абсолют исторического
процесса. Но если человек и мир вовлекаются в постоянный процесс изменения, то
боги, «существующие в истории», вовлекаются в процесс распада. (Умирая, они становятся предметом исторического
изучения, расчленяются и
анатомируются в нем.) Эта формула дает описание сопряженных процессов —
поступательный социальный и
культурный прогресс оплачивается деструкцией и истощением
духовным. Боги уходят из истории, как о том ведал еще Гесиод в VII в. (до н.э.), возвестив в «Трудах и днях» о том, что
Совесть и Стыд, «отлетевши от смертных» «к вечным богам», закутались в
«белоснежный плащ» — свет, естественно, унося последний с собой на Олимп. И
если Правда и возвращается, то лишь в след губительному «Орку» — Аиду, владыке
подземному, одевшись во «мрак туманный» 61 , уже по сю сторону
Сумерек Богов. Но боги уходят не без следа, оставляя пророчество,
«про-свет в бытии»,
согласно Хайдеггеру, свидетельство-веру, согласно Лютеру, слово
поэтическое, память о них хранящее и s. святыню прославляющее (М. Хайдеггер, М.
Бланшо), человека к своему призванию обращающее (В. Козовой). I Но важно решительно
подчеркнуть, что этот
сопряженный процесс имеет меру, общий масштаб, ибо пророческую основу
религии Лютер выделил и осозналб2, причем выделил не абстрактно, а в
социальном процессе и социальный процесс на этой границе остановил,
контрреформацией положив предел культурной ломке и социальным реформам, с иными
пластами и горизонтами сознания связи обрезав: «поход против разума»,
устраняющий идею Логоса как связующее онтологическое отношение между человеком
и Богом и как связующее культурологическое отношение с неопла- тонизмом и
античной культурой, борьба с мистикой и католическим культом как почвой для
возрождения нехристианских идей, отказ от спасения через «добрые дела», что так
же идет из более глубоких и предшествующих христианству пластов религии, в которых
отношение «мир — Бог» проходит не по линии индивида, но сакрализуется
определенная сфера социальной жизни, характеризуемая типом деятельности;
историчность Христа, подчеркнутая им, ясно обозначает нижний предел истории,
видимый изнутри христианской культуры. Христос для Лютера — фигура прежде
всего не мистическая, не мифологическая, не ритуально-символическая, но
историческая и потому историческим событием вполне определенная и историю от
мифа отделившая, допускающая сверх-себя лишь пророчество о себе. Если говорить
о мифе по отношению к религии Лютера, то это — миф мертвый, пройденный, и
умертвлен и пройден он тем, что Христос своей личностью и «крестным путем» миф
символизировал, закрепил в нем этические значения и не оставил возможности игры
ими, и, напротив, снятие этих значений актуализирует миф с его «принципом
неисключенного третьего» (Я. Э. Голосовкер) 63. Надо признать, что
Ницше, сосредоточившись на критике этики христианства, проблему увидел
правильно, в ракурсе своих мифотворческих целей.
Именно историческая природа Христа определяет отношение «Бог — человек»
по линии индивида, где он становится последним оплотом сакрального, именно
история есть то, что определяет и ограничивает человеческую, «органическую»
природу Христа. Именно в этом историческом смысле к нему неприложима большая
посылка известного силлогизма «все люди смертны» и последующий вывод, что
выразил прекрасно один из героев Владимира Набокова: «Всякий человек смертен;
вы (или я) — человек; значит, вы может быть и не смертны. Почему? Да потому что
выбранный человек тем самым уже перестает быть всяким»64. Божественность
Христа в этом случае тождественна его Личности и уникальности, его уникальной
жизни и уникальной смерти, его «крестному пути».
Вопрос о масштабах социальных изменений имеет решающее значение для
судеб сакрального. То, что социальные ориентиры одновременно ориентиры и в
тесно связанном и сопряженном процессе духовной инволюции, я уже отметил выше.
Но что происходит по мере развития инволюции духа? Пунктир-указание на ответ
можно видеть — происходит конкретизация сакрального. На место абстрактного
бога схоластики и нерасчлененного единого мистики приходит индивидуальный образ
Христа. Миф, как замечал Р. Барт, уплотняет знаковую форму, наполняет ее
органикой и опытом тела, выражая в ней невыразимое, первозданную природу и
вольную игру стихий65. Другими словами, следующим шагом в этом
направлении мы вступаем в обитатель «живых» богов, подчиняющих и увлекающих
историю «в свое нечеловеческое прошлое». И учил Гераклит:
Вечность — дитя,
забавляющееся шашками (пессами): царство ребенка (DK 22 В 52).
* * *
При соответствующих масштабах социальных процессов, больших, чем те, для
которых Лютер обозначил сакральную и историческую границу, на авансцену
истории выходят архаичные, погруженные в природную стихию пласты сознания,
разыгрывая на «органе мира» свою собственную партитуру, извлекая музыку, этических
ограничений не знающую, вовлекая историю в свое «беспечное бытие-пение» (Р.-М.
Рильке)66. Масштабы, заданные социальной революцией в России,
чрезвычайно велики и прорывают все границы, очерченные предыдущей историей, вот
почему я говорю об этом социальном процессе не только как о «восстании масс»,
но как о «восстании богов», восстании обреченном, но и историю на муки
обрекающем.
Надо отметить, что в духовном становлении России для этого были и свои
предпосылки. В истории и философии духа в России давно зафиксирован и обоснован
разрыв, который оставил за границей исторического сознания целый пласт душевной
жизни — национальную душевную стихию и народную традицию. Если католицизм шел
путем синтеза по отношению к предшествующей культуре, протестантизм — путем
анализа, то путь русского православия лежал через выбор, через решение и
«самоотречение» (Вл. Соловьев). Католицизм строил свое здание на фундаменте из
многих кирпичей, протестантизм — на камне, православие в России — на «почве», и
тот процесс, который в ней происходил, остался за пределами истории и культуры,
но это не значит, что его не было. «В смутных глубинах народного подсознания,
как в каком-то историческом подполье, продолжается своя уже потаенная жизнь,
теперь двусмысленная и двоеверная. И в сущности слагаются две культуры: дневная
и ночная»67, — отмечает прот. Георгий Флоровский, «Эта вторая жизнь
протекает под спудом и не часто прорывается на историческую поверхность. Но
всегда чувствуется под нею, как кипящая и бурная лава»68. Последующий
процесс духовного развития вывел этот пласт душевной жизни за границы
социального самопознания, но не исключил его навсегда из жизни и истории.
Напротив, на соответствующих поворотах истории при соответствующих масштабах
социального процесса эта стихия прорывается, смещаясь от периферии жизни к ее
центру; тогда в историческом процессе возникают явления и персонажи,
сопричастность которым возможна лишь за рамками исторического самосознания, за
границами его темпоральной структуры как таковой; они требуют восприятия не в
горизонте «прошлое — настоящее — будущее», но в горизонте «всех времен», в
горизонте Вечности. Время историческое соприкасается с временем мифа, с иным, с
оным, с тем измерением, откуда приходят боги.
Жизненность общества, в котором ожили сакральные структуры сознания,
измеряется не количеством и качеством предметов, произведенных для
удовлетворения рациональных (как материальных, так и духовных потребностей), а
сохранением связи с сакральным или сакрализованным текстом, что требует
повторения того же самого и не приемлет установки Нового времени на изменение,
которую только и может реализовать десакрализованное общество. Сакральное
общество претендует не на новизну, а на исключительность.
При оценке этих процессов необходимо преодолеть узость и наивность как
антропоцентризма, так и социоцентризма. Наличие мифологической или
мифопоэтической компоненты в учении или социальном процессе не позволяет искать
решения проблем теории и социальной практики в сугубо антропологической или
социологической плоскости. Ибо миф по своей сути не социо- и
антро-поцентричен, а космологичен, и, стало быть, он не Космос соединяет с
началами человека и общества, а человека и общество воссоединяет с началами
Космоса, не допуская последнего господства воли и своезакония, но простирая
над ними высший смысл — судьбу. Антропоцентричный или социоцентричный подходы к
решениям будут иметь в качестве следствия произвольное смысло-творчество. Так,
сохранение антропоцентричной предпосылки допускает дальнейшее осмысление либо
в форме конструирования мифа (например, миф Ницше «о вечном возвращении»), либо
в форме мифопоэтического истолкования (например, оставленный Ницше
нереализованным замысел трагедии о новом Прометее) космогонического начала
(например, «воли к власти»), допускает историческую верификацию мифа
(например, ставя ее в зависимость от «сверхчеловечности» человека). Но это есть
разрушение мифа, превращение его в утопию, разрушающую тайну Космоса, но и лишенную
условий реализации, которая обрекает человека на путь саморазрушения. Так
заканчивается дерзание человека «стать не только превыше богов, но и превыше
Мойр, то есть самих законов природы, чтобы исправить и преобразить не только
бывание, как форму культуры, но и само бытие, как константную форму природы» lj. Еще раз подчеркну, что миф никакой последовательной
социо- и антропоцентричной позиции не выносит, о чем, кстати, намекнул нам в
своей древней загадке Сфинкс, проводив, прежде чем умереть, Эдипа в историю
своей двусмысленной улыбкой.
Потрясающее разочарование, которое принес опыт XX века
(опыт реализации радикальных идеологий, усвоивших новые мифы от новых
Заратустр для новой породы людей, где-то в глубине веков затерявшихся и
застрявших в праисторическом времени-безвременье, сознания не терпящим и
по-своему его устраняющим, где в месте между обезьяной и человеком расположен
«облом» Шариков), обращает нас со всей серьезностью к Заратустре старому и
истинному, подобий не знающему, к мифу, исторически сложившемуся, открывающему
историю тем, что разделил добро и зло.
Если антропология расширяет наше сознание до пределов всемирно-исторических,
то миф расширяет его до пределов космических. Вот это воссоединение истории и
космоса, человека и мифа ни у Ницше, ни у истории не получилось.
Пытающаяся сегодня преодолеть эту пропасть, следуя по стопам вестников
европейской судьбы, Зигрид Хунке70 ставит будущее Европы в
зависимость от отношения к Единому, по ту сторону дуализма находящемуся,
противопоставляя свой подход как ницшеанскому «Бог умер», так и значительно
более взвешенному гельдерлиновскому «Боги удалились». Дело не в том, что боги
удалились от нас, считает Хунке, а в том, что мы пошли не туда и ушли далеко к
другим берегам. Сейчас пришла пора возвращаться к себе. Следуя в этом вопросе
Хайдеггеру, она несколько расходится с ним в оценке местоположения современной
западной цивилизации в основополагающей индо-европейской мифологеме. Для
Хайдеггера над Западом ныне воцарилась ночь и время близко к полуночи, когда
особенно темно, но, возможно, это святая ночь. Ночь в канун Рождества. Хунке в
своих выводах идет дальше, она видит уже первые признаки рассвета, слышит
первые вести со своего берега, первые признаки наступления эпохи, расположенной
«по ту сторону Сумерек Богов».
В заключение своих размышлений я обращу внимание на возможности,
заложенные в имманентном развитии индо-европей-ского мифа, которые, как
кажется, недооценивает Зигрид Хунке. Я обращу внимание на присутствие мифотемы
возврата богов из сумерек страны мертвых. Но данная мифотема слишком осложнена
другими, предрекающими на этом пути катастрофу и «мировой пожар», который если
история и выдержит, и преодолеет, то лишь очутившись и очнувшись на другом
берегу, куда забросила и вынесла ее враз вышедшая из границ сознания и воли
стихия, и то будет уж совсем другая история.
БИБЛИОГРАФИЯ И ПРИМЕЧАНИЯ
1 Фрагмент
«Катха-упанишады» цитируется в переводе В. В. Шеворошкина по изданию:
Древнеиндийская философия. М. 1972. С. 232.
2
Современный исследователь философии Л. Витгенштейна отмечает, что текст (в
частности текст «Логико-философского трактата») выполняет, по крайней мере,
три основные функции: логическую, коммуникативную и «не-коммуникативную» с
присущей ей логикой мистического, логикой молчания, безмолвия. «Сам Л.
Витгенштейн, — отмечает М. Брагиери дель Анно, — иллюстрирует логику безмолвия
образом контура белого пятна на белом листе бумаги» (Braghieri D е 1 ГА
п п о М. Introduzione alia logica di Wittgenstein. Roma, 1980. P. 41).
3 Здесь
как нельзя более уместно было бы привести слова заключительного седьмого тезиса
«Логико-философского трактата», резюмирующего смысл всей проделанной Л.
Витгенштейном работы (на что он сам указывает в предисловии к тексту), однако
его формулировка столь популярна, что неизбежно порождает у читателя
значительный аналитический контекст, поэтому ее введение в текст потребовало
бы от меня обширных комментариев. Вот почему я выношу ее в примечания. «7. О
чем невозможно говорить, о том следует молчать» (Витгенштейн Л. Логико-философский
трактат. М. 1958. С. 97).
4 Этому
расширению понимания некоммуникативной функции слова мы обязаны работам Мориса
Бланшо и Вадима Козового. Подробнее об «интонационном молчании», о «крике
немоты», о «слове без образа» см.: KozovoT V. О poezii Benedikta Liv5iza//Cahiers
du Monde russe et sovietique XXX(1—2). 1989. P. 119—136; см. также в наст, изд.: Козовой В. Сфинкс.
5 Эту цитату я привожу в переводе В. Козового,
акцентирующем важный в данном случае смысл по: Kozovoi V. Op. cit. P. 131. В имеющемся русском переводе этот фрагмент
звучит так: «Эта вздыбившаяся речь способна наводить только ужас, ибо ее цель
не в том, чтобы связать человека с другими людьми, а в том, чтобы явить ему
самые обесчеловеченные образы Природы — в виде небес, ада, святости, детства,
безумия, наготы, материального мира и т. п.» (Барт Р. Нулевая степень письма.
С. 333//Семиотика. М. 1983. С. 306—349).
6
Витгенштейн Л. Ук. соч. С. 97 (6.522).
7 Там же.
С. 73 (5.511).
8
«Ритуальный символизм» — термин, введенный В. С. Семенцовым для характеристики
типа мышления и культуры, осуществляющихся по формуле «уа evam veda»
(«кто так знает»). Этот тип мышления несомненно свойствен носителям
брахманической культуры, авторам ведийского канона, на материале текстов
которого он и определяется и характеризуется в работе: Семенцов B.C. Проблемы
интерпретации брахманической прозы. Ритуальный символизм. М. 1981. См. так же:
Семенцов В. С. Проблема трансляции традиционной культуры на примере судьбы
Бхагавадгиты.//Восток — Запад. Исследования. Переводы. Публикации. М. 1988. С.
5—32.
9
Элиаде М. Космос и история. М. 1987. С. 33.
10
Фрагмент цит. по: Б а б к о в В. В. Между наукой и поэзией: «метабиоз» Велимира
Хлебникова. С. 144//Вопросы истории естествознания и техники. М. 1987. № 2. С.
136—147. Ср.: «Море призраков снова окружило меня. Я этим не смущался. Я знал,
что -\/1 нисколько не менее вещественно, чем 1; там, где есть 1, 2, 3, 4, там
есть и —1, и —2, —3, и У—1 и -\/—2, и -\/—3. Где есть один человек и другой
естественный ряд людей, там, конечно, есть и V— человека, и -у— 2 людей и л-людей = -J— m-людей. Я
сейчас, окруженный призраками, был 1= V—человека»
(Хлебников В. Скуфья скифа. Мистерия. С. 540—541//X лебников
В. Творения. М. 1987).
11 Кейпер
Ф. Б. Я. Труды по ведийскоой мифологии. М. 1986. С. 129.
12 Там же.
13 Там же.
С. 140.
14 Хайдеггер
М. Время картины мира. С. 93//Новая технократическая волна на Западе. М. 1986.
С. 93—118.
15
Кейпер Ф. Б. Я. Ук. соч. С. 136—141.
16 Так
культурная общественность определила появление на небосклоне европейской мысли
философии Ницше.
17 Козовой В. Сфинкс. Наст. изд. С. 382—430.
18
Ницше Ф. Так
говорил Заратустра. М.:
Интербук. 1990. С.
40, 292.
19
Фрагменты Гераклита приводятся по изданию: Фрагменты ранних греческих
философов. М. 1989. С. 199, 208 (Фрагменты 27, 39 соответственно).
20 См.
подробнее: Кейпер Ф. Б. Я. Ук. соч. С. 136—141.
21 В
цитату внесено исправление в соответствии с комментариями В. С. Се-менцова по
переводу. В цитированном тексте здесь — «птицами». См.: Семенцов В. С.
Проблемы... С. 134 (прим. 6).
22 Т. е. формула
«кто так знает» устраняет знание, не предписанное Ведами. «Жертва знанием»
возникает в процессе интериоризации ритуала как одна из форм его развития. См.
подробнее: Семенцов В. С. Ук. соч. С. 69.
Цитата из Брихадараньяка-упанишады (БрУп) приводится по: Семен-цов В.
С. Ук. соч. С. 71.
23 Там же. С. 105.
24
Полемику Ф. Б. Я. Кейпера с М. Элиаде по этому вопросу см.: Кейпер Ф. Б. Я.
Ук. соч. С. 112—117.
25 Ницше Ф. Ук. соч. С. 197. *
26 Н е i 1 е г F. Die Religionen der
Menschhet. Neu herausgegeben von Kurt Gol-dammer. Stuttgart. 1982. P. 22—25. См.:
Хайлер Ф. Наст. изд. С. 315—345. Широко известно на эту тему высказывание
переводчика трудов Ф. Ницше К. Е. Рольта: «Если бы Ницше изучал Дионисия, он
мог бы остаться христианином».
27 См. об
этом: Брагинская Н. В. Трагедия и ритуал у Вячеслава Иванова. С.
295//Архаический ритуал в фольклорных и раннелитературных памятниках М. 1988.
С. 294—329.
28 Для
слова «религия» Хайлер дает следующие параллели и эквиваленты из других языков:
кит. — chiao, инд. — dharma,
араб. — din, герм. — ё (Ср.: Ewigkeit и Ehe). Heiler F. Op. cit. P. 17.
29 Так
Фридрих Хайлер дает перевод-интерпретацию слов из «Катха-упани-шады»(2, 14),
приведенных в настоящей работе в эпиграфе: «отличным от дхармы и не-дхармы» (Heiler F. Op. cit. P. 150).
30
Августин. Исповедь. С. 73, 87//Богословские труды. М. 1978. Сб. 19. С. 71—264.
31 Ср.: Не знаю, решена ль Загадка зги
загробной, Но жизнь как тишина Осенняя — подробна. (Б. Пастернак)
32 Эти
цитаты взяты нами из комментария Б. Рассела к «Исповеди» Августина. Приведем
здесь более полный фрагмент: «Одно из первых происшествий его (Августина. — В.
В.) жизни, о которой рассказывается в «Исповеди», случилось с ним в детские
годы, и само по себе оно не особенно выделяет его из числа других детей. Оказывается,
вместе с несколькими товарищами, своими сверстниками, он обокрал грушевое
дерево соседа, хотя вовсе не был голоден, а у родителей дома были груши лучшего
качества. Всю свою жизнь Августин не переставал считать этот поступок
проявлением почти невероятной порочности... И он молит бога простить его... В
том же роде Августин тянет целых семь глав, и все из-за каких-то груш, сбитых с
дерева мальчишками-проказниками. Современный ум усмотрит в этом проявление
болезненной впечатлительности» (Рассел Б. История западной философии. С.
259—260//Рассел Б. Почему я не христианин. М. 1987. С. 219— 283).
33
«Бесконечность в малом менее очевидна. Все философы потерпели в этом вопросе
поражение, хотя порой и утверждали, что изучили его» (Паскаль Б. Мысли. С. 123 (№
72) //Л арошфукоФ. де, Паскаль Б., Лабрюйер Ж. де. Максимы. Мысли. Характеры.
М. 1974. С. 109—186).
34
Августин. У к. соч. С. 87. Напомним, что речь идет о ретроспективном анализе и
Августин выдерживает обратный порядок введения смыслов. Результат анализа дан
прежде процессов поиска. Мной учтен обратный порядок изложения.
35
Этот эпизод описан
в: Августин. У к.
соч. С. 147.
Цит по: там
же.
36 Эта
мысль вложена Альбером Камю в уста Калигуле в одноименной драме (Камю А.
Сочинения. М. 1989. С. 345).
37 Рембо
А.: «Я хочу быть поэтом, и я пытаюсь превратиться в ясновидца... Речь идет о
том, чтобы достичь неизвестного расстройством всех чувств» (цит. по: Андреев Л.
Г. Феномен Рембо. С. 25//Рембо А. Произведения. М. 1988, С. 5—45).
38 Рембо
А. Сестры милосердия. Перевод В. Орла. Цит. по: Рембо А. Ук. соч. С. 149.
39
Подробнее о смысле этой формулы см: Семенцов В. С. Проблемы интерпретации
брахманической прозы.
С серьезными отношениями к формальным культам протоиерей А. Шмеман
связывает и гонения на христиан: «Почти никто не верил в идолов, поклонения
которым требовали от христиан. Но вот и здесь — своим отказом исполнить это
требование христиане показывали, что они — почти одни — верили в них. Это
значит — даже во внешнем, политическом культе идолов видели власть Диавола,
оторвавшего мир от знания единого истинного Бога» (Шмеман А. Исторический путь
Православия. Париж. 1985. С. 59).
41 Шмеман
А. Ук. соч. С. 69.
42
Динамика разума, «воспламенного чувства», обсуждалась в различных религиозно-философских
культурных традициях. Параллели к ряду приведенных здесь размышлений Августина
можно обнаружить, например, и в индийском эпосе, в «Махабхарате», откуда и
взята цитата (Махабхарата. Книга лесная. М. 1987 С. 20(60—69».
43 «Сила
гнозиса, и вместе с тем его ложь, заставившая Церковь напрячь против него все
свои силы, была в том, что, отводя Христу первое и центральное место, признавая
Его Логосом, Спасителем, Искупителем, гностические мыслители разлагали саму
сущность христианства, как веры в воплощение (подчеркнуто мной. — В.
В.) Бога, в пришествие Его в мир. В их толковании христианство превращалось
в своеобразную мифологичесую философию: в ней спасает уже не Слово, «ставшее
плотью», не победа смерти над смертью, не воскресение тела, а «знание», хотя и
одетое в «мистериальные» одежды» (Ш м е м а н А. Ук. соч. С. 68—69).
44
Хлебников В. Ук. соч. 540.
45 См.
исследование Р. Бартом структуры мифа в: Барт Р. Избранные работы. Семиотика.
Поэтика. М. 1989. С. 88—89.
46 Хлебников В. У к. соч. С. 540—541.
47 Б а
р т Р. Нулевая степень письма. С. 333—334.
48
Ясенский С. Миракли. М. 1990. С. 109.
49
Барт Р. Нулевая степень письма. С. 311.
51 Связь
христианской символики Креста с «деревом жизни» см.: Не i 1 е г F. Op. cit. P. 18—22.
Я использую различие антиномии и парадокса, проведенное В. С. Библером.
«Именно такая ситуация — логически необходимое движение, оканчивающееся — в
пределе — трансформацией исходных логических утверждений, и есть «парадокс» в
собственном смысле слова в отличие от «антиномии», основанной на параллелизме
двух взаимоисключающих определений (или двух цепочек определения) одного
логического субъекта» (Библер В. С. Галилей и логика мышления Нового времени
С. 500//Механика и цивилизация XVII — XIX вв. М. 1979. С. 448— 518). Авторы современного труда
по риторике раскрывают способ образования парадокса так: «Значимость парадокса
заключается в пробеге, который он заставляет совершать мысль от языкового
выражения к референту и обратно. Здесь не просто субституция сем, а опущение в
речи элементов реальности, которые не надо видеть» (Дюбуа Ж., Эдлин Ф.,
Клинкенберг Ж.-М., Менге Ф., Пир Ф„ Тринон А. Общая риторика. М. С. 258).
52
Хайлер Ф. Наст. изд. С. 315—345.
53 Вот
текст, составивший основу максимы, приписываемой в средние века Тертуллиану:
«Когда мы верим, мы не желаем ничего, кроме того, во что мы верим. Тем самым,
мы прежде всего верим в то, что ничего нет, кроме того, во что мы должны
верить».
«Cum credimus, nihil
desideramus ultra credere. Hoc enim prius credimus, non esse quod ultra credere
debeamus". Цит. no:Kretschmer K.
Die physische Erdkunde im christlichen Mittelalter//Geographische Abhandlungen
hrsg. von A. Penck. Wien — Olmiitz. 1889. Bd. IV. P. 2.
To, что Тертуллиан ищет решения проблем именно в
«физической» плоскости, неоднократно отмечалось исследователями. Особенно это
явно в решении им ха-мартиологической проблемы. См., например: Гусев Д.
Тертуллиан, пресвитер Карфагенский. Казань. 1898. Ч. II (Нравственно-практические сочинения Тер-туллиана). С.
51—52.
54
Лосев А. Ф. Эстетика Возрождения. М.
1982. С. 29.
55 Об этом
подробнее в: Давыдов Ю. А. Этика любви и метафизика своеволия. М. 1982.
56 О
борьбе с ересью Монтана (ок. 150 г.) см.: Шмеман А. Ук. соч. С. 84—88.
57 Там же.
58
Хайдеггер М. Ук. соч. С. 93—99.
59 Там же.
о. Карл Ранер, иллюстрируя эту мысль Хайдеггера, приводит следующий пример:
«Отмеченный феномен станет для нас осязаемо явным, если мь^рас-смотрим перемены
в моде, причем не только в одежде, но так же в искусстве, в предпочтении
определенной научной тематики и т. п. Мода не хочет ничего иного, как изменения
вокруг самой себя, независимо от того, является ли новое так же и лучшим, чем
прежнее, или нет» (R a h
n е г К. Institution und Freiheit. P. 44//Internatio-nal Dialog Zeitschrift. Freiburg —
Basel — Wien. 1971. 4 j/g. № 1. P.
39—48).
60
Карсавин Л. П. Католичество. Петроград. 1918. С. 3.
61 Цит.
по: Античная литература. Греция. Антология. М. 1989. Ч. I. С. 63—64.
62 Heiler F. Die
religionsgeschichtliche Bedeutung von Luther. Munchen. 1918. P. 18—28. См.
так же: Хайлер Ф. Наст, изд-е. С. 315—345.
63
«Принцип исключенного третьего гласит: из двух противоречащих суждений одно
должно быть истинным, другое ложным и между ними нет и не может быть нечего
среднего — люди могут быть либо живыми, либо мертвыми. Но логика чудесного
утверждает нечто третье: мертвые могут быть живыми и даже вечно живыми... Таким
образом логика чудесного замещает закон исключенного третьего законом
неисключенного третьего и тем самым создает положительное понятие абсурда»
(Голосовкер Я. Э. Логика мифа. С. 40. О других законах мира см: Там же. С.
204—205).
64 Набоков
В. Весна в Фильтре. М. 1989. С. 132. См. так же продолжение цитаты.
65
«Напротив, стиль обладает лишь вертикальным измерением, он погружен в глухие
тайники личностной памяти, сама его непроницаемость возникает из жизненного
опыта тела... Вот почему стиль — это неизменная тайна, однако его
безмол-ствующая сторона вовсе не связана с подвижной, чреватой постоянными
отсрочками природной речи... Тайна стиля — это то, о чем помнит само тело
писателя» (Барт Р. Нулевая степень письма. С. 311).
66 «Мир
человеческий есть всеобщий орган богов» (Новалис) (Цит. по: Манифесты западно-европейских
романтиков. М. 1980. С. 294).
«Песнь-бытие. Бог может петь беспечно» (Р.-М. Рильке). Перевод В.
Микуше-вича. (Рильке Р.-М. Ворпсведе. Огюст Роден. Письма. Стихи. М. 1971. С.
354.)
67 Флоровский Г. Пути русского богословия. 1979. Париж. С.
2—3.
68 Там же.
С. 3.
69
Голосовкер Я. Э. У к. соч. С. 113.
70 H u n k e S. Vom
Untergang des Abendlandes zum Aufgang Europas. BewuBtseins-wandelung und
Zukunftsperspektiven. West Germany. 1989. P. 320—325.
Раздел IV. АРХИВ
НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ К ИСТОРИИ РУССКОЙ СОЦИОЛОГИИ (П. А. СОРОКИН И Н. С. ТИМАШЕВ)
Питирим Александрович Сорокин (1889—1968) —громкое имя в истории
социологии XX века. К сожалению, после его высылки из Советской
России в 1922 году его научные труды оказались под запретом и само имя его было
предано, как тогда казалось, «вечному» забвению. Очутившись на Западе (сначала
в Чехословакии, где он успел издать книгу «Современное состояние России», а затем
в Соединенных Штатах, ставших ему второй родиной), Сорокин довольно быстро
выдвинулся в число ведущих американских социологов. Но поскольку у нас в стране
практически до начала 60-х годов социология как наука числилась в одном ряду с
генетикой и кибернетикой, Сорокин, уже всемирно известный ученый, на одной
шестой части суши продолжал оставаться в небытии.
В конце 60-х годов ситуация изменилась. Социология приобрела и у нас
кое-какие гражданские права, и одновременно с этим появились первые научные
работы о Сорокине: около десятка кандидатских диссертаций и десятка
полтора-два критических статей, опубликованных главным образом в специальных
малотиражных изданиях. Несмотря на свой вынужденно-критический характер, статьи
и диссертации эти все же внесли свой определенный положительный вклад в
растущую известность социологических идей Сорокина на родине. Во всяком случае
масштаб творческой личности ученого просматривался довольно отчетливо и в этих
работах. Излишне, наверное, напоминать, что сочинения Сорокина продолжали
оставаться под запретом. Удивительно тем не менее, что даже в разбушевавшихся в
начале 70-х годов волнах «самиздата» имя Питирима Сорокина так и не всплыло.
Страна была наполнена «ксероксами», «машинописями» и даже «рукописями» сочинений
опальных русских философов и историков, таких, как, например, Н. А. Бердяев, С.
Н. Булгаков, П. А. Флоренский, В. В. Розанов и многих других, за исключением,
однако, П. А. Сорокина, о котором даже самые могучие «интеллектуалы» с трудом
могли припомнить только то, что он когда-то кому-то сделал якобы очень «ценные
признания».
С тех пор, увы, мало что изменилось. Нашей широкой, очень жадно и
практически все подряд читающей поблике имя Питирима Сорокина почти
неизвестно. Здесь на ум приходят соображения о своеобразной иерархии
гуманитарных и социальных наук в глазах общественного мнения. Наверное,
закономерно, что ищущая мысль пробует сначала разрешить «вечные» вопросы, а
потом уже опускается на землю. Это нисколько не умаляет ни значения идей
Сорокина, ни значения самой социологии. В общественных науках, как и в любых
других науках, «обобщению» предшествует накопление определенной суммы фактов.
Поэтому пробуждающийся сейчас интерес к идеям Питирима Сорокина — явление
вполне закономерное и отрадное: оно свидетельствует об углублении
общественного сознания в нашей стране.
Подлинное «открытие» Сорокина предстоит нам, по-видимому, в ближайшие
годы. Кое-что уже сделано. Журнал «Социологические исследования» в течение
последних трех с половиной лет опубликовал целый ряд неизвестных ранее статей
и писем П. А. Сорокина (1987, № 5; 1988, № 4; 1989, № 6; 1990, № 2). В
Институте социологии АН СССР ведется работа по изданию пятитомного собрания
сочинения «русских» работ ученого, намечено издание и переводных его трудов.
Публикуемые здесь статьи Н. С. Тимашева избавляют нас от необходимости
излагать биографию Питирима Сорокина. Но, пожалуй, стоит сказать несколько
слов о самом Николае Сергеевиче Тимашеве (1896—1970), судьба которого во многом
напоминает судьбу его научного собрата. «Русско-американский социолог, правовед
и историк общественной мысли» — так обычно аттестуют Тимашева энциклопедии и
научные справочники. В 1916—1920 гг. он был профессором юриспруденции
Петроградского политехнического института, в 1921 г. эмигрировал: сначала, как
и Питирим Сорокин, в Чехословакию, а потом — в США. Он тоже выдвинулся в число
видных американских социологов; взгляды его на проблемы общей социологии
близки к взглядам Сорокина. До конца жизни Тимашев ревниво следил за событиями
на родине и часто довольно резко высказывался по поводу всего там происходившего.
Вместе с Р. Гулем он был редактором издаваемого в Нью-Йорке «Нового журнала».
Две его статьи о П. А. Сорокине были опубликованы в «Новом журнале»
соответственно в 1963(№ 74, с. 269—275) и 1968 гг. (№ 92, с. 278—282).
Хотя Тимашев, в отличие от П. А. Сорокина, живя в Америке, продолжал
довольно много писать по-русски, он, по-видимому, к концу жизни все больше и больше
забывал родной язык. Это особенно заметно во второй его статье, где некоторые
фразы, не теряя смысла, выглядят все же довольно неуклюже и как бы повисают в
воздухе, не имея сил дойти до точки. Это не редакторская недоработка, это —
горестное свидетельство забвения родины (и родиной в то же время), еще одно
свидетельство величайшей трагедии России, подлинную цену которой по силам
уплатить только нескольким поколениям.
В. В. Сапов Я.
С. Тимашев.
ТРИ КНИГИ О П. А. СОРОКИНЕ*
*
A Long Journey, by Pitirim A. Sorokin. New Haven; College and University Press;
1963, 327 p.;
Pitirim A. Sorokin in Review, by Philip A. Alien,
editor. Duke University Press; Durham, N. C., 527 p.;
Sociological
Theory, Values, and Sociocultural Change, by Edward Tiryakian, editor; the Free
Press of Glencoe, New York, 1963, 302 p.
Недавно
появившаяся автобиография Питирима Александровича Сорокина заслуживает
большого внимания. Это — жизнеописание человека, судьба которого во многом
напоминает судьбу Ломоносова. Оба родились на севере, Ломоносов — в Архангельской
губернии, Сорокин — в Вологодской, при том в дальнем ее северо-восточном углу,
в той ее части, которая нынче носит название автономной республики Коми
(зырян), от русского отца и матери-зырянки, но из сильно обрусевшей семьи;
мать его умерла очень рано. Как и Ломоносов, Сорокин не мог получить регулярного
низшего и среднего образования, а вынужден был учиться урывками, что в конечном
счете дало ему возможность сдать экзамен на аттестат зрелости и поступить в
университет. Как и Ломоносов, Сорокин интересовался многими науками, но
довольно рано остановился на социологии, которая в те времена не считалась
равноправной наукой. Ей он учился не столько в университете, сколько в
Психо-неврологическом институте. В отличие от Ломоносова, Сорокин увлекся
революционными идеями и несколько раз судился в царской России, так как
принадлежал к тогда запрещенной партии социалистов-революционеров. Но его
поразительная, почти сверхъестественная способность быстро усваивать фактические
данные и также быстро разбираться в чужих идеях не задержала его восхождение по
научному пути. Профессора юридического факультета Петроградского университета
не разделяли его идей. Но к чести русской науки, эти профессора были весьма
терпимы и быстро распознали в П. А. Сорокине человека, способного стать
выдающимся ученым; по сдаче «государственных экзаменов» он был «оставлен при
университете для подготовки к профессорской деятельности». В 1916 году он сдал
магистерские экзамены, а в 1920 году после блестящей защиты своей «Системы
социологии» был признан достойным стать «доктором социологии» (нововведение
революционного периода). В своей автобиографии Сорокин обстоятельно
рассказывает, чем была подготовка к научным степеням в старой России (эта глава
его автобиографии будет напечатана в ближайшей книге «Нового журнала» ).
Подготовка к
труднейшему экзамену не помешала Сорокину участвовать в событиях того времени.
После мартовской революции он стал секретарем главы временного правительства
А. Ф. Керенского; разгром этого правительства Сорокин пережил как тяжкий удар
— и не остался бездейственным. Он занял позицию борьбы с коммунистическим
правительством, был арестован и приговорен к смерти; он избежал ее только
благодаря вмешательству некоторых видных большевиков, с которыми встречался как
с лицами, как и он, оставленными при университете для подготовки к профессуре.
Однако эта бурная эпоха борьбы не помешала ему написать вышеупомянутую «Систему
социологии» и много других мелких работ.
К счастью для
науки, в 1922 г. П. А. Сорокин вместе с другими учеными и писателями был выслан
советским правительством из России. Думаю, что в этом шаге коммунистические
вожди впоследствии глубоко раскаивались, так как высланные ими повели на
Западе борьбу с коммунизмом.
В дальнейшем
судьба Сорокина может быть опять сближена с судьбой Ломоносова. За поразительно
короткое время Сорокину удалось получить признание западных ученых, европейских
и американских. Решительную роль в его судьбе сыграло его признанье американцами.
Вскоре после прибытия в Америку Сорокин получил ряд приглашений от разных
университетов — прочитать или отдельные лекции или серии лекций по тогда еще
малоизвестным вопросам, а именно — о русской революции вообще и о коммунистическом
строе, в частности. В одном из этих университетов, а именно в университете
Миннесоты, Сорокину удалось провести 6 плодотворных лет. За это время он
написал и опубликовал свои наименее спорные произведения — о социологии села
(Rural Sociology), о социальной подвижности (Social Mobility) и о современных
социологических теориях. Последний из этих трудов, вышедший в 1928 г., еще до
недавнего времени был принят во многих американских университетах в качестве
учебника по истории социологии; по непонятной причине в своей автобиографии
Сорокин его почти не упоминает.
В 1930 г.
совершенно неожиданно произошел перелом в жизни Сорокина; самый знаменитый
университет Соединенных Штатов, Гарвард, пригласил его сначала на серию лекций
и семинаров, а несколько позднее Сорокин получил приглашение от Гарвардского
университета — создать и возглавить новое отделенье по социологии; тогда таких
отделений в Америке было еще немного. Сорокин ревносшо принялся за дело и
создал очень «сильное» отделенье, которое вскоре стало руководящим центром
социологического развития в Америке.
Двенадцать лет
занимал Сорокин свой административный пост — обыкновенно главы отделений
«служат» три года, реже — шесть лет. В 1942 г. Сорокин был заменен на своем
посту новым восходящим «светилом», Т. Парсонсом, которого в самом начале своей
работы Сорокин отстоял от врагов — это происшествие Сорокин подробно описывает
в своей автобиографии.
После этого
Сорокин оставался еще 17 лет профессором социологии в Гарварде, пока не достиг
предельного возраста (70 лет). За четверть века своей деятельности в Гарварде
Сорокин создал свои знаменитые труды; это были «Социальная и культурная
динамика» (4 тома, 1937—1941), «Общество, культура и личность» (1947) и
множество других. За эти годы значение Сорокина стало предметом спора между
американскими социологами. Многих ученых, равно как и многих слушателей и
студентов, его мысли покоряли; но в других они вызывали отталкивание. Это впечатление
вынес пишущий эти строки, который в течение 4 лет был членом Гарвардского отделения
социологии, когда оно возглавлялось Сорокиным. Еще в 30-х годах была
выставлена его кандидатура на президентство союза американских социологов. На
выборах Сорокин потерпел незаслуженное поражение; коллеги предпочли ему другого
кандидата.
В 1959 г. Сорокин
вышел в отставку. Но еще за несколько лет до нее он перенес центр тяжести своей
работы в созданный им исследовательский институт по изучению чувства
альтруизма. Сорокин считает, что только путем перевоспитания как вождей, так и
ведомых ими масс на путях альтруизма можно обеспечить мир во всем мире. Как он
описывает в своей автобиографии, он как-то ие задавался вопросом, откуда
придут средства на эту работу. Он давно уверовал в свою счастливую звезду.
Совершенно неожиданно для него один крупный промышленник, по фамилии Лилли,
вдруг пожертвовал на это дело свыше 100 тысяч долларов. Сорокин получил
возможность развернуть свой институт и выпустить 12 томов, в значительной мере
состоящих из его собственных работ. Недавно вышеназванная сумма оказалась исчерпанной,
и институту пришлось несколько сжиматься.
Сам же Сорокин
нисколько не сокращает своей кипучей деятельности: он постоянно читает
отдельные лекции и циклы лекций и докладов в разных высших учебных заведениях,
американских и европейских; активно участвует в конференциях разных научных
обществ и вступает в полемику с другими социологами. Почти все это
запечатлевается в ученых трудах, продолжающих выходить с большой быстротой;
вышедший недавно список этих трудов занимает восемь страниц убористой печати;
они перечислены по годам, начиная с 1910 и кончая 1960 г.; список заканчивается
заметкой редакторов такого содержания: «список не полон, т. к. к нашей радости
Сорокин продолжает публиковать научные труды».
Заканчивающийся
1963 год был ознаменован тремя событиями, которые обосновали выдающееся
положение Сорокина среди современных социологов; два из них — появление двух
солидных томов с научными статьями — были приурочены к 70-летию Сорокина,
исполнившемуся в 1959 г., но книги не были готовы к сроку. Первый из этих
томов, под редакцией проф. Ф. Аллена из университета Вирджинии, озаглавленный
«Оглядываясь на Сорокина», составлен по следующему плану: сначала
автобиография Сорокина, которая в расширенном виде вышла в качестве отдельной
книги, рассмотренной выше; затем — серия 17 статей, написанных социологами,
высоко ценящими Сорокина, но готовыми и критиковать отдельные его положения.
Воспроизвести вкратце их содержание — решительно невозможно, т. к. статьи
очень специальны. Между соавторами материал был распределен редактором так, что
оказались затронутыми почти все стороны сорокинского ученья в их историческом
развитии и современном состоянии. Некоторые из этих статей, в особенности
последняя, профессора Колумбийского университета Мертона (в сотрудничестве с
проф. Барбером), являются блестящими научными работами. Тема ее — социология
знания или науки — одна из самых острых в современной социологии, заслуживает
серьезного обсуждения. Есть и другие превосходные статьи и, как всегда бывает в
сборниках, есть статьи и менее значительные. Пишущий эти строки дал статью о
сорокинских идеях относительно права, революции, войны и общественных
бедствий.
Меньшая часть
статей посвящена оценке учения Сорокина в разных странах — Англии, Италии и
Латинской Америке. Из них выделяется статья профессора Джини, который
откровенно отмечает некоторые дефекты в общей манере сорокинской работы и
передаче результатов читателям. По этому вопросу могут быть разные мнения;
скажу только — до сих пор Сорокин собирает многочисленные аудитории, не только
из студентов, но и из сложившихся ученых, готовых послушать талантливого
коллегу, который в своих докладах и возражениях не стесняется нарушить обычный
в Америке этикет — всегда говорить только приятное. Завершается сборник возражениями
Сорокина всем 17 соучастникам сборника; наибольшее место Сорокин уделяет
статье Мертона, которая того вполне заслуживает. За возражениями Сорокина, как
бы в качестве приложения, следует тщательно составленный список его ученых
трудов, упомянутый выше.
Другой сборник,
под редакцией его ученика, ныне профессора Е. Тириакиана, еще менее чем
предыдущий поддается краткой передаче. Он составлен по типу немецких
«Фестшрифт», т. е. юбилейных сборников, которые редко встречаются в
Соединенных Штатах. Редактор предложил всем соавторам свободу в выборе тем,
конечно, прямо или косвенно относящихся к социологии. Только первая из статей
(не считая обширного предисловия редактора), написанная проф. Артуром Дэвисом
из Саскачеванского университета, прямо посвящена Сорокину и озаглавлена «Уроки
Сорокина»; она довольно верно передает те впечатления, которые получают его
студенты, в особенности по Гарварду. Из других статей большого внимания
заслуживает статья Т. Парсонса, который разбирает вопрос о положении христианства
в современном индустриальном обществе. Он приходит к выводу, прямо противоположному
выводу Сорокина, имя которого не упоминает — но это типичная манера письма
Парсонса, соперника Сорокина по возглавлению современного социологического
мира.
Третье событие —
неожиданное избрание Сорокина председателем союза американских социологов на
1965 год. Обычная процедура выборов такова: председатель общества в данном
году назначает нескольких членов общества членами избирательной комиссии,
которая по большинству голосов составляет список кандидатов на подлежащие
замещению вакансии — в двойном числе; затем в начале календарного года список
рассылается всем полноправным членам общества, которые отмечают своего
кандидата и посылают свой избирательный бюллетень комиссии; та делает подсчет и
объявляет избранных кандидатов, получивших большинство.
Но кроме этой
обычной процедуры есть и чрезвычайная. Избирателям предоставлено право вместо
голосования за одного из официальных кандидатов «вписать» имя своего
избранника. Если такой кандидат получит меньше 25 голосов или менее 10% общего
числа поданных голосов, обыкновенная процедура остается в силе. Но если
какой-либо кандидат соберет больше 25 голосов и при том более 10% всех поданных
голосов, то избирательная комиссия заготовляет новый бюллетень, в котором имя
кандидата, предложенного избирателями, должно стоять наряду с двумя прежними.
Это гарантирует демократический характер выборов.
И вот в текущем
году, в виде чрезвычайного исключения, эта процедура была применена. Какое-то
число избирателей (цифра не сообщается) вписало имя П. А. Сорокина с
превышением уже упомянутых минимумов. Имя Сорокина появилось поэтому на вторичном
бюллетене наряду с кандидатами, рекомендованными избирательной комиссией,
кстати сказать, весьма почтенными авторами интересных трудов, и победило
последних — число голосов опять-таки не сообщается. Итак, избран был Сорокин,
30 лет назад не получивший большинства (и никогда больше не представленный в
избирательный список). Этим актом американские социологи искупили свой
тогдашний грех и освободили свое общество от сделанной тогда ошибки. Никто не
будет иметь права упрекнуть общество, что оно проглядело самого выдающегося
социолога первой половины 20-го века.
Т. к.
председатель общества избирается заранее, Сорокин станет фактическим
председателем в 1965 г. и возглавит съезд американских социологов, который
соберется в Чикаго осенью того же года.
Кончая, хочу
вернуться к тому, что есть много общего в судьбе Сорокина и Ломоносова. Оба
родились на «низах» русского общества, и оба поднялись до вершин, — став
учеными с известностью, распространившейся широко за пределы страны, где
протекала их деятельность — и оба вызвали немало зависти и злословия со стороны
других претендентов на высшие места. Но судьба их представляет и глубокое
различие: Ломоносов работал в пределах своего отечества, Сорокин завоевал себе
имя и положение в чужой стране. И все-таки его торжество — не только личное,
но, и торжество Петроградского университета и русской науки.
Я. С. Тимашев.
НАУЧНОЕ НАСЛЕДИЕ П. А. СОРОКИНА*
10-го февраля с.
г. скончался заслуженный проф. Гарвардского университета, самого старого в
Новом Свете и наиболее почитаемого в ученых и студенческих кругах. Скончался
П. А. в собственном доме, окруженном садом, в котором покойный охотно работал.
Незадолго перед смертью он праздновал с женой, специалисткой по биологии,
золотую свадьбу. Родился П. А. в январе 1889 г. в крестьянской семье, притом в
одном из самых глухих уголков Европейской России, в той части Вологодской
губернии, которая ныне стала именоваться автономной республикой Коми (зырян).
Редкая, завидная судьба! Она напоминает судьбу Ломоносова, который также
родился на крайнем севере России, в Хол-могорах, в Архангельской губернии, также
в крестьянской семье. Об этом я уже писал в «Новом журнале», кн. 79 *. В этой
статье я не буду говорить о биографии Сорокина, а вкратце обрисую вклад
Сорокина в ту науку, которой он посвятил жизнь, а именно в теоретическую
социологию. Прежде всего П. А. дал этой науке определение, которое было
принято чуть ли не всеми.
*
В кн. 79
статья, на которую
ссылается Н.С. Тимашев,
отсутствует. Данная статья помещена в кн. 74 (см. с. 455—460 настоящего
издания).
По его
определению, социология есть наука об обществе, занимающаяся теми свойствами
общества, которые проявляются во всех видах бытия и изменения общества, а также
соотношением между отдельными видами, напр., политическим и экономическим. Это
определение навеяно трудами проф. Л. Петражицкого, взгляды которого Сорокин
сохранил до самого конца своей научной деятельности. Петражицкий утверждал,
что если сам объект изучения состоит из п видов, то необходимо построить п-\-1
теорий, из которых п будет покрывать каждый из видов, и п + 1 -и — теорию,
которая их объединит. Это отнюдь не означает, что социология стоит выше наук
об отдельных видах общественных явлений, как учили некоторые ранние социологи.
Социология не выше, например, экономики или криминологии (т.е. науки о
преступлениях и наказаниях).
Итак, перед
Сорокиным, как и перед другими социологами, стояла задача установить элементы,
и, следуя за Зиммелем, одним из выдающихся немецких социологов конца XIX века,
Сорокин признал необходимым элементом каждого социального явления взаимодействие,
которое он определил так: взаимодействие дано, если действие А значительно или
ощутительно влияет на поведение Б; это последнее может влиять на важнейшие
действия А, но это не обязательно. Взаимодействие может проявляться в действиях
нескольких лиц, иными словами, привести к образованию целых цепей.
Если
взаимодействие между несколькими лицами часто повторяется, то можно сказать,
что эти лица образуют социальную группу, кратковременную или длительную.
Отдельные группы обнаруживают тенденцию сливаться в более или менее прочные
конгломераты, которые мы называем системами. Система — очень общее научное
понятие, которое может быть приложено не только к развитым социальным группам,
но и к идеям, например, система римского права, но такие системы в социологии
изучаются лишь в отдельных случаях.
Общества, из
которых слагаются системы, могут быть организованы, неорганизованы,
дезорганизованы. Каждое организованное общество несет какой-нибудь
«центральный» смысл или ценность; эта последняя часто сводится к «идее».
Центральное ядро непременно состоит из логически согласимых предложений. Нормы,
о которых тут говорит Сорокин, почти всегда начинаются «правовыми». Здесь
опять чувствуется влияние Л. Петражицкого, крупного русско-польского ученого,
которое осталось у Сорокина до самого конца.
Культура,
понятие, которому Сорокин отдал много труда, есть совокупность всего
сотворенного или признанного данным обществом на той или другой стадии его
развития. Некоторые культурные системы независимы от признания их; простейшим
примером может служить 2X2=4. Другие зависят от признания (напр., разные
физические теории). Многие системы могут быть объективированы, т. е. выражены в
форме, понятной многим. Наконец, отдельные системы могут стать
«социально-культурными», т. е. действенными в человеческих взаимоотношениях.
Главным
свойством социально-культурных систем является тенденция к объединению в
системы высших рангов, в которых отражаются смыслы и ценности отдельных систем.
Такие системы Сорокин называет «сверхсистемами», которые по необходимости
связаны с теми или другими населениями. К сожалению, Сорокин не дает
определения термину «население». Но он утверждает, что всякая сверхсистема
может быть разложима на пять следующих систем: язык, религия, искусство,
этика, наука. Но «сверхсистема» не совпадает с совокупностью культурных
ценностей, принимаемых данным населением. Кроме систематизированных элементов,
наблюдаемых в данном населении, в культуре данного общества попадаются пучки
смыслов (идей) и ценностей, несог-ласлмых с господствующей сверхсистемой. Так,
например, в России начала 19-го века господствовала культура, которую можно
было бы, по следам Уварова, именовать православной и самодержавной, но уже
тогда появлялись ростки атеизма и вера в демократию.
Термин
«система», как уже было сказано, применяется Сорокиным для обозначения целого,
состоящего из простых единиц, притом сохраняющих частичную автономию. Кстати,
определения не всегда удавались Сорокину, как и другим ученым. Так, напр.,
война определяется Сорокиным как схватка двух сил, стремящихся победить одна
другую. На этой почве трудно построить убедительную теорию войны. Да и сам
Сорокин не пользовался в своей «социальной и культурной динамике» таким
определением.
Весьма
значительно и убедительно Сорокинское построение типов культуры. На основе
внимательного изучения классической (т. е. греко-римской) культуры и
европейской культуры за два тысячелетия, Сорокин пришел к выводу, что основных
типов культуры только два — идейный и чувственный. Первый тип налицо, если
носители данной культуры основывают свои воззрения на господствующих идеях,
хотя бы весьма примитивных; второй — чувственный тип, — если большинство
носителей культуры обращает главное внимание на осязаемые чувствами предметы.
Между этими двумя основными типами обнаруживается два переходных типа. Один
из них Сорокин назвал идеалистическим (лучше было бы назвать — гармоническим,
чтобы не вызвать смешение с идейным). Этот промежуточный тип характеризуется
как сочетание двух основных типов, иными словами, слияние обоих элементов в
целое, в котором признается значение и идей и чувственно осязаемых предметов.
Образцами этого типа можно считать Золотой Век древней Греции (приблизительно
с V по IV век до Р. X.), а позже — Ренессанс. Другой промежуточный тип характеризуется
присутствием элементов обоих основных типов, однако противостоящих друг другу;
таковым было состояние Европы в первые века по Р. X., когда ростки
христианства противостояли все еще сильному язычеству.
Сорокинские типы
— не проявление какой-то страсти к классификации. Эти типы оказываются
«адекватными», т. е. подходящими для формулировки основной теории культурной и
социальной динамики. В 4-томном труде Сорокина, так озаглавленном, теории
волнообразного изменения культур — от идейного типа к гармоническому, а иногда
смешанному типу и дальше к чувственному типу, а через некоторое время обратное
движение к старому идейному типу, обыкновенно проходят через смешанный тип.
Критики Сорокина утверждали, что он присоединяется к тем мыслителям, которые
утверждают, что «история повторяется». Сорокин с полным основанием отвергает
такое толкование своих мыслей. Повторяются лишь центральные темы культур,
которые, однако, осуществляются в весьма разнообразных культурах в зависимости
от различных состояний таких ее элементов, как психика или религия. Сорокин
заявляет, что он не ручается за справедливость своей теории в отношении
культур, оставленных вне поля его зрения при построении своей теории. Но он
полагает, что его теория «волнообразного движения культур» применима к
культурам египетской, индийской, китайской, в которые он делает краткие
экскурсы. Только при более тщательном изучении этих культур можно будет
сказать, покрывает ли их его теория.
Но почему же
движутся, т. е. изменяются культуры? Сорокин отвечает: культуры движутся
имманентно, т. е. силами, в них заложенными, а не посторонними факторами, на
которых строили свои теории эволюционисты. Культуры изменяются, потому что
такова их природа. Носители культуры стремятся развить заложенные в ней силы и
доводят их до такого предела, что дальше идти некуда — при данном состоянии
техники, науки, религии и т. д. Тогда культура останавливается, а носители ее
поневоле обращаются к другим принципам. Но их только два — идеи или материальные
предметы; один из них представляется исчерпанным и приходится обращаться к
другому.
На почве своей
теории Сорокин предсказывает, что культура наших дней близка к «чувственному»
пределу и что ей придется остановиться и начать двигаться в направлении к
идейной культуре. Но так как движение «культуры» медленно, то никто из ныне
живущих людей не доживет до времени, когда можно будет сказать, оправдались ли
эти его предсказания (как, напр., оправдалось его предсказание, сделанное
очень давно, что наше время будет богато войнами и революциями).
Стоит сказать
несколько слов о мнении Сорокина о своей социологии. Он называет ее
«интегральной», т. е. пользующейся всеми источниками познания и наблюдения, и
рациональными выводами из них и «интуицией»; или сверхчувственным познанием,
которое он отождествляет с верой, что сомнительно, т. к. вера предполагает
признание какого-то авторитета, считающегося незыблемым (как христиане делают
со Священным Писанием); Сорокин ничего подобного не делает.
В этой статье я
кратко обрисовал то новое, что внес Сорокин в науку, которой он посвятил свою
жизнь. Кроме того, Сорокин внес свои идеи, часто поправки, в разные отрасли
социологии, напр., в учение о социальных классах и о передвижении людей из
одного класса в другой.
Можно быть
уверенным, что имя Сорокина прочно войдет в историю социологии. Вероятно, его
имя будет поминаться наряду с основателями социологии О. Контом и Г. Спенсером
и ее главными двигателями после них, напр., Э. Дюркгеймом и Максом Вебе-ром.
Среди нынешних социологов нет ученого столь же высокого ранга, как П. А.
Сорокин.
П. А.
Сорокин. РЕЦЕНЗИЯ
на книгу 3. Лилина. От
коммунистической семьи к коммунистическому обществу. Госуд. изд-во. Петроград,
1920, 104 стр. Ц. 40 руб.
Данная книга представляет
популярный курс того, что одни называют «историей культуры», другие —
«генетической социологией». Как и ряд других аналогичных работ, она содержит в
себе попытку схематического изложения основных этапов развития общественных
форм человечества. Сообразно с этим заданием в ней мы находим: характеристику
т. н. «первобытного общества», патриархально-родовой общины, феодального
общества, общества мелкобуржуазного, эпохи торгового капитала, промышленного
капитализма (в мануфактурный и машинный периоды); заканчивается книга
описанием диктатуры пролетариата и коммунистического общества. Основная линия
эволюции человечества в том виде, как ее понимает автор, точно выражена в
заглавии книги: это переход от первобытной коммунистической семьи к коммунистическому
обществу. Посредственные этапы — это неизбежные переходные станции. Само
коммунистическое общество так же неизбежно, как и все предыдущие.
Каждая эпоха
автором характеризуется с разных точек зрения; он описывает и способы
добывания средств существования, и технику, и психологию, и семейные отношения,
и организацию власти и т. д. Рядом с таким описанием им очерчиваются и причины
изменений. Главным фактором последних служит, конечно, «экономика».
Таково основное
содержание книги. Написана она живо, сжатым языком, «эмоционально». Посвящена
«юным коммунарам».
Если бы я
признавал возможность «истории культуры» или «генетической социологии» в таком
понимании, а равно и предпосылки, на которых последние строятся, то я должен
был бы признать рецензируемую книгу довольно удачной. Из популярных < работ
такого типа она одна из лучших. Но в силу целого ряда оснований (о которых
здесь не приходится говорить) такую «историю культуры» и такую «генетическую
социологию» как науку я считаю несуществующими. Под этими именами обычно
преподносится винегрет разных исторических данных. «Нельзя объять необъятное».
Все такие работы представляют смесь обрывков знаний. Не представляет отсюда
исключения и данная книга. Далее, даже и популярная книга (я бы сказал: в особенности
популярная)
не должна
допускать чрезмерные упрощения, существенные ошибки или спорные вопросы
выдавать за бесспорные. А такими фактами книга богата. Приведу примеры. Автор,
подобно многим марксистам, исходит из предпосылки однотипного развития различных
народов. Очерченные фазы эволюции он считает «обязательными» для всех народов.
Это спорно. Больше того, сейчас не без оснований большинство крупнейших
исследователей этого вопроса решает его в обратном смысле, в смысле
многолинейного, не однообразного пути развития разных групп и народов. Далее,
сама схема этапов автора (первобытно-коммунистическое общество, патриархально-родовая
община и т.д.), совершенно произвольна. Здесь даже и марксисты (см., напр., 1
т. «Русской истории» Н. А. Рожкова) не вполне сойдутся со схемой книги.
Примерами крупных фактических ошибок могут служить такие положения: 1) полный
коммунизм первобытной семьи и утверждения вроде таких, что «братство и
равенство было основой ее» (стр. 8), что здесь «все одинаково работают,
одинаково получают за свой труд по потребностям, нет ни угнетателей, ни
угнетаемых, все равны, все братья между собой» (стр. 12) и т. п. Руссо в свое
время мог так говорить, теперь, через полтораста лет, такие «идиллии» годны
только для детей младшего возраста. Они решительно не соответствуют
действительности. 2) Автор пишет: «в коммунистической семье женщина —
руководительница и начальница семейной группы или рода. Она —
умиротворительница и судья, — председательница на собраниях и хранительница
священного огня... Громадный труд (ее)... внушает к ней еще большее уважение
со стороны членов рода. Совершенно неправильно, след., утверждение буржуазных
ученых, верных слуг капитализма, что женщина и на первых порах общественной
жизни была рабою мужчины» (стр. 31). Мне было бы интересно знать, на каком
фундаменте построены эти категорические утверждения с обвинительным пунктом
гг. «буржуазных ученых»! Интересно было бы знать хоть один-два примера таких
«первобытных обществ». Боюсь, что автор их не укажет, и боюсь, что ничего,
кроме давно опровергнутой гипотезы Бахофена, он (автор) не сможет привести...
По крайней мере, сейчас трудно указать хотя бы одного компетентного
исследователя, придерживающегося таких взглядов. Не мешало бы поэтому немного
обуздать здесь «фантазию» и на место «нас возвышающего обмана» поставить «тьму
низких истин».
То же можно было
бы сказать о множестве других мест книги. Никакая научная популяризация не
имеет права искажать факты и выдавать свою фантазию за научные положения. Спорной,
конечно, становится и вся концепция автора вплоть до характеристики самого
коммунистического общества. Если эту характеристику понимать как очерк
грядущего идеального общества, то это одно дело, если же ее понимать как
характеристику существующего коммунизма, то она неверна, ибо «сущее» здесь
коренным образом расходится (пока) с этим «должным», идеальным обществом,
очерченным автором.
Издана книга
хорошо. С агитационной точки зрения в среде людей незнающих она достигнет своей
цели.
Письма
Письмо П. А. Сорокина Б. А. Лезину
(1913)
Извиняюсь, глубокоуважаемый Борис Александрович, за то, что не мог
сразу ответить на Ваше любезное письмо. Вместе с этим письмом я послал А. Л.
Погодину свою рецензию об его книге. Будет на нее рецензия и в «Заветах», хотя
не скоро. Т. Н. Райнов говорил мне, что у Вас скоро должен выйти том по теории
творчества. Если Вы будете добры прислать его мне лично, а если возможно и
моему товарищу Н. Д. Кондратьеву, то я с удовольствием бы написал об нем
рецензию в «Заветах», а он — в «Вестнике психологии». Если Вы будете добры
дать отзыв о моей книге в «X
Художественном) утре» или в «Родине» или вообще где-нибудь — я был бы Вам очень
и очень благодарен. Номер «Вестника психологии» .Вам высылает Т. Н. Райнов.
Искренно уважающий Вас П. Сорокин.
СПб. Угол Б. Гребецк. и Малого, д. 28—28, кв. 32
Письмо П. А.
Сорокина В. Н. Фигнер (1920-е гг.)
1 февр.
Глубокоуважаемая Вера Николаевна!
Спасибо за Ваше письмо. Моя поездка в Москву отпала. Но я мог бы
приехать для прочтения лекций, а также повидаться с друзьями на срок 1—8—9
марта. Если этот срок для Вас подходит, то известите и я приеду. Темы лекций я
мог бы предложить следующие:
1) Голод — как фактор, его влияние на поведение людей и социальные
процессы. Содержание: 1) понятие голода, 2) его физиологические и
психические эффекты, 3) депрессирование голодом стимулов: полового,
самосохранения, 4) деформация психосоциального «я» индивида: его души,
верований, убеждений, вкусов, право-нравственных воззрений под влиянием
голода. Социальные эффекты: изменение состава населения: смертность, болезни,
рождаемость. Голод и бунты. Голод и апатия. Голод и коммуниза-ция. Голод и
изменения общественного сознания. «Философия голода».
2) Две морали (мораль Толстого и мораль насилия). Характеристика
моральной системы Л. Толстого. Принцип самоценности личности. Вывод из нее:
непротивление злу, отрицание государства, права, всякого насилия. Мораль
насилия (Ницше. Сорель, революционеры). Толстой и современность. Чем велика
система морали Толстого.
3) Кризис современной семьи. Понятие семьи. Ее основные типы
В наше время: патриархальная, индивидуальная, «огосударствления».
Социальная роль семьи в ряду других коллективов. Ослабле-ше семьи как союза
супругов. Ослабление ее как союза родители и детей. Распадение семьи как
хозяйственного центра. Поте-)я семьей опекунско-воспитательной роли. Причины
кризиса. Его :мысл. Будущее семьи.
4) Знание и верование (Наука и религия). Понятие знания и
ве-эования (науки и религии). Их взаимоотношение. Их источник и лроисхождение.
Человек — Homo credens, а не Homo sapiens (неизбежность челов. глупости). Падают ли верования
и становятся ли люди более «знающими» и «менее верующими». Внеклассо-вость
науки и «классовость» верований. От чего зависит принятие или неприятие
верований? Современные формы религии: идеологии социализма, коммунизма,
демократизма, индивидуализма и т. д. как верования. Социальная роль знаний и
верований.
Если какая-нибудь из этих тем подойдет (я предпочитал бы 1 и 3, особенно
первую, но все равно), то готов приехать и пробарабанить. Само собой
разумеется, если нужны прения — пусть они будут. Если мое предложение подойдет
Вам — немедленно известите о времени (дне) лекции и теме, и я приеду.
Крепко жму Вашу руку.
Глубоко уважающий Вас
П. Сорокин
Адресуйте: или Петроград, Вас. Остр., 8 лин., д. 31, кв. 5 (тел.
500-35) или Петроград, Детское Село, Агрономический институт, б. Семейный
флигель, кв. 8.
NB: Вот еще тема:
«Социальный отбор в эпоху войн и революций» Борьба за существование и естеств. отбор. Отбор и
наследственность. Несходство людей. Какие элементы населения уничтожаются гл.
обр. в эпохи войн и революций? «Жатва смерти». Социальное значение этого
отбора. Почему война ведет к «социализму». Гибель народов и соц. отбор.
«Философия истории».
КОММЕНТАРИИ
Рецензия П. А. Сорокина публикуется по автографу, хранящемуся в ЦГАЛИ, ф.
1624, оп. 3, ед. хр. 10, лл. 2—3.
На л. 2 рукописи сверху написана карандашом фамилия «Максимов»
(вероятно, редактор, готовивший рецензию к печати). Помимо своего собственного
содержания публикуемая рукопись представляет интерес еще и как один из первых
документов советской цензуры. Все места, выделенные в ней курсивом, зачеркнуты
редактором, в угловые скобки заключены сделанные им смысловые вставки.
Зачеркивания эти в большинстве своем явно цензурного характера. В таком
изуродованном виде рецензия была опубликована в журнале «Вестник литературы»,
1920, № 8. С. 8—9.
На л. 1 того же архивного дела имеется машинописная справка: «Лилина
Злата Ионовна, лит. критик. Род. в 1882 г. в Друе, Виленской губ. В 1902 г.
окончила Митавскую гимназию и с этого года стала работать в
социал-демократических кружках. Лилина была широко известна как видная парт,
работница, член ряда съездов (в партию вступила в 1902 г. и после II съезда примкнула к большевикам). Долгое время (1902—3
и 1908—17) жила в эмиграции. В годы революции была членом ленинградского
совета 10-ти созывов. Последние годы работала в Наркомпросе, в Москве Лилина
составила хрестоматию памяти Ленина «Великий Вождь», редактировала книгу Г.
Белых и Л. Пантелеева «Республика Шкид» и т. д. Ей принадлежит также книга
«Детская художественная литература после Октябрьской революции» (изд.
«Культура», Киев, (1929). Скончалась 28 мая (1929) в ленинградской клинике
рентгенологического института от рака легких. Похоронена в Ленинграде на
Коммунистической площадке Александро-Невской Лавры — 30 мая». В этой справке
только забыт такой «малозначительный факт»: 3. И. Лилина — жена Г. Е.
Зиновьева.
Публикуется по автографу, хранящемуся в ЦГАЛИ, ф. 287, оп. 1, ед. хр.
23. Оригинал — почтовая карточка с адресом, написанным рукой Сорокина: «Г.
Харьков, Чернышевская ул. 37. Его Высокородию Б. А. Лезину». Датируется
на основании почтовых штампов: «СПб. 28.10.13. Харьков. 30.10.13».
Лезин Борис Александрович (р. 1880) — известный в свое время редактор
— издатель сборников «Вопросы теории и психологии творчества», выходивших в
Харькове в 1907—23 гг. В 1913 г. в Харькове был издан второй том его монографии
с тем же названием, что и издаваемые им сборники.
Погодин А. Л. (р. 1872) — проф. Харьковского университета, историк
литературы, филолог и археолог. В 1913 г. в Харькове вышла его книга «Язык как
творчество».
Райнов Тимофей Иванович (1888—1959) —университетский товарищ П. А.
Сорокина, одновременно с ним готовившийся к «профессорскому званию». В
советское время он работал в Конъюнктурном институте. Судя по опубликованным
его книгам, круг его интересов был необычайно широк — от эстетики Канта и
проблем экономики до поэзии Тютчева и истории науки. Последняя его книга —
«Великие ученые Узбекистана» — вышла в Ташкенте в 1943 г.
Кондратьев Николай Дмитриевич (1892—1938) — близкий друг Сорокина со
студенческих лет. В 1917 г. они оба были секретарями А. Ф. Керенского (Сорокин
— по социльным, Кондратьев — по экономическим вопросам). В советское время Н.
Д. Кондратьев возглавлял Конъюнктурный институт. Трагическая участь этого великого
ученого в годы
большого террора в
настоящее фемя хорошо известна.
Следует отметить, что А. Л. Погодин, Н. Д. Кондратьев и 1. А. Сорокин в
1914 г. опубликовали каждый по статье в 4-м сбор-шке «Новых идей в социологии»,
изданном в Петербурге.
Письмо В. Н. Фигнер
Публикуется по автографу, хранящемуся в ЦГАЛИ, ф. 1185, эп. 1, ед. хр.
733, лл. 1—2. Написано красными чернилами на двойном листе ученической тетради
в клетку.
Дата «1—8—9» в оригинале зачеркнута и сверху карандашом написано: «от 8
по 12—13». Зачеркивание и надпись сделаны, по-видимому, рукой В. Н. Фигнер.
Тема первой лекции почти дословно совпадает с названием последней
крупной работы, написанной Сорокиным в России: «Голод, как фактор. Влияние
голода на поведение людей, общественную организацию и социальную жизнь». Эта
книга объемом, по свидетельству автора, около 560 страниц была сдана в набор в
мае 1922 г. После высылки Сорокина из Советской России весь тираж ее был
уничтожен. Таким образом, краткое раскрытие содержания предполагаемой лекции
позволяет хотя бы отчасти судить и о содержании погибшей книги.
Что касается остальных лекций, то о более полном их содержании,
наоборот, можно судить по опубликованным работам Сорокина. Великому русскому
писателю посвящена небольшая его брошюра «Лев Толстой как философ» (М., 1914).
О кризисе современной семьи, о науке и религии, о социальном отборе в эпоху
войн и революций П. А. Сорокин подробно пишет в книге «Современное состояние
России» (Прага, 1922).
Были ли прочитаны обещанные Сорокиным лекции, неизвестно. Он не был в
Москве ни в марте 1920, ни в марте 1921, ни в марте 1922 г. Возможно, он
собирался прочитать их летом 1922 г., когда он приехал в Москву и остановился у
своего друга Кондратьева. Кондратьев в тот же день был арестован, а по городу,
как, впрочем, и по всей стране, прокатилась волна арестов среди интеллигенции,
намеченной к высылке. Среди прочих был арестован и П. А. Сорокин. Осенью 1922
г. он был выслан из страны (между прочим, в одной группе с Н. А. Бердяевым),
куда ему было запрещено возвращаться под угрозой смертной казни.
СОДЕРЖАНИЕ
От
редакторов.. 1
Раздел
I. СОЦИУМ.. 3
Альбрехт Веллмер. МОДЕЛИ СВОБОДЫ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ.. 3
М. С. Ковалева. О КНИГЕ Н. Д. КОНДРАТЬЕВА «ОСНОВНЫЕ
ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СТАТИКИ И ДИНАМИКИ (Предварительный эскиз)». 24
Н. Д. Кондратьев. ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СТАТИКИ И ДИНАМИКИ.. 25
Содержание. 25
Глава 1. Совокупность,
общество и общественные явления. 26
Глава 2. Строение общества и основные категории
общественных явлений. 36
КОММЕНТАРИИ.. 53
Глава 1. 53
Глава 2. 54
Эдмунд Мокшицкий. МЕЖДУ ЭПИСТЕМОЛОГИЕЙ И СОЦИОЛОГИЕЙ ЗНАНИЯ 55
Ю.Л. Качанов.
РЕЗЕРВЫ И ТУПИКИ МАРКСИСТСКОЙ СОЦИОЛОГИИ: ЦЕЛОСТНОСТЬ И ТОТАЛИЦИЗМ... 63
Уильям Аутвейт. РЕАЛИЗМ И СОЦИАЛЬНАЯ НАУКА.. 72
Хелена Козакевич. РЕАЛИЗМ И СОЦИОЛОГИЯ: ВЫШЛА ЛИ
СОЦИОЛОГИЯ ИЗ КРИЗИСА? 79
Уильям Аутвейт. ОТВЕТ
ХЕЛЕНЕ КОЗАКЕВИЧ.. 87
Дирк Беккер. В ОБЩЕСТВЕ — ОБ ОБЩЕСТВЕ*. 89
Никлас Луман ТАВТОЛОГИЯ И
ПАРАДОКС В САМООПИСАНИЯХ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА.. 91
ОТ ПЕРЕВОДЧИКА.. 103
Раздел
II. НА ПУТИ К ЛОГОСУ.. 104
Рой Бхаскар. ОБЩЕСТВА.. 104
Введение. 104
Против индивидуализма. 105
О связи «общество/личность». 107
Некоторые качественно новые свойства социальных систем. 110
А. Ф. Филиппов. СОЦИОЛОГИЯ И КОСМОС.. 116
Мишель Маффесоли. ОКОЛДОВАННОСТЬ МИРА ИЛИ БОЖЕСТВЕННОЕ СОЦИАЛЬНОЕ 133
Мишель Фуко. ГЕРМЕНЕВТИКА СУБЪЕКТА.. 138
Фридрих Хайлер РЕЛИГИОЗНО-ИСТОРИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ЛЮТЕРА.. 153
А. В Кураев. АБСЕНТЕИЗМ В СОВРЕМЕННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ КРИТИКЕ.. 171
В. М. Парамонов. ПАНТЕОН. ДЕМОКРАТИЯ КАК РЕЛИГИОЗНАЯ
ПРОБЛЕМА.. 178
Вадим Козовой.
СФИНКС.. 189
В. В. Винокуров. ФЕНОМЕН САКРАЛЬНОГО, ИЛИ ВОССТАНИЕ БОГОВ.. 214
Раздел
IV. АРХИВ.. 225
НОВЫЕ
МАТЕРИАЛЫ К ИСТОРИИ РУССКОЙ СОЦИОЛОГИИ (П. А. СОРОКИН И Н. С. ТИМАШЕВ). 225
В. В. Сапов Я. С. Тимашев. ТРИ КНИГИ О П. А. СОРОКИНЕ*. 226
Я. С. Тимашев. НАУЧНОЕ НАСЛЕДИЕ П. А. СОРОКИНА.. 229
П. А. Сорокин.
РЕЦЕНЗИЯ.. 231
Письма. 232
Письмо П. А. Сорокина Б. А. Лезину (1913) 232
Письмо П. А. Сорокина В. Н. Фигнер (1920-е гг.) 232
КОММЕНТАРИИ.. 233
СОДЕРЖАНИЕ.. 234