Платон
Диалоги
«Платон. Диалоги»: Мысль; 1986
Аннотация
В издании представлены диалоги древнегреческого философа Платона.
Платон
Диалоги
Платон и Аристотель
I. АПОЛОГИЯ СОКРАТА
После обвинительных речей
17
Как подействовали мои обвинители на вас, о мужи афиняне[1]
, я не знаю; что же меня касается, то от их речей я чуть было и сам себя не забыл: так убедительно они говорили. Тем не менее, говоря без обиняков, верного они ничего не сказали. Но сколько они ни лгали, всего больше удивился я одному – тому, что они говорили, будто вам следует остерегаться, как бы я вас не провел своим ораторским искусством;
b
не смутиться перед тем, что они тотчас же будут опровергнуты мною на деле, как только окажется, что я вовсе не силен в красноречии, это с их стороны показалось мне всего бесстыднее, конечно, если только они не считают сильным в красноречии того, кто говорит правду; а если это они разумеют, то я готов согласиться, что я – оратор, только не на их образец. Они, повторяю, не сказали ни слова правды, а от меня вы услышите ее всю. Только уж, клянусь Зевсом, афиняне, вы не услышите речи с разнаряженной, украшенной, как у этих людей, изысканными выражениями,
c
а услышите речь простую, состоящую из первых попавшихся слов. Ибо я верю, что то, что я буду говорить, – правда, и пусть никто из вас не ждет ничего другого; да и неприлично было бы мне в моем возрасте выступать перед вами, о мужи, наподобие юноши с придуманною речью.
Так вот я и прошу вас убедительно и умоляю, о мужи афиняне: услыхавши, что я защищаюсь теми же словами, какими привык говорить и на площади у меняльных лавок[2]
, где многие из вас слыхали меня, и в других местах,
d
не удивляйтесь и не поднимайте из‑за этого шума. Дело‑то вот в чем: в первый раз пришел я теперь в суд, будучи семидесяти лет от роду[3]
; так ведь здешний‑то язык просто оказывается для меня чужим, и как вы извинили бы меня, если бы я, будучи в самом деле чужеземцем,
18
говорил на том языке и тем складом речи, к которым привык с детства, так и теперь я прошу у вас не более, чем справедливости, как мне кажется, – позволить мне говорить по моему обычаю, хорош он или нехорош – все равно, и смотреть только на то, буду ли я говорить правду или нет; в этом ведь и заключается долг судьи, долг же оратора – говорить правду.
И вот правильно будет, о мужи афиняне, если сначала я буду защищаться против обвинений, которым подвергался раньше, и против первых моих обвинителей[4]
, а уж потом против теперешних обвинений и против теперешних обвинителей.
b
Ведь у меня много было обвинителей перед вами и раньше, много уже лет, и все‑таки ничего истинного они не сказали; их‑то опасаюсь я больше, чем Анита с товарищами. И эти тоже страшны, но те еще страшнее, о мужи! Большинство из вас они восстановляли против меня, когда вы были детьми, и внушали вам против меня обвинение, в котором не было ни слова правды, говоря, что существует некий Сократ, мудрый муж, который испытует и исследует все, что над землею, и все, что под землею[5]
, и выдает ложь за правду.
c
Вот эти‑то люди, о мужи афиняне, пустившие эту молву, и суть страшные мои обвинители, потому что слушающие их думают, что тот, кто исследует подобные вещи, тот и богов не признает. Кроми гого, обвинителей этих много и обвиняют они уже давно, да и говорили они с вами в том возрасте, когда вы больше всего верили на слово, будучи детьми, некоторые же юношами, словом – обвиняли заочно, в отсутствие обвиняемого.
d
Но всего нелепее то, что и по имени‑то их никак не узнаешь и не назовешь, разве вот только сочинителей комедий[6]
. Ну а все те, которые восстановляли вас против меня по зависти и злобе или потому, что сами были восстановлены другими, те всего неудобнее, потому что никого из них нельзя ни привести сюда, ни опровергнуть, а просто приходится как бы сражаться с тенями, защищаться и опровергать, когда никто не возражает. Так уж и вы тоже согласитесь, что у меня, как я сказал, два рода обвинителей: одни – обвинившие меня теперь,
e
а другие – давнишние, о которых я сейчас говорил, и признайте, что сначала я должен защищаться против давнишних, потому что и они обвиняли меня перед вами раньше и гораздо больше, чем теперешние. Хорошо.
19
Итак, о мужи афиняне, следует защищаться и постараться в малое время опровергнуть клевету, которая уже много времени держится между вами. Желал бы я, разумеется, чтобы так оно и случилось и чтобы защита моя была успешной, конечно, если это к лучшему и для вас, и для меня. Только я думаю, что это трудно, и для меня вовсе не тайна, какое это предприятие. Ну да уж относительно этого пусть будет, как угодно богу[7]
, а закон следует исполнять и защищаться.
Припомним же сначала, в чем состоит обвинение, от которого пошла обо мне дурная молва,
b
полагаясь на которую Мелет и подал на меня жалобу. Хорошо. В каких именно выражениях клеветали на меня клеветники? Следует привести их показание, как показание настоящих обвинителей: Сократ преступает закон, тщетно испытуя то, что под землею, и то, что в небесах, с выдавая ложь за правду и других научая тому же.
c
Вот в каком роде это обвинение. Вы и сами видели в комедии Аристофана[8]
, как какой‑то Сократ болтается там в корзинке, говоря, что он гуляет по воздуху, и несет еще много разного вздору, в котором я ничего не смыслю. Говорю я это не в укор подобной науке и тому, кто достиг мудрости в подобных вещах (недоставало, чтобы Мелет обвинил меня еще и в этом!), а только ведь это, о мужи афиняне, нисколько меня не касается.
d
А в свидетели этого призываю большинство из вас самих и требую, чтобы это дело обсудили между собою все те, кто когда‑либо меня слышал; ведь из вас много таких. Спросите же друг у друга, слышал ли кто из вас когда‑либо, чтобы я хоть сколько‑нибудь рассуждал о подобных вещах, и тогда вы узнаете, что настолько же справедливо и все остальное, что обо мне говорят.
А если еще кроме всего подобного вы слышали от в кого‑нибудь, что я берусь воспитывать людей
e
и зарабатываю этим деньги, то и это неправда; хотя мне кажется, что и это дело хорошее, если кто способен воспитывать людей, как, например, леонтинец Горгий, кеосец Продик, элидец Гиппий[9]
. Все они, о мужи, разъезжают по городам и убеждают юношей, которые могут даром пользоваться наставлениями любого из своих сограждан,
20
оставлять своих и поступать к ним в ученики, платя им деньги, да еще с благодарностью. А вот и еще, как я узнал, проживает здесь один ученый муж с Пароса[10]
. Встретился мне на дороге человек, который переплатил софистам денег больше, чем все остальные вместе, – Каллий, сын Гиппоника[11]
; я и говорю ему (а у него двое сыновей): «Каллий! Если бы твои сыновья родились жеребятами или бычками, то нам следовало бы нанять для них воспитателя,
b
который бы усовершенствовал присущую им породу, и человек этот был бы из наездников или земледельцев; ну а теперь, раз они люди, кого думаешь взять для них в воспитатели? Кто бы это мог быть знатоком подобной доблести, человеческой или гражданской? Полагаю, ты об этом подумал, приобретя сыновей? Есть ли таковой, спрашиваю, или нет?» «Конечно, – отвечает он, – есть». «Кто же это? – спрашиваю я. Откуда он и сколько берет за обучение?» «Эвен, – отвечает он, – с Пароса, берет по пяти мин[12]
, Сократ». И благословил я этого Эвена, если правда, что он обладает таким искусством
c
и так недорого берет за с обучение. Я бы и сам чванился и гордился, если бы был искусен в этом деле; только ведь я в этом не искусен, о мужи афиняне!
Может быть, кто‑нибудь из вас возразит: «Однако, Сократ, чем же ты занимаешься? Откуда на тебя эти клеветы? В самом деле, если бы сам ты не занимался чем‑нибудь особенным, то и не говорили бы о тебе так много.
d
Скажи нам, что это такое, чтобы нам зря не выдумывать». Вот это, мне кажется, правильно, и я сам постараюсь вам показать, что именно дало мне известность и навлекло на меня клевету. Слушайте же. И хотя бы кому‑нибудь из вас показалось, что я шучу, будьте уверены, что я говорю сущую правду. Эту известность, о мужи афиняне, получил я не иным путем, как благодаря некоторой мудрости. Какая же это такая мудрость? Да уж, должно быть, человеческая мудрость. Этой мудростью я, пожалуй, в самом деле мудр; а те, о которых я сейчас говорил[13]
,
e
мудры или сверхчеловеческой мудростью, или уж не знаю, как и сказать; что же меня касается, то я, конечно, этой мудрости не понимаю, а кто утверждает обратное, тот лжет и говорит это для того, чтобы оклеветать меня. И вы не шумите, о мужи афиняне, даже если вам покажется, что я говорю несколько высокомерно; не свои слова буду я говорить, а сошлюсь на слова, для вас достоверные. Свидетелем моей мудрости, если только это мудрость, и того, в чем она состоит, я приведу вам бога, который в Дельфах[14]
. Ведь вы знаете Херефонта[15]
. Человек этот смолоду был и моим, и вашим приверженцем,
21
разделял с вами изгнание и возвратился вместе с вами. И вы, конечно, знаете, каков был Херефонт, до чего он был неудержим во всем, что бы ни затевал. Ну вот же, приехав однажды в Дельфы, дерзнул он обратиться к оракулу с таким вопросом. Я вам сказал не шумите, о мужи! Вот он и спросил, есть ли кто‑нибудь на свете мудрее меня, и Пифия[16]
ему ответила, что никого нет мудрее. И хотя сам он умер, но вот брат его[17]
засвидетельствует вам об этом.
b
Посмотрите теперь, зачем я это говорю; ведь мое намерение – объяснить вам, откуда пошла клевета на меня. Услыхав это, стал я размышлять сам с собою таким образом: что бы такое бог хотел сказать и что это он подразумевает? Потому что сам я, конечно, нимало не сознаю себя мудрым; что же это он хочет сказать, говоря, что я мудрее всех? Ведь не может же он лгать: не полагается ему это. Долго я недоумевал, что такое он хочет сказать; потом, собравшись с силами, прибегнул к такому решению вопроса: пошел я к одному из тех людей, которые слывут мудрыми,
c
думая, что тут‑то я скорее всего опровергну прорицание, объявив оракулу, что вот этот, мол, мудрее меня, а ты меня назвал самым мудрым. Ну и когда я присмотрелся к этому человеку – называть его по имени нет никакой надобности, скажу только, что человек, глядя на которого я увидал то, что я увидал, был одним из государственных людей, о мужи афиняне, – так вот, когда я к нему присмотрелся (да побеседовал с ним), то мне показалось, что этот муж только кажется мудрым и многим другим, и особенно самому себе, а чтобы в самом деле он был мудрым, этого нет; и я старался доказать ему, что он только считает себя мудрым, а на самом деле не мудр. От этого и сам он, и многие из присутствовавших возненавидели меня.
d
Уходя оттуда, я рассуждал сам с собою, что этого‑то человека я мудрее, потому что мы с ним, пожалуй, оба ничего в совершенстве не знаем, но он, не зная, думает, что что‑то знает, а я коли уж не знаю, то и не думаю, что знаю. На такую‑то малость, думается мне, я буду мудрее, чем он, раз я, не зная чего‑то, и не воображаю, что знаю эту вещь[18]
. Оттуда я пошел к другому, из тех, которые кажутся мудрее, чем тот, и увидал то же самое; и с тех пор возненавидели меня и сам он, и многие другие.
e
Ну и после этого стал я уже ходить по порядку. Замечал я, что делаюсь ненавистным, огорчался этим и боялся этого, но в то же время мне казалось, что слова бога необходимо ставить выше всего. Итак, чтобы понять, что означает изречение бога, мне казалось необходимым пойти ко всем, которые слывут знающими что‑либо.
22
И, клянусь собакой[19]
, о мужи афиняне, уж вам‑то я должен говорить правду, что я поистине испытал нечто в таком роде: те, что пользуются самою большою славой, показались мне, когда я исследовал дело по указанию бога, чуть ли не самыми бедными разумом, а другие, те, что считаются похуже, – более им одаренными. Но нужно мне рассказать вам о том, как я странствовал, точно я труд какой‑то нес, и все это для того только, чтобы прорицание оказалось неопровергнутым. После государственных людей ходил я к поэтам, и к трагическим, и к дифирамбическим,
b
и ко всем прочим, чтобы на месте уличить себя в том, что я невежественнее, чем они. Брал я те из их произведений, которые, как мне казалось, всего тщательнее ими отработаны, и спрашивал у них, что именно они хотели сказать, чтобы, кстати, и научиться от них кое‑чему. Стыдно мне, о мужи, сказать вам правду, а сказать все‑таки следует. Ну да, одним словом, чуть ли не все присутствовавшие лучше могли бы объяснить то, что сделано этими поэтами, чем они сами. Таким образом, и относительно поэтов вот что я узнал в короткое время: не мудростью могут они творить то, что они творят,
c
а какою‑то прирожденною способностью и в исступлении, подобно гадателям и прорицателям; ведь и эти тоже говорят много хорошего, но совсем не знают того, о чем говорят[20]
. Нечто подобное, как мне показалось, испытывают и поэты; и в то же время я заметил, что вследствие своего поэтического дарования они считали себя мудрейшими из людей и в остальных отношениях, чего на деле не было. Ушел я и оттуда, думая, что превосхожу их тем же самым, чем и государственных людей.
Под конец уж пошел я к ремесленникам. Про себя я знал, что я попросту ничего не знаю,
d
ну а уж про этих мне было известно, что я найду их знающими много хорошего. И в этом я не ошибся: в самом деле, они знали то, чего я не знал, и этим были мудрее меня. Но, о мужи афиняне, мне показалось, что они грешили тем же, чем и поэты: оттого, что они хорошо владели искусством, каждый считал себя самым мудрым также и относительно прочего, самого важного,
e
и эта ошибка заслоняла собою ту мудрость, какая у них была; так что, возвращаясь к изречению, я спрашивал сам себя, что бы я для себя предпочел, оставаться ли мне так, как есть, не будущий ни мудрым их мудростью, ни невежественным их невежеством, или, как они, быть и тем и другим. И я отвечал самому себе и оракулу, что для меня выгоднее оставаться как есть.
Вот от этого самого исследования, о мужи афиняне, с одной стороны, многие меня возненавидели,
23
притом как нельзя сильнее и глубже, отчего произошло и множество клевет, а с другой стороны, начали мне давать это название мудреца, потому что присутствующие каждый раз думают, что сам я мудр в том, относительно чего я отрицаю мудрость другого. А на самом деле, о мужи, мудрым‑то оказывается бог, и этим изречением он желает сказать, что человеческая мудрость стоит немногого или вовсе ничего не стоит, и, кажется, при этом он не имеет в виду именно Сократа,
b
а пользуется моим именем для примера, все равно как если бы он говорил, что из вас, о люди, мудрейший тот, кто, подобно Сократу, знает, что ничего‑то по правде не стоит его мудрость. Ну и что меня касается, то я и теперь, обходя разные места, выискиваю и допытываюсь по слову бога, не покажется ли мне кто‑нибудь из граждан или чужеземцев мудрым, и, как только мне это не кажется, спешу поддержать бога и показываю этому человеку, что он не мудр. И благодаря этой работе не было у меня досуга сделать что‑нибудь достойное упоминания ни для города,
c
ни для домашнего дела, но через эту службу богу пребываю я в крайней бедности[21]
.
Кроме того, следующие за мною по собственному почину молодые люди, у которых всего больше досуга, сыновья самых богатых граждан, рады бывают послушать, как я испытываю людей, и часто подражают мне сами, принимаясь пытать других; ну и я полагаю, что они находят многое множество таких, которые думают, что они что‑то знают, а на деле ничего не знают или знают одни пустяки. От этого те, кого они испытывают, сердятся не на самих себя, а на меня и говорят,
d
что есть какой‑то Сократ, негоднейший человек, который развращает молодых людей. А когда спросят их, что он делает и чему он учит, то они не знают, что сказать, но, чтобы скрыть свое затруднение, говорят то, что вообще принято говорить обо всех любителях мудрости: он‑де занимается тем, что в небесах и под землею, богов не признает, ложь выдает за истину. А сказать правду, думаю, им не очень‑то хочется, потому что тогда оказалось бы, что они только делают вид, будто что‑то знают, а на деле ничего не знают. Ну а так как они, думается мне, честолюбивы, могущественны и многочисленны
e
и говорят обо мне согласно и убедительно, то и переполнили ваши уши, клевеща на меня издавна и громко. От этого обрушились на меня и Мелет, и Анит, и Ликон: Мелет, негодуя за поэтов, Анит – за ремесленников, а Ликон – за риторов.
24
Так что я удивился бы, как говорил вначале, если бы оказался способным опровергнуть перед вами в столь малое время столь великую клевету. Вот вам, о мужи афиняне, правда, как она есть, и говорю я вам без утайки, не умалчивая ни о важном, ни о пустяках. Хотя я, может быть, и знаю, что через это становлюсь ненавистным, но это и служит доказательством, что я сказал правду и что в этом‑то и состоит клевета на меня и таковы именно ее причины.
b
И когда бы вы ни стали исследовать это дело, теперь или потом, всегда вы найдете, что это так.
Итак, что касается первых моих обвинителей, этой моей защиты будет для обвинителей достаточно; а теперь я постараюсь защищаться против Мелета, любящего, как он говорит, наш город[22]
, и против остальных обвинителей. Опять‑таки, конечно, примем их обвинение за формальную присягу других обвинителей. Кажется, так: Сократ, говорят они, преступает закон тем, что развращает молодых людей
c
и богов, которых признает город, не признает, а признает другие, новые божественные знамения. Таково именно обвинение[23]
; рассмотрим же каждое слово этого обвинения отдельно. Мелет говорит, что я преступаю закон, развращая молодых людей, а я, о мужи афиняне, утверждаю, что преступает закон Мелет, потому что он шутит важными вещами и легкомысленно призывает людей на суд, делая вид, что он заботится и печалится о вещах, до которых ему никогда не было никакого дела; а что оно так, я постараюсь показать это и вам.
d
– Ну вот, Мелет, скажи‑ка ты мне[24]
: не правда ли, для тебя очень важно, чтобы молодые люди были как можно лучше?
– Конечно.
– В таком случае скажи‑ка ты вот этим людям, кто именно делает их лучшими? Очевидно, ты знаешь, коли заботишься об этом. Развратителя ты нашел, как говоришь: привел сюда меня и обвиняешь; а назови‑ка теперь того, кто делает их лучшими, напомни им, кто это. Вот видишь, Мелет, ты молчишь и не знаешь что сказать. И тебе не стыдно? И это не кажется тебе достаточным доказательством, что тебе нет до этого никакого дела? Однако, добрейший, говори же: кто делает их лучшими?
– Законы.
e
– Да не об этом я спрашиваю, любезнейший, а о том, кто эти люди, что прежде всего знают их, эти законы.
– А вот они, Сократ, – судьи.
– Что ты говоришь, Мелет! Вот эти самые люди способны воспитывать юношей и делать их лучшими?
– Как нельзя более.
– Все? Или одни способны, а другие нет?
– Все.
– Хорошо же ты говоришь, клянусь Герой[25]
, и какое множество людей, полезных для других! Ну а вот они, слушающие, делают юношей лучшими или же нет?
25
– И они тоже.
– А члены Совета?
– Да, и члены Совета[26]
.
– Но в таком случае, Мелет, не портят ли юношей те, что участвуют в Народном собрании? Или и те тоже, все до единого, делают их лучшими?
– И те тоже.
– По‑видимому, кроме меня, все афиняне делают их добрыми и прекрасными, только я один порчу. Ты это хочешь сказать?
– Как раз это самое.
– Большое же ты мне, однако, приписываешь несчастье. Но ответь‑ка мне: кажется ли тебе, что так же бывает и относительно лошадей, что улучшают их все, а портит кто‑нибудь один?
b
Или же совсем напротив, улучшать способен кто‑нибудь один или очень немногие, именно знатоки верховой езды, а когда ухаживают за лошадьми и пользуются ими все, то портят их? Не бывает ли. Мелет, точно так же не только относительно лошадей, но и относительно всех других животных? Да уж само собою разумеется, согласны ли вы с Анитом на это или не согласны, потому что это было бы удивительное счастье для юношей, если бы их портил только один, остальные же приносили бы им пользу.
c
Впрочем, Мелет, ты достаточно показал, что никогда не заботился о юношах, и ясно обнаруживаешь свое равнодушие: тебе нет никакого дела до того самого, из‑за чего ты привел меня в суд.
А вот, Мелет, скажи нам еще, ради Зевса: что приятнее, жить ли с хорошими гражданами или с дурными? Ну, друг, отвечай! Я ведь не спрашиваю ничего трудного. Не причиняют ли дурные какого‑нибудь зла тем, которые всегда с ними в самых близких отношениях, а добрые – какого‑нибудь добра?
– Конечно.
d
– Так найдется ли кто‑нибудь, кто желал бы скорее получать от ближних вред, чем пользу? Отвечай, добрейший, ведь и закон повелевает отвечать. Существует ли кто‑нибудь, кто желал бы получать вред?
– Конечно, нет.
– Ну вот. А привел ты меня сюда как человека, который портит и ухудшает юношей намеренно или ненамеренно?
– Который портит намеренно.
– Как же это так, Мелет? Ты, такой молодой, настолько мудрее меня, что тебе уже известно, что злые причиняют своим ближним какое‑нибудь зло,
e
а добрые – добро, а я, такой старый, до того невежествен, что не знаю даже, что если я кого‑нибудь из близких сделаю негодным, то должен опасаться от него какого‑нибудь зла, и вот такое‑то великое зло я добровольно на себя навлекаю, как ты утверждаешь! В этом я тебе не поверю, Мелет, да и никто другой, я думаю, не поверит. Но или я не порчу, или если порчу, то ненамеренно;
26
таким образом, у тебя‑то выходит ложь в обоих случаях. Если же я порчу ненамеренно, то за такие невольные проступки не следует по закону приводить сюда, а следует, обратившись частным образом, учить и наставлять; потому, ясное дело, что, уразумевши, я перестану делать то, что делаю ненамеренно. Ты же меня избегал и не хотел научить, а привел меня сюда, куда по закону следует приводить тех, которые имеют нужду в наказании, а не в научении.
Но ведь это уже ясно, о мужи афиняне, что Мелету, как я говорил, никогда не было до этих вещей никакого дела;
b
а все‑таки ты нам скажи. Мелет, каким образом, по‑твоему, порчу я юношей? Не ясно ли, по обвинению, которое ты против меня подал, что я порчу их тем, что учу не почитать богов, которых почитает город, а почитать другие, новые божественные знамения? Не это ли ты разумеешь, говоря, что своим учением я врежу?
– Вот именно это самое
– Так ради них. Мелет, ради этих богов, о которых теперь идет речь, скажи еще раз то же самое яснее и для меня, и для этих вот мужей.
c
Дело в том, что я не могу понять, что ты хочешь сказать: то ли, что некоторых богов я учу признавать, а следовательно, и сам признаю богов, так что я не совсем безбожник и не в этом мое преступление, а только я учу признавать не тех богов, которых признает город, а других, и в этом‑то ты меня и обвиняешь, что я признаю других богов; или же ты утверждаешь, что я вообще не признаю богов, и не только сам не признаю, но и других этому научаю.
– Вот именно, я говорю, что ты вообще не признаешь богов.
d
– Удивительный ты человек, Мелет! Зачем ты это говоришь? Значит, я не признаю богами ни Солнце, ни Луну, как признают прочие люди?
– Право же так, о мужи судьи, потому что он утверждает, что Солнце – камень, а Луна – земля.
– Берешься обвинять Анаксагора, друг Мелет, и так презираешь судей и считаешь их столь несведущими по части литературы! Ты думаешь, им неизвестно, что книги Анаксагора Клазоменского[27]
переполнены подобными мыслями? А молодые люди, оказывается, узнают это от меня, когда они могут узнать то же самое, заплативши за это в орхестре иной раз не больше драхмы[28]
,
e
и потом смеяться над Сократом, если бы он приписывал эти мысли себе, к тому же еще столь нелепые! Но скажи, ради Зевса, так‑таки я, по‑твоему, никаких богов и не признаю?
– То есть вот ничуточки!
– Это невероятно, Мелет, да, мне кажется, ты и сам этому не веришь. Что касается меня, о мужи афиняне, то мне кажется, что человек этот большой наглец и озорник и что он подал на меня эту жалобу просто по наглости и озорству да еще по молодости лет.
27
Похоже, что он придумал загадку и пробует: заметит ли Сократ, наш мудрец, что я шучу и противоречу сам себе, или мне удастся провести и его, и прочих слушателей? Потому что мне кажется, что в своем обвинении он сам себе противоречит, все равно как если бы он сказал: Сократ нарушает закон тем, что не признает богов, а признает богов. Ведь это же шутка!
Ну вот посмотрите, так ли он это говорит, как мне кажется. Ты, почтеннейший Мелет, отвечай нам, а вы помните, о чем я вас просил вначале, –
b
не шуметь, если я буду говорить по‑своему. Есть ли. Мелет, на свете такой человек, который дела бы людские признавал, а людей не признавал? Скажите ему, о мужи, чтобы он отвечал, а не шумел бы то и дело. Есть ли на свете кто‑нибудь, кто бы лошадей не признавал, а все лошадиное признавал бы? Или: флейтистов бы не признавал, а игру на флейте признавал бы? Не существует такого, любезнейший! Если ты не желаешь отвечать, то я сам буду говорить тебе, а также вот и им. Ну а уж на следующее ты должен сам ответить:
c
есть ли на свете кто‑нибудь кто бы знамения божественные признавал, а гениев[29]
бы не признавал?
– Нет.
– Наконец‑то! Как это хорошо, что они тебя заставили ответить! Итак, ты утверждаешь, что божественные знамения я признаю и научаю других признавать – новые или старые все равно, только уж самые‑то божественные знамения признаю, как ты говоришь, и ты подтвердил это клятвою; а если я признаю божественные знамения, то мне уже никак невозможно не признавать гениев. Разве не так? Конечно, так. Принимаю, что ты согласен, если не отвечаешь.
d
А не считаем ли мы гениев или богами, или детьми богов? Да или нет?
– Конечно, считаем.
– Итак, если гениев я признаю, как ты утверждаешь, а гении суть своего рода боги, то оно и выходит так, как я сказал, что ты шутишь и предлагаешь загадку, утверждая, что я не признаю богов и в то же время что я признаю богов, потому что гениев‑то я по крайней мере признаю. А с другой стороны, если гении вроде как побочные дети богов, от нимф или каких‑то еще существ, как это и принято думать, то какой же человек, признавая божьих детей, не будет признавать богов? Это было бы так же нелепо, как если бы кто‑нибудь признавал, что существуют мулы – лошадиные и ослиные дети,
e
а что существуют лошади и ослы, не признавал бы. Нет, Мелет, не может быть, чтобы ты подал это обвинение иначе, как желая испытать нас, или же ты недоумевал, в каком бы настоящем преступлении обвинить меня. А чтобы ты мог убедить кого‑нибудь, у кого есть хоть немного ума, что один и тот же человек может и признавать и демоническое, и божественное
28
и в то же время не признавать ни демонов, ни богов, это никоим образом невозможно.
Впрочем, о мужи афиняне, что я невиновен в том, в чем меня обвиняет Мелет, это, мне кажется, не требует дальнейших доказательств, довольно будет и сказанного. А что у многих явилось против меня сильное ожесточение, о чем я и говорил вначале, это, будьте уверены, истинная правда. И если что погубит меня, так именно это; не Мелет и не Анит, а клевета и недоброжелательство многих –
b
то, что погубило уже немало честных людей, думаю, что и еще погубит. Не думайте, что дело на мне остановится!
Но пожалуй, кто‑нибудь скажет: не Сократ стыдно ли тебе, заниматься таким делом, от которого, может быть, тебе придется теперь умереть? А на это я по справедливости могу возразить: нехорошо ты это говоришь, мой милый, будто человеку, который приносит хотя бы малую пользу, следует принимать в расчет смерть, а не думать всегда лишь о том, делает ли он дела с справедливые или несправедливые,
c
дела доброго человека или злого. Плохими, по твоему рассуждению, окажутся все те полубоги, которые пали под Троей, в том числе и сын Фетиды, который из страха сделать что‑нибудь постыдное до того презирал опасность, что, когда мать его, богиня, видя, что он горит желанием убить Гектора, сказала ему, помнится, так: «Дитя мое, если ты отомстишь за убийство друга твоего Патрокла и убьешь Гектора, то сам умрешь: „Скоро за сыном Приама конец и тебе уготован“»[30]
, – он, услыхав это, не посмотрел на смерть и опасность,
d
а гораздо больше убоялся оставаться в живых, будучи трусом и не мстя за друзей. «Умереть бы, – говорит он, – мне тотчас, покарав обидчика, только бы не оставаться еще здесь, у кораблей дуговидных, посмешищем для народа и бременем для земли»[31]
. Кажется ли тебе, что он подумал при этом о смерти и об опасности? Вот оно как бывает поистине, о мужи афиняне: где кто поставил себя, думая, что для него это самое лучшее место, или же поставлен начальником, там и должен переносить опасность, не принимая в расчет ничего, кроме позора, – ни смерти, ни еще чего‑нибудь.
e
Было бы ужасно, о мужи афиняне, если бы, после того как я оставался в строю, как и всякий другой, и подвергался опасности умереть тогда, когда меня ставили начальники, вами выбранные для начальства надо мною, – под Потидеей, Амфиполем и Делием[32]
, – если бы теперь, когда меня поставил сам бог, для того, думаю, чтобы мне жить, занимаясь философией, и испытывать самого себя и других, если бы теперь я испугался смерти или еще чего‑нибудь и бежал из строя; это
29
было бы ужасно, и тогда в самом деле можно было бы по справедливости судить меня за то, что я не признаю богов, так как не слушаюсь оракула, боюсь смерти и считаю себя мудрым, не будучи таковым, потому что бояться смерти есть не что иное, как думать, что знаешь то, чего не знаешь. Ведь никто же не знает ни того, что такое смерть, ни того, не есть ли она для человека величайшее из благ, а все боятся ее, как будто знают наверное, что она есть величайшее из зол.
b
Но не самое ли это позорное невежество – думать, что знаешь то, чего не знаешь? Что же меня касается, о мужи, то, пожалуй, я и тут отличаюсь от большинства людей только одним: если я кому‑нибудь и кажусь мудрее других, то разве только тем, что, недостаточно зная об Аиде[33]
, так и думаю, что не знаю. А что нарушать закон и не слушаться того, кто лучше меня, будь это бог или человек, нехорошо и постыдно – это вот я знаю. Никогда поэтому не буду я бояться и избегать того, что может оказаться и благом, более, чем того, что наверное есть зло.
c
Так что если бы вы меня отпустили, не поверив Аниту, который сказал, что или мне вообще не следовало приходить сюда, а уж если пришел, то невозможно не казнить меня, и внушал вам, что если я уйду от наказания, то сыновья ваши, занимаясь тем, чему учит Сократ, развратятся уже вконец все до единого, – даже если бы вы меня отпустили и при этом сказали мне: на этот раз, Сократ, мы не согласимся с Анитом и отпустим тебя, с тем, однако, чтобы ты больше не занимался этим исследованием и оставил философию, а если еще раз будешь в этом уличен, то должен будешь умереть, –
d
так вот, говорю я, если бы вы меня отпустили на этом условии, то я бы вам сказал: «Желать вам всякого добра – я желаю, о мужи афиняне, и люблю вас, а слушаться буду скорее бога, чем вас, и, пока есть во мне дыхание и способность, не перестану философствовать, уговаривать и убеждать всякого из вас, кого только встречу, говоря то самое, что обыкновенно говорю: о лучший из мужей, гражданин города Афин, величайшего из городов и больше всех прославленного за мудрость и силу,
e
не стыдно ли тебе, что ты заботишься о деньгах, чтобы их у тебя было как можно больше, о славе и о почестях, а о разумности, об истине и о душе своей, чтобы она была как можно лучше, – не заботишься и не помышляешь?» И если кто из вас станет возражать и утверждать, что он об этом заботится, то я не оставлю его и не уйду от него тотчас же, а буду его расспрашивать, пытать, опровергать и, если мне покажется,
30
что в нем нет доблести, а он только говорит, что есть, буду попрекать его за то, что он самое дорогое не ценит ни во что, а плохое ценит дороже всего. Так я буду поступать со всяким, кого только встречу, с молодым и старым, с чужеземцами и с вами, с вами особенно, потому что вы мне ближе по крови. Могу вас уверить, что так велит бог, и я думаю, что во всем городе нет у вас большего блага, чем это мое служение богу. Ведь я только и делаю, что хожу и убеждаю каждого из вас, молодого и старого,
b
заботиться раньше и сильнее не о телах ваших или о деньгах, но о душе, чтобы она была как можно лучше, говоря вам: не от денег рождается доблесть, а от доблести бывают у людей и деньги и все прочие блага, как в частной жизни, так и в общественной. Да, если бы такими словами я развращал юношей, то слова эти были бы вредными. А кто утверждает, что я говорю что‑нибудь другое, а не это, тот несет вздор. Вот почему я могу вам сказать, афиняне: послушаетесь вы Анита или нет, отпустите меня или нет –
c
поступать с иначе, чем я поступаю, я не буду, даже если бы мне предстояло умирать много раз.
Не шумите, мужи афиняне, исполните мою просьбу – не шуметь по поводу того, что я говорю, а слушать; слушать вам будет полезно, как я думаю. Я намерен сказать вам и еще кое‑что, от чего вы, наверное, пожелаете кричать, только вы никоим образом этого не делайте. Будьте уверены, что если вы меня такого, как я есть, убьете, то вы больше повредите себе, нежели мне. Мне‑то ведь не будет никакого вреда ни от Мелета, ни от Анита,
d
да они и не могут мне повредить, потому что я не думаю, чтобы худшему было позволено вредить лучшему. Разумеется, он может убить, изгнать из отечества, отнять все права. Но ведь это он или еще кто‑нибудь считает все подобное за великое зло, а я не считаю; гораздо же скорее считаю я злом именно то, что он теперь делает, замышляя несправедливо осудить человека на смерть. Таким образом, о мужи афиняне, я защищаюсь теперь совсем не ради себя, как это может казаться, а ради вас,
e
чтобы вам, осудивши меня на в смерть, не проглядеть дара, который вы получили от бога. В самом деле, если вы меня убьете, то вам нелегко будет найти еще такого человека, который, смешно сказать, приставлен к городу как овод к лошади, большой и благородной, но обленившейся от тучности и нуждающейся в том, чтобы ее подгоняли. В самом деле, мне кажется, что бог послал меня городу
31
как такого, который целый день, не переставая, всюду садится и каждого из вас будит, уговаривает, упрекает. Другого такого вам нелегко будет найти, о мужи, а меня вы можете сохранить, если вы мне поверите. Но очень может статься, что вы, как люди, которых будят во время сна, ударите меня и с легкостью убьете, послушавшись Анита, и тогда всю остальную вашу жизнь проведете во сне, если только бог, жалея вас, не пошлет вам еще кого‑нибудь. А что я такой как будто бы дан городу богом,
b
это вы можете усмотреть вот из чего: похоже ли на что‑нибудь человеческое, что я забросил все свои собственные дела и сколько уже лет терпеливо переношу упадок домашнего хозяйства, а вашим делом занимаюсь всегда, обращаясь к каждому частным образом, как отец или старший брат, и убеждая заботиться о добродетели. И если бы я от этого пользовался чем‑нибудь и получал бы плату за эти наставления, тогда бы еще был у меня какой‑нибудь расчет, а то сами вы теперь видите, что мои обвинители, которые так бесстыдно обвиняли меня во всем прочем, тут по крайней мере оказались неспособными к бесстыдству и не представили свидетеля,
c
который показал бы, что я когда‑либо получал какую‑нибудь плату или требовал ее; потому, думаю, что я могу представить верного свидетеля того, что я говорю правду, – мою бедность.
Может в таком случае показаться странным, что я подаю эти советы частным образом, обходя всех и во все вмешиваясь, а выступать всенародно в вашем собрании и давать советы городу не решаюсь. Причина этому та самая, о которой вы часто и повсюду от меня слышали, а именно что мне бывает какое‑то чудесное божественное знамение;
d
ведь над этим и Мелет посмеялся в своей жалобе. Началось у меня это с детства: вдруг – какой‑то голос[34]
, который всякий раз отклоняет меня от того, что я бываю намерен делать, а склонять к чему‑нибудь никогда не склоняет. Вот этот‑то голос и не допускает меня заниматься государственными делами. И кажется, прекрасно делает, что не допускает. Будьте уверены, о мужи афиняне, что если бы я попробовал заниматься государственными делами, то уже давно бы погиб и не принес бы пользы ни себе, ни вам.
e
И вы на меня не сердитесь, если я вам скажу правду: нет такого человека, который мог бы уцелеть, если бы стал откровенно противиться вам или какому‑нибудь другому большинству и хотел бы предотвратить все то множество несправедливостей и беззаконий, которые совершаются в государстве.
32
Нет, кто в самом деле ратует за справедливость, тот, если ему и суждено уцелеть на малое время, должен оставаться частным человеком, а вступать на общественное поприще не должен.
Доказательства этого я вам представлю самые веские, не рассуждения, а то, что вы цените дороже, – дела. Итак, выслушайте, что со мною случилось, и тогда вы увидите, что я и под страхом смерти никого не могу послушаться вопреки справедливости, а не слушаясь, могу от этого погибнуть. То, что я намерен вам рассказать, досадно и скучно слушать, зато это истинная правда.
b
Никогда, афиняне, не занимал я в городе никакой другой должности, но в Совете я был[35]
. И пришла нашей филе Антиохиде очередь заседать в то время, когда вы желали судить огулом десятерых стратегов, которые не подобрали пострадавших в морском сражении[36]
, – судить незаконно, как вы сами признали это впоследствии. Тогда я, единственный из пританов, восстал против нарушения закона, и в то время, когда ораторы готовы были обвинить меня и посадить в тюрьму и вы сами этого требовали и кричали, – в то время я думал, с что мне скорее следует, несмотря на опасность,
c
стоять на стороне закона и справедливости, нежели из страха перед тюрьмою или смертью быть заодно с вами, желающими несправедливого. Это еще было тогда, когда город управлялся народом, а когда наступила олигархия, то и Тридцать в свою очередь призвали меня и еще четверых граждан в Круглую палату и велели нам привезти из Саламина саламинца Леонта[37]
, чтобы казнить его. Многое в этом роде приказывали они делать и многим другим, желая отыскать как можно больше виновных.
d
Только и на этот раз опять я доказал не словами, а делом, что для меня смерть, если не грубо так выразиться, – самое пустое дело, а вот воздерживаться от всего беззаконного и безбожного – это для меня самое важное. Таким образом, как ни могущественно было это правительство, а меня оно не испугало настолько, чтобы заставить сделать что‑нибудь несправедливое, но, когда вышли мы из Круглой палаты, четверо из нас отправились в Саламин и привезли Леонта, а я отправился домой. И по всей вероятности, мне пришлось бы за это умереть, если бы правительство не распалось в самом скором времени. И всему этому у вас найдется много свидетелей.
e
Кажется ли вам после этого, что я мог бы прожить столько лет, если бы занимался общественными делами, занимался бы притом достойно порядочного человека, спешил бы на помощь к правым и считал бы это самым важным, как оно и следует? Никоим образом, о мужи афиняне!
33
И никому другому это не возможно. А я всю жизнь оставался таким, как в общественных делах, насколько в них участвовал, так и в частных, никогда и ни с кем не соглашаясь вопреки справедливости, ни с теми, которых клеветники мои называют моими учениками[38]
, ни еще с кем‑нибудь. Да я не был никогда ничьим учителем, а если кто, молодой или старый, желал меня слушать и видеть, как я делаю свое дело, то я никому никогда не препятствовал. И не то чтобы я, получая деньги, вел беседы,
b
а не получая, не вел, но одинаково как богатому, так и бедному позволяю я меня спрашивать, а если кто хочет, то и отвечать мне и слушать то, что я говорю. И за то, хороши ли эти люди или дурны, я по справедливости не могу отвечать, потому что никого из них никогда никакой науке я не учил и не обещал научить. Если же кто‑нибудь утверждает, что он частным образом научился от меня чему‑нибудь или слышал от меня что‑нибудь, чего бы не слыхали и все прочие, тот, будьте уверены, говорит неправду.
c
Но отчего же некоторые любят подолгу бывать со мною? Слышали вы это, о мужи афиняне; сам я вам сказал всю правду: потому что они любят слушать, как я пытаю тех, которые считают себя мудрыми, не будучи таковыми. Это ведь не лишено удовольствия. А делать это, говорю я, поручено мне богом и через прорицания, и в сновидениях, вообще всякими способами, какими когда‑либо еще обнаруживалось божественное определение и поручалось человеку делать что‑нибудь. Это не только верно, афиняне, но и легко доказуемо.
d
В самом деле, если одних юношей я развращаю, а других уже развратил, то ведь те из них, которые уже состарились и узнали, что когда‑то, во время их молодости, я советовал им что‑то дурное, должны были бы теперь прийти мстить мне и обвинять меня. А если сами они не захотели, то кто‑нибудь из их домашних, отцы, братья, другие родственники, если бы только их близкие потерпели от меня что‑нибудь дурное, вспомнили бы теперь об этом. Да уж, конечно, многие из них тут, как я вижу: ну в вот, во‑первых,
e
Критон, мой сверстник и из одного со мною дема, отец вот его, Критобула; затем сфеттиец Лисаний, отец вот его, Эсхина; еще кефисиец Антифон, отец Эпигена; а еще вот братья тех, которые ходили за мною, – Никострат, сын Феозотида и брат Феодота; самого Феодота уже нет в живых, так что он по крайней мере не мог упросить брата, чтобы он не говорил против меня; вот и Парад, Демодоков сын, которому Феаг приходился братом;
34
а вот Адимант, Аристонов сын, которому вот он, Платон, приходится братом, и Эантодор, брат вот этого, Аполлодора[39]
. Я могу назвать еще многих других, и Мелету в его речи всего нужнее было выставить кого‑нибудь из них как свидетеля; а если тогда он забыл это сделать, то пусть сделает теперь, я ему разрешаю, и, если он может заявить что‑нибудь такое, пусть говорит. Но вы увидите совсем противоположное, о мужи, увидите, что все готовы броситься на помощь ко мне, к тому развратителю, который делает зло их домашним, как утверждают Мелет и Анит.
b
У самих развращенных, пожалуй, еще может быть основание защищать меня, но у их родных, которые не развращены, у людей уже старых, какое может быть другое основание защищать меня, кроме прямой и справедливой уверенности, что Мелет лжет, а я говорю правду.
Но об этом довольно, о мужи! Вот приблизительно то, что я могу так или иначе привести в свое оправдание.
c
Возможно, что кто‑нибудь из вас рассердится, вспомнив о себе самом, как сам он, хотя дело его было и не так важно, как мое, упрашивал и умолял судей с обильными слезами и, чтобы разжалобить их как можно больше, приводил своих детей и множество других родных и друзей, а вот я ничего такого делать не намерен, хотя подвергаюсь, как оно может казаться, самой крайней опасности. Так вот возможно, что, подумав об этом, кто‑нибудь не сочтет уже нужным стесняться со мною и, рассердившись, подаст в сердцах свой голос.
d
Думает ли так кто‑нибудь из вас в самом деле, я этого не утверждаю; а если думает, то мне кажется, что я отвечу ему правильно, если скажу: «Есть и у меня, любезнейший, кое‑какие родные; тоже ведь и я, как говорится у Гомера[40]
, не от дуба родился и не от скалы, а произошел от людей; есть у меня и родные, есть и сыновья, о мужи афиняне, целых трое, один уже взрослый, а двое – младенцы; тем не менее ни одного из них не приведу я сюда и не буду просить вас о помиловании». Почему же, однако, не намерен я ничего этого делать? Не по презрению к вам, о мужи афиняне,
e
и не потому, что я бы не желал вас уважить. Боюсь ли я или не боюсь смерти, это мы теперь оставим, но для чести моей и вашей, для чести всего города, мне кажется, было бы нехорошо, если бы я стал делать что‑нибудь такое в мои года и при том прозвище[41]
, которое мне дано, верно оно или неверно – все равно. Как‑никак, а ведь принято все‑таки думать,
35
что Сократ отличается кое‑чем от большинства людей; а если так будут вести себя те из вас, которые, по‑видимому, отличаются или мудростью, или мужеством, или еще какою‑нибудь доблестью, то это будет позорно. Мне не раз приходилось видеть, как люди, казалось бы, почтенные проделывали во время суда над ними удивительные вещи, как будто они думали, что им предстоит испытать что‑то ужасное, если они умрут; можно было подумать, что они стали бы бессмертными, если бы вы их не убили! Мне кажется, эти люди позорят город,
b
так что и какой‑нибудь чужеземец может заподозрить, что у афинян люди, которые отличаются доблестью и которых они сами выбирают на главные государственные и прочие почетные должности, ничем не отличаются от женщин. Так вот, о мужи афиняне, не только нам, людям как бы то ни было почтенным, не следует этого делать, но и вам не следует этого позволять, если мы станем это делать, – напротив, вам нужно делать вид, что вы гораздо скорее признаете виновным того, кто устраивает эти слезные представления и навлекает насмешки над городом, нежели того, кто ведет себя спокойно.
c
Не говоря уже о чести, мне кажется, что это и неправильно, о мужи, – просить судью и избегать наказания просьбою, вместо того чтобы разъяснять дело и убеждать. Ведь судья посажен не для того, чтобы миловать по произволу, но для того, чтобы творить суд; и присягал он не в том, что будет миловать кого захочет, но в том, что будет судить по законам. А потому и нам ни следует приучать вас нарушать присягу, и вам не следует к этому приучаться, а иначе мы можем с вами одинаково впасть в нечестие. Так уж вы мне не говорите, о мужи афиняне, будто я должен проделывать перед вами то,
d
чего я и так не считаю ни хорошим, ни правильным, ни согласным с волею богов, да еще проделывать это теперь, когда вот он, Мелет, обвиняет меня в нечестии. Ибо очевидно, что если бы я вас уговаривал и вынуждал бы своею просьбою нарушить присягу, то научал бы вас думать, что богов не существует, и, вместо того чтобы защищаться, попросту сам бы обвинял себя в том, что не почитаю богов. Но на деле оно совсем иначе; почитаю я их, о мужи афиняне, больше, чем кто‑либо из моих обвинителей, и предоставляю вам и богу рассудить меня так, как будет всего лучше и для меня, и для вас.
После обвинительного приговора [42]
e
Многое, о мужи афиняне, не позволяет мне возмущаться тем, что сейчас случилось,
36
тем, что вы меня осудили, между прочим и то, что это не было для меня неожиданностью. Гораздо более удивляет меня число голосов на той и на другой стороне. Что меня касается, то ведь я и не думал, что буду осужден столь малым числом голосов, я думал, что буду осужден большим числом голосов. Теперь же, как мне кажется, перепади тридцать один камешек с одной стороны на другую, и я был бы оправдан[43]
. Ну а от Мелета, по‑моему, я и теперь ушел; да не только ушел, а еще вот что очевидно для всякого: если бы Анит и Ликон не пришли сюда,
b
чтобы обвинять меня, то он был бы принужден уплатить тысячу драхм как не получивший пятой части голосов[44]
.
Ну а наказанием для меня этот муж полагает смерть. Хорошо. Какое же наказание, о мужи афиняне, должен я положить себе сам? Не ясно ли, что заслуженное? Так какое же? Чему по справедливости подвергнуться или сколько должен я уплатить за то, что ни с того ни с сего всю свою жизнь не давал себе покоя, за то, что не старался ни о чем таком, о чем старается большинство: ни о наживе денег, ни о домашнем устроении, ни о том, чтобы попасть в стратеги, ни о том, чтобы руководить народом; вообще не участвовал ни в управлении, ни в заговорах, ни в восстаниях, какие бывают в нашем городе,
c
считая с себя, право же, слишком порядочным человеком, чтобы оставаться целым, участвуя во всем этом; за то, что я не шел туда, где я не мог принести никакой пользы ни вам, ни себе, а шел туда, где мог частным образом всякому оказать величайшее, повторяю, благодеяние, стараясь убеждать каждого из вас не заботиться ни о чем своем раньше, чем о себе самом, – как бы ему быть что ни на есть лучше и умнее, не заботиться также и о том, что принадлежит городу, раньше, чем о самом городе, и обо всем прочем таким же образом.
d
Итак, чего же я заслуживаю, будучи таковым? Чего‑нибудь хорошего, о мужи афиняне, если уже в самом деле воздавать по заслугам, и притом такого хорошего, что бы для меня подходило. Что же подходит для человека заслуженного и в то же время бедного, который нуждается в досуге вашего же ради назидания? Для подобного человека, о мужи афиняне, нет ничего более подходящего, как получать даровой обед в Пританее, по крайней мере для него это подходит гораздо больше, нежели для того из вас, кто одержал победу в Олимпии[45]
верхом, или на паре, или на тройке,
e
потому что такой человек старается о том, чтобы вы казались счастливыми, а я стараюсь о том, чтобы вы были счастливыми, и он не нуждается в даровом пропитании, а я нуждаюсь. Итак, если я должен назначить себе что‑нибудь мною заслуженное, то вот я что себе назначаю – даровой обед в Пританее.
37
Может быть, вам кажется, что я и это говорю по высокомерию, как говорил о просьбах со слезами и с коленопреклонениями; но это не так, афиняне, а скорее дело вот в чем: сам‑то я убежден в том, что ни одного человека не обижаю сознательно, но убедить в этом вас я не могу, потому что мало времени беседовали мы друг с другом; в самом деле, мне думается, что вы бы убедились, если бы у вас, как у других людей[46]
, существовал закон решать дело о смертной казни в течение не одного дня, а нескольких;
b
а теперь не так‑то это легко – в малое время снимать с себя великие клеветы. Ну так вот, убежденный в том, что я не обижаю ни одного человека, ни в каком случае не стану я обижать самого себя, говорить о себе самом, что я достоин чего – нибудь нехорошего, и назначать себе наказание. С какой стати? Из страха подвергнуться тому, чего требует для меня Мелет и о чем, повторяю еще раз, я не знаю, хорошо это или дурно? Так вот вместо этого я выберу и назначу себе наказанием что‑нибудь такое, о чем я знаю наверное, что это – зло? Вечное заточение?
c
Но ради чего стал бы я жить в тюрьме рабом Одиннадцати[47]
, постоянно меняющейся власти? Денежную пеню и быть в заключении, пока не уплачу? Но для меня это то же, что вечное заточение, потому что мне не из чего уплатить. В таком случае не должен ли я назначить для себя изгнание? К этому вы меня, пожалуй, охотно присудите. Сильно бы, однако, должен был я трусить, если бы растерялся настолько, что не мог бы сообразить вот чего: вы, собственные мои сограждане, не были в состоянии вынести мое присутствие
d
и слова мои оказались для вас слишком тяжелыми и невыносимыми, так что вы ищете теперь, как бы от них отделаться; ну а другие легко их вынесут? Никоим образом, афиняне. Хороша же в таком случае была бы моя жизнь – уйти на старости лет из отечества и жить, переходя из города в город, будучи отовсюду изгоняемым. Я ведь отлично знаю, что, куда бы я ни пришел, молодые люди везде будут меня слушать так же, как и здесь; и если я буду их отгонять, то они сами меня выгонят, подговорив старших,
e
а если я не буду их отгонять, то их отцы и домашние выгонят меня из‑за них же.
В таком случае кто‑нибудь может сказать: «Но разве, Сократ, уйдя от нас, ты не был бы способен проживать спокойно и в молчании?» Вот в этом‑то и всего труднее убедить некоторых из вас. В самом деле, если я скажу, что это значит не слушаться бога, а что, не слушаясь бога, нельзя оставаться спокойным,
38
то вы не поверите мне и подумаете, что я шучу; с другой стороны, если я скажу, что ежедневно беседовать о доблестях и обо всем прочем, о чем я с вами беседую, пытая и себя, и других, есть к тому же и величайшее благо для человека, а жизнь без такого исследования не есть жизнь для человека[48]
, – если это я вам скажу, то вы поверите мне еще меньше. На деле‑то оно как раз так, о мужи, как я это утверждаю, но убедить в этом нелегко. Да к тому же я и не привык считать себя
b
достойным чего‑нибудь дурного. Будь у меня деньги, тогда бы я назначил уплатить деньги сколько полагается, в этом для меня не было бы никакого вреда, но ведь их же нет, разве если вы мне назначите уплатить столько, сколько я могу. Пожалуй, я вам могу уплатить мину серебра; ну столько и назначаю. А вот они, о мужи афиняне, – Платон, Критон, Критобул, Аполлодор – велят мне назначить тридцать мин[49]
, а поручительство берут на себя; ну так назначаю тридцать, а поручители в уплате денег будут у вас надежные.
После смертного приговора
c
Немного не захотели вы подождать, о мужи афиняне, а вот от этого пойдет о вас дурная слава между людьми, желающими хулить наш город, и они будут обвинять вас в том, что вы убили Сократа, известного мудреца. Конечно, кто пожелает вас хулить, тот будет утверждать, что я мудрец, пусть это и не так. Вот если бы вы немного подождали, тогда бы это случилось для вас само собою; подумайте о моих годах, как много уже прожито жизни и как близко смерть.
d
Это я говорю не а всем вам, а тем, которые осудили меня на смерть. А еще вот что хочу я сказать этим самым людям: быть может, вы думаете, о мужи, что я осужден потому, что у меня не хватило таких слов, которыми я мог бы склонить вас на свою сторону, если бы считал нужным делать и говорить все, чтобы уйти от наказания. Вовсе не так. Не хватить‑то у меня, правда что, не хватило, только не слов, а дерзости и бесстыдства и желания говорить вам то, что вам всего приятнее было бы слышать, вопия и рыдая,
e
делая и говоря, повторяю я вам, еще многое меня недостойное – все то, что вы привыкли слышать от других. Но и тогда, когда угрожала опасность, не находил я нужным делать из‑за этого что‑нибудь рабское, и теперь не раскаиваюсь в том, что защищался таким образом, и гораздо скорее предпочитаю умереть после такой защиты, нежели оставаться живым, защищавшись иначе[50]
. Потому что ни на суде, ни на войне, ни мне, ни кому‑либо другому
39
не следует избегать смерти всякими способами без разбора. Потому что и в сражениях часто бывает очевидно, что от смерти‑то можно иной раз уйти, или бросив оружие, или начавши умолять преследующих; много есть и других способов избегать смерти в случае какой‑нибудь опасности для того, кто отважится делать и говорить все. От смерти уйти нетрудно, о мужи, а вот что гораздо труднее – уйти от нравственной порчи,
b
потому что она идет скорее, чем смерть. И вот я, человек тихий и старый, настигнут тем, что идет тише, а мои обвинители, люди сильные и проворные, – тем, что идет проворнее, – нравственною порчей. И вот я, осужденный вами, ухожу на смерть, а они, осужденные истиною, уходят на зло и неправду; и я остаюсь при своем наказании, и они – при своем. Так оно, пожалуй, и должно было случиться, и мне думается, что это правильно.
c
А теперь, о мои обвинители, я желаю предсказать, что будет с вами после этого. Ведь для меня уже настало то время, когда люди особенно бывают способны пророчествовать, – когда им предстоит умереть[51]
. И вот я утверждаю, о мужи, меня убившие, что тотчас за моей смертью придет на вас мщение, которое будет много тяжелее той смерти, на которую вы меня осудили. Ведь теперь, делая это, вы думали избавиться от необходимости давать отчет в своей жизни, а случится с вами, говорю я, совсем обратное:
d
больше будет у вас обличителей – тех, которых я до сих пор сдерживал и которых вы не замечали, и они будут тем невыносимее, чем они моложе, и вы будете еще больше негодовать. В самом деле, если вы думаете, что, убивая людей, вы удержите их от порицания вас за то, что живете неправильно, то вы заблуждаетесь. Ведь такой способ самозащиты и не вполне возможен, и не хорош, а вот вам способ и самый хороший, и самый легкий: не закрывать рта другим, а самим стараться быть как можно лучше. Ну вот, предсказавши это вам, которые меня осудили, я ухожу от вас.
e
А с теми, которые меня оправдали, я бы охотно побеседовал о самом этом происшествии, пока архонты[52]
заняты своим делом и мне нельзя еще идти туда, где я должен умереть. Побудьте пока со мною, о мужи! Ничто не мешает нам поболтать друг с другом, пока есть время.
40
Вам, друзьям моим, я хочу показать, что, собственно, означает теперешнее происшествие. Со мною, о мужи судьи, – вас‑то я по справедливости могу называть судьями – случилось что‑то удивительное. В самом деле, в течение всего прошлого времени обычный для меня вещий голос слышался мне постоянно и останавливал меня в самых неважных случаях, когда я намеревался сделать что‑нибудь не так; а вот теперь, как вы сами видите, со мною случилось то, что может показаться величайшим из зол, по крайней мере так принято думать;
b
тем не менее божественное знамение не остановило меня ни утром, когда я выходил из дому, ни в то время, когда я входил в суд, ни во время всей речи, что бы я ни хотел сказать. Ведь прежде‑то, когда я что‑нибудь говорил, оно нередко останавливало меня среди слова, а теперь во всем этом деле ни разу оно не удержало меня от какого‑нибудь поступка, от какого‑нибудь слова. Как же мне это понимать? А вот я вам скажу: похоже, в самом деле, что все это произошло к моему благу, и быть этого не может, чтобы мы правильно понимали дело, полагая, что смерть есть зло.
c
Этому у меня теперь есть великое доказательство, потому что быть этого не может, чтобы не остановило меня обычное знамение, если бы то, что я намерен был сделать, не было благом.
А рассудим‑ка еще вот как – велика ли надежда, что смерть есть благо? Умереть, говоря по правде, значит одно из двух: или перестать быть чем бы то ни было, так что умерший не испытывает никакого ощущения от чего бы то ни было, или же это есть для души какой‑то переход, переселение ее отсюда в другое место, если верить тому, что об этом говорят. И если бы это было отсутствием всякого ощущения,
d
все равно что сон, когда спят так, что даже ничего не видят во сне, то смерть была бы удивительным приобретением. Мне думается, в самом деле, что если бы кто‑нибудь должен был взять ту ночь, в которую он спал так, что даже не видел сна, сравнить эту ночь с остальными ночами и днями своей жизни и, подумавши, сказать,
e
сколько дней и ночей прожил он в своей жизни лучше и приятнее, чем ту ночь, то, я думаю, не только всякий простой человек, но и сам Великий царь[53]
нашел бы, что сосчитать такие дни и ночи сравнительно с остальными ничего не стоит. Так если смерть такова, я со своей стороны назову ее приобретением, потому что таким‑то образом выходит, что вся жизнь ничем не лучше одной ночи. С другой стороны, если смерть есть как бы переселение отсюда в другое место и если правду говорят, будто бы там все умершие, то есть ли что‑нибудь лучше этого, о мужи судьи?
41
В самом деле, если прибудешь в Аид, освободившись вот от этих так называемых судей, и найдешь там судей настоящих, тех, что, говорят, судят в Аиде, – Миноса, Радаманта, Эака, Триптолема, и всех тех полубогов[54]
, которые в своей жизни отличались справедливостью, – разве это будет плохое переселение? А чего бы не дал всякий из вас за то, чтобы быть с Орфеем, Мусеем, Гесиодом, Гомером[55]
! Что меня касается, то я желаю умирать много раз, если все это правда;
b
для кого другого, а для меня было бы удивительно вести там беседы, если бы я встретился, например, с Паламедом и Теламоновым сыном Аяксом[56]
или еще с кем‑нибудь из древних, кто умер жертвою неправедного суда, и мне думается, что сравнивать мою судьбу с их было бы не неприятно. И наконец, самое главное – это проводить время в том, чтобы распознавать и разбирать тамошних людей точно так же, как здешних, а именно кто из них мудр и кто из них только думает, что мудр, а на самом деле не мудр; чего не дал бы всякий, о мужи судьи, чтобы узнать доподлинно
c
человека, который привел великую рать под Трою, или узнать Одиссея, Сисифа[57]
и множество других мужей и жен, которых распознавать, с которыми беседовать и жить вместе было бы несказанным блаженством. Не может быть никакого сомнения, что уж там‑то за это не убивают, потому что помимо всего прочего тамошние люди блаженнее здешних еще и тем, что остаются все время бессмертными, если верно то, что об этом говорят.
Но и вам, о мужи судьи, не следует ожидать ничего дурного от смерти, и уж если что принимать за верное,
d
так это то, что с человеком хорошим не бывает ничего дурного ни при жизни, ни после смерти и что боги не перестают заботиться о его делах; тоже вот и моя судьба устроилась не сама собою, напротив, для меня очевидно, что мне лучше уж умереть и освободиться от хлопот. Вот почему и знамение ни разу меня не удержало, и я сам не очень‑то пеняю на тех, кто приговорил меня к наказанию, и на моих обвинителей. Положим, что они выносили приговор и обвиняли меня не по такому соображению, а думая мне повредить;
e
это в них заслуживает порицания. А все‑таки я обращаюсь к ним с такою маленькою просьбой: если, о мужи, вам будет казаться, что мои сыновья, сделавшись взрослыми, больше заботятся о деньгах или еще о чем‑нибудь, чем о доблести, отомстите им за это, преследуя их тем же самым, чем и я вас преследовал; и если они будут много о себе думать, будучи ничем, укоряйте их так же, как и я вас укорял, за то, что они не заботятся о должном и воображают о себе невесть что, между тем как на самом деле ничтожны.
42
И, делая это, вы накажете по справедливости не только моих сыновей, но и меня самого. Но вот уже время идти отсюда, мне – чтобы умереть, вам – чтобы жить, а кто из нас идет на лучшее, это ни для кого не ясно, кроме бога.
Перевод М. С. Соловьева.
В кн.: Платон. Собр. соч. в 4‑х томах. Том 1. М.: «Мысль», 1990
II. КРИТОН
Сократ, Критон
43
Сократ.
Что это ты пришел в такое время, Критон? Или уже не так рано?
Критон.
Очень рано.
Сократ.
Который же час?
Критон.
Едва светает.
Сократ.
Удивляюсь, как это тюремный сторож согласился впустить тебя.
Критон.
Он ко мне уже привык, Сократ, потому что я часто сюда хожу; к тому же я отчасти и ублаготворил его,
Сократ.
А ты сейчас только пришел или давно?
Критон.
Довольно давно.
b
Сократ.
Почему же ты не разбудил меня сразу, а сидишь возле меня и молчишь?
Критон.
Клянусь Зевсом, Сократ, я бы и сам не желал – в такой беде да еще и не спать. Я давно удивляюсь тебе, глядя, как ты сладко спишь, и нарочно тебя не будил, чтобы ты провел время как можно приятнее. Я и прежде, в течение всей твоей жизни, нередко дивился, какой счастливый у тебя характер, а тем более дивлюсь теперь, при этом несчастье, как легко и кротко ты его переносишь.
c
Сократ.
Но ведь было бы нелепо, Критон, в мои годы роптать на то, что приходится умереть.
Критон.
И другим, Сократ, случается попадать на старости лет в такую беду, однако же их старость нисколько не мешает им роптать на свою судьбу.
Сократ.
Это правда. Но зачем же ты так рано пришел?
Критон.
Я пришел с печальным известием, Сократ, печальным и тягостным – не для тебя, как мне представляется, а для меня и для всех твоих близких; до того оно тягостное и мрачное, что для меня, кажется, не может быть ничего мрачнее.
d
Сократ.
Какое же? Уж не пришел ли с Делоса корабль[58]
, с приходом которого я должен умереть?
Критон.
Он еще не пришел, но думается мне, что придет сегодня, судя по словам тех, кто прибыл с Суния[59]
и оставил его там. Из этого ясно, что он придет сегодня, а завтра тебе необходимо будет, Сократ, окончить жизнь.
44
Сократ.
В добрый час, Критон! Если так угодно богам, пусть так и будет. Только я не думаю, чтобы он пришел сегодня.
Критон.
Из чего ты это заключаешь?
Сократ.
Я тебе скажу. Ведь я должен умереть на другой день после того, как придет корабль?
Критон.
Так постановили ведающие этим делом[60]
.
Сократ.
Вот я и думаю, что он придет не сегодня, а завтра. Заключаю же я это по тому сну, который видел этой ночью[61]
; пожалуй, было кстати, что ты не разбудил меня.
Критон.
Какой же это был сон?
b
Сократ.
Мне виделось, что подошла ко мне какая‑то прекрасная, величественная женщина в белых одеждах, позвала меня и сказала: «Сократ! В третий ты день, без сомнения, Фтии достигнешь холмистой»[62]
.
Критон.
Странный сон, Сократ!
Сократ.
А ведь смысл его как будто ясен, Критон.
Критон.
Даже слишком, конечно. Но, дорогой Сократ, хоть теперь послушайся меня и не отказывайся от своего спасения. Если ты умрешь, меня постигнет не одна та беда, что я лишусь друга, какого мне никогда и нигде больше не найти;
c
нет, вдобавок многим из тех, кто недостаточно знает нас с тобой, покажется, что я не позаботился спасти тебя, хотя и мог сделать это, стоило мне только не поскупиться. А что может быть позорнее такой славы, когда о нас думают, будто мы ценим деньги больше, чем друзей? Большинство не поверит, что ты сам не захотел уйти отсюда, несмотря на наши настояния.
Сократ.
Но для чего нам так заботиться о мнении большинства, дорогой Критон? Порядочные люди – ас ними и стоит считаться – будут думать, что все это свершилось так, как оно свершилось на самом деле.
d
Критон.
Но ты уже убедился, Сократ, что приходится считаться и с мнением большинства[63]
. Твое дело показало теперь, что большинство способно творить не только мелкое, но, пожалуй, и самое великое зло, если кто оклеветан перед толпой.
Сократ.
О, если бы, Критон, большинство способно было творить величайшее зло, с тем чтобы быть способным и на величайшее добро! Это было бы прекрасно! А то ведь люди не способны ни на то, ни на другое: они не могут сделать человека ни разумным, ни неразумным, а делают что попало.
e
Критон.
Так‑то оно так, Сократ, но ты мне вот что скажи; уж не боишься ли ты, как бы доносчики, если ты уйдешь отсюда, не втянули нас – меня и остальных близких – в беду за то, что мы тебя отсюда похитили, и нам не пришлось потерять много денег, а то и все наше состояние и вдобавок подвергнуться еще чему‑нибудь?
45
Если ты боишься чего‑нибудь такого, то оставь это; ведь справедливость требует, чтобы мы, ради твоего спасения, пошли на такую опасность, а если понадобится, то и на еще большую. Нет, послушайся меня и сделай по‑моему.
Сократ.
И об этом я беспокоюсь, Критон, и о многом другом.
Критон.
Этого уж ты не бойся. Да и не так много требуют денег те, кто берется спасти тебя и вывести отсюда. Что же касается наших доносчиков, то разве ты не видишь, какой это дешевый народ: для них вовсе не понадобится много денег.
b
В твоем распоряжении мое имущество, и я думаю, его будет достаточно. Если наконец, заботясь обо мне, ты думаешь, что не надо тратить моего достояния, то здесь есть чужеземцы, которые готовы за тебя заплатить; один из них – Симмий Фиванец – уже принес необходимые для этого деньги. То же самое готов сделать Кебет[64]
и еще очень многие. Повторяю, не бойся ты этого и не отказывайся от своего спасения; и пусть тебя не мучает то, о чем ты говорил на суде, – что, уйдя отсюда, ты не знал бы, на что себя употребить:
c
ведь и в других местах всюду, куда бы ты не пришел, тебя будут любить. Если бы ты пожелал отправиться в Фессалию, то у меня там есть друзья, они будут тебя высоко пенить и оберегать, так что во всей Фессалии никто не доставит тебе огорчения.
К тому же, Сократ, ты затеял, по‑моему, несправедливое дело – предать самого себя, когда можно спастись. Ты добиваешься для себя того же самого, чего могли бы добиваться – да и добились уже – твои враги, стремясь погубить тебя.
d
Кроме того, ты предаешь, по‑моему, и своих собственных сыновей[65]
, покидая их, между тем как мог бы их возрастить и воспитать. Это и твоя вина, если они будут жить как придется; а им, конечно, предстоит испытать все, что выпадает обыкновенно сиротам на их сиротскую долю. Или не нужно и заводить детей, или уж надо вместе с ними переносить все невзгоды, кормить и воспитывать их, а ты, по‑моему, выбираешь самое легкое. Надо выбрать то, что выбрал бы хороший и мужественный человек, особенно если он уверял, что всю жизнь заботился о доблести.
e
Что касается меня, так мне стыдно и за тебя, и за нас, твоих близких, если станут думать, что все это произошло с тобой по какому‑то малодушию с нашей стороны: и то, что дело попало в суд, хотя могло бы туда и не попасть, и то, как шло разбирательство, и, наконец, это последнее, похожее на нелепую развязку; ведь можно подумать, что мы всё упустили по нашей трусости и малодушию, и мы тебя не спасли, и сам ты себя не спас, хотя это было осуществимо и возможно, если б мы на что‑нибудь годились.
46
Вот ты и смотри, Сократ, как бы, кроме беды, не было бы и позора для нас с тобой. Все‑таки подумай, – впрочем, думать уже некогда, а нужно решить, решение же может быть только одно, потому что в следующую ночь это должно совершиться, а если еще станем ждать, то уже ничего нельзя будет сделать. Право, Сократ, послушайся меня и ни в коем случае не поступай иначе.
b
Сократ.
Милый Критон, твое усердие стоило бы очень дорого, если бы оно было еще и верно направлено, а иначе чем оно больше, тем тягостнее. Нам надо обсудить, следует ли это делать или нет. Таков уж я всегда, а не только теперь: я не способен повиноваться ничему из всего, что во мне есть, кроме того разумного убеждения, которое после тщательного рассмотрения представляется мне наилучшим. А те убеждения, которые я высказывал прежде, не могу отбросить и теперь, после того как меня постигла эта участь;
c
напротив, они представляются мне все такими же, и я почитаю и ценю то же самое, что и прежде. Если сейчас мы не найдем доводов лучше, чем эти, то, будь уверен, я с тобой ни за что не соглашусь, даже если бы власть большинства стращала нас, словно детей, еще большим количеством пугал, чем теперь, когда она нам преподносит оковы, казни и лишение имущества. Как же в таком случае разобрать нам это наиболее подходящим образом? Не вернуться ли сначала к тому, что ты говорил насчет мнений, и не посмотреть ли, верно ли мы говаривали неоднократно, что на одни мнения следует обращать внимание, а на другие – нет.
d
Или это верно говорилось лишь в то время, когда мне еще не нужно было умереть, а теперь вдруг стало ясно, что так мы только говорили, а на деле это сущие пустяки? Я очень хочу, Критон, разобрать вместе с тобой, покажется ли мне это суждение хоть сколько‑нибудь иным при моем нынешнем положении или все таким же, и отступимся ли мы от него или последуем ему?
e
Как‑никак, а люди, которые, по‑моему, знали, что говорили, неоднократно утверждали то самое, что я сейчас сказал: из мнений, какие бывают у людей, одни следует высоко ценить, а другие нет. Ради богов, Критон, разве это, по‑твоему, не верное утверждение? Ведь тебе, судя по‑человечески, не предстоит завтра умереть, и у тебя нет в настоящее время такого несчастья, которое могло бы сбивать тебя с толку;
47
так посмотри же, разве неправильно, по‑твоему, говорят люди, что не все человеческие мнения следует ценить, но одни надо уважать, а другие нет. Что ты скажешь? Разве это не верно?
Критон.
Верно.
Сократ.
Значит, хорошие мнения нужно ценить, а дурные не нужно?
Критон.
Да.
Сократ.
Но хорошие мнения – это мнения людей разумных, дурные – неразумных?
Критон.
Как же иначе?
b
Сократ.
Ну а как бы мы решили такой вопрос: человек, занимающийся гимнастикой, обращает внимание на любое мнение – и похвалу и порицание – всякого человека или только одного – врача или учителя гимнастики?[66]
Критон.
Только его одного.
Сократ.
Значит, этому человеку надо бояться порицаний и радоваться похвалам его одного, а не большинства?
Критон.
Очевидно.
Сократ.
Стало быть, он должен действовать, упражнять свое тело, есть и пить только так, как это кажется нужным тому, кто к этому делу приставлен и понимает в нем, а не так, как это кажется нужным всем остальным.
c
Критон.
Да, это так.
Сократ.
Пусть так. А если он этого одного не послушается и не будет ценить его мнения и одобрения, а будет ценить отзывы большинства или тех, кто в этом ничего не понимает, то не потерпит ли он какого‑нибудь ущерба?
Критон.
Как же иначе?
Сократ.
Какой же это ущерб? В чем он коснется ослушника?
Критон.
Очевидно, он коснется его тела, – ведь тело он и губит.
Сократ.
Ты верно говоришь. Не так ли и в остальном, Критон, чтобы не перечислять всех случаев? И во всем, что касается справедливого и несправедливого, позорного и прекрасного, хорошего и плохого, – а как раз это мы теперь и обсуждаем, –
d
нужно ли нам слушаться и бояться мнения большинства или же мнения одного человека, если только есть такой, кто это понимает и кого должно стыдиться и бояться больше, чем всех остальных, вместе взятых? Если мы не последуем за ним, мы погубим и обезобразим то, что от справедливости становится лучше, а от несправедливости погибает, как мы и раньше это утверждали. Разве это ничего не значит?
Критон.
Думаю, что так, Сократ.
e
Сократ.
Ну, а если, последовав мнению невежд, мы погубим то, что от здорового становится лучше, а от нездорового разрушается, – стоит жить после того, как оно будет разрушено? А ведь таково хотя бы наше тело, не правда ли?
Критон.
Да.
Сократ.
Так стоит ли нам жить с негодным и разрушенным телом?
Критон.
Никоим образом.
48
Сократ.
А стоит ли нам жить, когда разрушено то, чему несправедливость вредит, а справедливость бывает на пользу? Или, может быть, то, на что действует справедливость и несправедливость, – что бы это там ни было, – мы считаем менее важным, чем тело?
Критон.
Никоим образом.
Сократ.
Значит, наоборот, более венным?
Критон.
Да, и намного.
Сократ.
Стало быть, друг мой, уж не так‑то мы должны Заботиться о том, что скажет о нас большинство, а должны думать о том, что скажет о нас человек, понимающий, что справедливо и что несправедливо, – он один, да еще сама истина.
b
Таким образом, в твоем толковании неправильно прежде всего то, что ты считаешь, будто мы должны заботиться о мнении большинства, что справедливо, прекрасно, хорошо и что нет. «Но ведь большинство, – скажут на это, – в состоянии убить нас»[67]
.
Критон.
Конечно, скажут, Сократ.
Сократ.
Верно говоришь… Но, мой милый, не знаю, как тебе, а мне сдается, что это наше рассуждение похоже на прежнее. Подумай‑ка вот о чем: считаем мы еще или не считаем, что всего больше нужно ценить не самое жизнь, но жизнь хорошую?
Критон.
Конечно, считаем.
Сократ.
А что хорошее, прекрасное, справедливое – все Это одно и то же, считаем мы или нет?
c
Критон.
Считаем.
Сократ.
Так вот, на основании того, в чем мы согласны, нам и следует рассмотреть, справедливо ли будет, если я сделаю попытку уйти отсюда вопреки воле афинян, или же это будет несправедливо, и если окажется, что справедливо, то попытаемся это сделать, если же нет – то оставим такую попытку. А что ты говоришь о денежных издержках, о молве и о воспитании детей, то, говоря по правде, Критон, не есть ли это соображения людей, которые одинаково готовы убивать, а потом, если это было бы в их силах, воскрешать, и все это ни с того ни с сего;
d
иначе говоря, не есть ли это соображения того же самого большинства? Но нам с тобою, как этого требует наше рассуждение, следует рассмотреть только то, о чем мы сейчас говорили: справедливо ли мы поступим, если заплатим деньги тем, кто меня отсюда выведет, и станем благодарить их, а также если сами выйдем отсюда либо выведем других, – или же мы поистине нарушим справедливость, поступив так?
e
Если окажется, что поступать таким образом – несправедливо, тогда нечего уже считаться с тем, что, оставаясь здесь и ничего не предпринимая, мы должны умереть или как‑нибудь по‑другому пострадать, – лишь бы не совершить несправедливости.
Критон.
Говорить‑то ты говоришь хорошо, Сократ, но укажи, что нам делать.
49
Сократ.
Рассмотрим, мой друг, сообща, и если у тебя найдется что возразить на мои слова, то возражай, и я тебя послушаюсь, а если не найдется, то перестань уже, дорогой мой, повторять мне одно и то же, что я должен уйти отсюда вопреки афинянам. Впрочем, мне очень важно поступать в этом деле с твоего согласия, а не вопреки тебе. Обрати внимание на то, удовлетворит ли тебя начало рассмотрения, и постарайся отвечать на вопросы то, что думаешь.
Критон.
Ну, конечно, постараюсь.
Сократ.
Утверждаем ли мы, что никоим образом не надо добровольно нарушать справедливость или что в одном случае надо поступать несправедливо, а в другом нет? Или же несправедливый поступок никак не может быть хорошим или прекрасным, в чем мы и прежде нередко с тобою соглашались?
b
Или все те наши прежние соглашения улетучились за эти несколько дней, и мы, люди пожилые, Критон, долго и как будто серьезно беседуя друг с другом, не заметили того, что ничем не отличаемся от детей? Или же всего вероятнее, что, как мы тогда говорили, так оно и есть: согласно или не согласно с этим большинство, пострадаем ли мы от этого больше или меньше, чем теперь, все равно – несправедливый поступок есть зло и позор для совершающего его, и притом во всех случаях. Утверждаем мы это или нет?
Критон.
Утверждаем.
Сократ.
Значит, ни в коем случае нельзя поступать несправедливо.
Критон.
Нет, конечно.
c
Сократ.
И значит, вопреки мнению большинства, нельзя и отвечать несправедливостью на несправедливость, раз уж ни в коем случае нельзя поступать несправедливо[68]
.
Критон.
Очевидно, нет.
Сократ.
Так что же, Критон: делать зло должно или нет?
Критон.
Разумеется, не должно, Сократ.
Сократ.
Ну, а воздавать злом за зло, как это утверждает большинство, будет справедливо или несправедливо?
Критон.
Никоим образом.
Сократ.
Потому что делать людям зло или поступать несправедливо – разницы нет никакой.
Критон.
Ты прав.
d
Сократ.
Стало быть, не надо ни отвечать на несправедливость несправедливостью, ни делать кому бы то ни было зла, даже если бы пришлось и пострадать от кого‑нибудь. Обрати внимание, Критон, что, соглашаясь с этим, ты соглашаешься вопреки общепринятому мнению, – ведь я знаю, что так думают и будут думать лишь немногие. А когда одни думают так, а другие иначе, тогда уже не бывает общего мнения, и непременно каждый презирает другого за его образ мыслей. Поэтому и ты вдумайся хорошенько, разделяешь ли ты этот взгляд, согласен ли ты со мной, и можем ли мы начать обсуждение, исходя из того, что никогда не будет правильным поступать несправедливо, отвечать на несправедливость несправедливостью и воздавать злом за претерпеваемое зло. Или ты отступаешься и не разделяешь исходного положения?
e
А я с давних пор и по сей час держусь такого мнения. Если же, по‑твоему, все это не так, а как‑нибудь иначе, скажи и наставь меня. Но если ты останешься при прежних взглядах, тогда слушай дальше.
Критон.
Я остаюсь при прежних взглядах и согласен с тобой, продолжай же.
Сократ.
Я скажу о том, что отсюда следует, – или, вернее, спрошу: если ты признал что‑нибудь справедливым, нужно ли это исполнять или не нужно?
Критон.
Нужно.
50
Сократ.
Вот и делай вывод: уходя отсюда без согласия государства, не причиняем ли мы этим зла кому‑нибудь, и если да, то не тем ли, кому всего менее следует его причинять? Или нет? И не преступим ли мы то, что сами признали справедливым?
Критон.
Я не могу отвечать на твой вопрос, Сократ, потому что не понимаю его.
Сократ.
Тогда посмотри вот как: если бы, чуть только собрались бы мы отсюда удрать – или как бы это там ни называлось, – вдруг пришли бы Законы и Государство[69]
, стали бы и спросили: «Скажи‑ка, Сократ, что это ты задумал делать?
b
Не замыслил ли ты этим своим поступком, который собираешься совершить, погубить нас, Законы, и все Государство, насколько это от тебя зависит? Или, по‑твоему, еще может стоять целым и невредимым то государство, в котором судебные приговоры не имеют никакой силы, но по воле частных лиц становятся недействительными и отменяются?» Что скажем мы на эти и на подобные вопросы, Критон?
c
Ведь всякий – не только оратор – может многое сказать в защиту этого попранного закона, который требует, чтобы судебные решения сохраняли свою силу. Или, может быть, мы скажем им: «Государство поступило с нами несправедливо и неправильно решило дело»? Так мы, что ли, скажем?
Критон.
Именно так, клянусь Зевсом, Сократ!
Сократ.
А что сказали бы Законы? «Разве мы с тобой, Сократ, уславливались и об этом, или только о том, чтобы выполнять судебные решения, вынесенные Государством?» И если бы мы удивились их словам, то, вероятно, они сказали бы: «Не удивляйся нашим словам, Сократ, но отвечай, – ведь у тебя и так вошло в привычку прибегать к вопросам и ответам. Скажи же, в чем провинились перед тобой и мы и Государство, за что ты собираешься погубить нас?
d
Прежде всего не мы ли породили тебя? И разве не благодаря нам взял в жены твою мать отец твой и произвел тебя на свет? Укажи, порицаешь ли ты за что‑нибудь тех из нас, которые относятся к браку?» «Нет, не порицаю», – сказал бы я на это. «А те, которые относятся к воспитанию ребенка и к его образованию? Ведь ты и сам был воспитан согласно им! Разве нехорошо распорядились те из нас, Законов, которые этим управляют, что предписывали твоему отцу, чтобы в твое воспитание входили музыка и гимнастика?»[70]
«Хорошо», – сказал бы я.
e
«Так. А раз ты родился, взращен и воспитан, можешь ли ты отрицать, что ты наше порождение и наш невольник, – и ты и твои предки? Если же это так, неужели ты считаешь, что твои права и наши права равны? И что бы мы ни намерены были с тобою сделать, неужели ты считаешь себя вправе противодействовать этому? Если бы у тебя был отец, то с ним ты не был бы равноправен, то же самое и с твоим господином, будь у тебя господин, – так что если бы ты от них что‑нибудь терпел, то не мог бы воздавать им тем же самым:
51
ни отвечать бранью на брань, ни побоями на побои, ни многое тому подобное; так неужели же с Отечеством и Законами все это тебе позволено? И если мы, находя это справедливым, вознамеримся тебя погубить, то ты, насколько это от тебя зависит, вознамеришься погубить нас, – то есть Закон и Отечество, и при этом будешь говорить, что поступаешь справедливо, – ты, который поистине заботишься о доблести? Или ты, при всей своей мудрости, не замечаешь того, что Отечество дороже и матери, и отца, и всех остальных предков,
b
оно более почтенно, более свято и имеет больше значения и у богов и у людей – у тех, у кого есть ум, – и перед ним надо благоговеть, ему надо покоряться и, если оно разгневано, угождать ему больше, чем родному отцу. Надо либо его переубедить, либо исполнять то, что оно велит, а если оно приговорит к чему‑нибудь, то нужно терпеть невозмутимо, – будут ли то побои или оковы, пошлет ли оно на войну, на раны и на смерть; все это нужно выполнять, ибо в этом справедливость.
c
Нельзя отступать, уклоняться или бросать свое место в строю. И на войне, и на суде, и повсюду надо исполнять то, что велит Государство и Отечество, или же стараться вразумить их, в чем состоит справедливость. Учинять же насилие над матерью или над отцом, а тем паче над Отечеством – нечестиво». Что мы на это скажем, Критон? Правду ли говорят Законы или нет?
Критон.
Мне кажется, правду.
Сократ.
«Ну вот и рассмотри, Сократ, – скажут, вероятно, Законы, – правду ли мы говорим, что ты намереваешься поступить с нами несправедливо, замыслив теперь такое дело. Мы тебя родили, вскормили, воспитали, наделили
d
всевозможными благами, и тебя, и всех остальных граждан, однако мы объявляем, что всякому желающему из афинян, после того как он занесен в гражданский список и познакомился с государственными делами и с нами, Законами, предоставляется возможность, если мы ему не нравимся, взять свое имущество и выселиться, куда ему угодно. Никто из нас. Законов, не ставит препятствий и не запрещает тому из вас, кто пожелает, отправиться в колонию – раз и мы и Государство ему не нравимся – или даже переселиться в другое государство, куда ему угодно, и сохранить при этом свое имущество.
e
О том же из вас, кто остается, зная, как мы судим в наших судах и ведем в Государстве прочие дела, мы уже можем утверждать, что он на деле согласился выполнить то, что мы велим; а если он не слушается, то мы говорим, что он втройне нарушает справедливость: тем, что не повинуется нам, своим родителям, тем, что поступает вопреки нам, своим воспитателям, и тем,
52
что, дав согласие нам повиноваться, он все же оказывает неповиновение и не старается переубедить нас, когда мы делаем что‑нибудь нехорошо, и хотя мы предлагаем, а не грубо приказываем исполнять наши решения и даем ему на выбор одно из двух – или переубедить нас, или исполнять, – он не делает ни того, ни другого.
Таким‑то вот обвинениям, говорим мы, будешь подвергаться и ты, Сократ, если совершишь то, что у тебя на уме, и притом не меньше, а больше, чем иные афиняне…»
b
А если бы я сказал; «Почему же?» – они, пожалуй, справедливо заметили бы, что ведь я‑то больше иных афинян соглашался с ними. Они сказали бы: «У нас, Сократ, есть много доказательств, что тебе нравились и мы, и наше Государство, потому что не обосновался бы ты в нем крепче всех афинян, если бы оно не нравилось тебе так крепко. Ты никогда не выезжал из нашего города ради празднеств, где бы их ни праздновали, – разве что однажды на Истм, да еще на войну[71]
; ты никогда не путешествовал, как другие люди, и не нападала на тебя охота увидеть другой город с другими законами.
c
С тебя было довольно нас и нашего города – вот до чего предпочитал ты нас и соглашался жить под нашим управлением; да и детьми обзавелся ты в нашем городе потому, что он тебе нравится. Наконец, если бы ты хотел, ты еще на суде мог бы потребовать для себя изгнания и сделал бы тогда с согласия Государства то самое, что задумал сделать теперь без его согласия. Но в то время ты напускал на себя благородство и как будто бы не смущался мыслью о смерти и твердил, будто предпочитаешь смерть изгнанию; а теперь ты тех слов не стыдишься и нас, Законы, не почитаешь, пытаясь нас уничтожить.
d
Ты поступаешь так, как мог бы поступить самый негодный раб, собираясь бежать вопреки обязательствам и соглашениям, по которым ты обязывался жить под нашим управлением. Итак, прежде всего отвечай нам вот на что: правду ли ты говорил или неправду, утверждая, что ты не на словах, а на деле согласился жить под нашим управлением?» Что мы на это скажем, Критон? Не согласимся ли мы с этим?
Критон.
Непременно, Сократ.
e
Сократ.
«В таком случае, – могут они сказать, – не нарушаешь ли ты обязательств и соглашений, которые ты с нами заключил не по принуждению, не бывши обманут и не имевши надобности решать дело за короткий срок: ведь у тебя было семьдесят лет – довольно времени, чтобы уйти, если бы мы тебе не нравились и эти соглашения казались бы тебе несправедливыми.
53
Но ты не предпочел не Лакедемона, ни Крита[72]
, таких благоустроенных, как ты постоянно утверждаешь, ни еще какое‑нибудь из элллинских или варварских государств; ты отлучался отсюда реже, чем хромые, слепые и прочие калеки, – очевидно, тебе более, чем остальным афинянам, нравился этот город и мы, Законы. А теперь ты отказываешься от наших соглашений? Последовал бы ты нашему совету, Сократ! Не смешил бы ты людей своим бегством из города!
b
Подумай в самом деле: преступив наши соглашения и свершив эту ошибку, что хорошего сделаешь ты для себя самого и для своих близких? Что твоим близким будет угрожать изгнание, что они могут лишиться родного города или потерять имущество, это по меньшей мере очевидно. Да прежде всего ты сам, если отправишься в один из ближайших городов, в Фивы или Мегары[73]
, – ведь оба этих города управляются хорошими Законами, – то придешь туда, Сократ, врагом государственного порядка этих городов:
c
все те, кому дорог их город, будут на тебя коситься, считая тебя губителем законов, и ты упрочишь за твоими судьями славу, будто они правильно решили твое дело, – ведь губитель законов очень и очень может показаться также и губителем молодежи и людей несмышленых. А может быть, ты намерен избегать благоустроенных государств и порядочных людей? Но в таком случае стоит ли тебе жить? Или ты пожелаешь сблизиться с такими людьми и не постыдишься с ними беседовать? Но о чем же беседовать, Сократ?
d
О том же, о чем и здесь, – о том, что для людей всего дороже доблесть и справедливость, обычаи и законы? Неужели, по‑твоему, это было бы достойно Сократа? А ведь надо бы додумать об этом. Но, положим, ты ушел бы подальше от этих мест и прибыл бы в Фессалию, к друзьям Критона; там величайшее неустройство и распущенность, и, верно, они с удовольствием стали бы слушать твой рассказ о том, как это было смешно, когда ты скрылся из тюрьмы, переряженный в козью шкуру[74]
или еще во что‑нибудь, что надевают обыкновенно при побеге, и изменив свою наружность.
e
А что ты старый человек, которому, как оно и естественно, уже недолго осталось жить, посмел так малодушно цепляться за жизнь, преступив самые главные законы, – разве никто так о тебе не скажет? Может, и не скажет, если ты никого не заденешь, а не то, Сократ, придется тебе выслушать много такого, чего ты вовсе не заслужил. И вот будешь ты жить, заискивая у всякого и прислуживаясь, и ничего тебе не останется делать, кроме как услаждать себя едой, как будто ты отправился в Фессалию на обед. А где беседы о справедливости и доблести?
54
Ты желаешь жить ради детей, для того чтобы вскормить и воспитать их? Как же это, однако? Ты уведешь их в Фессалию, вскормишь и вспоишь и ради этого сделаешь их чужестранцами? Или же, по‑твоему, если ты будешь жив, они, несмотря на твое отсутствие, получат лучшее воспитание и образование, потому что твои близкие позаботятся о них? Значит, если ты переселишься в Фессалию, они позаботятся, а если переселишься в Аид, то не позаботятся? Надо думать, что позаботятся и тогда, если только на что‑нибудь годятся те, кто называет себя твоими близкими.
b
Нет, Сократ, послушайся ты нас, твоих воспитателей, и не ставь ничего выше справедливости – ни детей, ни жизни, ни еще чего‑нибудь, чтобы, придя в Аид, ты мог этим оправдаться перед теми, кто правит там[75]
. В самом деле, Сократ, если ты сделаешь то, что намерен, то будет это и менее справедливо и менее благочестиво, а значит, и здесь не будет от этого хорошо ни тебе, ни твоим, да и после того, как ты придешь туда, будет не лучше. Если ты теперь отойдешь, то отойдешь обиженный не нами, Законами, а людьми.
c
Если же ты уйдешь из тюрьмы, так позорно воздав обидой за обиду и злом за зло, преступив заключенные с нами соглашения и договоры и причинив зло как раз тем, кому всего менее следовало причинять его, – самому себе, друзьям. Отечеству и нам, то мы разгневаемся на тебя при твоей жизни, да и там наши братья, Законы Аида, неблагосклонно примут тебя, Зная, что ты и нас пытался погубить, насколько это от тебя зависело. Не дай Критону убедить тебя совершить то, что он советует, слушайся лучше нас».
d
Уверяю тебя, милый друг Критон, мне кажется, что я все это слышу, как и корибантствующим[76]
кажется, что они слышат флейты, и отголосок этих речей гудит во мне так, что я не могу слышать ничего другого. Вот ты и знай, каково мое мнение теперь; если ты станешь ему противоречить, то будешь говорить понапрасну. Впрочем, если думаешь одолеть, говори!
Критон.
Но мне нечего сказать, Сократ.
e
Сократ.
Оставь же это, Критон, и сделаем так, как указывает бог.
Перевод М. С. Соловьева.
В кн.: Платон. Избранные диалоги. М., 1965
III. ФЕАГ
Демодок, Сократ, Феаг
121
Демодок.
Мне необходимо было бы поговорить с тобой[77]
наедине, мой Сократ, если у тебя есть время; и если ты не слишком занят, то ради меня удели время беседе.
Сократ.
Но я и так свободен, в особенности же если я тебе нужен. И если ты хочешь мне что‑то сказать, ничто этому не препятствует.
Демодок.
Не желаешь ли пройти со мной отсюда в портик Зевса Освободителя?[78]
Сократ.
Как тебе угодно.
b
Демодок.
Пойдем же. Послушай, Сократ, все рожденные существа созданы, по‑видимому, на один лад – и растения, поднимающиеся из земли, и животные, в том числе человек[79]
. В отношении растений нам, землепашцам, легче всего предусмотреть все, что необходимо для их роста и для самой посадки: после того как посаженное растение получает жизнь, начинается длительный, трудный и тяжкий уход за ростком. Похоже, что нечто подобное происходит и с человеком. Я наблюдаю это на примере моих собственных дел и переношу сей
c
пример на все остальное: ведь появление на свет этого вот моего сына – назвать ли это порождением или созданием – осуществилось весьма легко, воспитать же его – трудное дело, ибо я нахожусь в постоянном за него страхе. Можно было бы упомянуть еще о многом, но и та страсть, коя сейчас им владеет, очень меня пугает; страсть эту нельзя назвать низменной, однако в ней таится великий риск: ведь он, мой Сократ, говорит, что жаждет стать мудрым. Мне кажется, его
d
сбивают с толку некоторые его сверстники и земляки: посетив столицу, они припоминают услышанные там речи, а он им завидует и уже давно докучает мне, требуя, чтобы я подумал о нем и заплатил деньги кому‑либо из софистов, который сделал бы его мудрым[80]
. Меня же меньше всего заботят деньги, но боюсь, что там, куда ему не терпится отправиться, он подвергнет себя немалой опасности. До сих пор я удерживал его увещаниями;
122
но поскольку далее удержать его я не в силах, полагаю, что лучше всего будет уступить ему, иначе, общаясь с кем‑то без моего ведома, он может погибнуть. Вот почему я и явился сейчас сюда – чтобы отдать его в обучение кому‑либо из тех, кто пользуется славой софистов. Ты же в добрый час нам попался навстречу, ибо как раз с тобой мне весьма желательно посоветоваться о том, что я намерен предпринять. И если ты способен извлечь совет из того, что сейчас от меня услышал, ты можешь и должен мне его дать.
b
Сократ.
Поистине, Демодок, говорят, что совет – это святая вещь[81]
. И если он свят во всяком ином деле, то уж тем более в том, о котором ты сейчас со мною советуешься: ведь нет ничего более божественного в решениях людей, чем то, что касается воспитания – самого ли человека или членов его семьи. Но сначала нам надо с тобой договориться, как именно мы определим, о чем мы советуемся, дабы не выходило, что я разумею одно, ты же – другое, и потом, зайдя чересчур далеко в беседе, мы не показались бы сами себе смешными – и я, дающий тебе советы, и ты, их выслушивающий, – потому что ни по одному вопросу не придем к согласию.
c
Демодок.
Мне кажется, ты прав, Сократ, и поступить надо именно так.
Сократ.
Да, я прав, но не вполне: кое‑что – совсем немногое – я изменю. Мне представляется, что юноша этот жаждет не того, что мы предполагаем, но совсем другого, и тогда мы окажемся еще большими чудаками, держа совет не о том. Поэтому, думается мне, самым правильным будет начать с него самого, выспросив у него, чего же именно он желает.
Демодок.
По‑видимому, лучше всего сделать так, как ты предлагаешь.
d
Сократ.
Скажи же мне, как звучит прекрасное имя юноши? Как мне к нему обращаться?
Демодок.
Его имя Феаг, мой Сократ.
Сократ.
Красивое имя дал ты, Демодок, сыну и благочестивое[82]
. Скажи же нам, Феаг: ты утверждаешь, что хочешь стать мудрым и доверяешь твоему отцу избрать человека, общение с которым сделало бы тебя таким?
Феаг.
Да.
Сократ.
Называешь ли ты мудрыми людей, знающих свое дело или не знающих?
e
Феаг.
Конечно, знающих.
Сократ.
Что же, разве не обучил тебя отец тому, чему обучаются здесь все остальные сыновья благородных родителей, – грамоте, игре на кифаре, борьбе и другим видам гимнастических состязаний?[83]
Феаг.
Обучил, конечно.
123
Сократ.
Значит, ты считаешь, что тебе недостает какого‑то знания, о котором твоему отцу подобало бы для тебя позаботиться?
Феаг.
Да, я так считаю.
Сократ.
Какое же это знание? Скажи и нам, чтобы мы сумели тебе помочь.
Феаг.
Отец мой это знает, Сократ, ибо я часто ему о том говорил, но он умышленно уверяет тебя, будто не знает, чего я хочу. Подобным же образом он и мне препятствует, не желая отдать меня никому в обучение.
b
Сократ.
Но ведь то, что ты раньше ему говорил, было сказано словно бы без свидетелей; теперь же возьми меня в свидетели и перед лицом этого свидетеля изложи, что это за премудрость, к которой ты так стремишься? Например, если бы ты стремился к той, что позволяет людям стать кормчими на кораблях, и я задал бы тебе вопрос: «Мой Феаг, в какой мудрости ты нуждаешься и из‑за чего упрекаешь отца, будто он не желает отдать тебя в обучение людям, от которых бы ты ее перенял?» – что бы ты мне на это ответил? Как бы ты эту мудрость назвал? Не искусством ли кораблевождения?
Феаг.
Да, так.
c
Сократ.
А если бы ты упрекал отца за нежелание сделать тебя искусным в премудрости управления колесницами, а я бы спросил, что это за премудрость, коей ты жаждешь, как бы ты мне ее назвал? Не искусством ли управления лошадьми?
Феаг.
Да.
Сократ.
Ну а та мудрость, к которой ты ныне стремишься, безымянна или же у нее есть какое‑то имя?[84]
Феаг.
Думаю, что, конечно, есть.
Сократ.
А тебе известна только она сама, без названия, или же и ее имя?
Феаг.
Конечно же и ее имя.
Сократ.
Что ж это за имя? Скажи.
Феаг.
Но какое иное имя, Сократ, можно ей дать, кроме имени мудрости?
d
Сократ.
Однако ведь и управление колесницами – это мудрость? Или тебе кажется, что это – невежество?
Феаг.
Нет, мне так не кажется.
Сократ.
Значит, это мудрость?
Феаг.
Да.
Сократ.
А к чему мы ее применяем? Не к тому ли, чтобы знать, как следует править упряжкой лошадей?
Феаг.
Да, именно к этому.
Сократ.
Значит, и искусство кораблевождения – это мудрость?
Феаг.
Мне кажется, да.
Сократ.
Не та ли это мудрость, что помогает нам водить корабли?
Феаг.
Именно та.
Сократ.
Ну а ты какой жаждешь мудрости? Чем умеем мы с ее помощью управлять?
Феаг.
Мне кажется, людьми.
e
Сократ.
Больными людьми?
Феаг.
Разумеется, нет.
Сократ.
Ведь это было бы врачебным искусством, не так ли?
Феаг.
Да.
Сократ.
Тогда эта твоя мудрость поможет нам управлять хоровым пением?
Феаг.
Нет.
Сократ.
Она была бы в этом случае искусством мусическим, да?
Феаг.
Несомненно.
Сократ.
Но, значит, мы с ее помощью сможем управлять гимнастами?
Феаг.
Нет.
Сократ.
Это было бы ведь искусством гимнастики?
Феаг.
Да.
Сократ.
Какими, однако, людьми и чем занимающимися помогает она управлять? Попытайся объяснить это так, как я тебе объяснял перед этим.
124
Феаг.
Мне кажется, она помогает управлять гражданами.
Сократ.
Но ведь среди граждан есть и больные?
Феаг.
Да, но я не только их имею в виду, а и всех остальных граждан.
Сократ.
Кажется, я понимаю, о каком искусстве ты говоришь. Полагаю, ты имеешь в виду не то, благодаря которому мы умеем управлять жнецами, сборщиками плодов, огородниками, сеятелями и молотильщиками: ведь всем этим мы управляем с помощью искусства земледелия, не так ли?
Феаг.
Да, так.
b
Сократ.
Это также и не то искусство, с помощью которого мы умеем управлять всеми пильщиками, крепильщиками, строгальщиками и резчиками: ибо это было бы плотничье искусство, не так ли?[85]
Феаг.
Да.
Сократ.
Но, быть может, ты говоришь о той мудрости, что помогает управлять и всеми названными мастерами – земледельцами, плотниками, а также всеми ремесленниками, вместе взятыми, и вдобавок еще частными лицами – мужчинами и женщинами?
c
Феаг.
Да, мой Сократ, именно об этой мудрости я давно уже порываюсь сказать.
Сократ.
А можешь ли ты мне ответить: Эгисф, умертвивший Агамемнона в Аргосе[86]
, управлял теми людьми, о ком ты говоришь, – всеми ремесленниками, а также частными лицами – мужчинами и женщинами – или кем‑то другим?
Феаг.
Нет, именно этими лицами.
Сократ.
Далее, Пелей, сын Эака, разве не такими же людьми управлял во Фтии?[87]
Феаг.
Такими.
Сократ.
А о Периандре, сыне Кипсела, ставшем правителем в Коринфе, ты слыхивал?[88]
Феаг.
Да, конечно.
Сократ.
Разве он не подобными же людьми управлял в своем городе?
d
Феаг.
Да, подобными.
Сократ.
Ну а Архелай, сын Пердикки, тот, что недавно был правителем Македонии?[89]
Разве ты не считаешь, что и он управлял такими же лицами?
Феаг.
Да, считаю.
Сократ.
А Гиппий, сын Писистрата, правивший в нашем городе[90]
, кем, полагаешь ты, управлял? Не теми ли самыми?
Феаг.
Конечно же теми.
Сократ.
А не скажешь ли ты мне, какое прозвище носят Бакид, а также Сибилла и наш соотечественник Амфилит?[91]
Феаг.
Какое же иное, мой Сократ, как не прозвище вещих?
e
Сократ.
Ты верно сказал. Но попытайся мне также ответить, какое имя получили по свойству своей власти Гиппий и Периандр?
Феаг.
Мне кажется, имя тиранов[92]
. Иного и не могло быть.
Сократ.
Значит, всякий, кто стремится править всеми людьми государства, стремится тем самым к подобной власти над ними – тиранической – и является не кем иным, как тираном?
Феаг.
Это очевидно.
Сократ.
Ну а ты сам не стремишься ли к такой власти?
Феаг.
Из сказанного мною выходит, что да.
125
Сократ.
Несчастный, значит, стремясь стать нашим тираном, ты давно уже попрекаешь своего отца за то, что он не посылает тебя к какому‑нибудь наставнику в тирании? А ты, Демодок, не стыдно ли тебе, давно знающему, к чему он стремится, и имеющему возможность, послав его в обучение, сделать мастером той премудрости, которой он жаждет, – не стыдно ли тебе отказывать ему в его просьбе? Но теперь, как видишь, он в моем присутствии тебя обвинил; давай же посоветуемся вместе – ты и я, к кому его надо отправить и чья беседа поможет ему стать искусным тираном.
b
Демодок.
Да, мой Сократ, клянусь Зевсом, давай посоветуемся, ибо мне кажется, что дело это требует серьезного обсуждения.
Сократ.
Постой, добрейший мой! Порасспросим прежде как следует его самого.
Демодок.
Спрашивай же.
Сократ.
Что, если мы обратимся к Еврипиду, Феаг? Ведь Еврипид где‑то говорит:
Мудры тираны от общенья с мудрыми[93]
.
Представь, кто‑нибудь спросил бы Еврипида: «Скажи, Еврипид, в общении с какими мудрецами становятся мудрыми тираны?» Ведь если бы он сказал, что
c
Мудры крестьяне от общенья с мудрыми,
и мы спросили бы его: «Мудрыми – в чем?» – как бы он нам ответил? Не в чем ином, сказал бы он, как в земледелии?
Феаг.
Да, не в чем ином, только в этом.
Сократ.
Ну а если бы он сказал: Ведь повара мудры в общенья с мудрыми,
и мы спросили бы его: «Мудрыми – в чем?» – как ответил бы он нам на это? «В поварском искусстве!» Не так ли?
d
Феаг.
Да.
Сократ.
Ну а если бы он сказал: Мудры гимнасты от общенья с мудрыми,
и мы спросили бы его: «Мудрыми – в чем?» – разве не сказал бы он, что в гимнастике?
Феаг.
Да.
Сократ.
А коли он сказал, что Мудры тираны от общенья с мудрыми,
и мы спрашиваем его: «О каких мудрецах ты говоришь, Еврипид?» – что может он нам ответить? О чем здесь идет речь?
Феаг.
Но, клянусь Зевсом, я не знаю.
Сократ.
Хочешь ли, я скажу тебе?
Феаг.
Да, если тебе угодно.
Сократ.
Это та мудрость, которая, как сказал Анакреонт, была ведома Калликрите[94]
. Разве ты не знаешь эту песню?
Феаг.
Конечно, знаю.
e
Сократ.
Что же, ты жаждешь общения с таким мужем, который был бы сотоварищем по мудрости Калликрите, дочери Кианы, и «знал бы все, что связано с тиранией», как говорит о ней поэт? Это ли тебе нужно, чтобы стать тираном – нашим и города?
Феаг.
Ты уже давно, Сократ, вышучиваешь меня и насмехаешься.
Сократ.
Как? Разве ты говоришь, что жаждешь не той премудрости, с помощью которой мог бы управлять всеми согражданами? А ведь, занимаясь этим, ты был бы не кем иным, как тираном.
126
Феаг.
Думаю, я мог бы пожелать стать тираном, и лучше всего над всеми людьми, а если это невозможно, то над их большинством. Да ведь, пожалуй, и ты, и все остальные хотели бы этого, а еще более – стать богами… Но я сказал, что стремлюсь не к этому.
Сократ.
Однако что же это такое, к чему ты стремишься? Разве ты не говорил, что жаждешь управлять своими согражданами?
Феаг.
Но не силой, не так, как правят тираны, а с добровольного согласия граждан, как поступали и другие славные мужи нашего города.
Сократ.
Ты разумеешь, как Фемистокл, Перикл или Кимон[95]
либо другие мужи, искушенные в делах государственного правления?
Феаг.
Да, клянусь Зевсом, я говорю о них.
b
Сократ.
Ну а если бы ты жаждал умудриться в верховой езде, то к кому, думаешь ты, надо было бы тебе обратиться, чтобы стать искусным наездником? Разве не к мастерам верховой езды?
Феаг.
Да, к ним, клянусь Зевсом.
Сократ.
Значит, ты обратишься к людям, сведущим в верховой езде, имеющим лошадей и постоянно пользующимся ими – и своими, и многими чужими?
Феаг.
Ясно, что к ним.
Сократ.
Ну а если бы ты пожелал стать умелым в метанье копья? Как ты считаешь, разве не к копьеметателям пошел бы ты, чтобы стать искусным в этом деле, – к людям, владеющим копьями и постоянно пользующимся ими – своими, а также и многими чужими?
c
Феаг.
Думаю, ты прав.
Сократ.
Скажи же мне: если ты желаешь стать искусным в деле государственного правления, разве, по твоему разумению, тебе надо отправиться в поисках этой мудрости к кому‑то другому, а не к тем государственным мужам, что искушены в политике и привыкли управлять и своим городом, и многими другими, имея связи как с эллинскими, так и с варварскими государствами?[96]
Неужели ты думаешь, что станешь мудрым в их искусстве, общаясь не с ними самими, а с какими‑то другими людьми?
Феаг.
Но я слышал, Сократ, от людей, будто ты говоришь в своих беседах, что сыновья этих государственных мужей ничуть не лучше, чем сыновья сапожников[97]
. И мне кажется, ты здесь в высшей степени прав, насколько я могу об этом судить.
d
Значит, я был бы весьма неразумен, если бы считал, что кто‑то из них может передать мне свою мудрость, коль скоро он ничем не оказался полезен родному сыну, – если только вообще он мог в этом отношении быть полезным кому‑либо из людей.
Сократ.
В таком случае, достойнейший мой, что бы ты сделал сам, если бы перед тобой после рождения сына встала эта задача? Если бы он говорил тебе, что жаждет стать хорошим живописцем, и упрекал тебя, своего отца, в том, что ты не желаешь на это тратиться, а сам в то же время ни в грош не ставил бы мастеров живописи и не желал бы у них учиться?
e
Или, стремясь стать флейтистом, презирал бы таких мастеров либо кифаристов, коли хотел бы стать кифаристом? Знал бы ты, как ему помочь и к кому его послать, если бы он не пожелал у них обучаться?
Феаг.
Клянусь Зевсом, нет.
127
Сократ.
А теперь, поступая точно так же по отношению к своему отцу, ты удивляешься и коришь его, когда он не знает, что с тобой делать и к кому тебя посылать? Что, если мы определим тебя к кому‑либо из достойных афинян, сведущих в делах государства, который занимался бы с тобою даром? Тогда ты и денег бы не потратил и обрел гораздо большую славу в глазах большинства людей, чем если бы общался с кем‑то другим.
Феаг.
За чем же дело стало, Сократ? Разве ты не принадлежишь к достойнейшим людям? Если ты пожелаешь со мной заниматься, я буду доволен и не стану искать никого другого.
b
Сократ.
Что это ты говоришь, Феаг?
Демодок.
Он говорит совсем неплохо, Сократ, и мне его слова по душе. Я не представляю себе большей удачи, чем если бы он удовольствовался твоим обществом и ты сам пожелал бы с ним общаться. Я даже стесняюсь сказать, насколько мне это желанно. Но прошу вас обоих – тебя, чтобы ты согласился на это общение, и тебя, мой сын, чтобы ты не искал никакого иного общества, кроме Сократова. Этим вы избавите меня от многих ужасных забот. Я ведь очень боюсь, как бы он не связался с кем‑то другим, кто мог бы его развратить.
c
Феаг.
Так не бойся же за меня теперь, отец, если только ты в состоянии убедить Сократа, чтобы он принял меня в обучение.
Демодок.
Ты говоришь прекрасно. Сократ, теперь моя речь к тебе: я готов, говоря кратко, предоставить тебе и себя, и все мне самое близкое – одним словом, все, в чем ты нуждаешься, если ты будешь мил с Феагом и облагодетельствуешь его насколько сможешь.
d
Сократ.
Я не удивляюсь твоему стремлению, Демодок, коль скоро ты считаешь, что он извлечет благодаря мне большую пользу; ведь я не знаю, к чему бы здравомыслящий человек мог приложить большее усердие, чем к тому, чтобы сделать своего сына сколь возможно лучшим. Однако я весьма дивлюсь, с чего ты вздумал, будто я более тебя способен помочь твоему сыну стать достойным гражданином, а также почему он сам считает меня более способным помочь ему, чем тебя. Ведь ты, прежде всего, старше меня; затем, ты уже отправлял множество самых высоких государственных должностей среди афинян и пользуешься высоким почетом как среди своих земляков‑анагирассцев[98]
, так и – не меньшим – среди прочих афинских граждан.
e
Во мне же никто из вас не мог бы усмотреть ничего подобного. Поэтому если наш Феаг пренебрегает общением с государственными мужами и ищет других людей, объявляющих, что они могут обучать юношей, то есть ведь и Продик Кеосский, и Горгий из Леонтии, и Пол‑акрагантец[99]
,
128
да и многие другие, настолько мудрые, что они, приходя в города, убеждают благороднейших среди юношей, да и самых богатых (несмотря на то, что у тех есть полная возможность даром общаться с кем угодно из их сограждан), – убеждают их, оставив прежние знакомства, беседовать с ними и вдобавок доложить к этому весьма немалые деньги да еще и свою благодарность. Было бы естественно, если бы ты и твой сын избрали кого‑нибудь из них; ко мне же обращаться с такой просьбой не подобает: я ведь не знаю ни одной из этих счастливых и прекрасных наук – хоть и желал бы.
b
И я всегда утверждаю, что, как говорится, я полный неуч во всем, кроме разве одной совсем небольшой науки – науки любви. В этой же науке я заявляю себя более искусным, чем кто бы то ни было из людей – как прошлых времен, так и нынешних.
Феаг.
Ты видишь, отец? Мне кажется, Сократ не очень‑то готов пока со мной заниматься, хотя я с моей стороны готов, лишь бы он пожелал. Но он говорит нам это шутя.
c
Я ведь знаю своих сверстников и людей несколько старшего возраста, которые до общения с ним ничего собой не представляли, а после того, как у него поучились, за весьма малый срок показали себя лучшими людьми, чем те, в сравнении с кем они ранее были хуже.
Сократ.
А знаешь ли ты, в чем тут дело, сын Демодока?
Феаг.
Да, клянусь Зевсом, ибо, если ты пожелаешь, и я смогу стать таким, как они.
d
Сократ.
Нет, мой милый, ты не знаешь, как это бывает на деле; но я расскажу тебе. Благодаря божественной судьбе с раннего детства мне сопутствует некий гений – это голос, который, когда он мне слышится, всегда, что бы я ни собирался делать, указывает мне отступиться, но никогда ни к чему меня не побуждает[100]
. И если, когда кто‑нибудь из моих друзей советуется со мной, мне слышится этот голос, он точно таким же образом предупреждает меня и не разрешает действовать. Я могу вам представить тому свидетелей. Вы знаете ведь того красавца Хармида, сына Главкона; однажды он советовался со мной, стоит ли ему пробежать ристалище в Немее[101]
.
e
И не успел он начать говорить о своем желании состязаться, как я услышал голос и стал удерживать его от этого намерения такими словами: «Когда ты говорил, – сказал я, – мне послышался голос моего гения: тебе не следует состязаться». «Быть может, – отвечал он, – голос указывает тебе, что я не одержу победу? Но даже если я не стану победителем, я использую время для упражнения». Как он сказал, так и сделал.
129
Стоит послушать его рассказ о том, чем для него эти упражнения кончились. А если желаете, спросите Клитомаха, брата Тимарха, что сказал ему Тимарх, когда вопреки вещему голосу пошел на смерть он и бегун Еватл[102]
, принявший его – беглеца. Скажет вам Клитомах, что тот ему говорил…
Феаг.
Что?
Сократ.
«Мой Клитомах, мне предстоит вот сейчас умереть, потому что я не захотел послушать Сократа». А почему так сказал Тимарх? Я объясню.
b
Однажды во время пира поднялись со своего места Тимарх и Филемон, сын Филемонида, с намерением убить Никия, сына Героскамандра[103]
. Об этом замысле было ведомо лишь им двоим, но Тимарх, вставая, мне молвил: «Ну как, Сократ? Вы продолжайте пить, мне же нужно идти. Я приду попозже, если встречу удачу». А мне в это время был голос, и я ему отвечал: «Ни в коем случае не вставай! Мой гений подает мне обычный знак». И он остался. Но по прошествии некоторого времени он снова вскочил, чтоб идти, говоря: «Я все же иду, Сократ».
c
И снова мне послышался голос, и я опять заставил его остаться. В третий раз, желая скрыть это от меня, он встал, не говоря мне ни слова, тайком, выждав, когда я был занят другими мыслями. И так он удалился и выполнил то, из‑за чего должен был потом умереть. Потому‑то он и сказал своему брату то, что я передал вам сейчас – мол, он умрет оттого, что мне не поверил. А еще вы можете услышать от многих участников сицилийского дела, что я сказал по поводу гибели войска[104]
.
d
Но дела, случившиеся когда‑то, можно узнать от свидетелей; вы же имеете возможность испытать мое знамение в настоящем – значит ли оно что‑то в действительности. Ведь оно явилось мне при выступлении в поход красавца Санниона, а воюет он теперь вместе с Фрасиллом[105]
против Ионии и Эфеса. И я думаю, что он либо умрет, либо испытает другую смертную муку, да и за все остальное войско я опасаюсь.
e
Все это я сказал тебе к тому, что великая сила этого божественного знамения распространяется и на тех людей, что постоянно со мною общаются. Ведь многим эта сила противится, и для таких от бесед со мной нет никакой пользы, ибо и я не в силах с ними общаться. Многим же она не препятствует проводить со мной время, но они из этого не извлекают никакой пользы. А те, кому сила моего гения помогает со мною общаться, – их и ты знаешь – делают очень быстро успехи.
130
И опять‑таки из этих занимающихся с успехом одни получают прочную и постоянную пользу, а многие другие, пока они со мной, удивительно преуспевают, когда же отходят от меня, снова становятся похожими на всех прочих. Так случилось, например, с Аристидом, сыном Лисимаха, Аристидова сына: общаясь со мной, он сделал за короткое время весьма большие успехи; но потом он отправился в какой‑то поход и вышел на судах в море; когда же он возвратился, то застал в беседе со мной Фукидида, сына Мелесия, Фукидидова сына[106]
, – а Фукидид этот накануне был раздражен против меня из‑за какого‑то разговора.
b
Аристид, увидев меня, поздоровался и, побеседовав со мною о том о сем, говорит: «А ведь я слышал, Сократ, что Фукидид заносится перед гобою и бранит тебя, словно он что‑то собой представляет». «Но так оно и есть», – говорю я. «Как, – отвечает, – невдомек ему разве, что он был за жалкая душонка раньше, чем стал близок с тобой?» «Видимо, пот, – говорю я, – клянусь богами!» «Но и сам‑то я, – говорит он, – оказался смешон, Сократ!» «Почему же так?» – спрашиваю.
c
«Да потому, что до моего отплытия я был способен разговаривать с любым человеком и показывал себя не худшим собеседником, чем кто бы то ни было другой, а потому и гнался за обществом самых тонких людей; теперь же я, напротив, избегаю образованных людей, лишь только учую, что они таковы: настолько совещусь я собственной никчемности». «А сразу ли, – спрашиваю я, – покинула тебя эта способность или постепенно?» «Постепенно», – отвечает он.
d
«Ну а когда она была при тебе, – спросил я, – ты имел ее благодаря занятиям со мной или по какой‑то другой причине?» «Скажу тебе, мой Сократ, – отвечал он, – невероятную вещь, однако истинную, клянусь богами! Ведь, как ты знаешь сам, я от тебя совсем ничему не научился; но я делал успехи, когда находился вместе с тобой и даже если был с тобой не в одном и том же помещении, а всего лишь в одном с тобой доме; а еще более преуспевал я, когда находился с тобой в одном помещении, и уже гораздо больше, казалось мне, когда, находясь с тобой в одной комнате, я смотрел на тебя, говорящего, а не глядел в это время в сторону;
e
самые же великие и многочисленные успехи сопутствовали мне, когда, сидя рядом с тобою, я тесно к тебе прикасался. Теперь же, – заключил он, – вся эта способность излилась из меня прочь».
Вот, мой Феаг, с чем сопряжено общение со мной. Если божеству будет угодно, ты добьешься весьма больших успехов, и быстро, если же нет, то – нет. Так что смотри, не безопаснее ли тебе учиться у кого‑либо из тех, кто сами владеют пользой, приносимой им людям, чем у меня, где все это подвержено случаю.
131
Феаг.
А по‑моему, Сократ, нам надо поступить таким образом: давай испытаем твоего гения, общаясь друг с другом; и если он будет к нам благосклонен, тем лучше. Если же нет, мы тотчас же тогда посоветуемся, что нам делать: обратиться ли к другому человеку или же попытаться умилостивить являющееся тебе божество мольбами, жертвоприношениями и всеми средствами, указанными прорицателями.
Демодок.
Больше не возражай, мой Сократ, на слова мальчика: хорошо ведь сказал Феаг.
Сократ.
Что ж, если вам представляется это верным, так и поступим.
Перевод С. Я. Шейнман‑Топштейн.
В кн.: Платон. Диалоги. М.: «Мысль», 1986
IV. АЛКИВИАД II
Сократ, Алкивиад
138
Сократ.
Мой Алкивиад[107]
, значит, ты направляешься к храму, дабы вознести моление богу?
Алкивиад.
Именно так, Сократ.
Сократ.
Ты кажешься угрюмым, взглядом уперся в землю – похоже, ты о чем‑то задумался.
Алкивиад.
Но что это могла бы быть за забота, Сократ?
b
Сократ.
Величайшая забота, Алкивиад, как мне кажется. Послушай, ради Зевса, разве ты не думаешь, что боги, когда мы их о чем‑то просим – частным образом или публично, – иногда одно нам даруют, в другом же отказывают и при этом они различают, кому надобно что‑либо даровать, а кому – нет?
Алкивиад.
Несомненно.
Сократ.
Так не кажется ли тебе, что требуется очень сильный дар провидения, чтобы как‑нибудь невзначай, полагая обрести благо, не вымолить себе величайшего зла, когда боги расположены дать молящему именно то, о чем он просил? Например, об Эдипе рассказывают, будто он просил у богов, чтобы его сыновья медью делили отцовское достояние[108]
. Вместо того чтобы
c
молить, как это было еще возможно, об отвращении уже нависшего над ним зла, он накликал еще новое зло. Итак, его заклятие исполнилось, а из этого воспоследовали многие другие ужасные вещи, перечислять которые имеет ли смысл?[109]
Алкивиад.
Но ведь ты, мой Сократ, говорил о безумном человеке. Неужели ты считаешь, что кто‑либо, находясь в здравом уме, осмелится обращать к богам такие молитвы?
Сократ.
Следовательно, безумие, по твоему мнению, противоположно разумности?
d
Алкивиад.
В высшей степени.
Сократ.
Тебе не кажется, что бывают люди разумные, а бывают и лишенные разума?
Алкивиад.
Да, конечно.
Сократ.
Давай рассмотрим, что же это за люди. Мы ведь согласились с тобой, что есть люди разумные и неразумные, а кроме того, и просто безумные.
Алкивиад.
Да, согласились.
Сократ.
Но ведь существуют и здравые люди?
Алкивиад.
Да, существуют.
139
Сократ.
И другие – больные?
Алкивиад.
Несомненно.
Сократ.
Это ведь не одно и то же?
Алкивиад.
Разумеется.
Сократ.
А есть ли такие, что не принадлежат ни к тому, ни к другому виду?
Алкивиад.
Нет, таких не бывает.
Сократ.
Значит, каждый человек необходимо бывает либо здоровым, либо больным.
Алкивиад.
Мне кажется, да.
Сократ.
Ну а относительно разумности и неразумия ты того же самого мнения?
Алкивиад.
Как понимать твой вопрос?
Сократ.
Думаешь ли ты, что человек может быть только разумным или неразумным или же существует и третье состояние, промежуточное, делающее его и не разумным, и не лишенным разума?
b
Алкивиад.
Нет, конечно.
Сократ.
Значит, человек в силу необходимости испытывает только одно из двух.
Алкивиад.
Мне кажется, да.
Сократ.
Вспомни же: ты признал, что разумность противоположна безумию?
Алкивиад.
Да, признал.
Сократ.
А также и то, что не существует третьего, промежуточного состояния, которое делало бы человека и не разумным и не лишенным разума?
Алкивиад.
Да, я признал это.
Сократ.
А может ли быть, чтобы две вещи были противоположны одной?
Алкивиад.
Ни в коем случае.
c
Сократ.
Значит, по‑видимому, неразумие и безумие – это одно и то же?
Алкивиад.
Очевидно.
Сократ.
Итак, Алкивиад, мы были бы правы, сказав, что все неразумные безумны, – если, например, неразумен кто‑либо среди твоих сверстников (а так оно и есть) или из людей более преклонного возраста. Скажи же, во имя Зевса, разве ты не думаешь, что среди граждан нашего города лишь немногие разумны, большинство же лишено разума, и их‑то ты и называешь безумцами?
Алкивиад.
Да, я так думаю.
d
Сократ.
Но неужели ты считаешь, что среди стольких безумцев мы можем безмятежно жить в своем государстве, не подвергаясь тычкам и пинкам – всему тому, что привычно делать безумцам? Посмотри же, мой милый, не так ли обстоит дело?
Алкивиад.
А как же, собственно, оно может обстоять, Сократ? По‑видимому, все происходит не так, как я думал.
Сократ.
Мне это тоже кажется. Но следует это рассмотреть примерно вот каким образом…
Алкивиад.
А именно?
Сократ.
Скажу тебе. Мы допускаем, что некоторые люди больны. Не так ли?
e
Алкивиад.
Да, разумеется?
Сократ.
Но разве ты считаешь для больного неизбежным страдать только от подагры, лихорадки или воспаления глаз и не допускаешь, что помимо всех этих бывают другие болезни? Ведь их очень много, кроме тех, что я перечислил.
Алкивиад.
Я это знаю.
Сократ.
Ну а любое воспаление глаз ты считаешь болезнью?
Алкивиад.
Да.
Сократ.
Не думаешь ли ты также, что любая болезнь – это воспаление глаз?
Алкивиад.
Нет, конечно, не думаю. Но я затрудняюсь в определении.
140
Сократ.
Однако если ты внимательно отнесешься к моим словам, то, рассматривая это вдвоем, мы скорее придем к цели.
Алкивиад.
Я внимателен, Сократ, насколько это в моих силах.
Сократ.
Итак, мы признали, что любое воспаление глаз – это болезнь, но не любая болезнь – воспаление глаз?
Алкивиад.
Да, признали.
Сократ.
И правильно, как мне кажется, сделали. Ведь и все, кого бьет лихорадка, больны, однако это не значит, что все болеющие больны лихорадкой, и точно так же, думаю я, обстоит дело с подагрой и с воспалением глаз. Все это – болезни, но воздействие их
b
различно, как утверждают те, кого мы именуем врачами. Не у всех они между собой подобны и не у всех одинаково протекают, но в каждом отдельном случае это происходит в соответствии с особенностью недуга; между тем все это – болезни. Ведь точно так же мы предполагаем, что существуют различные мастера. Или же нет?
Алкивиад.
Разумеется, существуют.
Сократ.
Так нужно ли нам перечислять сапожников, плотников, ваятелей и множество других мастеров поименно? Они владеют разными частями мастерства и все являются мастерами, но не все они плотники, сапожники или ваятели, хотя в целом они – мастера.
c
Алкивиад.
Конечно.
Сократ.
Подобным же образом обстоит дело и с распределением неразумия: тех, кому досталась большая его часть, мы называем безумцами; тех же, у кого его чуть поменьше, – глупцами и слабоумными. Если же кто хочет употребить смягченные выражения, то либо называют их восторженными или наивными, либо простодушными, несведущими или туповатыми. Впрочем, коли ты поищешь, то найдешь еще много других имен. Все они означают неразумие, но его виды различаются так, как, согласно нашему объяснению, различаются между собой ремесла или болезни. Согласен ли ты с этим?
Алкивиад.
Да, согласен.
Сократ.
Вернемся же теперь к нашему вопросу. Ведь в самом начале нашей беседы перед нами возникла необходимость определить, что такое разумные люди и неразумные. И мы признали, что такие люди существуют. Не так ли?
e
Алкивиад.
Да, признали.
Сократ.
Не считаешь ли ты, что разумные – это те, кто понимают, что надо делать и говорить?
Алкивиад.
Да, я считаю именно так.
Сократ.
Кто же будут тогда неразумные? Видимо, те, кто не ведают ни того ни другого?
Алкивиад.
Да, они.
Сократ.
Значит, не ведающие ни того ни другого будут незаметно для себя делать и говорить то, что не следует?
Алкивиад.
Очевидно.
141
Сократ.
Однако я, мой Алкивиад, причислил к этим людям и Эдипа. Но и в наше время ты мог бы найти много таких людей, причем не охваченных, подобно ему, гневом и вовсе не считающих, что они молят богов о чем‑то плохом для себя: напротив, они полагают, что вымаливают благо. Ведь Эдип, хоть и не просил ничего хорошего, также и не думал, будто он это просит; однако есть люди, с которыми происходит нечто прямо противоположное. Полагаю, что ты первый, если бы тебе явился бог, к которому ты сейчас направляешься, и раньше, чем ты успел бы попросить его о чем‑нибудь сам, спросил тебя, довольно тебе было бы стать тираном города афинян, да притом – если бы тебе это показалось не великим делом, но ничтожным – предложил тебе
b
стать тираном всей Эллады, увидев же, что и этого тебе недостаточно, но ты стремишься управлять всей Европой, обещал бы тебе и это, причем не только обещал, но в тот же день по твоему желанию довел бы до всеобщего сведения, что Алкивиад, сын Клиния, стал тираном, – полагаю, ты ушел бы от него, преисполненный радости, считая, что бог возвестил тебе величайшие блага.
Алкивиад.
Я думаю, Сократ, что и с любым другим, кому выпало бы это на долю, было бы то же самое.
c
Сократ.
Однако ценой своей жизни ты вряд ли пожелал бы обрести тираническую власть над землею всех греков и варваров.
Алкивиад.
Думаю, что не пожелал бы. Зачем она мне, если бы я никак не мог ею воспользоваться?
Сократ.
Ну а если бы ты мог воспользоваться ею во зло и в ущерб самому себе? Верно, и на таких условиях ты бы ее не захотел?
Алкивиад.
Разумеется, нет.
Сократ.
Итак, ты видишь, что небезопасно наобум принимать все, что тебе предлагают, или же самому об этом просить – в случае если из этого может проистекать вред либо вообще можно лишиться по этой причине жизни. Мы могли бы назвать многих стремившихся
d
к тиранической власти и усердно ее для себя добивавшихся как некоего блага, которых заговорщики, замышлявшие против тирании, лишили жизни. Полагаю, ты весьма наслышан о некоторых совсем недавних событиях, например о том. как Архелай, тиран македонян, был убит своим любимцем[110]
: этот последний оказался влюбленным в тираническую власть не меньше, чем сам тиран был влюблен в него, и он убил своего
e
любовника, чтобы самому стать счастливым человеком – тираном. Но по прошествии трех или четырех дней, в течение которых он обладал властью, он сам был убит другим заговорщиком. Ты можешь видеть также на примере наших сограждан – ведь не от других мы это слышали, но сами были тому свидетелями, – сколькие из них, стремившиеся к должности стратега и уже
142
достигшие ее, либо оказывались изгнанными из нашего города, либо лишались жизни. Те же из них, относительно кого можно было подумать, что дела их обстоят наилучшим образом, пройдя через многочисленные и грозные опасности не только во время похода, но и тогда, когда возвращались на родину, внезапно оказывались в окружении сикофантов[111]
, попав в осаду не менее сильную, чем со стороны врагов во время войны, так что иные из них молили богов скорее о том, чтобы оказаться
b
непригодными к исполнению этой должности, чем о том, чтобы их избрали стратегами. Притом если бы им еще эти опасности и труды приносили пользу, то в них был бы какой‑то смысл; на самом же деле все обстоит прямо противоположным образом.
То же самое, как ты можешь видеть, касается и детей: некоторые молят богов об их рождении, а когда у них появляются на свет дети, эти люди оказываются ввергнутыми в величайшие жизненные тяготы и беды. Одни из них из‑за совершенной испорченности своих детей провели всю свою жизнь в печали; у других, хоть
c
дети их были хорошими, несчастный случай их похищал, и они оказывались в не менее бедственном положении, так что предпочли бы после этого совсем не иметь детей. Такие случаи и многие другие, подобные им, вполне очевидны, но редко бывает, когда люди либо отрекаются от того, что им дано, либо, желая получить что‑либо с помощью молитвы, в конце концов от этой молитвы отказываются. Большинство людей не отказалось бы ни от тиранической власти, ни от должности стратега, ни от многих других даров, которые приносят гораздо больше вреда, чем пользы; более того, они
d
молили бы о них богов, если бы ими не располагали. Но иногда, получив это, они вскоре идут на попятный и просят забрать у них то, о чем они прежде молили. Потому я и недоумеваю, не напрасно ли, в самом деле, люди «обвиняют богов в том, что от них бывает зло»: ведь «люди сами, вопреки судьбе, накликают на себя горе своими глупостями или, как надо сказать, неразумием»[112]
. Представляется поэтому, Алкивиад, что
e
разумен был тот поэт, который имея, по‑видимому, неких неразумных друзей и видя, что они и поступают дурно, и молят богов о том, что не является лучшим, но лишь кажется таковым, вознес о них всех молитву богам примерно такую:
143
Зевс‑повелитель, благо даруй нам – молящимся иль немолящим,
Жалкую ж долю отринь и для тех, кто о ней тебя просит[113]
.
Мне кажется, прекрасно и верно сказал поэт! Ты же, если у тебя есть против этого какие‑то возражения, не молчи.
Алкивиад.
Трудно, Сократ, возражать на прекрасно сказанные слова. Я вижу лишь, что незнание бывает причиной величайших бед для людей, когда, похоже, мы сами не ведаем того, что действуем по незнанию и
b
(что хуже всего) вымаливаем сами себе величайшее зло. Ведь никто бы этого не подумал, наоборот, каждый счел бы себя способным вымолить у богов величайшие блага, а не величайшее зло. Последнее было бы поистине больше похоже на проклятье, чем на молитву.
Сократ.
Но, быть может, милейший мой, найдется какой‑нибудь муж, более дальновидный, чем я и ты, и скажет, что речи наши неверны, когда мы так
c
решительно порицаем незнание, не добавляя к этому, что есть люди, чье незнание для них при известных обстоятельствах является благом, тогда как для тех, о ком мы говорили раньше, оно было злом.
Алкивиад.
Что ты говоришь? Существуют какие‑то вещи, которые кому‑то и при каких‑то обстоятельствах лучше не знать, чем знать?
Сократ.
Мне так кажется. А тебе нет?
Алкивиад.
Нет, клянусь Зевсом.
Сократ.
Но ведь не стану же я обвинять тебя в том, что по отношению к своей матери ты пожелал бы совершить то, что, как говорят, сделали по отношению к своим матерям Орест, Алкмеон и некоторые другие…[114]
d
Алкивиад.
Во имя Зевса, не кощунствуй, Сократ!
Сократ.
Этот запрет, мой Алкивиад, должен относиться не к тому, кто говорит, что ты не пожелал бы совершить подобное дело, но гораздо больше к тому, кто стал бы утверждать противоположное: ведь тебе оно кажется настолько ужасным, что о нем не следует, по‑твоему, говорить даже вот так, в простоте души. Или ты полагаешь, что Орест – будь он разумен и знай, что именно ему лучше всего предпринять, – осмелился бы на нечто подобное?
e
Алкивиад.
Разумеется, нет.
Сократ.
Думаю, что и никто другой также.
Алкивиад.
Конечно.
Сократ.
Следовательно, как видно, незнание и непонимание лучшего – скверная вещь?
Алкивиад.
Мне кажется, да.
Сократ.
Значит, скверная она и для Ореста, и для всех других?
Алкивиад.
Да.
144
Сократ.
Давай же рассмотрим следующее: пусть тебе внезапно пришло в голову, взяв в руки нож и подойдя к двери дома Перикла, твоего опекуна и друга[115]
, спросить, дома ли он, с намерением его убить – именно его, а не кого‑то другого, ибо ты считал бы это за лучшее, – а тебе бы ответили, что он дома. Я не утверждаю, что ты действительно пожелал бы сделать нечто подобное, но ведь тебе, не ведающему, что есть лучшее, могло прийти в голову и такое, и ничто не могло бы этому воспрепятствовать, если бы ты считал, что самое скверное и есть самое лучшее. Или ты с этим не согласен?..
Алкивиад.
Разумеется, согласен.
b
Сократ.
Итак, если бы ты вошел в дом и увидел его, но не узнал и подумал бы, что это кто‑то другой, разве ты осмелился бы его убить?
Алкивиад.
Нет, клянусь Зевсом! Конечно, нет.
Сократ.
Ведь ты собирался убить не первого встречного, но самого Перикла? Не так ли?
Алкивиад.
Да.
Сократ.
И если бы ты даже много раз за это принимался, но постоянно не узнавал бы в этом человеке Перикла, то, сколько бы раз ты ни собирался осуществить свой замысел, ты на него бы не бросился?
Алкивиад.
Конечно, нет.
Сократ.
А думаешь ли ты, что Орест напал бы на свою мать, если бы вот так же ее не узнал?
Алкивиад.
Думаю, он этого бы не сделал.
c
Сократ.
Значит, несомненно, он замышлял убить не первую встречную женщину или чью‑то чужую мать, но только лишь свою собственную?
Алкивиад.
Именно так.
Сократ.
Следовательно, в подобных случаях неведение – самое лучшее для людей, находящихся в подобном расположении духа и питающих подобные замыслы.
Алкивиад.
Это очевидно.
Сократ.
Итак, ты видишь, что незнание некоторыми людьми каких‑то вещей в определенных обстоятельствах является благом, а не злом, как недавно тебе казалось?
Алкивиад.
Это похоже на правду.
d
Сократ.
А если ты пожелаешь рассмотреть и то, что за этим следует, быть может, оно покажется тебе странным…
Алкивиад.
Что именно ты разумеешь, Сократ?
Сократ.
Коротко говоря, получается, что обладание всевозможными знаниями без знания того, что является наилучшим, редко приносит пользу и, наоборот, большей частью вредит своему владельцу. Посмотри же: не кажется ли тебе необходимым, чтобы мы, когда собираемся что‑либо сказать или сделать, считали, что прежде всего мы должны знать или действительно знаем то, что намерены искусно выполнить или сказать?
e
Алкивиад.
Да, мне так кажется.
Сократ.
Значит, ораторы, например, всякий раз дают нам советы – одни по поводу войны и мира, другие по поводу сооружения стен или оборудования гаваней – именно потому, что они это знают либо считают, что знают; одним словом, все, что когда‑либо город делает для другого города или для самого себя, является результатом совета ораторов.
145
Алкивиад.
Это правда.
Сократ.
Посмотри же, что за этим последует.
Алкивиад.
Если сумею.
Сократ.
Различаешь ли ты людей разумных и неразумных?
Алкивиад.
Да, конечно.
Сократ.
И скорее всего ты многих считаешь неразумными, разумными же – немногих?
Алкивиад.
Да, так.
Сократ.
И при этом ты ведь имеешь в виду какие‑то отличительные признаки?
Алкивиад.
Да.
b
Сократ.
Можешь ли ты назвать разумным человека, умеющего давать советы, но не знающего, лучше ли то, что он советует, и в каком случае это будет лучшим?
Алкивиад.
Конечно, нет.
Сократ.
Ты, я полагаю, не назовешь разумным и того, кто разбирается в самом деле войны, но не знает, когда ее лучше вести и в течение какого именно срока. Не так ли?
Алкивиад.
Да.
Сократ.
Равно как если бы кто умел убить другого, отнять у него деньги или сделать его изгнанником, но не знал бы, когда это уместно и в отношении кого именно?
Алкивиад.
Да, и такого я не назвал бы разумным.
c
Сократ.
Следовательно, он разумен, если знает что‑либо подобное – в том случае, когда знание это сопровождается пониманием наилучшего, а это последнее совпадает и с пониманием полезного, не так ли?..
Алкивиад.
Да, так.
Сократ.
Такого человека мы назовем разумным и годным для того, чтобы советовать городу и самому себе. Тому же, кто не обладает подобным знанием, мы дадим противоположное имя. Согласен ли ты с этим?
Алкивиад.
Да, вполне.
Сократ.
Ну а если кто сведущ в верховой езде или стрельбе из лука, в кулачном бою, борьбе или других видах состязаний, а также в любом подобном, известном
d
нам роде искусства, как ты назовешь его, если он к тому же знает, что в его искусстве является наилучшим? Не скажешь ли ты, что такой человек сведущ в искусстве верховой езды, что он – знаток этого искусства?
Алкивиад.
Да, скажу.
Сократ.
А того, кто сведущ в кулачном бою, думаю я, ты назовешь знатоком кулачного боя, сведущего же в игре на флейте – знатоком этого искусства, и так далее по отношению ко всему остальному. Или ты дашь иное название?
Алкивиад.
Нет, именно это.
Сократ.
Представляется ли тебе, что знаток в подобных вещах бывает одновременно в силу необходимости и разумным человеком, или мы скажем, что это далеко не так?
e
Алкивиад.
Далеко не так, клянусь Зевсом!
Сократ.
И каково же, по‑твоему, было бы государство, состоящее из искусных стрелков и флейтистов и других подобных же знатоков, а также из упомянутых нами раньше людей, разбирающихся в том, как надо воевать или убивать, и из мужей‑ораторов, лопающихся от спеси, причем все эти люди не обладали бы знанием наилучшего и не было бы в этом государстве человека понимающего, когда и для чего можно наилучшим образом использовать любого из них?
146
Алкивиад.
Я сказал бы, что это скверное государство, Сократ.
Сократ.
Я думаю, ты укрепился бы в этом мнении, когда бы увидел, насколько каждый из них честолюбив ц считает, что самой важной «частью» государственной жизни является та, в которой …сам себя он может превзойти[116]
.
Я утверждаю, что в своем искусстве самом по себе такой человек – наилучший; что же касается наилучшего для государства и для него самого, то здесь он совершает множество промахов, ибо, будучи лишен ума, он
b
доверяется кажимости. При таких обстоятельствах разве не правы мы будем, если скажем, что подобное государство преисполнено множества смут и беззаконий?
Алкивиад.
Правы, клянусь Зевсом.
Сократ.
Но разве нам не казалось необходимым прежде всего считать, что мы знаем, или действительно знать то, что мы без колебаний собираемся сказать либо сделать?
Алкивиад.
Да.
Сократ.
Значит, если бы кто из нас сделал то, что он знает или думает, что он это знает, и с этим было бы связано понимание пользы, мы получили бы выгоду для государства и для самих себя?
c
Алкивиад.
Как же иначе?
Сократ.
Если же произошло бы нечто противоположное, то, думаю я, из этого не воспоследовало бы выгоды ни для государства, ни для того, кто бы действовал?
Алкивиад.
Конечно, нет.
Сократ.
Что ж, тебе и сейчас это так представляется или как‑то иначе?
Алкивиад.
Нет, именно так.
Сократ.
Но ведь ты признал, что считаешь большинство неразумными, разумными же – немногих?
Алкивиад.
Да.
Сократ.
Значит, мы опять‑таки скажем, что большинство ошибается в понимании того, что является наилучшим, поскольку большей частью, как я думаю, за отсутствием ума доверяется кажимости.
d
Алкивиад.
Да, подтвердим это.
Сократ.
Следовательно, большинству людей выгодно и не знать, и не думать, будто они знают: ведь они будут изо всех сил стараться сделать то, что они знают или думают, будто знают, и эти старания большей частью принесут им скорее вред, чем пользу.
Алкивиад.
Ты говоришь сущую правду.
Сократ.
Теперь ты понимаешь, насколько я был прав, когда утверждал, что обладание прочими знаниями без знания того, что является наилучшим, по‑видимому, редко приносит пользу, большей же частью вредит тому, кто владеет такими знаниями.
e
Алкивиад.
Даже если я раньше так не думал, то теперь я с тобою согласен, Сократ.
Сократ.
Поэтому нужно, чтобы и государство и душа, желающие правильно жить, держались этого знания – совершенно так, как должен больной держаться врача или человек, желающий совершить безопасное плавание, – кормчего. Ведь без этого знания, чем
147
яростнее стремится человек к удаче в наживе, в приобретении телесной силы или в каких‑либо других подобных вещах, тем более резким, видно, бывает в силу необходимости промах. Тот же, кто приобрел так называемое многознание и многоумение, но лишен главного знания, действует всякий раз, руководствуясь одним из указанных многочисленных знаний, но при этом поистине не пользуется попутным ветром судьбы, ибо он, думаю я,
b
плывет в открытом море без кормчего, и такое жизненное плавание длится недолго. Отсюда и вытекает, по‑моему, изречение поэта, обвиняющего некоего человека в том, что «многие знал он дела, но знал их все очень скверно»[117]
.
Алкивиад.
А как сюда относятся эти слова поэта, Сократ? Мне кажется, здесь нет ничего подходящего по смыслу.
Сократ.
Напротив, даже очень подходящее; только, мой милый, он, как почти все поэты, говорит здесь загадками. Ведь поэзия по самой своей природе загадочна и не раскрывается первому встречному.
c
Но к этому ее природному свойству добавляется еще то обстоятельство, что, когда поэтическим вдохновением бывает охвачен человек скупой, не желающий поделиться с нами своей премудростью и стремящийся запрятать ее возможно глубже, нелегким делом бывает распознать скрытый смысл его слов. Ведь не можешь же ты думать, что Гомер, божественнейший и мудрейший из поэтов, не знал, что невозможно «знать скверно» (не кто иной, как он, сказал, что Маргит знал многое, но знал все это скверно), однако он говорит намеками, заменяя слово «зло» словом «скверно», а слово «знать» – словом «знал».
d
Если подставить те, первые, слова, стих утратит размер, но смысл у него будет тот, что был угоден поэту, а именно: Маргит знал много дел, но знать все это было для него злом[118]
. Итак, ясно, что, раз многознание было для него злом, значит, он был человеком никчемным и глупым, – если только полагаться на сказанное нами раньше.
Алкивиад.
Мне правится твое объяснение, Сократ; если я не поверил бы этим твоим словам, то другим и подавно.
e
Сократ.
И ты прав, что им веришь.
Алкивиад.
Я снова с тобой согласен.
Сократ.
Но скажи, ради Зевса (ты ведь видишь, сколь велико здесь затруднение, и, мне кажется, ты его со мной разделяешь, ибо ты без конца бросаешься из одной крайности в другую и то, что уже с уверенностью признал, снова отбрасываешь и отказываешься от этого мнения):
148
если бы и сейчас тебе явился бог, к чьему храму ты направлялся, и вопросил бы тебя, раньше чем ты сам обратил бы к нему мольбу, доволен был бы ты, если бы получил то, о чем шла речь вначале, или если бы он предоставил тебе возможность самому вознести к нему свою мольбу, – что, полагаешь ты, из полученного тобой от бога либо вымоленного у него принесло бы тебе удачу?
Алкивиад.
Клянусь богами, я, пожалуй, не знаю, что тебе сразу ответить на это, Сократ! Да это было бы, думаю я, безумием, и поистине нужна большая осторожность, дабы не вымолить себе невзначай зла,
b
полагая, что молишь о благе, и дабы вскоре после этого не пойти, как ты говоришь, на попятный, отказавшись от всего того, о чем молил прежде.
Сократ.
Так разве не больше нас понимал тот поэт, чье слово пришло мне на память вначале? Он побуждал бога отвратить жалкую долю и от того, кто сам о ней молит.
Алкивиад.
Я с тобой согласен.
Сократ.
Этому поэту, Алкивиад, стали подражать и лакедемоняне, поскольку они избрали для себя следующий обычай: и в частной жизни, и в общественной
c
они всегда возносят примерно такую же молитву – чтобы боги даровали им в придачу к хорошему еще и прекрасное[119]
; но никто не слышал, чтобы они просили чего‑нибудь большего. Во всяком случае до сих пор они пользовались не меньшим счастьем, чем прочие люди; если же и случались у них какие‑то неудачи, то не по вине их молитвы: ведь от богов зависит, полагаю я, даровать то, о чем просит молящий, или же прямо противоположное. Я хочу тебе разъяснить и еще кое‑что:
d
слышал я от неких людей, старших, чем я, что, когда между афинянами и лакедемонянами возник раздор, судьба была нашему городу ни в одной битве – ни на суше, ни на море – не иметь успеха и никогда не одержать победы. Афиняне пришли из‑за этого в негодование, но не знали, с помощью какого средства отвратить
e
свалившиеся на них беды. Тогда им пришло в голову, что лучше всего отправить посольство к Аммону[120]
и вопросить его. Заодно они хотели получить от Аммона ответ, почему боги предпочитают даровать победу лакедемонянам, а не им, приносящим богам самые многочисленные и великолепные жертвы среди эллинов и посвящающим в их храмы такие дары, какие не приносит никто другой; вдобавок, говорили они, мы ежегодно устраиваем в честь богов дорогостоящие и пышные шествия и тратим на это столько денег, сколько не тратят все
149
эллины, вместе взятые. Лакедемоняне же – было поручено им сказать – никогда не делали ничего подобного и проявляют по отношению к богам такую небрежность, что приносят им всякий раз в жертву увечных животных, да и во всех остальных почестях выказывают гораздо большую скупость, чем мы, притом что они располагают ничуть не меньшими средствами, чем наш город. После того как они это сказали и задали вопрос, что им следует делать, дабы избежать нынешних бед,
b
прорицатель не сказал ничего иного – ему явно запретил это бог, но, воззвав к богу, молвил: «Аммон говорит афинянам такие слова: ему гораздо более угодно молчаливое благочестие лакедемонян, чем все священнодействия и обряды эллинов». Вот все, что он сказал, ничего более. Под молчаливым благочестием, думаю я, бог разумел не что иное, как их молитву: действительно, она весьма отлична от всех других молитв. Ведь все остальные
c
эллины, принося в жертву богам быков с позолоченными рогами или же оделяя их жертвенными дарами, просят за это взамен все, что вздумается, – благое ли это или дурное. Но боги, слыша, как они богохульствуют, не приемлют все эти роскошные дары и жертвоприношения. Думается мне, надо с великой опаской и осмотрительностью подходить к тому, что дозволено произносить в молитвах, а что – нет.
У Гомера ты также можешь найти нечто подобное сказанному сейчас; он говорит о располагающихся лагерем троянцах, что они
d
…сожигали полные в жертву богам гекатомбы,
и «их благовоние ветры с земли до небес возносили облаком дыма»,
но боги блаженные жертв не прияли,
Презрели их: ненавистна была им священная Троя,
И владыка Приам, и народ копьеносца Приама[121]
.
e
Так что напрасны были жертвоприношения и дары троянцев – они им не помогли: боги от них отвернулись. Ведь, я полагаю, это не в обычае богов – дать, подобно жалкому ростовщику, переубедить себя с помощью даров. И мы болтаем сущие глупости, когда считаем, что таким образом превосходим лаконцев. Ведь было бы очень странно, если бы боги смотрели на наши дары и жертвоприношения, а не на наши души – благочестивым ли и справедливым ли является человек.
150
Думаю я, они гораздо больше внимания обращают на это, чем на роскошные шествия и жертвы: ведь ничто не мешает ежегодно совершать жертвоприношения как частным лицам, так и городу, пусть даже они и очень сильно погрешили против богов и против людей. Боги же, будучи неподкупными, презирают все это, как и дал понять бог устами своего прорицателя. Очевидно, и у богов и у людей, имеющих ум, должны особенно почитаться справедливость и разумение: разумные же и
b
справедливые – это именно те, кто знает, что должно делать и говорить, обращаясь как к богам, так и к людям. Я хотел бы услышать и от тебя, что ты можешь на это сказать.
Алкивиад.
Но я, мой Сократ, полностью согласен с тобою и с богом. Негоже мне было бы разойтись с ним во мнении.
Сократ.
Припоминаешь ли ты, что сказал, будто находишься в большом затруднении, как бы, моля о благах, невзначай не вымолить себе зла?
c
Алкивиад.
Припоминаю.
Сократ.
Теперь ты видишь, что для тебя небезопасно идти к богу с намерением ему помолиться: ведь может случиться так, что бог, услышав от тебя кощунственные слова, не примет твоего жертвоприношения и ты нечаянно получишь от него совсем не то, что просил. Поэтому, кажется мне, всего лучше проявить сдержанность. Я думаю, ты в силу своей заносчивости (именно так мягче всего назвать неразумие) не пожелаешь воспользоваться молитвой лаконцев. Поэтому надо выждать, пока тебя не научат, как следует относиться к богам и к людям.
d
Алкивиад.
А когда же это время наступит, Сократ, и кто будет моим учителем? Я с радостью бы узнал, кто этот человек.
Сократ.
Это тот, кого заботят твои дела. Но думается мне, подобно тому как Гомер говорит об Афине, что сначала она должна была снять пелену с глаз Диомеда, дабы он … ясно познал и бога, и смертного мужа[122]
,
e
так и этому человеку надо сначала снять с твоей души пелену мрака, сейчас ее окутывающую, с тем чтобы после этого указать тебе, каким путем ты придешь к познанию добра и зла. А до тех пор, кажется мне, ты не будешь на это способен.
Алкивиад.
Пусть, если может, снимает эту пелену или что ему будет угодно другое: я готов не избегать ни одного из его наставлений – кто бы этот человек ни был, – коль скоро я хочу стать лучше.
151
Сократ.
Но этот человек исполнен в отношении тебя дивного рвения.
Алкивиад.
Тогда я отложу мое жертвоприношение на то время: это кажется мне наилучшим.
Сократ.
И правильно кажется: ведь гораздо безопаснее поступить так, чем подвергаться столь страшному риску.
b
Алкивиад.
Ну так что же, Сократ? Вот этим венком я увенчаю тебя, потому что ты дал мне прекрасный совет. Богам же я принесу венки и все прочее, что положено, когда увижу, что наступил этот день. Коль пожелают боги, он недалек.
Сократ.
А я принимаю и этот твой дар, и любой другой с радостью получу из твоих рук. И как сказал у Еврипида Креонт, увидевший Тиресия[123]
с венком на голове и услышавший от него, что венок этот – жертвенный початок военной добычи, полученный им за его искусство:
c
За добрый знак победный твой венец приму я,
В пучине пребывая бед, – ты это знаешь[124]
, –
так и я буду считать это твое мнение обо мне добрым предзнаменованием. Я думаю, что пребываю в такой же бездне, как Креонт[125]
, и хотел бы одержать прекрасную победу над твоими поклонниками.
Перевод С. Я. Шейнман‑Топштейн.
В кн.: Платон. Диалоги. М.: «Мысль», 1986
V. МЕНЕКСЕН
Сократ, Менексен
234
Сократ.
Откуда ты, Менексен?[126]
С городской площади или же из другого места?
Менексен.
С площади, Сократ, из зала Совета[127]
.
Сократ.
А что у тебя за дело в Совете? По‑видимому, ты считаешь, будто покончил с учением и философией, и, полагая, что с тебя довольно, замыслил обратиться к более высоким занятиям; ты, уважаемый, хотя и очень юн, хочешь управлять нами, старшими, дабы твой род никогда не лишился права поставлять нам попечителя?
b
Менексен.
С твоего позволения, Сократ, если ты посоветуешь мне быть правителем, я изо всех сил буду этого добиваться; если же нет – не буду. А сейчас я пришел в Совет, узнав, что там намерены избрать того, кто произнесет надгробную речь в честь павших: ты ведь знаешь, они готовят погребение[128]
.
Сократ.
Да, конечно. Но кого же они избрали? Менексен. Пока никого. Они отложили это на завтра. Думаю, однако, что будет избран Архин или Дион[129]
.
c
Сократ.
Право, Менексен, мне кажется, прекрасный это удел – пасть на войне[130]
. На долю такого человека выпадают великолепные и пышные похороны, даже если умирает при этом бедняк, вдобавок ему – даже если он был никчемным человеком – воздается хвала мудрыми людьми, не бросающими слова на ветер, но заранее тщательно подготовившимися к своей речи.
235
Они произносят свое похвальное слово очень красиво, добавляя к обычным речам и то, что подходит в каждом отдельном случае, и, украшая свою речь великолепными оборотами, чаруют наши души: ведь они превозносят на все лады и наш город, и тех, кто пал на поле сражения, и всех наших умерших предков и воздают хвалу нам самим. Так что я лично, Менексен, почел бы за великую честь удостоиться от них похвалы; всякий раз я стою и слушаю, околдованный, и мнится мне, что я становлюсь вдруг значительнее, благороднее и прекраснее.
b
Как правило, ко мне в этих случаях присоединяются и слушают все это разные чужеземные гости, и я обретаю в их глазах неожиданное величие. При этом кажется, будто они испытывают в отношении меня и всего города те же чувства, что и я сам, и город наш представляется им более чудесным, чем раньше, – так убедительны речи ораторов. Подобное ощущение величия сохраняется во мне после того дня три, а то и более:
c
столь проникновенно звучат в моих ушах речи оратора, что я едва лишь на четвертый или пятый день прихожу в себя и начинаю замечать под ногами землю, а до тех пор мне кажется, будто я обитаю на островах блаженных. Вот до чего искусны наши ораторы![131]
Менексен.
Всегда‑то ты, мой Сократ, вышучиваешь ораторов! Однако, думаю я, на этот раз избранному придется туго, ведь избрание будет поспешным, так что придется ему просто импровизировать.
d
Сократ.
Как это, мой милый? У любого из этих людей речи всегда наготове, да и вообще импровизация в этих случаях дело нетрудное. Если бы нужно было превознести афинян перед пелопоннесцами или же пелопоннесцев перед афинянами[132]
, требовался бы хороший оратор, умеющий убеждать и прославлять; когда же кто выступает перед теми самыми людьми, коим он воздает хвалу, недорого стоит складная речь.
Менексен.
В самом деле ты думаешь так, Сократ?
Сократ.
Да, клянусь Зевсом.
e
Менексен.
И ты полагаешь, что сам сумел бы произнести речь, если бы была в том нужда и тебя избрал бы Совет?
Сократ.
Но, Менексен, нет ничего удивительного, если бы я умел говорить: ведь моей учительницей была та, что совсем неплохо разбиралась в риторике и вдобавок обучила многих хороших ораторов, среди них – выдающегося оратора эллинов Перикла, сына Ксантиппа.
Менексен.
О ком ты говоришь? Видимо, об Аспазии?[133]
236
Сократ.
Да, я имею в виду ее и еще Конна, сына Метробия[134]
. Оба они – мои учители, он обучал меня музыке, она – риторике. И нет ничего удивительного в том, что человек, воспитанный таким образом, искусен в речах. Но и любой обученный хуже меня, например тот, кто учился музыке у Лампра, а риторике – у Антифонта из Рамнунта[135]
, был бы вполне в состоянии превознести афинян перед афинянами.
Менексен.
А что бы ты мог сказать, если бы должен был говорить?
b
Сократ.
От себя, быть может, я бы ничего не сказал, но не далее как вчера я слушал Аспазию, произносившую надгробную речь по этому самому поводу. Ведь она тоже слыхала о том, что ты мне сообщил, а именно что афиняне собираются назначить оратора. Поэтому она частью импровизировала передо мною то, что следует говорить, частью же обдумала это прежде – тогда, полагаю я, когда составляла надгробную речь, произнесенную Периклом[136]
, – и составила теперешнюю свою речь из отрывков той прежней.
Менексен.
И ты мог бы вспомнить, что говорила Аспазия?
c
Сократ.
Если не ошибаюсь, да. Ведь я учился у нее и вполне мог заслужить от нее побои, если бы проявил забывчивость.
Менексен.
За чем же дело стало?
Сократ.
Я опасаюсь, как бы не рассердилась моя наставница, если я разглашу ее речь.
Менексен.
Не беспокойся об этом, Сократ, и говори; ты доставишь мне величайшую радость, если произнесешь речь – принадлежит ли она Аспазии или кому другому. Говори же!
Сократ.
Но. быть может, ты надо мной посмеешься, если тебе покажется, что я, старик, все еще склонен к забаве.
d
Менексен.
Менее всего, Сократ; говори же, как тебе угодно.
Сократ.
Ну что ж, я готов доставить тебе удовольствие, даже, верно, согласился бы, коли ты велишь, танцевать для тебя раздетым[137]
, лишь бы мы были одни. Но слушай; мне думается, она, начав с самих павших, говорила следующим образом:
«Мы отдали им положенный долг, и, приняв его, они следуют теперь дорогой судьбы, сопровождаемые как всем городом, так и своими близкими. Закон и наш долг повелевают нам воздать им в слове последнюю честь.
e
Красиво сказанная речь о прекрасных деяниях остается в памяти слушающих, к чести и славе тех, кто эти дела свершил. Необходимо сказать такое слово, кое достаточно прославило бы погибших, а живых благожелательно убеждало подражать доблести павших; к этому следует призывать их потомков и братьев, отцам же и матерям, а также живым еще родичам старшего поколения доставлять утешение. Какой же именно представляется нам подобная речь?
237
И с чего будет правильным начать похвалу храбрым мужам, при жизни радовавшим своей доблестью близких и избравшим кончину вместо благополучной жизни? Мне представляется, что воздавать им хвалу естественно в соответствии с их природой: они родились людьми достойными. А родились они такими потому, что произошли от достойных. Итак, восславим прежде всего благородство их по рождению, а затем их воспитание и образованность.
b
Вслед за этим мы покажем, как выполняли они свой долг, и это явит их доблестные дела во всем их великолепии.
В основе их благородства лежит происхождение их предков: они не были чужеземцами и потому их потомки не считались метеками[138]
в своей стране, детьми пришельцев издалека, но были подлинными жителями этой земли, по праву обитающими на своей родине и вскормленными не мачехой, как другие, а родимой страной, кою они населяли;
c
и теперь они, пав, покоятся в родимых местах той, что их произвела на свет, вскормила и приняла в свое лоно. По справедливости прежде всего надо прославить эту их мать: вместе с тем будет прославлено и благородное их рождение.
Земля наша достойна хвалы от всех людей, не только от нас самих, по многим разнообразным причинам, но прежде и больше всего потому, что ее любят боги. Свидетельство этих наших слов – раздор и решение богов, оспаривавших ее друг у друга[139]
.
d
Разве может земля, коей воздали хвалу сами боги, не заслужить по праву хвалы всех людей? Другой справедливой похвалой будет для нее то, что во времена, когда вся земля производила и взращивала всевозможных животных – зверье и скот, наша страна явила себя девственной и чистой от диких зверей: из всех живых существ она избрала для себя и породила человека, разумением своим превосходящего остальных и чтящего лишь богов и справедливость.
e
Самым значительным свидетельством моих слов является то, что земля наша породила предков вот этих павших, а также и наших. Любое родящее существо располагает пищей, полезной тем, кого оно порождает, что и отличает истинную мать от мнимой, подставной, коль скоро эта последняя лишена источников, кои питали бы порожденное ею.
238
Наша мать‑земля являет достаточное свидетельство того, что она произвела на свет людей: она первая и единственная в те времена приносила пшеничные и ячменные злаки – лучшую и благороднейшую пищу для людей, и это значит, что она сама породила человеческое существо[140]
.
Подобное свидетельство еще более весомо в отношении земли, чем в отношении женщины: не земля подражает женщине в том, что она беременеет и рожает, но женщина – земле. При этом земля наша не пожадничала и уделила свой плод другим.
b
После того она породила оливу – помощницу в трудах для своих детей. Вскормив и взрастив их до поры возмужалости, она призвала богов в качестве их наставников и учителей. Имена их не подобает здесь называть (ведь мы их знаем!); они благоустроили нашу жизнь, учредили каждодневный ее уклад, первыми обучили нас ремеслам и показали, как изготовлять оружие и пользоваться им для защиты нашей земли.
Рожденные и воспитанные таким образом, предки погибших жили, устрояя свое государство, о котором надо здесь вкратце упомянуть. Ведь государство растит людей, прекрасное – хороших, противоположное – дурных.
c
Поскольку наши предшественники воспитывались в прекрасном государстве, то с необходимостью становится ясным, что именно благодаря этому доблестны наши современники, к числу которых принадлежат и павшие. Само наше государственное устройство и тогда было и ныне является аристократией: эта форма правления почти всегда господствовала у нас, как и теперь. Одни называют ее демократией, другие еще как‑нибудь – кто во что горазд, на самом же деле это правление лучших[141]
с одобрения народа.
d
У нас ведь всегда есть басилевсы[142]
– иногда это цари по рождению, иногда же выборные; а власть в государстве преимущественно находится в руках большинства, которое неизменно передает должности и полномочия тем, кто кажутся лучшими, причем ни телесная слабость, ни бедность, ни безвестность предков не служат поводом для чьего‑либо отвода, но и противоположные качества не являются предметом почитания, как в других городах, и существует только одно мерило: властью обладает и правит тот, кто слывет доблестным или мудрым.
e
В основе такого общественного устройства лежит равенство по рождению. В других городах собраны самые различные люди, поэтому и их государственные устройства отклоняются от нормы – таковы тирании и олигархии[143]
; города эти населяют люди, считающие других либо своими господами, либо рабами. Мы же и все наши люди, будучи братьями, детьми одной матери, не признаем отношений господства и рабства между собою[144]
;
239
равенство происхождения заставляет нас стремиться к равным правам для всех, основанным на законе, и повиноваться друг другу лишь в силу авторитета доблести и разума.
Поэтому, воспитанные в условиях полной свободы, отцы погибших и наши отцы, а также и сами эти люди явили всем нам множество прекрасных дел как в частной жизни, так и на общественном поприще,
b
ибо они считали необходимым сражаться за свободу эллинов как с эллинами, так и с варварами – в защиту всех эллинов. Слишком мало у меня времени, чтобы достойным образом рассказать о том, как они сражались с Евмолпом и амазонками, напавшими на нашу землю, или как еще раньше они бились на стороне аргивян против кадмейцев и на стороне Гераклидов против аргивян[145]
: поэты уже воспели в прекрасных стихах их доблесть, сделав ее достоянием всех. И если мы попытаемся восхвалить те же деяния обыкновенным слогом, то скорее всего займем лишь второе место.
c
Итак, мне представляется лучшим это оставить, ибо делам этим была уже отдана достойная дань. Но то достойное славы, по поводу чего еще ни один поэт не высказался достойным образом и что покоится пока в забвении, – о нем, думается мне, следует напомнить, почтив эти деяния хвалой, дабы побудить других изложить их в песнях и поэмах иного вида, подобающим для свершивших эти деяния образом. Я имею в виду прежде всего следующее:
d
когда персы стали правителями Азии и вознамерились также поработить Европу, дети нашей земли – наши родители – преградили им путь; необходимо и справедливо в первую очередь вспомнить о них и восславить их доблесть. Но если кто хочет прославить ее достойно, пусть обратится мысленным взором к тем временам, когда вся Азия была рабыней третьего по счету царя: первым был Кир, который освободил персов и, обуянный гордыней, поработил как своих сограждан, так и прежних повелителей, мидян;
e
он простер свою власть над всей Азией вплоть до Египта; сын его властвовал уже над Египтом и Ливией, насколько он мог в эти страны проникнуть; третий же царь, Дарий, расширил свои владения на суше вплоть до Скифии[146]
, а корабли его были хозяевами на море и островах, так что никто не мог и помыслить выступить против него.
240
Сознание всех людей было подавлено: ведь Персидская держава подчинила себе столько великих и искусных в войне народов.
Дарий, выдвинув против нас и эретрийцев ложное обвинение в коварных замыслах против Сард, выслал под этим предлогом корабли и грузовые суда с пятисоттысячным войском; военных кораблей было триста, под командованием Датиса[147]
, и Дарий распорядился, чтобы тот, если ему дорога его голова, возвратился с пленными эретрийцами и афинянами.
b
Датис направил свой флот к Эретрии, против воинов, более всех прославленных среди эллинов и немалых числом, в течение трех дней одолел их и обшарил всю эретрийскую землю, чтобы ни один эретриец от него не укрылся, причем сделал он это так: подступив к границам эретрийской земли, его воины, взявшись за руки, образовали цепочку от моря до моря и так прошли всю землю, дабы иметь возможность объявить царю, что никто не сумел от них убежать[148]
.
c
Точно с таким же замыслом отправились они из Эретрии к Марафону[149]
, словно не вызывало сомнений, что им удастся подобным же образом запрячь в ярмо афинян и увести их в плен вместе с эретрийцами. Когда замысел этот отчасти был приведен в исполнение, но делались еще попытки полного его осуществления, никто из эллинов не пришел на помощь ни эретрийцам, ни афинянам, кроме лакедемонян (причем эти последние явились на помощь на другой день после битвы[150]
); все остальные, устрашенные, предпочли временную безопасность и не трогались с места.
d
Если бы кто‑нибудь из нас в это время там оказался, он бы познал, сколь велика была доблесть тех, кто у Марафона встретили полчища варваров и, обуздав всеазиатскую гордыню, первыми водрузили трофеи в честь победы над ними; они стали вождями и наставниками для всех остальных, показав, что могущество персов вполне сокрушимо и что никакая людская сила и никакое богатство не могут противостоять доблести.
e
Я утверждаю, что эти мужи не только дали нам жизнь, но и породили нашу свободу, да и не только нашу, но свободу всех жителей этого материка. Оглядываясь на их деяние, эллины проявляли отвагу и в последующих битвах за свою жизнь, став навсегда учениками сражавшихся при Марафоне.
241
Итак, высшая награда в нашем слове должна быть отдана этим последним, вторая же – тем, кто сражался и победил на море – при Саламине и Артемисии[151]
. И об этих людях многое можно было бы рассказать – о том, как они выстояли перед надвигавшейся с суши и с моря опасностью, и о том, как они ее отразили. Но я напомню лишь то, что мне представляется самым прекрасным их подвигом: они довершили дело, начатое бойцами при Марафоне.
b
Марафонцы лишь показали эллинам, что их небольшое число может на суше отразить полчища варваров; что же касается морских битв, это пока оставалось неясным: персы пользовались славой непобедимых моряков благодаря своей численности, богатому снаряжению, искусству и силе. И потому в особую заслугу мужам, сражавшимся в те времена на море, надо поставить то, что они рассеяли боязнь, существовавшую тогда среди эллинов, страшившихся огромного числа судов и людей.
c
Поэтому и те и другие – как сражавшиеся при Марафоне, так и те, что сражались в морском бою при Саламине, – научили остальных эллинов умению и привычке не страшиться варваров как на суше, так и на море.
На третьем месте и по числу сражавшихся за благополучие Греции, и по их доблести я назову дело при Платеях[152]
: оно было общим для афинян и лакедемонян. Все они отразили величайшую и тягостнейшую опасность, и эта их доблесть прославляется нами теперь и в последующие времена будет прославляться нашими потомками.
d
После того многие эллинские города оставались еще союзниками варвара, он же объявил о своем намерении вновь пойти войною на эллинов. Справедливо поэтому будет, чтобы мы вспомнили о тех, кто завершил подвиги первых бойцов, очистив от варваров море и изгнав их оттуда всех до единого. Это те, кто сражался при Евримедонте, кто двинулся походом на Кипр и поплыл в Египет и другие земли[153]
:
e
память их надо чтить и быть им признательными за то, что они заставили царя дрожать за свою жизнь и помышлять о ее спасении, вместо того чтобы уготовлять гибель эллинам.
242
Вот сколь трудную войну вынес на своих плечах весь город, поднявшийся против варваров на защиту свою и других родственных по языку народов. Когда же наступил мир и город пребывал в расцвете своей славы, случилась напасть, обычно выпадающая среди людей на долю тех, кто процветает, – соперничество, которое затем перешло в зависть. Таким образом, наш город был против воли втянут в войну с эллинами[154]
. В войне, вспыхнувшей вслед за тем, афиняне, защищавшие в Танагре свободу беотийцев, вступили в сражение с лакедемонянами[155]
;
b
исход сражения остался неясен, и дело решили последующие события: лакедемоняне отступили, бросив на произвол судьбы своих подопечных, наши же, победив в трехдневной битве при Энофитах, честно вернули несправедливо изгнанных беотийцев. Эти наши люди первыми после персидской войны защищали эллинскую свободу, противостоя самим же эллинам. Они проявили себя доблестными мужами: освободив тех, кого они защищали, они первыми легли в эту усыпальницу, прославляемые своими согражданами.
c
После того вспыхнула великая война, когда все эллины скопом двинулись на нашу землю, раздирая ее на части и проявляя недостойную неблагодарность по отношению к нашему городу. Наши победили их в морском сражении и захватили у острова Сфактерия в плен лакедемонских военачальников, которых вполне могли предать смерти, но отпустили, вернули на родину и заключили мир[156]
,
d
полагая, что против соплеменников следует сражаться лишь до победы и что городу негоже, поддавшись гневу, губить общее дело всех эллинов; против варваров же, считали они, следует биться вплоть до полного их разгрома. Нам следует восславить этих мужей: завершив то сражение, они покоятся здесь, доказав всем, кто сомневался, – не проявили ли себя некоторые другие эллины в той первой войне против варваров более доблестными, чем афиняне, – что сомневались они напрасно:
e
ведь афиняне показали в случае, когда на них поднялась вся Эллада, что они вышли победителями из этой войны и захватили в плен предводителей остальных эллинов; в ту войну они вместе с ними одолели варваров, теперь же победили в одиночку всех эллинов.
243
После этого мира разгорелась третья война, нежданная и опасная, и множество доблестных мужей, павших на этой войне, также покоятся здесь; многие из них водрузили большое число трофеев на побережье Сицнлии, защищая свободу леонтинцев, они поплыли в те края, чтобы оказать им поддержку во исполнение данных им клятв, но из‑за дальности морского пути город был не способен оказать им необходимую помощь, и они, утратив силы, познали невзгоды, – они, для кого у врагов и противников было в запасе больше похвал за их доблесть и рассудительность, чем для некоторых других у друзей[157]
.
b
Многие же погибли при морских сращениях в Геллеспонте[158]
; при этом они в течение одного дня захватили все вражеские суда, а множество остальных разбили.
Говоря о том, что война эта была нежданной и страшной, я имею в виду ту великую зависть, что питали к нашему городу остальные эллины: зависть эта побудила их решиться на переговоры с персидским царем[159]
, которого они вместе с нами вытеснили из нашей страны; они задумали на свой страх вновь повести его на наш город – варвара на эллинов – и объединить против Афин всех эллинов и варваров. Вот тут‑то и проявила себя во всем блеске мощь и доблесть нашего города.
c
Когда они считали, что город повержен, когда суда наши были отрезаны у Митилены, наши сограждане на шестидесяти кораблях сами поспешили на помощь этим судам; проявив себя, согласно всеобщему мнению, доблестнейшими людьми, они разбили врагов, освободили друзей, но по несчастной случайности не были вынесены на сушу и потому не покоятся в этой 5могиле[160]
. Да пребудет их память и слава вечно, ибо благодаря их доблести мы победили не только в этом морском сражении, но продолжали побеждать и в течение всей войны.
d
Город благодаря им обрел славу непобедимого, даже если против него будет все человечество, и славу справедливую, ибо мы победили благодаря собственному превосходству, а не с чужой помощью. И по сей день мы остаемся неодолимыми для этих наших врагов: ведь не они, но мы сами себя повергли и победили[161]
.
Когда затем наступило спокойствие и был заключен мир с остальными эллинами, у нас началась гражданская война[162]
, причем шла она таким образом, что каждый (если только раздор – это неизбежный удел людей) должен молить бога, чтобы его родной город лихорадило не больше, чем наш.
e
С какой радостью и как по‑родственному объединились затем граждане Пирея с жителями столицы вопреки ожиданиям прочих эллинов, с каким чувством меры положили они конец войне против тех, кто был в Элевсине![163]
244
И причиной всего этого было не что иное, как истинное родство, обеспечившее крепкую родственную дружбу не на словах, но на деле. Следует вспомнить здесь и тех, кто погиб в этой междоусобице, и умиротворить их, насколько лишь в наших силах, жертвоприношениями и молитвой, положенными в таких случаях; надо помолиться теперешним их владыкам, тогда и для нас самих наступит умиротворение. Ведь не из‑за своей порочности или вражды подняли они друг на друга руку, но по велению тяжкой судьбы.
b
Мы, живые, тому свидетели: будучи людьми той же крови, что и они, мы прощаем друг другу и наши дела, и наши страдания.
После этого у нас воцарилась полная тишина и город обрел спокойствие. Простив варварам[164]
то, что, потерпев от него, они отплатили ему за это той же монетой, город наш продолжал негодовать на эллинов, вспоминая их неблагодарность в ответ на благодеяние, их союз с варварами, захват кораблей, некогда спасших им жизнь, и разрушение стен[165]
–
c
последнее как бы в благодарность за то, что ранее мы помешали падению их стен. Город продолжал жить, приняв решение впредь не оказывать помощи ни эллинам, пытающимся поработить других эллинов, ни варварам, питающим против эллинов те же замыслы. И в то время как мы находились в подобном расположении духа, лакедемоняне решили, что мы, покровители свободы, разбиты и теперь их задачей является покорение прочих эллинов. Этот свой замысел они и стали приводить в исполнение.
d
Но к чему здесь долго распространяться? То, что я сейчас скажу, относится к недавним временам и не к кому иному, как к нам самим: ведь мы знаем, что первые среди эллинов – аргивяне, беотийцы и коринфяне, пораженные ужасом, вынуждены были обратиться за помощью к нашему городу[166]
. Однако вот величайшее чудо: сам персидский царь оказался в таком затруднении, что ему оставалось искать спасения только у нашего города, против которого он столь рьяно злоумышлял погибель.
e
И если бы кто пожелал выдвинуть справедливое обвинение против нашего города, он был бы прав, упрекнув его в излишней сострадательности и готовности защищать более слабых. Так вот и в то время он оказался не в силах проявить твердость и соблюсти свое оешение не подчиняться никому из своих обидчиков: он подчинился и оказал помощь;
245
один он поддержал всех эллинов, освободив их от рабства, так что они стали свободными вплоть до того времени, когда снова поработили друг друга; что касается царя, то город наш не осмелился прийти ему на помощь, стыдясь трофеев Марафона, Саламина и Платей, и, лишь дав позволение перебежчикам и добровольцам помочь царю, выручил его из беды[167]
. Восстановив затем стены и построив флот, он принял вызов и, понуждаемый воевать, сразился с лакедемонянами в защиту паросцев[168]
.
b
Царь почувствовал страх перед нашим городом, видя, что лакедемоняне отказались от войны на море. Стремясь отступить, он потребовал признать его власть над эллинами, обитавшими на материке, которых ранее ему выдали лакедемоняне, и взамен обещал сражаться на нашей стороне и на стороне остальных наших союзников; он рассчитывал, что мы откажемся и тем самым дадим ему предлог для отступления[169]
. В остальных союзниках он ошибся: они пожелали ему подчиниться;
c
коринфяне, аргивяне, беотийцы и другие союзники договорились с ним и поклялись выдать ему всех эллинов – обитателей материка с условием, что он заплатит им деньги. Одни лишь мы не дерзнули ни присягнуть, ни предать[170]
: настолько свойственно нашему городу свободолюбие и благородство, покоящиеся на здравой основе и природной нелюбви к варварам, ведь мы – подлинные эллины, без капли варварской крови.
d
Среди нас нет ни Пелопов, ни Кадмов, ни Египтов, ни Данаев, ни многих других, рожденных варварами и являющихся афинскими гражданами лишь по закону, но все мы, живущие здесь, настоящие эллины, а не полукровки; отсюда городу присуща истинная ненависть к чужеземной природе[171]
. Как бы то ни было, мы снова остались в одиночестве с нашим нежеланием совершить позорное и нечестивое дело, выдав эллинов варварам.
e
Вернувшись, таким образом, к тому самому положению, в каком прежде были побеждены, мы тем не менее с помощью бога завершили войну благополучнее, чем тогда. Ведь после войны у нас остались и корабли, и стены, и наши собственные поселения; сами враги не могли бы желать себе лучшего исхода.
246
Но все же мы потеряли достойных мужей и в этой войне: противники наши воспользовались неудобствами местности в Коринфе и предательством в Лехее[172]
. Достойными людьми показали себя ц те, кто освободили царя и выгнали с моря лакедемонян: я вам о них напомню, вы же, как подобает, превознесете и прославите этих мужей[173]
.
b
Итак, мы сказали о многих прекрасных и славных делах покоящихся здесь мужей и о других погибших защитниках нашего города; но есть еще больше прекрасных дел, о которых мы не сказали: ведь поистине многих дней и ночей не хватило бы тому, кто пожелал бы все это перечислить. Нам следует, помня об этих людях, передавать всем их потомкам наказ – не покидать строя своих предков, как на войне, и не отступать под влиянием малодушия. Я и сам хочу наказать вам, сыновья доблестных мужей, – и сейчас, и когда бы ни встретил вас в будущем – и буду напоминать вам и увещевать вас стремиться ко всевозможному совершенству.
c
В настоящий момент правильным будет сказать вам то, что отцы наши поручили объявить тем, кого они оставляли; завещали они нам это перед лицом опасности на случай, если им не повезет. Я произнесу сейчас слова, слышанные мною из их собственных уст, кои они с радостью сказали бы вам сами, если были бы в состоянии; так, по крайней мере, заключаю я на основе того, что они тогда говорили. Надо представить себе, будто это их собственная речь; говорили же они так[174]
:
d
«Дети, свидетельством того, что вы родились от достойных отцов, является нынешнее событие. Мы могли жить бесславно, но предпочли этому славную смерть, дабы не ввергнуть вас и ваше потомство в позор, а вашим отцам и всему предыдущему поколению нашего рода не принести бесчестье: мы считали, что тем, кто приносит бесчестье своим сородичам, не стоит и жить и что подобное деяние не мило никому из богов и людей – ни тем, кто ходит еще по земле, ни тем, кто схоронен уже под землею.
e
Вам надлежит, памятуя наши слова, выполнять доблестно все, что бы вы ни делали, зная, что там, где доблесть отсутствует, бесчестны и порочны любые приобретения и дела. Ведь ни богатство не красит того, кто приобрел его трусливым путем (такой человек скорее обогащает другого, чем себя), ни телесная красота и сила, если они присущи трусливому и порочному человеку, не являют собой подобающего ему украшения.
247
Наоборот, при этом бросается в глаза несоответствие, кое еще больше подчеркивает и выявляет трусость, а любое умение в отрыве от справедливости и других добродетелей оказывается хитростью, но не мудростью. Поэтому всю свою жизнь, и в начале ее, и в конце, всячески стремитесь к тому, чтобы принести как нам, так и нашим предкам по возможности больше доброй славы; если же нет, знайте, коли мы превзойдем вас в доблести, это принесет нам бесчестье; но если мы уступим вам, то испытаем блаженство.
b
А ваша победа и наше поражение вернее всего в том случае, если вы сумеете не умалить и не уничтожить славу ваших предков: вы должны понимать, что для уважающего себя человека нет ничего постыднее, чем пользоваться почестями не за свои заслуги, но за заслуги своих отцов. Почести, заслуженные родителями, – прекрасное и величественное сокровище их детей; расточить же сокровище (и деньги, и честь) и не передать его потомкам – позорно и немужественно; это – свидетельство недостатка собственного достояния и славы.
c
Так вот, если вы позаботитесь обо всем этом, вы, как друзья, примкнете к нам, вашим друзьям, когда положенный вам удел приведет вас сюда; если же вы пренебрежете нашим наказом и покроете себя позором, никто не примет вас благосклонно. Таково наше слово к нашим сыновьям.
Что касается наших отцов – у кого они еще есть – и наших матерей, то надо постоянно их убеждать как можно легче перенести несчастье, если оно надвинется, и не причитать вместе с ними, ибо не надо ничего добавлять к их печали
d
(она и так будет у них достаточно велика из‑за выпавшей на их долю судьбы), а, наоборот, следует ее исцелять и смягчать, напоминая им, что боги благосклонно вняли их мольбе и даровали самое великое ее исполнение. Ведь молили они богов не о том, чтобы дети их стали бессмертными, но о том, чтобы они были доблестными и славными, и они обрели эти блага – величайшие из всех. (А чтобы у смертного мужа все в его жизни получалось согласно его желанию – это нелегкая вещь.)
e
Мужественно перенося свое несчастье, родители покажут себя истинными отцами своих мужественных сыновей, достойными их славы: если же они поддадутся горю, то возбудят подозрение в том, что либо они не наши отцы, либо наши хвалители были лжецами. Им следует избежать и того и другого и на деле стать нашими самыми большими хвалителями, ясно показав, что они истинные наши родители – сами мужи и отцы мужей.
248
Древняя пословица «ничего сверх меры»[175]
представляется прекрасной, ведь это в самом деле очень хорошо сказано. Муж, у которого всё приносящее счастье зависит полностью или почти полностью от него самого и который не перекладывает это на плечи других, удача или неудача коих делает неустойчивой и его собственную судьбу, тем самым уготавливает себе наилучший удел и оказывается мудрым, разумным и мужественным. Когда на его долю выпадают имущество или дети или когда он то и другое теряет, эта пословица в высшей степени обретает для него вес: он не радуется чрезмерно и не печалится слишком, ибо полагается на себя самого.
b
Именно такими мы хотим видеть наших сородичей и утверждаем, что таковы они и на самом деле. Сами себя мы теперь тоже явили такими – не возмущающимися и не страшащимися чрезмерно, если ныне нам предстоит умереть. И мы умоляем наших отцов и матерей прожить остальную часть своей жизни в том же расположении духа, в уверенности, что ни слезами, ни скорбью о нас они не доставят нам ни малейшей радости, но, наоборот, если только есть у умерших какое‑то чувство живых, они станут нам в этом случае весьма неприятны, сами же себе нанесут вред тем, что тяжко будут переносить свою недолю;
c
но если они легко и умеренно к ней отнесутся, они нас весьма обрадуют. Ведь жизнь наша получила прекраснейшее, как считается среди людей, завершение, так что следует ее прославлять, а не оплакивать.
Если же они обратят свои мысли на заботу о наших женах и детях и их пропитании, то скорее забудут свое несчастье и будут жить лучше, правильнее и милее для нас.
d
Для наших сородичей будет достаточно того, что мы им сейчас возвестили; город же наш мы просим позаботиться о наших отцах и сыновьях: пусть сыновья наши получат надлежащее воспитание, отцы же – содержание, подобающее им в старости. Впрочем, мы уверены, что и без нашей просьбы вы проявите достаточную заботу.
Вот что, сыновья и отцы погибших, поручили они нам для вас возвестить, и я выполняю это со всевозможным тщанием. В свою очередь я за них прошу:
e
одних – брать пример с павших, других же – быть стойкими и уверенными в себе, ибо мы берем на себя и личную и общественную заботу о вашей старости, где бы мы ни встретились с кем бы то ни было из отцов погибших. Что же до города, то вы сами знаете, как он о вас печется: он издал законы, касающиеся заботы о детях и родителях тех, кто погиб на войне; эти граждане пользуются особенным покровительством наших законов, согласно которым охрана их поручена высшему должностному лицу, коему надлежит следить за тем, чтобы отцы и матери погибших не претерпели обиды[176]
;
249
город следит за совместным воспитанием сыновей погибших, заботясь о том, чтобы сиротство было для них по возможности незаметным; он берет на себя роль отца, пока они еще дети, когда же они достигнут возмужалости[177]
, отправляет их, снабдив полным вооружением, домой; он указывает им на образ жизни их отцов и напоминает о нем, снабжая их орудиями отцовской доблести;
b
вместе с тем это служит добрым предзнаменованием, когда они отправляются к отцовскому очагу отлично вооруженными, дабы во всеоружии осуществлять там свое управление. Город никогда не забывает оказывать почести тем, кто пал, и ежегодно совершает в общественном порядке обряды, какие положено совершать в честь каждого из них частным образом; кроме того, он учреждает гимнастические и конные, а также и всевозможные мусические состязания, полностью заменяя павшим сыновей и наследников, сыновьям – отцов, а родителям – опекунов:
c
все они в течение всей своей жизни пользуются неизменной заботой. Вдумываясь в это, вы должны с большей кротостью переносить ваше несчастье; таким образом, вы будете более угодны как погибшим, так и живым и облегчите себе заботу о других, а им – заботу о вас. Теперь же и вы, и все остальные, оплакав, согласно обычаю, павших, ступайте».
Вот тебе, Менексен, речь Аспазии, уроженки Милета.
d
Менексен.
Клянусь Зевсом, Сократ, если верить тебе, счастлива Аспазия: будучи женщиной, она способна составлять подобные речи!
Сократ.
Но если ты мне не веришь, пойдем со мною, и ты услышишь ее самое.
Менексен.
Сократ, я часто встречал Аспазию и знаю, какова она.
Сократ.
Что же? Разве ты не восхищаешься ею и не благодарен ей за эту речь?
e
Менексен.
Напротив. Сократ, весьма благодарен за эту речь ей или же тому – кем бы он ни был, – кто пересказал ее речь тебе[178]
. А вдобавок я испытываю великую благодарность к тому, кто ее сейчас произнес.
Сократ.
Отлично. Только не выдавай меня, тогда я и впредь буду сообщать тебе многие ее прекрасные политические речи.
Менексен.
Будь уверен, не выдам. Лишь бы ты мне их сообщал.
Сократ.
Пусть будет так.
Перевод С. Я. Шейнман‑Топштейн.
В кн.: Платон. Диалоги. М.: «Мысль», 1986
VI. ЕВТИДЕМ
Критон, Сократ
271
Критон.
Кто это был, мой Сократ, вчерашний твой собеседник в Ликее?[179]
Вас окружала такая толпа, что, хоть я и приблизился к вам, желая послушать, все же не смог ничего ясно расслышать; но я увидел его, глядя поверх голов, и мне показалось, что ты беседовал с каким‑то чужеземцем. Кто ж это был?
Сократ.
О ком именно ты спрашиваешь, Критон? Ведь их было двое, а не один.
Критон.
Тот, о котором я говорю, сидел третьим справа от тебя, а между вами был отрок, сын Аксиоха[180]
. И показалось мне, Сократ, что он очень вырос и не
b
многим отличается по возрасту от нашего Критобула[181]
; но тот еще худосочен, этот же – видный собой, красивый и приятный на взгляд.
Сократ.
Тот, о ком ты спрашиваешь, Критон, – Евтидем; сидевший же слева от меня – брат его, Дионисодор[182]
, он также участвовал в нашей беседе.
Критон.
Я не знаю, Сократ, ни того ни другого. Это, видно, какие‑то новые софисты. Но откуда они? И чему учат?
c
Сократ.
Родом они, думаю я, откуда‑то с Хиоса, переселились же в Фурии, а бежав оттуда[183]
, много уже лет проживают в наших местах. Что же касается их учения, о котором ты спрашиваешь, Критон, то оно удивительпо. Они ведь оба – просто мастера на все руки, я и не знал раньше, что бывают на свете такие многоборцы[184]
. Да они готовы схватиться с любым, не то что два брата‑многоборца из Акарнании[185]
: те умеют
d
сражаться лишь телом; эти же, во‑первых, весьма искусны в телесной борьбе и всех побеждают в сражении – ведь они прекрасно умеют сражаться в тяжелом вооружении
272
и могут научить этому за плату других; к тому же они самые сильные в судебных сражениях и спорах и лучше всех могут научить других произносить и писать судебные речи. Прежде они были искусны лишь в этом. теперь же достигли совершенства в искусстве многоборья: до этого иной вид сражений был у них не отработан, а теперь они преуспели так, что никто ничего не посмеет им возразить, настолько стали они искусными в рассуждениях – в любых спорах и опровержениях,
b
говорится ли при этом ложь или истина. Так вот, Критон, я и задумал пойти в ученики к этим мужам: они ведь вызываются за короткий срок кого угодно умудрить в этом искусстве.
Критон.
Как же так, Сократ? Тебя не пугает твой возраст? Не стар ли ты для такого дела?
Сократ.
Ничуть, Критон. Я располагаю достаточным доводом против такого страха. Ведь сами они, надо сказать, уже старцами[186]
приступили к изучению той мудрости, приобщиться к которой я жажду, – к искусству спора: год или два тому назад они вовсе не были
c
в нем знатоками. Боюсь только одного – не навлечь бы мне хулу на этих чужеземцев, как случилось с Конном, сыном Метробия, кифаристом, обучающим меня и сейчас игре на кифаре: мальчишки, мои соученики, глядя на это, смеются надо мной, да и над Конном, называя его «учителем старцев»[187]
. Как бы не пал такой же позор на обоих этих гостей и они, опасаясь именно этого, не отказались меня принять. Вчера я, Критон, убедил и других старцев пойти вместе со мной в обучение, а сейчас попробую убедить и еще кое‑кого.
d
Да почему бы и тебе не поучиться вместе со мною? Приманкой же послужат твои сыновья: в погоне за ними они, я уверен, и нас с тобой примут в ученики.
Критон.
Да, ничто этому не препятствует, Сократ, если ты на это согласен. Но прежде растолкуй мне искусство этих мужей, в чем оно состоит, дабы я понял, чему мы научимся.
Сократ.
Ты тотчас же это услышишь. Не могу сказать, чтобы я был невнимателен к их речам, наоборот, весьма был внимателен и многое запомнил и попытаюсь разъяснить тебе все с самого начала.
e
По воле некоего бога случилось так, что сидел я там, где ты меня видел, в раздевальне, один и уже подумывал об уходе, как вдруг, только я встал, явилось мне мое
273
привычное божественное знамение[188]
. Я снова сел, и немного спустя вошли они оба – Евтидем и Дионисодор, а с ними вместе многие другие – как мне показалось, их ученики. Войдя, они стали прохаживаться по крытой площадке. Но не сделали они даже двух или трех кругов, как вошел Клиний, о котором ты правильно сказал, что он сильно вырос, а за ним – многочисленные его поклонники, и между ними Ктесипп[189]
, пэаниец, юноша, обладающий прекрасными врожденными качествами, разве только несколько заносчивый по молодости.
b
Клиний, не успев войти, тотчас же увидел меня, сидящего в одиночестве, и, направившись прямо ко мне, сел справа, как ты и сказал. А Дионисодор и Евтидем, заметив его, сначала остановились поодаль и продолжали свой разговор, то и дело взглядывая на нас, – я очень внимательно следил за ними при этом, – а затем подошли, и один из них, Евтидем, сел подле отрока, другой же – слева от меня, а все прочие – кто где попало.
Я приветствовал их, поскольку давно их не видел, а затем обратился к Клинию с такими словами: «Клиний, оба этих мужа, Евтидем и Дионисодор, мудры не малой,
c
но великой мудростью: им ведомо все о войне, все, что надлежит знать стремящемуся стать стратегом, – строевой порядок, командование войсками и как обучиться вооруженной борьбе; могут они также научить человека защищать себя в судебных делах, если кто причинит ему несправедливость»[190]
.
Однако они отнеслись пренебрежительно к этим моим словам; рассмеявшись, они обменялись между собою взглядом, и Евтидем сказал:
d
– Мы уже не занимаемся этим всерьез, Сократ, но лишь между делом.
А я, изумившись, молвил:
– Прекрасно же ваше занятие, если такие дела для вас лишь забава; скажите же мне, ради богов, в чем оно состоит, это великолепное искусство?
– Мы умеем оба, как мы считаем, лучше и скорее всех из людей прививать другим добродетель[191]
.
e
– О Зевс, – говорю я, – какое вы помянули дело! Как напали вы на такую находку?[192]
А я‑то еще мыслил о вас, как только что говорил, что вы большие искусники биться во всеоружии. Так я про вас и высказывался. Ведь в ваш прежний приезд, помню я, вы провозглашали именно это.
274
Но коль скоро вы теперь обладаете упомянутым новым знанием, будьте милостивы – я обращаюсь к вам просто как к богам – и имейте снисхождение к моим прежним словам. Однако смотрите, Евтидем и Дионисодор, правду ли вы сказали? Ведь не удивительно, что с трудом верится в столь великое притязание.
– Но будь уверен, Сократ, что все так и есть.
– Тогда, я считаю, вы благодаря этому достоянию гораздо более блаженные люди, чем Великий царь[193]
со всей его властью. Скажите мне только, собираетесь ли вы показать свое искусство, или же у вас другие замыслы?
b
– Да мы ведь именно ради того и прибыли – показать его и обучить ему всех, кто пожелает учиться.
– В том, что захотят все не обладающие этой мудростью, я вам ручаюсь; и первым буду я, затем, вот, Клиний, а вдобавок Ктесипп и все прочие, кто здесь есть, – сказал я, указывая на поклонников Клиния.
А они уже окружили нас плотным кольцом. Между тем Ктесипп сидел далеко от Клиния, и мне показалось, что когда Евтидем со мной разговаривал, склонившись вперед, он мешал ему лицезреть сидевшего между нами
c
Клиния. Поэтому Ктесипп, желая смотреть на мальчика и вместе с тем стремясь послушать, о чем идет речь, первым подошел и стал прямо напротив нас. Следуя его примеру, и все остальные окружили нас – и поклонники Клиния, и друзья Евтидема и Дионисодора. Показав на них, я сказал Евтидему, что все готовы учиться; Ктесипп весьма охотно с этим согласился, и все прочие тоже и сообща попросили их показать силу своей мудрости.
d
Тут я сказал:
– Прошу вас, Евтидем и Дионисодор, изо всех сил угодить собравшимся, да и ради меня показать нам свое искусство. Ясно, что изложить его большую часть – дело нелегкое. Скажите мне, однако, вот что: вы можете сделать достойным человеком лишь того, кто уже убежден, что он должен у вас учиться, или также и того, кто вовсе в этом не убежден – потому ли, что он вообще не считает добродетель предметом, которому можно обучиться, или же потому, что не признает именно вас ее учителями?
e
Объясните же тому, кто так считает: именно это ваше искусство призвано убедить его в том, что добродетели возможно научить и только у вас он ей обучится лучше всего, или это задача другого искусства?
– Нет, того же самого, Сократ, – откликнулся Дионисодор.
– Значит, вы, – сказал я, – из всех наших современников наиболее умело склоняете других к философии и к заботе о добродетели?
275
– Да, мы так полагаем, Сократ.
– Тогда отложите пока все другие доказательства и поясните нам именно этот вопрос: убедите вот этого юношу в том, что следует заниматься философией и заботиться о добродетели; этим вы очень угодите и мне, и всем здесь собравшимся. Ведь отрок этот попал именно в такие обстоятельства: я и все окружающие страстно желаем, чтобы он стал как можно более достойным человеком. Он – сын Аксиоха, сына Алкивиада‑старшего, а ныне здравствующему Алкивиаду двоюродный брат, имя же ему – Клиний. Он молод, и, естественно,
b
его юность внушает нам опасения, как бы кто‑нибудь не опередил нас, не направил бы его ум на другое какое‑то дело и тем самым не погубил. Итак, вы явились вовремя; если вы не возражаете, подвергните испытанию мальчика и побеседуйте с ним при нас.
После такой примерно моей речи Евтидем отвечал отважно и вместе с тем дерзко[194]
:
c
– Пустяки, Сократ, лишь бы молодой человек пожелал отвечать.
– Но, – сказал я, – к этому он привык. Все присутствующие часто обращаются к нему с вопросами и беседуют с ним, так что он бывает достаточно смел в ответах.
Как же мне получше описать тебе, мой Критон, все, что там было потом? Ведь нелегкое это дело – обстоятельно воспроизвести столь своенравную мудрость. Итак я, подобно поэтам, должен, приступая к рассказу, воззвать к Музам и Мнемосине[195]
. Начал же Евтидем, как мне помнится, следующим образом:
d
– Скажи мне, Клиний, те из людей, кто идет в обучение, – они мудрецы или невежды?
Мальчик же, услышав столь трудный вопрос, покраснел и бросил на меня недоумевающий взгляд. А я, видя его смущение, говорю:
– Мужайся, Клиний, отвечай смело то, что ты думаешь. Быть может, это принесет тебе величайшую пользу.
e
В это мгновение Дионисодор, наклонившись чуть‑чуть к моему уху и улыбаясь во весь рот, молвил:
– Предсказываю тебе, Сократ, что бы ни ответил мальчик, он будет все равно опровергнут.
А пока он это говорил, Клиний уже отвечал, так что мне не удалось предупредить мальчика, чтобы он был осторожен, и он сказал, что учатся люди мудрые. А Евтидем:
276
– Называешь ли ты кого‑либо учителями или же нет?
Мальчик ответил утвердительно.
– Значит, учители – это учители учеников, как, например, кифарист и грамматик были учителями твоими и других мальчиков, вы же были учениками?
Клиний согласился.
– А разве не обстояло дело таким образом, что, когда вы учились, вы не знали того, чему обучались?
– Именно так, – сказал Клиний.
– Но были ли вы мудрыми, коль скоро не знали этого?
b
– Конечно, нет, – ответил тот.
– Значит, вы были не мудрыми, но невеждами?
– Разумеется.
– Следовательно, учась тому, чего вы не знали, вы учились, будучи невеждами?
Мальчик кивнул в знак согласия.
– Вот и получается, что учатся невежды, а не мудрецы, как ты это думаешь.
c
Когда он это сказал, все спутники Дионисодора и Евтидема, подобно хору, послушному команде своего наставника, зашумели и засмеялись, и раньше, чем мальчик как следует успел перевести дух, Дионисодор вмешался и сказал:
– Послушай, Клиний, когда учитель грамматики читает вам что‑нибудь, кто из мальчиков запоминает прочитанное – тот, кто мудр, или же тот, кто невежествен?
– Тот, кто мудр, – отвечал Клиний.
– Следовательно, учатся мудрые, а вовсе не невежды и ты только что неверно ответил Евтидему[196]
.
d
Тут уже вовсю засмеялись и зашумели поклонники этих мужей, восхищенные их премудростью; мы же, остальные, молчали, пораженные. Евтидем, поняв, что мы поражены, дабы мы еще более выказали ему свое восхищение, не отпускает мальчика, но снова принимается его спрашивать и, подобно искусным плясунам, обращает к нему один и тот же вопрос то одной его, то другой стороной[197]
. Итак, он спросил:
e
– А учащиеся обучаются тому, что они знают, или же тому, чего не знают?
И снова Дионисодор зашептал мне:
– И здесь, Сократ, речь идет все о том же.
– О Зевс, – отвечал я, – уже и в первый раз нам это показалось великолепным.
– Все наши вопросы, – сказал он, – столь же настоятельны: от них не убежишь.
– Вот поэтому‑то, – говорю я, – вас так и почитают ваши ученики.
Как раз в это время Клиний отвечал Евтидему, что ученики обучаются тому, чего они не знают. Тот же стал спрашивать его на прежний лад:
277
– Как же так? Разве ты не знаком с буквами?
– Знаком, – ответил Клиний.
– То есть со всеми?
Клиний ответил утвердительно.
– А когда кто‑нибудь что‑то произносит, разве он произносит не буквы?
Клиний согласился.
b
– Значит, он произносит нечто из того, что тебе известно, коль скоро ты знаешь все буквы?
И с этим он согласился.
– Что же, – возразил тот, – значит, ты не учишься тому, что тебе читают, а тот, кто не знаком с буквами, учится?
– Нет, – отвечал мальчик, – именно я учусь.
– Значит, – сказал Евтидем, – ты учишься тому, что знаешь, коль скоро ты знаешь все буквы.
Клиний согласился.
– А, следовательно, ты неправильно мне ответил.
И не успел Евтидем это промолвить, как Дионисодор, перехватив слово, как мяч, перебросил его обратно мальчику, говоря:
– Евтидем тебя обманывает, Клиний. Скажи мне: разве учиться не значит получать знание о том, чему ты учишься?
Клиний ответил утвердительно.
– А знать – разве это не то же самое, что уже обладать знанием?
Клиний подтвердил это.
– Следовательно, не знать – это значит не иметь знания?
c
Клиний снова с ним согласился.
– А получающие что‑либо уже имеют что‑то или не имеют?
– Нет, не имеют.
– А ведь ты признал, что к неимеющим относятся и незнающие?
Клиний кивнул в знак согласия.
– Значит, учащиеся относятся к получающим знание, а не к имеющим его?
Клиний согласился.
– Следовательно, обучаются незнающне, Клиний, а вовсе не те, кто знает.
d
Тут Евтидем в третий раз наскочил на молодого человека, стремясь как бы повалить его навзничь ловким приемом. Я же, почуяв, что мальчик совсем сбит с толку, и желая дать ему передышку, чтобы он полностью у нас не оробел, стал его убеждать, говоря:
– Клиний, не удивляйся кажущейся необычности этих речей. Быть может, ты не отдаешь себе отчета, что именно проделывают с тобою оба наших гостя; делают же они все то, что бывает при посвящении в таинства корибантов[198]
, когда совершается обряд возведения посвящаемого на престол. При этом бывают хороводные пляски и игры и тогда, когда ты уже посвящен. Сейчас оба они делают то же самое – водят вокруг тебя хоровод и как бы пляшут, играя, чтобы потом тебя посвятить.
e
Вот и считай, что сейчас ты слышишь вступление к софистическим таинствам[199]
. Прежде всего, как говорит Продик, следует изучить правильность имен[200]
: это‑то и показывают тебе наши гости, так как ты не знал, что словом «учиться» люди обозначают равным образом и познание какого‑либо предмета в том случае, когда кто‑либо поначалу не имел относительно него никакого
278
знания, и дальнейшее развитие знания того же предмета, когда им уже обладают, как в своей деятельности, так и в рассуждениях. Правда, в этом случае больше подходит название «заниматься», чем «учиться», однако пользуются здесь и словом «учиться»[201]
. От тебя же, как они показали, ускользнуло, что одно и то же имя относится к людям противоположного состояния – и к знающим, и к невеждам. Примерно в этом
b
же состоит существо их второго вопроса – когда они спрашивали тебя, учатся ли люди тому, что они знают, или тому, что им неизвестно. Такова игра познания – почему я и говорю, что они с тобой забавляются, – а игрою я именую это потому, что, если кто узнает множество подобных вещей или даже все их, он ничуть не лучше будет знать самый предмет – какова его суть, – а сумеет лишь забавляться с людьми, подставлять им ножку, используя различия имен, и заставлять их гадать – так кто‑нибудь смеется и развлекается,
c
выдергивая скамейку из‑под ног у намеревающихся сесть и глядя, как они падают навзничь. Вот и считай, что они с тобой пошутили. Но ясно, что после этого они предъявят тебе серьезные речи, а я предупрежу их, чтобы они заплатили мне обещанный долг. Они утверждали, что покажут нам увещевательное искусство; пока же. думается мне, они просто с тобой играли. Ну
d
что ж, Евтидем и Дионисодор, пошутили, а теперь уж шутки в сторону; теперь покажите мальчику, как следует печься о мудрости и добродетели. Однако прежде я сам покажу вам, как я это разумею и что именно мне хотелось бы об этом услышать. Но если вам подумается, что делаю я это смешно и неискусно, не насмехайтесь надо мною: ведь лишь из стремления услышать вашу премудрость посмею я выступить перед вами без подготовки. Сдержитесь же и без смеха выслушайте меня, вы и ваши ученики. Ты же, сын Аксиоха, мне отвечай.
e
Стремимся ли все мы, люди, к благополучию? Или же это один из вопросов, которые, как я сейчас опасался, покажутся смешными? В самом деле, бессмысленно задавать подобный вопрос: кто, в самом деле, не хочет быть счастливым?
– Такого человека не существует, – отвечал Клиний.
279
– Пойдем дальше, – сказал я. – Коль скоро, однако, мы хотим быть счастливыми, каким образом мы можем этого достигнуть? Быть может, путем обладания многими благами? Или же этот вопрос еще наивнее? Ведь ясно, что дело обстоит именно так.
Клиний согласился.
– Но послушай, какие же бывают у нас блага из всего сущего?[202]
Или и на это ответить нетрудно и не нужен особо серьезный муж, чтобы это постичь? Любой ведь скажет нам, что быть богатым – это благо. Так ведь?
– Конечно, – ответил Клиний.
b
– Наверно, сюда же относится здоровье, красота и другие прекрасные телесные совершенства?
Клиний согласился.
– Ну а родовитость, власть и почести у себя на родине – ясно ведь, что это блага.
Клиний признал и это.
– Что же, – спросил я, – остается нам из благ? Быть рассудительным, справедливым и мужественным? Как ты считаешь, Клиний, во имя Зевса, правильно ли мы сделаем, причислив все это к благам, или же нет? Может быть, кто‑нибудь станет нам возражать? Как тебе кажется?
– Это – блага. – отвечал Клиний.
c
– Ну, – сказал я, – а в каком кругу окажется у нас мудрость? Среди благ, или ты думаешь иначе?
– Среди благ.
– Подумай, не пропустили ли мы какое‑либо из благ, достойное упоминания?
– Но мне кажется, мы ничего не пропустили, – отвечал Клиний.
Однако я, напрягши память, сказал:
– Клянусь Зевсом, мы едва не пропустили величайшее из благ!
– Какое же именно? – спросил он.
– Счастье, мой Клиний. Ведь все, даже самые неумные люди, утверждают, что это – величайшее благо.
– Ты прав, – сказал он.
d
Подумав еще раз, я добавил:
– А ведь мы едва не оказались в смешном положении перед гостями – и я и ты, сын Аксиоха.
– Каким это образом? – спросил он.
– А таким, что, назвав раньше благом счастье, мы сейчас снова заговорили об этом.
– Да как же так?
– Смешно ведь, когда положение, однажды уже выдвинутое, повторяешь снова и дважды утверждаешь одно и то же.
– Что, – спрашивает он, – ты имеешь в виду?
– Да ведь мудрость, – отвечал я, – и есть счастье, это известно любому ребенку.
Клиний выразил удивление: настолько он еще молод и простодушен. Я же, видя его изумление, сказал:
e
– Разве тебе неведомо, Клиний, что в мастерстве игры на флейте всего счастливее флейтисты?
Клиний согласился.
– А разве в деле написания и прочтения текстов не всего счастливее грамматики?
– Разумеется.
– Ну а что касается опасностей в море, неужели ты думаешь, что есть кто‑либо счастливее в избежании их, чем, как правило, искусные кормчие?
– Нет, конечно.
– Ну а отправляясь па войну, с кем бы ты охотнее разделил опасности и успех – с искусным стратегом или с невежественным?
280
– С искусным.
– А болея, кому бы ты рискнул довериться – искусному врачу или неучу?
– Искусному.
– Следовательно, – сказал я, – ты считаешь, что больше счастья приносит сотрудничество с мудрым человеком, чем с неучем?
Он согласился.
– Значит, мудрость во всем несет людям счастье, ибо мудрость ни в чем не ошибается, но необходимо заставляет правильно действовать и преуспевать. Иначе она вовсе и не была бы мудростью.
b
В конце концов мы как‑то так согласились, что в целом, если у кого налицо мудрость, тот не нуждается в другом счастье. А придя с ним к такому соглашению, я возобновил свои расспросы относительно нашей прежней договоренности, как обстоит с нею дело.
– Мы согласились, – сказал я, – что если у нас есть все блага, то мы тем самым благополучны и счастливы?
Он подтвердил это.
– Ну а счастливы мы благодаря наличным благам, если они приносят нам пользу или если не приносят?
– Если приносят, – отвечал он.
c
– А приносят они нам пользу лишь в силу обладания ими, даже если мы ими не пользуемся? Например, если бы у нас было много пищи, но мы бы не ели, или много питья, но мы бы не пили, – принесло бы нам это пользу?
– Конечно, нет, – отвечал он.
– Далее: если бы все мастера имели в своем распоряжении все необходимое для своего дела, но не пользовались этим, были бы они счастливы в силу самого обладания тем, что нужно мастеру? Например, если бы плотник имел в своем распоряжении все необходимые инструменты и дерево, но не работал бы с ними, извлек бы он какую‑то пользу из этого обладания?
d
– Ни в коем случае, – отвечал Клиний.
– Ну а если бы кто‑нибудь обрел богатство и все блага, о которых мы сейчас говорили, но не пользовался бы всем этим, был бы он счастлив благодаря одному лишь обладанию благами?
– Конечно, нет, Сократ.
– Следовательно, желающему стать счастливым должно не только обладать подобными благами, но и пользоваться ими. в противном случае это обладание не принесет никакой пользы.
– Истинная правда.
e
– Так, значит. Клиний, для того чтобы сделать кого‑то счастливым, достаточно, чтобы он приобрел блага и пользовался ими?
– Мне кажется, да.
– Если он правильно пользуется ими, – спросил я, – или же неправильно?
– Нет, если правильно.
– Ты прекрасно отвечаешь, – промолвил я. – Совсем иное дело, кажется мне, если кто неправильно пользуется какой бы то ни было вещью или просто пренебрегает ею: в первом случае это зло, во втором – ни то ни другое. Не так ли мы скажем?
281
Он согласился.
– Далее, разве в работе по дереву и в применении его должно для правильной обработки руководствоваться чем‑либо иным, а не плотничьей наукой?
– Нет, именно ею, – ответил Клиний.
– Но ведь и при производстве утвари руководствуются наукой для правильной обработки?
Он согласился.
– Так ведь. – сказал я, – и при пользовании теми благами, что мы назвали первыми, – богатством, здоровьем и красотою – именно наука руководит правильным применением всего этого и направляет его или, может быть, что‑то другое?
b
– Наука, – отвечал он.
– Значит, как видно, наука дает людям не только счастье, но и мастерство в любом приобретении и деле.
Он согласился.
– Но ради Зевса, – спросил я, – какая может быть польза в любом приобретении, если не хватает разума и мудрости? Разве извлечет какую‑либо пользу человек, многое приобретший и многое совершающий, но лишенный ума? Не лучше ли при этом довольствоваться малым? Посмотри: разве, меньше делая, он не меньше с совершит ошибок, а совершая меньше ошибок, не скорее избегнет неблагополучия, избегая же неблагополучия, разве он не избегает несчастья?
c
– Разумеется, избегает, – сказал Клиний.
– Ну а кто предпочитает действовать меньше – бедный или богатый?
– Бедный, – ответил он.
– А слабый или сильный?
– Слабый.
– Если он в почете находится или в бесчестье?
– В бесчестье.
– Ну а какой человек действует меньше – мужественный и мудрый или же трус?
– Трус.
– Значит, это свойство человека праздного, а не деятельного?
Он согласился.
– И медлительного, а не быстрого, а также подслеповатого и тугого на ухо, а не человека с острым зрением и тонким слухом?
d
Во всем этом мы согласились друг с другом.
– В целом же, Клиний, – сказал я, – как представляется, все то, что мы раньше назвали благами, не потому носит это имя, что по самой своей природе является таковым, но вот почему: если этими вещами руководит невежество, то они – большее зло, чем вещи противоположные, причем настолько большее, насколько сильнее они подчиняются руководящему началу, выступающему как зло; если же их направляют разумение и мудрость, то они скорее будут добром; само же по себе ни то ни другое ничего не стоит[203]
.
e
– Похоже, – заметил он, – что дело обстоит именно так, как ты говоришь.
– Какой же вывод сделаем мы из сказанного? Не тот ли, что из всех остальных вещей ничто не есть ни добро, ни зло, а вот из этих двух – мудрости и невежества – первая есть благо, второе же – зло?
Он согласился.
282
– Давай же, – сказал я, – рассмотрим все остальное. Поскольку мы все стремимся к счастью и, как оказалось, мы счастливы тогда, когда пользуемся вещами, причем пользуемся правильно, а правильность эту и благополучие дает нам знание, должно, по‑видимому, всякому человеку изо всех сил стремиться стать как можно более мудрым. Не так ли?
– Так, – подтвердил он.
– И если человек в этом убежден, он должен перенимать от отца мудрость, а не деньги, и от воспитателей, и от прочих друзей,
b
а также от тех, что именуют себя поклонниками, – от чужеземных гостей и сограждан, прося и умоляя поделиться с ним мудростью; и ничего нет позорного, Клиний, и предосудительного в том, чтобы ради этого быть рабом и служить и поклоннику, и любому другому человеку, поскольку это значит служить прекраснейшую службу – стремиться и желать стать мудрым. Или ты так не думаешь? – спросил его я.
– Мне кажется, ты великолепно сказал, – отвечал он.
c
– Особенно, Клиний, – продолжал я, – если мудрости можно научиться, а она не приходит к людям сама собою: последнее у нас с тобой еще не рассмотрено, и мы пока не пришли на этот счет к соглашению.
– Но мне кажется, Сократ, что можно ей научиться.
А я, обрадовавшись, сказал:
– Поистине прекрасно ты говоришь, благороднейший из мужей, и оказываешь мне услугу, избавив от длинного рассмотрения этого вопроса – можно ли или нельзя научиться мудрости.
d
Теперь же, поскольку ты считаешь, что ей можно научиться и что она одна делает человека блаженным и счастливым, не будешь же ты отрицать, что необходимо философствовать и что ты сам намерен этим заняться?
– Разумеется, Сократ, – сказал он, – это самое подобающее занятие.
И я, с удовольствием это слыша, сказал:
– Вот каков, Дионисодор и Евтидем, образчик желанного мне увещевательного слова, хотя, быть может, оно бесхитростно, тяжеловесно и растянуто.
e
Вы же либо покажите нам то же самое, пустив в ход свое искусство, либо, если вам это не нравится, преподайте мальчику урок по порядку, начиная с того места, где я остановился, – нужно ли ему приобретать всякое знание, или существует единственное, овладев которым человек будет достойным и счастливым, и какое именно. Как я сказал с самого начала, нам очень важно, чтобы юноша этот стал мудрым и добродетельным.
283
Такова была моя речь, Критон. После этого я стал внимательно наблюдать за тем, что будет дальше, следя, каким образом продолжат они рассуждение и с чего начнут свой призыв к юноше упражняться в мудрости и добродетели. Итак, старший из них, Дионисодор, первый начал свою речь, мы же, все остальные, поглядывали на него, немедленно ожидая услышать какие‑то удивительные слова. Так и случилось: ибо муж этот поразительное повел рассуждение, и тебе, Крптон, стоит его выслушать, потому что то было побуждение к добродетели.
b
– Скажи мне, Сократ. – молвил он, – и вы, все остальные, утверждающие, что стремитесь одарить мудростью этого юношу, говорите ли вы это в шутку или серьезно и взаправду испытываете такое желание?
Тут я решил, что они раньше подумали, будто мы шутили, когда просили их обоих побеседовать с мальчиком, и потому поддразнивали их, а не хранили серьезность; и, помыслив так, я еще раз подтвердил, что мы относимся к этому делу на удивление серьезно.
c
А Дионисодор в ответ:
– Смотри, Сократ, не отрекись потом от того, что сейчас сказал.
– Я уже предусмотрел это, – возразил я, – и никогда от этого не отрекусь в будущем.
– Так, значит, – сказал он, – вы утверждаете, будто хотите, чтобы он стал мудрым?
– Очень хотим.
– А в настоящее время, – спросил он, – мудр Клиний или же нет?
– Ну уж об этом‑то он помалкивает, ему ведь не свойственно хвастовство.
d
– Но вы‑то, – сказал он, – хотите, чтобы он стал мудрым и не был невежественным?
Мы согласились.
– Значит, вы хотите, чтобы он стал тем, чем он сейчас не является, и чтобы таким, каков он сейчас есть, он впредь уже никогда не был.
Услышав это, я пришел в замешательство, он же, подметив мое смущение, продолжал:
– Так разве, желая, чтобы он впредь не был тем, что он есть сейчас, вы не стремитесь его, как кажется, погубить? Хороши же такие друзья и поклонники, которые изо всех сил желают гибели своего любимца!
Но тут Ктесипп, услышав это, вознегодовал из‑за любимого мальчика и поднял голос:
e
– Фурийский гость. – сказал он. – Если бы это не было чересчур неучтиво, я бы тебе ответил: «Погибель на твою голову!»[204]
Что это ты вздумал ни с того ни с сего взвести на меня и на других такую напраслину, о которой, по‑моему, и молвить‑то было бы нечестиво, – будто я желаю погибели этому мальчику!
– Как, Ктесипп, – вмешался тут Евтидем. – ты считаешь, что возможно лгать?
– Да, клянусь Зевсом, – отвечал тот, – если только я не сошел с ума.
– А в каком случае – если говорят о деле, о котором идет речь, или если не говорят?
284
– Если говорят, – отвечал тот. – Но ведь если кто говорит о нем, то он называет не что иное из существующего, как то, о чем он говорит?
– Что ты имеешь в виду? – спросил Ктесипп.
– Ведь то, о чем он говорит, является одним из существующего, отдельным от всего прочего.
– Разумеется.
– Значит, тот, кто говорит об этом, говорит о существующем?
– Да.
– Но ведь тот, кто говорит о существующем, говорит сущую правду. Так и Дионисодор, коль скоро он говорит о существующих вещах, говорит правду, а вовсе не клевещет на тебя.
– Да, – отвечал Ктесипп. – Но тот, Евтидем, кто говорит подобные вещи, говорит о том, чего нет.
b
А Евтидем на это:
– Разве то, чего нет, – это не то, что не существует?
– Да, то, что не существует.
– И дело обстоит разве не так, что то, чего нет, нигде не существует?
– Нигде.
– Возможно ли, чтобы кто‑нибудь – кем бы он ни был – так воздействовал на это, чтобы создать его – это нигде не существующее?
– Мне кажется, невозможно, – отвечал Ктесипп.
– Так что же, когда ораторы говорят в народном собрании, разве они ничего не делают?
– Нет, делают, – отвечал тот.
c
– Но раз они что‑то делают, значит, и что‑то создают?
– Да.
– Следовательно, говорить – это значит что‑то делать и создавать?
Ктесипп согласился.
– Значит, никто не говорит о несуществующем: ведь при этом он что‑то делает, а ведь ты признал, что ни для кого невозможно создать несуществующее: вот по твоему слову и выходит, что никто не произносит лжи и, если Дионисодор говорит, он говорит об истинно существующем.
– Клянусь Зевсом, Евтидем! – воскликнул Ктесипп. – Говорит‑то он некоторым образом о существующем, но в неправильном смысле.
d
– Что ты имеешь в виду, Ктесипп? – спросил Дионисодор. – Не то ли, что существуют люди, называющие вещи своими именами?
– Да, добропорядочные люди и те, что говорят правду.
– Но разве, – возразил тот, – хорошее не бывает хорошим, а дурное – дурным?
Ктесипп сказал, что бывает.
– А ты признаешь, что хорошие люди называют вещи своими именами?
– Признаю.
– Значит, хорошие люди говорят дурно о дурном, раз они все называют своими именами.
e
– Да, клянусь Зевсом, – отвечал тот, – и даже очень дурно, когда речь идет о дурных людях. И ты поостережешься быть в числе этих последних, если меня е послушаешься, дабы хорошие люди не говорили о тебе дурно.
– И о людях высоких они говорят высоким слогом, а о горячих говорят горячо?
– В высшей степени так, – отвечал Ктесипп. – А о холодных людях они говорят холодно, как и о прохладных их рассуждениях.
– Бранишься ты, Ктесипп, – бросил Дионисодор, – да, бранишься.
285
– Нет, клянусь Зевсом, – отвечал тот, – я не бранюсь, потому что люблю тебя и по‑дружески наставляю и пытаюсь убедить никогда не выступать против меня так грубо, утверждая, будто я желаю гибели тем, кого ценю превыше всего.
А я, поскольку мне показалось, что они слишком резко друг против друга настроены, шутливо обратился к Ктесиппу со словами:
– Ктесипп, мне кажется, нам надо принять от наших гостей их речи, коль скоро они желают их нам подарить, и мы не должны спорить с ними из‑за имен.
b
Если им дано так губить людей, что из дурных и неразумных они могут сделать достойных и благоразумных, то сами ли они изобрели это или от другого кого научились такому уничтожению и порче, с помощью которых они, разрушив скверного человека, воскрешают его хорошим, если они это умеют (а ведь ясно, что умеют: они заявили, что их недавно обретенное искусство состоит в том, чтобы делать дурных людей хорошими), то уступим им в этом: пусть они погубят нам мальчика и сделают его разумным, а также и всех нас.
c
Если же вы, молодые, боитесь, то пусть опасность коснется меня, как это бывает с карийцами[205]
; ведь, поскольку я стар, я готов рискнуть и предоставить себя нашему Дионисодору, как колхидской Медее. Пусть он погубит меня и, если хочет, сварит живьем или сделает другое что‑либо со мной по желанию, лишь бы только я стал хорошим[206]
.
А Ктесипп на это:
d
– Я и сам готов, Сократ, предоставить себя гостям – пусть, если им это угодно, сдирают с меня шкуру еще неистовей, лишь бы эта шкура не оказалась у меня потом пустым мешком, как шкура Марсия[207]
, а наполнилась добродетелью. Хотя Дионисодор считает, что я на него сержусь, это не так; но я противоречу, как мне кажется, его неблаговидным речам, направленным против меня. А ты, благородный Дионисодор, не считай противоречие бранью: брань – это нечто совсем иное.
А Дионисодор на это:
– Ты строишь свои рассуждения так, как если бы противоречие в самом деле существовало?
e
– Само собой разумеется, – отвечал Ктесипп, – и даже более того. А ты, Дионисодор, думаешь, что противоречие не существует?
– Но ведь ты не сумел бы мне показать, – возразил тот, – что когда‑либо слышал, как один противоречит другому.
– Правда твоя, – молвил Ктесипп. – Но вот сейчас я это слышу и показываю тебе Ктесиппа, противоречащего Дионисодору.
– Ты можешь отстоять это свое заявление?
– Разумеется, – сказал Ктесипп.
– Так как же? – спросил тот. – Для каждой существующей вещи есть свои слова?[208]
– Конечно.
– Слова ли о том, что каждая вещь существует или же нет?
286
– О том, что существует. – Если ты помнишь, Ктесипп, – сказал тот, – мы только что показали, что никто не говорит о том, чего не существует: никто ведь не может выявить в слове то, что не существует.
– Ну и что же?! – воскликнул Ктесипп. – Разве от этого мы меньше противоречим друг другу – я и ты?
– А если, – возразил тот, – мы оба говорим об одном и том же, то мы противоречим друг другу или, скорее, утверждаем относительно этого одно и то же?
Ктесипп подтвердил, что одно и то же.
b
– А если бы ни один из нас, – сказал Дионисодор, – не говорил об этом деле, разве противоречили бы мы друг другу? Ведь, скорее, никто из нас двоих о нем бы и не вспомнил.
И с этим Ктесипп согласился.
– Ну а когда я веду речь относительно этого дела, ты же – иную речь, об ином деле, – противоречим ли мы друг другу в этом случае? Или же я говорю о некоем деле, а ты о нем не говоришь вовсе? А может ли противоречить говорящему тот, кто не говорит?
Тут Ктесипп онемел. Я же, подивившись этим словам, спросил:
– Что ты имеешь в виду, Дионисодор? Не в первый раз, но от многих и часто слышал я это рассуждение[209]
с и всякий раз удивлялся.
c
Ведь и ученики Протагора[210]
всячески пользовались им, и старшее поколение тоже. Мне же оно кажется странным и ниспровергающим как другие рассуждения, так и само себя. Но я полагаю, что лучше всего убедишь меня. в его истинности именно ты. Значит, ложь произнести нельзя (ведь именно в этом сила данного рассуждения, не так ли?) и говорящий может либо говорить правду, либо молчать?
Дионисодор подтвердил это.
– Но если невозможно произнести ложь, то, по крайней мере, можно иметь ложное мнение?
d
– Нет, невозможно и это, – отвечал он.
– Значит, вообще не существует ложного мнения? – спросил я.
– Не существует, – отвечал он[211]
.
– И нет ни невежества, ни невежественных людей? Разве невежество – если бы оно существовало – заключалось бы не в том, чтобы иметь ложное мнение о вещах?
– Разумеется, в этом, – сказал он,
– Но его не существует, – подсказал ему я.
– Нет, – подтвердил он.
– Ты ведешь эту речь, Дионисодор, ради красного словца, из какой‑то причуды или в самом деле считаешь, что среди людей нет невежд?
e
– А ты, – сказал он, – меня опровергни.
– Что же получается, по твоим словам, что возможно опровержение, в то время как никому не дано лгать?
– Нет, невозможно, – вмешался Евтидем.
– Но разве вот сейчас, – спросил я, – Дионисодор не потребовал, чтобы я его опровергнул?
– Как можно требовать то, чего не существует? Ты разве требуешь?
– Да я, Евтидем, – говорю, – не очень‑то смыслю во всех этих великолепных тонкостях, ведь я тугодум. Быть может, я и нескладно спрошу тебя, но уж ты меня
287
извини. Взгляни: если нельзя ни лгать, ни иметь ложного мнения, ни быть невежественным, то разве мыслимо ошибаться, делая что‑то? Ведь при этом тому, кто действует, невозможно ошибаться в том, что он делает? Разве не это вы утверждаете?
– Да, разумеется, – отвечал он.
– Вот это и есть, – сказал я, – неприятный вопрос. Коль скоро мы, действуя, говоря и размышляя, никогда не ошибаемся, то вы‑то, ради Зевса, – если все это так – чему явились сюда учить? Разве вы не сказали недавно, что лучше всех из людей преподаете добродетель тем, кто желает учиться?
b
– Вот ведь, Сократ, – подхватил Дионисодор, – какой ты отсталый человек – сущий Кронос[212]
, раз ты сейчас вспоминаешь самые первые наши слова – чуть ли не прошлогодние, с тем же, что мы сейчас говорим, не знаешь, что и делать!
– Да, – отвечал я, – уж очень трудны ваши речи. Оно и понятно: ведь какие мудрецы эти речи держат! Вот и последние твои слова очень трудно истолковать: что это значит, Дионисодор, «не знаешь, что и делать»? Видимо, что я не в состоянии опровергнуть Евтидема? Ибо, скажи, какой еще смысл может иметь это твое выражение – «не знаешь, что и делать с этими речами»?
c
– Но вот с твоими‑то речами, – возразил он, – совсем не трудно что‑то сделать. Отвечай же.
– Как, Дионисодор?! – говорю. – Раньше, чем ты сам мне ответил?
– Так ты не станешь отвечать? – спрашивает он.
– Да разве это справедливо?
– Разумеется, справедливо, – ответствовал он.
– На каком же основании? – возразил я. – Видно, на том, что ты явился к нам как великий знаток рассуждений и тебе ведомо, когда нужно отвечать, а когда нет? И сейчас ты ничегошеньки не отвечаешь, потому что уверен – это не нужно?
d
– Болтаешь, – возразил он, – и не заботишься об ответе. Но, достойнейший мой, будь добр, отвечай, коли уж ты признал меня мудрецом!
– Надо, видно, послушаться: похоже, что это необходимо. Ты ведь здесь верховодишь. Спрашивай же.
– Считаешь ли ты, что мыслящие существа мыслят, имея душу, или они ее лишены?
– Мыслят существа, имеющие душу.
– Ну а знаешь ли ты речь, которая имела бы душу?
Клянусь Зевсом, нет.
e
– Почему же ты недавно спрашивал, какой смысл в моем выражении?
– Да почему же еще, как не ошибаясь, по своей тупости? А может быть, я не ошибся и верно сказал, утверждая, что речи имеют смысл? Так как же – ошибся я или нет? Если я не ошибся, ты не опровергнешь меня, хоть ты и мудрец, и не сообразишь, что делать с моим словом; если же я ошибся, то и тут ты не прав, поскольку утверждаешь, что ошибаться невозможно.
288
И это я возражаю вовсе не на то, о чем ты говорил в прошлом году. Но, – продолжал я, – похоже, Дионисодор и Евтидем, что наше рассуждение топчется на месте и снова, как и раньше, ниспровергает само себя, а ваше искусство бессильно помочь этой беде, хоть оно и поразительно по точности выражений.
Сказал тут Ктесипп:
b
– Дивны речи ваши, мужи фурийские или хиосские, или по каким другим местам и как еще вы бы ни хотели именоваться! До чего же вам нипочем нести такой вздор!
Но я, убоявшись, что возникнет ссора, снова стал успокаивать Ктесиппа, сказав:
– Ктесипп, говорю тебе то же самое, что я говорил сейчас Клинию: ты не знаешь мудрости наших гостей – сколь она удивительна. Но они не хотят показать нам ее всерьез и околдовывают нас, подражая Протею,
c
египетскому софисту[213]
. Мы же давайте уподобимся Менелаю[214]
и не отпустим этих мужей до тех пор, пока они не обнаружат перед нами серьезную свою суть: думаю, что, когда они заговорят по существу, они явят нам нечто прекрасное; будем же просить их и убеждать и умолять нам это явить. А я со своей стороны собираюсь снова им объяснить, каким образом, согласно моей просьбе, они должны для меня это сделать.
d
Попытаюсь начать с того, на чем я остановился ранее, и пройти это все, насколько смогу, по порядку, дабы из снисхождения к моему усердию и серьезности вызвать серьезность и с их стороны. Ты же, Клиний, – продолжал я, – напомни мне, на чем мы тогда остановились. Как мне кажется, вот на чем: мы пришли к выводу, что необходимо философствовать. Не так ли?
– Да, – отвечал он.
– Философия же – это приобретение знания; как по‑твоему? – спросил я.
– Да, – отвечал он.
e
– Какое же мы собираемся приобрести знание, если правильно к этому приступить? Не то ли, попросту говоря, что принесет нам пользу?
– Несомненно, – сказал он.
– Ну а принесло бы нам какую‑то пользу уменье обнаруживать, обходя землю, большие залежи золота?
– Быть может, – отвечал он.
– Но ведь перед этим, – возразил я, – мы установили, что ничего бы не выгадали, даже если бы без хлопот и раскопок у нас в руках оказалось все золото; и если
289
бы мы даже умели превращать в золото скалы, это знание не имело бы для нас никакой цены. Ведь коли бы мы не знали, как использовать золото, то ясно, что от него не было бы никакой пользы. Припоминаешь ли? – спросил я.
– Конечно, – отвечал он, – припоминаю.
– Точно так же, видимо, и от любого другого знания не будет никакой пользы – ни от уменья наживаться, ни от врачебного искусства, ни от какого иного, если кто умеет что‑либо делать, пользоваться же сделанным не умеет. Разве не так?
Клиний согласился.
b
– Даже если бы существовало уменье делать людей бессмертными, но мы не знали бы, как этим бессмертием пользоваться, и от этого не было бы никакой пользы, – если только данный вопрос надо решать на основе того, в чем мы ранее согласились.
Все это он подтвердил нам.
– Следовательно, прекрасный мой мальчик, – продолжал я, – мы нуждаемся в таком знании, в котором сочеталось бы уменье что‑то делать и уменье пользоваться сделанным.
– Это ясно, – отвечал он.
c
– Значит, как видно, нам вовсе не нужно становиться искусными в изготовлении лир и сноровистыми в подобном уменье. Ведь здесь искусство изготовления и искусство применения существуют порознь, хотя и относятся к одному и тому же предмету, ибо искусство изготовления лир и искусство игры на них весьма отличаются друг от друга. Не так ли?
Он согласился.
– Точно так же не нуждаемся мы в искусстве изготовления флейт: ведь и здесь такое же положение.
Он выразил согласие.
– Но, во имя богов, – сказал я, – если мы изучим искусство составления речей, то именно приобретение этого искусства сделает нас счастливыми?
d
– Я этого не думаю, – отвечал Клиний, схватив мою мысль.
– А как ты можешь это обосновать? – спросил я.
– Я знаю некоторых составителей речей, не умеющих пользоваться собственными речами, которые сами они сочинили, подобно тому как изготовители лир не умеют пользоваться лирами. В то же время есть другие люди, умеющие пользоваться тем, что первые приготовили, хотя сами приготовить речи не умеют. Ясно, что и в деле составления речей искусство изготовления – это одно, а искусство применения – другое.
e
– Мне кажется, – сказал я, – ты достаточно веско доказал, что составление речей – это не то искусство, обретя которое человек может стать счастливым. А я уж подумал, что здесь‑то и явится нам знание, которое мы давно ищем. Ведь мне и сами эти мужи, сочинители речей, кажутся премудрыми, и искусство их – возвышенным и волшебным. Да и не удивительно: оно – как бы часть искусства заклинаний и лишь немного ему уступает.
290
Только искусство заклинателей – это завораживание гадюк, тарантулов, скорпионов и других вредных тварей, а также недугов, а искусство сочинителей речей – это завораживание и заговор судей, народных представителей и толпы. Или ты думаешь, – спросил я, – иначе?
– Нет, я думаю то же, что ты говоришь, – отвечал он.
– Так к чему же, – спросил я, – мы еще обратимся? К какому искусству?
– Что‑то я не соображу, – отвечал он.
– Но, – вставил я, – кажется, я нашел!
– Что же это? – спросил Клиний.
b
– Мне представляется, – отвечал я, – что искусство полководца более чем какое‑либо другое, если им овладеть, может сделать человека счастливым.
– А я так не думаю.
– Почему? – спросил я.
– Да ведь оно напоминает искусство охоты – только на людей.
– Ну и что же? – спросил я.
– Никакое охотничье искусство, – отвечал он, – не идет далее того, чтобы схватить, изловить. А после того как дичь, за которой охотятся, схвачена, звероловы и рыбаки уже не знают, что с нею делать, но передают
c
свою добычу поварам; а геометры, астрономы и мастера счета, которые тоже ведь охотники, ибо не создают сами свои задачи, чертежи и таблицы, но исследуют существующие, – они (поскольку не знают, как этим пользоваться, а занимаются лишь охотой), если только не совсем лишены разума, передают диалектикам[215]
заботу об использовании своих находок.
– Значит, прекраснейший и мудрейший Клиний, вот как обстоит дело?
d
– Конечно. И стратеги, – продолжал он, – таким же точно образом, когда захватят какой‑либо город или военный лагерь, передают их государственным мужам, ибо сами они не умеют воспользоваться тем, что захватили, наподобие того как ловцы перепелов передают их тем, кто умеет перепелов откармливать. И если нам необходимо искусство, которое, сделав какое‑то приобретение, создав что‑либо или изловив, само же и умеет этим воспользоваться, и такое искусство сделает нас счастливыми, то надо искать какое‑то иное искусство, не полководческое.
e
Критон.
Что ты говоришь, Сократ? Этот юнец мог произнести такие слова?
Сократ.
А ты не веришь этому, Критон?
Критон.
Клянусь Зевсом, нет. Я думаю, что, если он такое сказал, он не нуждается в обучении ни у Евтидема, ни у кого‑либо еще из людей.
Сократ.
Но, быть может, во имя Зевса, это молвил Ктесипп, а я просто запамятовал?
Критон.
Какой там Ктесипп!
291
Сократ.
Но в одном я уверен: ни Евтидем, ни Дионисодор этого не сказали. Однако, милый Критон, быть может, это произнес кто‑то более сильный из присутствующих? Ведь я слышал эти слова, в этом я уверен.
Критон.
Да, клянусь Зевсом, Сократ, мне кажется, это был кто‑то из более сильных, и намного. Но после того какое еще искусство вы рассмотрели? И нашли вы или не нашли то, ради чего предприняли изыскание?
b
Сократ.
Где же, дорогой мой, найти! Наоборот, мы оказались в очень смешном положении: подобно детишкам, гоняющимся за жаворонками, мы всякий раз думали, что уже схватили то или другое из знаний, они же все ускользали из наших рук. Стоит ли тут вдаваться в подробности? Когда мы дошли до царского искусства[216]
и стали исследовать, доставляет ли оно кому‑либо счастье, то, подобно заблудившимся в лабиринте, подумали было, что мы уже у самого выхода; и вдруг, оглянувшись назад, мы оказались как бы снова в самом начале пути, заново испытав нужду в том, с чего начались наши искания.
c
– Как же это случилось с вами, Сократ?
– Сейчас скажу. Показалось нам, что государственное и царское искусство – это и есть то, что мы ищем.
– Ну и что же?
– Именно этому искусству, подумали мы, и военное дело, и другие искусства передоверяют руководить тем, что сами они создают, – единственному знающему, как всем этим пользоваться. Нам показалось очевидным, что это именно то, чего мы искали;
d
как раз это искусство, думалось нам, причина правильной деятельности в государстве, и именно оно, как говорится в ямбах Эсхила, единственное стоит у государственного кормила, всем управляя и повелевая всем творить одну пользу[217]
.
Критон.
Но разве не верно показалось вам это, Сократ?
Сократ.
Ты рассудишь сам, Критон, если соблаговолишь послушать меня. После того, что было достигнуто нами ранее, мы снова принялись за рассмотрение примерно так: «Ну а царское искусство, руководящее всем, само‑то оно что‑нибудь для нас производит? Или ничего? – Несомненно, – сказали мы друг другу, – производит». Разве ты не был бы того же мнения, Критон?
e
Критон.
Конечно, был бы.
Сократ.
А что бы ты назвал в качестве его произведения? Ответь, например: если бы я спросил тебя, что производит врачебное искусство, руководящее всем, чем оно руководит, разве ты не назвал бы здоровье?
Критон.
Да, разумеется.
Сократ.
Ну а ваше искусство – земледелие, руководя всем тем, чем оно руководит, что именно производит? Разве ты не скажешь, что оно добывает для нас из земли пищу?
292
Критон.
Да, скажу.
Сократ.
Ну а царское искусство, руководя всем, чем оно руководит, что производит? Не приводит ли тебя этот вопрос в некоторое смущение?
Критон.
Да, клянусь Зевсом, Сократ.
Сократ.
Точно так же и нас, Критон. Но ведь, насколько ты знаешь, если оно – то самое, какое мы ищем, оно должно приносить пользу.
Критон.
Несомненно.
Сократ.
Не должно ли оно доставлять нам некое благо?
Критон.
Непременно, Сократ.
b
Сократ.
Благо, которое, как мы согласились с Клинием, должно быть не чем иным, как неким знанием.
Критон.
Да, ты это говорил.
Сократ.
Но другие дела, которые кто‑то мог бы счесть задачей государственного искусства, – их ведь множество: например, делать граждан богатыми, свободными и умиротворенными – все это оказалось ни благом, ни злом. Искусство это должно делать нас мудрыми и передавать нам знание, коль скоро оно хочет быть полезным и делать людей счастливыми.
c
Критон.
Да, так. И вы тогда на этом и сошлись, как следует из твоего рассказа.
Сократ.
Значит, царское искусство делает людей мудрыми и достойыми?
Критон.
А что этому мешает, Сократ?
Сократ.
Но всех ли и во всем делает оно достойными? И может ли оно передать всякое знание – и сапожничье, и плотничье, и любое другое?
Критон.
Нет, Сократ, этого я не думаю.
d
Сократ.
Ну а какое же знание может оно передать? И какую мы извлечем из этого знания пользу? Ведь оно не должно быть творцом ни одного из тех дел, что не плохи и не хороши, и не должно передавать никакого иного знания, кроме себя самого. Так давай же определим, что это за знание и какую мы могли бы извлечь из него пользу. Может, если тебе угодно, Критон, скажем, что это то знание, с помощью которого мы сделаем других достойными людьми?
Критон.
Да, несомненно.
Сократ.
А в чем они будут у нас достойными и полезными? Быть может, они сделают такими других? А те, другие, еще других? А в каком именно отношении они достойные люди, это нам никак не становится ясным,
e
потому что названные нами дела мы отнесли к государственному искусству, но все, что мы сказали, весьма напоминает пословицу «Коринф – сын Зевса»[218]
, и нам снова недостает стольких же слов и даже гораздо большего их числа, для того чтобы узнать, какое именно знание сделает нас счастливыми.
Критон.
Да, клянусь Зевсом, Сократ, в ужасном оказались вы тупике!
293
Сократ.
Вот я и сам, Критон, когда попал в это трудное положение, на все лады стал молить обоих наших гостей, словно они Диоскуры[219]
, призывая их спасти нас – меня и мальчика – от этой лавины слов и, отнесясь к этому с полной ответственностью, совершенно серьезно нам показать, что это за наука, изучая которую мы бы достойно прожили оставшуюся часть жизни.
Критон.
Ну и как? Пожелал вам это показать Евтидем?
Сократ.
Как же иначе! И повел он, мой друг, весьма высокомерно такую речь:
– Должен ли я научить тебя, Сократ, знанию, относительно коего вы давно недоумеваете, или же показать, что ты им уже обладаешь?
b
– Блаженный ты человек! – отвечал я. – И это в твоих силах?
– Несомненно, – подтвердил он.
– Покажи же, во имя Зевса, – попросил я, – что я им уже обладаю: ведь это гораздо легче для меня, чем учиться в преклонном возрасте.
– Отвечай же мне, – сказал он, – есть ли что‑нибудь, что ты знаешь?
– Конечно, – отвечал я, – я знаю многие вещи, но малозначительные.
– Этого достаточно, – говорит он. – А считаешь ли ты возможным, чтобы какое‑либо существо не было тем, что оно есть?
– Нет, клянусь Зевсом!
c
– Ну а ты ведь, – молвил он, – что‑то знаешь?
– Да, – подтвердил я еще раз.
– Значит, коль скоро ты знаешь, ты человек знающий?
– Да, знающий то, что я знаю.
– Это не имеет значения: коль скоро ты человек знающий, разве ты не должен в силу необходимости знать всё?
– Нет, клянусь Зевсом, – отвечал я, – ведь многого я не знаю.
– Но если ты чего‑то не знаешь, ты будешь человеком незнающим.
– Не знающим лишь то, что мне неизвестно, – отвечал я.
d
– Но не делает ли это тебя менее знающим? А недавно ты сказал, что ты знающий. И таким образом ты, как таковой, одновременно и существуешь и не существуешь в одном и том же отношении.
– Что ж, Евтидем, – возразил я, – ты, как говорится, за словом в карман не лезешь. Но как же это поможет мне найти то знание, которое мы ищем? Быть может, я найду его в том смысле, что невозможно быть и не быть одним и тем же, и если я знаю что‑либо одно, то тем самым я знаю все: ведь не могу же я быть одновременно и знающим и незнающим, – а коль скоро я знаю все, значит, я обладаю и тем самым знанием? Вот, значит, что ты утверждаешь, и в этом‑то и состоит твоя мудрость?
e
– Ты сам себя уличил, Сократ, – отвечал он.
– А с тобой, Евтидем, – спросил я, – разве не случалось чего‑либо подобного? Я‑то ведь все стерпел бы вместе с тобой и с задушевным другом моим Дионисодором и не очень бы возмущался. Скажи мне: с обоими вами разве не бывало, что одно из сущего вы знали, другое же – нет?
– Никогда, Сократ, не бывало, – отвечал Дионисодор.
– Что вы имеете в виду? – спросил я. – Быть может, вы ничего не знаете?
– Как бы не так! – отозвался он.
294
– Значит, вы всё знаете, коль скоро знаете что‑либо?
– Всё, – отвечал он. – И ты так же, если знаешь что‑либо одно, знаешь всё.
– Великий Зевс! – воскликнул я. – О каком чуде ты говоришь и сколь великое возвещаешь благо! Так и другие люди либо всё знают, либо ничего?
– Конечно. Ведь невозможно, чтобы одно они знали, а другое нет и одновременно были бы знающими и незнающими.
– Ну а все‑таки? – переспросил я.
– Все, – отвечал он, – знают всё, если они знают что‑либо одно.
b
– Но ради богов, Дионисодор, – взмолился я, – теперь‑то мне ясно, что вы говорите серьезно (еле‑еле удалось мне от вас этого добиться!); итак, вы в самом деле знаете всё – и плотничье ремесло, и сапожничье?
– Конечно, – отвечал он.
– И накладывать швы из жил вы умеете?
– И тачать сапоги, клянусь Зевсом, – отвечал он.
– Ну а такие вещи – например, сосчитать, сколько звезд в небе или песка на дне морском?
– Разумеется, – подтвердил он. – Или ты думаешь, что мы в этом не признаемся?
c
Тут Ктесипп не выдержал.
– Ради Зевса, Дионисодор, – сказал он, – дайте мне такое доказательство этих слов, чтобы я поверил в их истинность.
– Какое же мне дать доказательство? – возразил Дионисодор.
– А вот: знаешь ли ты, сколько зубов у Евтидема, а Евтидем – сколько их у тебя?
– Не довольно ли тебе знать, – отвечал Дионисодор, – что нам известно решительно всё?
– Нет, не довольно; скажите нам лишь это одно и докажите, что вы говорите правду. И если каждый из вас скажет, сколько у другого зубов, и после того, как мы сосчитаем, вы окажетесь знатоками, мы поверим вам и во всем остальном.
d
Почувствовав насмешку, они не уступили в этом Ктесиппу, ограничившись утверждением, что знают все вещи, о которых он спрашивал их в отдельности. А Ктесипп кончил тем, что совершенно откровенно стал спрашивать их обо всем на свете, вплоть до вещей уж совсем непристойных, – знают ли они их; те же два храбреца шли напролом, утверждая, что знают, – ни дать ни взять кабаны, прущие прямо на нож, так что я и сам, Критон, побуждаемый недоверием, в конце концов спросил, умеет ли Дионисодор плясать.
А он:
– Ну конечно, умею, – говорит.
e
– Но уж само собой, – возразил я, – ты не можешь кувыркаться на остриях мечей и вертеться колесом – в твоем‑то возрасте! Ведь не столь далеко зашел ты в своей премудрости.
– Нет ничего, – отвечал он, – чего бы мы не умели.
– Но, – спросил я, – вы только теперь всё знаете или вам всегда всё было известно?
– Всегда, – отвечал он.
– И когда детьми были, и даже новорожденными, вы тоже всё знали?
Оба в один голос подтвердили это.
– Но нам это кажется невероятным.
А Евтидем в ответ:
295
– Тебе это кажется невероятным, Сократ?
– Всё, за исключением того, что вы, на мой взгляд, мудрецы.
– Но если ты пожелаешь мне отвечать, – сказал он, – я покажу, что и тебе свойственно признаваться во всех этих чудесах.
– Да я с радостью приму такое доказательство. Если я сам не знал, что мудр, ты же докажешь, что я все знаю и знал всегда, выпадет ли за всю мою жизнь более счастливый случай?
b
– Отвечай же, – сказал он.
– Спрашивай, я буду отвечать.
– Итак, Сократ, – начал он, – ты знаешь что‑либо или нет?
– Знаю, конечно.
– А знающим ты являешься благодаря тому, чем ты познаёшь, или по какой‑то другой причине?
– Благодаря тому, чем я познаю. Ведь, полагаю, ты имеешь в виду душу? Или же нет?
– И тебе не стыдно, Сократ? На вопрос ты отвечаешь вопросом!
– Хорошо, – возразил я, – но как же мне поступать? Я буду делать так, как ты мне велишь. Когда я не понимаю, что ты от меня хочешь, ты все же велишь мне отвечать, не переспрашивая тебя?
c
– Да ведь что‑то ты усваиваешь, – сказал он, – из того, что я говорю?
– Да, конечно, – отвечал я.
– Так на то и отвечай, что ты усвоил.
– Как же так? – возразил я. – Если ты, спрашивая, имеешь в виду одно, я же восприму это по‑другому и соответствующим образом стану тебе отвечать, тебя удовлетворит такой несуразный ответ?
– Меня‑то да, – сказал он, – тебя же, я думаю, нет.
– Так не стану же я, Зевс свидетель, отвечать, – возразил я, – пока все в точности не пойму.
– Ты никогда не отвечаешь, хоть и прекрасно все понимаешь, потому что ты болтун и донельзя отсталый человек!
d
И я понял, что он зол на меня за то, что я расчленяю выражения, в то время как он хотел поймать меня в словесные силки. Тут я вспомнил о Конне[220]
: он ведь тоже сердится на меня всякий раз, как я ему не уступаю, и перестает заботиться обо мне, словно я какой‑то тупица. А так как я задумал поступить в обучение и к Евтидему, то порешил, что необходимо ему уступить, дабы он не отказал мне, сочтя меня бестолковым учеником. Итак, я сказал:
e
– Пусть будет по‑твоему, Евтидем, если ты того хочешь. Ты ведь во всех отношениях умеешь рассуждать лучше, чем я, человек простой и неискусный. Спрашивай же сначала.
– Отвечай же, – начал он, – сызнова: познаешь ли ты чем‑либо то, что ты познаешь, или нет?
– Разумеется, познаю, – отвечал я, – а именно душою.
– Ты опять, – сказал он, – предвосхищаешь вопрос! Я ведь не спрашиваю тебя, чем именно ты познаешь, а лишь познаешь ли чем‑то.
296
– Снова, – говорю, – по неотесанности я ответил больше должного. Но прости мне это: теперь‑то уж я отвечу просто, что познаю чем‑то то, что я познаю.
– А всегда ли, – спросил он, – ты познаешь одним и тем же или то одним, то другим?
– Всегда, – говорю, – когда я познаю, то одним и тем же.
– Да перестанешь ли ты вставлять лишнее?!– вскричал он.
– Но как бы нас не подвело это «всегда».
b
– Если это и подведет кого‑либо, – сказал он, – то не нас, а только тебя! Но отвечай: всегда ли ты познаешь одним и тем же?
– Всегда, – отвечал я, – если уж нужно исключить это «когда».
– Значит, ты всегда познаешь одним и тем же. А познавая всегда, ты одно познаешь тем, чем познаешь, а другое – другим или все познаешь одним и тем же?
– Одним и тем же, – отвечал я, – познаю в целом все то, что я познаю.
– Вот‑вот! – воскликнул он. – Опять такая же вставка!
– Ну, хорошо, – отозвался я, – я исключу «то, что я познаю».
c
– Да не исключай ты ничего, – сказал он, – ведь я ничего от тебя не требую! Но отвечай мне: можешь ли ты познавать «все в целом», если не познаешь всего?
– Это было бы дивом! – возразил я. А он в ответ:
– Теперь можешь вставлять все, что хочешь: ведь ты признался, что знаешь все.
– Что ж, – говорю, – если «то, что я познаю» не имеет никакого значения, значит, я знаю все.
– Итак, ты признал, кроме того, что всегда познаешь одним и тем же то, что ты познаешь, – когда бы ты ни познавал и что бы тебе ни было угодно: ведь ты согласился, что всегда познаешь и вместе с тем – всё.
d
Значит, ясно, что и будучи ребенком ты все знал, и при рождении, и при зачатии, а также и раньше, чем ты явился на свет, раньше возникновения неба и земли ты знал все в целом, коль скоро ты всегда знал. И, клянусь Зевсом, – воскликнул он, – ты всегда будешь всё знать, если я того захочу!
– Так захоти этого, высокочтимый Евтидем, – попросил я, – коль скоро ты молвишь правду. Но я не вполне поверю в эту твою возможность, если только тебе не подсобит в этом присутствующий здесь Дионисодор, твой брат. В этом случае ты, быть может, и покажешься на это способным.
e
Скажите же мне оба, – продолжал я, – вот что (во всем прочем я не смогу с вами, людьми столь диковинной мудрости, спорить и утверждать, будто я не все знаю, в то время как вы говорите противное): смогу ли я настаивать, Евтидем, будто я знаю, что достойные люди несправедливы? Скажи же, знаю я это или не знаю?
– Конечно, ты это знаешь, – отвечал он.
– Что именно я знаю? – спросил я.
– Что достойные люди не несправедливы.
297
– Разумеется, я это давным‑давно знаю. Но спрашиваю я не об этом, а о том, откуда я взял, что достойные люди – несправедливы?
– Ниоткуда, – ответствовал Дионисодор.
– Значит, я этого не знаю, – заключил я.
– Ты разрушаешь все рассуждение, – обратился Евтидем к Дионисодору. – Ведь окажется у нас, что он чего‑то не знает, и выйдет, что он одновременно и знающий и незнающий.
Дионисодор покраснел.
b
– Но ты‑то что при этом думаешь, Евтидем? – спросил я. – Не кажется ли тебе, что прав твой брат – он, всеведущий?
– Ведь я – брат Евтидема, – живо подхватил Дионисодор.
А я на это:
– Брось это, милейший, пока Евтидем не покажет мне, что я знаю, будто достойные люди – несправедливы, и не мешай этому моему познанию.
– Ты увиливаешь, Сократ, – возразил Дионисодор, – и не желаешь отвечать.
c
– Естественно, – сказал я. – Ведь я слабее каждого из вас, так не могу я не бежать от вас обоих! Мне ведь далеко до Геракла, а и он не был в силах сражаться с гидрой – настоящей софисткой, которая, когда снимали одну голову с ее рассуждения, выпускала вместо нее, пользуясь своей мудростью, много новых, – а также с неким раком, другим софистом, недавно приплывшим, как мне кажется, прямо из моря: поскольку этот рак досаждал ему своими речами и укусами слева[221]
, он позвал на помощь своего племянника Иолая, и тот ему крепко помог. Мой же Иолай [Патрокл][222]
, если придет, только испортит дело.
d
– Отвечай же, – вставил тут Дионисодор, – раз уж ты сам затянул эту песню: был ли Иолай больше Геракловым племянником, чем твоим?
– Да уж самое лучшее для меня, Дионисодор, – возразил я, – ответить тебе! Ты ведь не оставишь свои вопросы, – я почти в этом уверен, – и будешь сердиться и мне мешать, не желая, чтобы Евтидем научил меня той премудрости.
– Так отвечай же, – настаивал он.
– Итак, я отвечаю, что Иолай был племянником Геракла; моим же, как мне кажется, не был ни в коей мере. Ведь отцом его не был мой брат Патрокл, но был Ификл, близкий ему по имени брат Геракла[223]
.
e
– А Патрокл[224]
, – спросил он, – твой брат?
– Разумеется, – отвечал я, – но по матери, не по отцу.
– Значит, он и брат тебе и не брат.
– Не со стороны отца, милейший, – отвечал я. – Его отцом был Хэредем, моим же – Софрониск[225]
.
– Отцом‑то был, – говорит он, – и Софрониск и Хэредем?
– Конечно, – отвечаю, – Софрониск – моим, Хэредем – его.
– Значит, – говорит он, – Хэредем отличается от отца?
298
– От моего, – отвечаю.
– Следовательно, он был отцом, отличным от отца? Или же ты подобен камню?[226]
– Боюсь, – отвечал я, – как бы по твоей милости я и в самом деле не показался камнем. Себе же я таким не кажусь.
– Значит, ты отличаешься от камня?
– Конечно, отличаюсь.
– То есть, отличаясь от камня, ты сам – не камень? И, отличаясь от золота, ты сам – не золото?
– Это так.
– Значит, и Хэредем, отличаясь от отца, сам не может быть отцом.
– Похоже, что он и впрямь не отец, – отвечал я.
b
– Если же, с другой стороны, – подхватил тут Евтидем, – Хэредем – отец, то Софрониск, отличаясь от отца, не является отцом, и у тебя, Сократ, нет отца.
Тут вмешался Ктесипп.
– А разве с вашим отцом, – сказал он, – не произошло того же самого? Ведь он отличен от моего отца?
– Вовсе нет, – отвечал Евтидем.
– Значит, он с моим отцом – одно и то же?
– Да, одно и то же.
c
– Я бы с этим не согласился. Но, Евтидем, мне ли он только отец или и прочим людям?
– И прочим людям также, – отвечал тот. – Или ты думаешь, что один и тот же человек, будучи отцом, может не быть отцом?
– Я и в самом деле хотел бы так думать, – отвечал Ктесипп.
– Как же так? – возразил Евтидем. – То, что является золотом, будет не золотом? Или тот, кто есть человек, не будет человеком?
– Да нет же, Евтидем, – отвечал Ктесипп. – Как говорится, не громозди на заплату заплату[227]
. Ведь чудные вещи ты говоришь – будто твой отец также отец всем людям.
– Но это верно, – говорит тот.
– А только ли людям, – спросил Ктесипп, – или также лошадям и всем прочим животным?
– Всем животным, – отвечал тот.
d
– И мать твоя – мать всем животным?
– И мать.
– И морским ежам, – спросил Ктесипп, – она также мать?
– Да, и твоя мать – тоже.
– И значит, ты – брат телят, щенят и поросят?
– И ты тоже.
– А вдобавок отцом твоим будет кабан или пес?
– И твоим также.
– Ты тотчас же, – вмешался Дионисодор, – если станешь мне отвечать, с этим согласишься, Ктесипп. Скажи мне, есть у тебя пес?
– Да, и очень злой, – отвечал Ктесипп.
– А щенята у него есть?
e
– Есть, тоже очень злые.
– Этот пес, значит, им отец?
– Сам видел, – отвечал Ктесипп, – как он покрыл суку.
– Ну что же, разве это не твой пес?
– Конечно, мой, – отвечает.
– Следовательно, будучи отцом, он твой отец, так что отцом твоим оказывается пес, а ты сам – брат щенятам.
И снова Дионисодор, не дав Ктесиппу произнести ни звука, продолжил речь и сказал:
– Ответь мне еще самую малость: бьешь ты этого пса?
А Ктесппп, рассмеявшись:
– Да, – говорит, – клянусь богами! Ведь не могу же я прибить тебя.
– Значит, ты бьешь своего отца?
299
– Нет, гораздо справедливее было бы, если бы я прибил вашего отца, которому взбрело в голову взрастить таких мудрецов сыновей. Но, верно, Евтидем, – продолжал Ктесипп, – немалыми благами попользовался от этой вашей мудрости ваш отец, он же и отец щенят?
– Однако ни он не нуждается во многих благах, Ктесипп, ни ты сам.
– И ты, Евтидем, тоже не нуждаешься? – спросил тут Ктесипп.
b
– Мало того, и никто из людей. Скажи мне, Ктесипп, считаешь ли ты благом для больного пить лекарство, когда он в том нуждается, или это представляется тебе не благом? Или когда кто‑нибудь идет на войну, быть вооруженным лучше, чем выступать безоружным?
– Думаю, что да, – отвечал Ктесипп, – хотя и ожидаю, что ты нас чем‑нибудь огорошишь.
– Да, в наилучшем виде, – промолвил тот. – Но отвечай: коль скоро ты признаёшь, что пить лекарство – благо для человека, когда он в этом нуждается, и, значит, этого добра надо пить по возможности больше, то ему будет хорошо, если кто‑нибудь разотрет и намешает ему целый воз эллебора?[228]
А Ктесипп отвечал:
c
– Да, очень хорошо, если пьющий это лекарство будет ростом с дельфийское изваяние[229]
.
– Значит, и на войне, коль скоро это благо – иметь оружие, надо иметь как можно больше копий и щитов, ведь это же благо?
– Разумеется, – отвечал Ктесипп. – А ты этого не думаешь, Евтидем? По‑твоему, достаточно одного щита и одного копья?
– По‑моему, да.
– И ты бы так вооружил, – возразил Ктесипп, – и Гериона и Бриарея?[230]
Я‑то думал, ты более искусный боец в тяжелом вооружении – и ты, и твой дружок.
d
Евтидем тут промолчал. А Дионисодор, возвращаясь к тому, на что Ктесипп уже отвечал, спросил его:
– Тебе и золото, значит, кажется благом?
– Конечно, и очень большим, – отвечал Ктесипп.
– Что ж, разве ты не думаешь, что блага надо иметь всегда и везде?
– Безусловно, – отвечал тот.
– Значит, ты признаешь, что золото – это благо?
– Уже признал ведь, – отвечал тот.
– Значит, его нужно иметь повсюду, и особенно – в себе самом? И счастливейшим был бы тот человек, который имел бы три таланта золота в желудке, один талант – в черепе и по золотому статеру в каждом глазу?
e
– Да ведь рассказывают же о скифах, Евтидем, – молвил тут Ктесипп, – в точности как ты сейчас говорил о родителе‑псе, что достойнейшими и счастливейшими из них считаются те, у кого много золота в черепах, а еще удивительнее, что и пьют они из своих собственных позолоченных черепов, держа собственные головы в руках и заглядывая им внутрь[231]
.
300
– Ну а смотрят‑то и скифы, и все прочие люди, – спросил Евтидем, – на то, что им доступно видеть или недоступно?
– Конечно, на то, что доступно.
– Значит, и ты также?
– И я.
– А видишь ты наши плащи?
– Да.
– Значит, им доступно видеть.
– Восхитительно! – воскликнул Ктесипп.
– Ну и что же дальше? – спросил Евтидем.
– Ничего. А ты, возможно, такой простак, что не веришь, будто плащи видят? Но мне кажется, Евтидем, что ты спишь наяву, и, коли возможно, чтобы говорящий не говорил, так ты именно это и делаешь.
b
– А разве невозможно, – вмешался Дионисодор, – молчащему говорить?
– Никоим образом, – отвечал Ктесипп.
– И говорящему – молчать?
– Еще менее того, – отвечал он.
– А когда ты говоришь о камнях, о дереве, о железе, разве ты говоришь не о молчащем?
– Вовсе нет, наоборот: когда я бываю в кузницах, железо, как говорится, вопит и издает прегромкие звуки, если к нему притрагиваются. А ты, со своей премудростью, этого не знал и сказал ерунду. Но вы мне все‑таки покажите, как это возможно – говорящему молчать.
c
Тут мне показалось, что Ктесипп из‑за своего любимца чересчур увяз в споре.
– Но разве, – сказал Евтидем, – когда ты молчишь, это молчание относится не ко всему?
– Ко всему, – отвечал Ктесипп.
– Значит, ты молчишь и о говорящем, если только то, что говорится, относится ко всему.
– Как так? – спросил Ктесипп. – Разве всё не молчит?
– Конечно, нет, – отвечал Евтидем.
– Но тогда, почтеннейший, всё говорит?
– Да, всё говорящее.
– Однако, – возразил Ктесипп, – я спрашиваю не об этом, но о том, говорит ли всё или молчит.
d
– Ни то ни другое, а вместе с тем и то и другое, – подхватил здесь Дионисодор. – Уверен, что ты не извлечешь ничего для себя из этого ответа.
Но Ктесипп, по своей привычке громко захохотав, сказал:
– Евтидем, твой братец, внеся двусмысленность в рассуждение, поражен насмерть!
А Клиний смеялся и радовался, и Ктесипп почувствовал, что силы его удесятерились. Мне же показалось, что этот ловкач Ктесипп перенял у них собственный их прием: ведь никто другой из ныне живущих людей не обладает подобной мудростью. И я сказал:
e
– Что же ты, Клиний, смеешься над столь важными и прекрасными вещами?
– Так, значит, Сократ, тебе все‑таки известна какая‑то прекрасная вещь? – вставил тут Дионисодор.
– Известна, Дионисодор, и не одна, а многие.
– Но вещи эти отличны от прекрасного или они – то же самое, что прекрасное?
301
Тут я всем своим существом почувствовал затруднение и подумал, что это мне поделом: не надо было произносить ни звука; однако я отвечал, что прекрасные вещи отличны от прекрасного самого по себе: в каждой из них присутствует нечто прекрасное.
– Так, значит, если около тебя присутствует бык, то ты и будешь быком, а коль скоро я нахожусь около тебя, то ты – Дионисодор?
– Нельзя ли поуважительней, – сказал я.
– Но каким же образом одно, присутствуя в другом, делает другое другим?
b
– И это тебя затрудняет? – возразил я; теперь я уже попробовал подражать мудрости этих двух мужей, настолько я ее жаждал.
– Как же не затрудняться и мне, и всем прочим людям в том, чего нет на свете?
– Что ты говоришь, Дионисодор? Прекрасное не прекрасно и безобразное не безобразно?
– Да, – отвечал он, – если так мне кажется.
– А тебе так кажется?
– Конечно, и даже очень.
c
– Значит, одно и то же – это одно и то же, а другое – это другое? Ведь конечно же другое не может быть одним и тем же; думаю, и ребенку ясно, что другое не может не быть другим. Но ты, Дионисодор, нарочно это опустил: мне кажется, что, как мастера колдуют над тем, что им положено обработать, так и вы великолепно отрабатываете искусство рассуждения.
– А знаешь ли ты, – сказал он, – что подобает делать каждому из мастеров? И прежде всего, кому подобает ковать?
– Знаю, конечно, – кузнецу.
– А заниматься гончарным делом?
– Гончару.
– А кто должен забивать скот, свежевать и, нарубив мясо на мелкие куски, жарить его и варить?
d
– Повар, – отвечал я.
– Значит, если кто‑нибудь делает то, что ему надлежит, он поступает правильно?
– Безусловно.
– А повару, как ты утверждаешь, надлежит убой и свежевание? Признал ты это или же нет?
– Признал, – отвечал я, – но будь ко мне снисходителен.
– Итак, ясно, – заявил он, – если кто, зарезав и зарубив повара, сварит его и поджарит, он будет делать то, что ему подобает; и если кто перекует кузнеца или вылепит сосуд из горшечника, то он будет делать лишь надлежащее.
– Великий Посейдон! – воскликнул я. – Теперь ты увенчал свою мудрость! Но будет ли когда‑нибудь так, что она станет моею собственной?
e
– А признаешь ли ты ее, Сократ, – возразил он, – если она станет твоею?
– Коль ты того пожелаешь, – отвечал я, – ясно, что признаю.
– Как? – спросил он. – Ты думаешь, что знаешь свое?
– Да, если ты не возражаешь (ведь начинать нужно с тебя, а кончать вот им – Евтидемом).
302
– Итак, – сказал он, – считаешь ли ты своим то, что тебе подвластно и чем ты можешь пользоваться, как тебе угодно? Например, считаешь ли ты, что тебе принадлежит вол или мелкий скот, который ты можешь продать, подарить или принести в жертву любому из богов по выбору? И то, чем ты не можешь распорядиться подобным образом, ты ведь не считаешь своим?
А я, чувствуя, что из всех этих вопросов вынырнет нечто прекрасное, и сгорая от желания поскорее его услышать, говорю:
– Безусловно, дело обстоит именно так: только подобные вещи и могут считаться моими.
– Ну а животными, – сказал он, – ты называешь то, что имеет душу?
– Да, – отвечал я.
b
– А ты признаешь, что из животных лишь те твои, в отношении которых тебе позволено делать все то, что я сейчас перечислил?
– Признаю.
Выдержав с весьма ироническим видом паузу, как если бы он обдумывал нечто значительное, Дионисодор спросил:
– Скажи мне, Сократ, есть ли у тебя родовой Зевс?[232]
А я, заподозрив, к чему именно он клонит свою речь, сделал беспомощную попытку вывернуться, подобно дичи, пойманной в сеть, и бросил рывком:
– Нету, Дионисодор!
c
– Злополучный же ты человек и вовсе не похож на афинянина, коли у тебя нет ни родовых богов, ни святынь, ни чего‑либо другого прекрасного и достойного.
– Позволь, Дионисодор, – возразил я, – не богохульствуй и не учи меня уму‑разуму. Есть у меня и семейные, и родовые святыни и все прочее в том же роде, что имеют другие афиняне.
– Значит, у других афинян, – молвил он, – нет родового Зевса?
– Ни у кого из ионян, – отвечал я, – нет такого бога‑покровителя – ни у тех, кто выселился из нашего города, ни у нас самих; покровитель наш – Аполлон, через род Иона[233]
. Зевса же мы не именуем «Родовым», но «Оградителем» и «Фратрием», и Афину также «Фратрией»[234]
.
d
– Однако довольно, – прервал меня Дионисодор. – Похоже, что у тебя есть и Аполлон, и Зевс, и Афина.
– Несомненно, – отвечал я.
– Так разве боги эти не твои? – говорит он.
– Нет, они мои родоначальники и повелители.
– Но ведь твои же, – возразил он. – Или ты не признал, что они принадлежат тебе?
– Признал, – отвечаю. – Куда ж мне деваться?
– Но, – говорит он, – разве эти боги – не живые существа? Ведь ты признал живыми существами всех тех, кто имеет душу. А эти боги разве не имеют души?
– Имеют, – отвечал я.
e
– Значит, они – животные?
– Животные, – отвечаю.
– А из животных, – говорит он, – ты тех признал своими, которых ты волен дарить, продавать и приносить в жертву тому из богов, какому тебе заблагорассудится?
– Да, я это признал, – говорю. – Вижу, Евтидем, что нет у меня пути к отступлению.
303
– Так иди же вперед, – говорит он, – и отвечай: когда ты признаёшь, что Зевс и все остальные боги – твои, ты тем самым считаешь, что волен их продавать, дарить и всячески использовать по своему разумению, как и других животных?
А я, Критон, как бы пораженный насмерть этим рассуждением, остался безгласен. Но Ктесипп, желая прийти мне на помощь, воскликнул:
– Геракл меня побери! Да это чудо что за рассуждение!
А Дионисодор на это:
b
– Так что же, Геракл – это «тебя побери» или «тебя побери» – это Геракл? И Ктесипп отвечал:
– Великий Посейдон! Потрясающие слова! Отступаюсь: эти мужи непобедимы.
Тут уже, милый Критон, не было ни одного из присутствующих, кто бы не превозносил в похвалах этих мужей и их рассуждение: все смеялись, рукоплескали и восторгались до изнеможения. До сих пор при каждом метком слове поднимали ужасный шум лишь поклонники Евтидема, теперь же зашумели чуть ли не сами колонны Ликея, радуясь за этих двух мужей!
c
Я и сам был в таком настроении, что готов был признать, будто никогда не видывал людей столь премудрых, и, совершенно покоренный их мудростью, принялся их восхвалять и прославлять в таких словах:
«О вы, блаженно одаренные столь удивительным свойством и сумевшие выполнить столь великое дело так проворно и в такой малый срок! В ваших речах, Евтидем и Дионисодор, содержится много прекрасного, но великолепнее всего то, что вам нет никакого дела до многих людей, весьма уважаемых и, по‑видимому,
d
значительных, а вы думаете лишь о тех, кто подобен вам. Уверен, что речи вроде ваших любезны лишь немногим людям, похожим на вас, другие же о них столь низкого мнения, что, я знаю, более стыдились бы опровергать с их помощью собеседников, чем быть опровергнуты сами. Есть в ваших речах еще одна черта – дружелюбие и благожелательность: когда вы утверждаете, что не существует никаких прекрасных и достойных вещей, ничего белого и ничего другого в том же роде, да и вообще
e
никаких различий между вещами, вы просто‑напросто зашиваете людям рты (впрочем, вы и сами это признаете); но поскольку это касается не только других, но, по‑видимому, и вас самих, это становится очень приятным и крадет у ваших речей их явную непривлекательность. Самое же главное – ваши рассуждения таковы и так искусно изобретены, что в самый небольшой срок научают любого человека: я наблюдал это и на
304
примере Ктесиппа – ведь он прямо с места научился вам подражать. Это умение быстро преподать – прекрасная черта вашего ремесла, однако она неудобна для публичных выступлений с рассуждениями; если бы вы меня послушались, вы воздержались бы от речей перед толпой, а не то, быстро выучившись вашему делу, эти люди не почувствуют к вам благодарности. Лучше всего вам рассуждать между собою; если же у вас будет
b
слушатель, то пусть лишь такой, который заплатит вперед. То же самое, по зрелом размышлении, вы посоветуете и своим ученикам – никогда не вести рассуждений ни с кем из людей, кроме как с вами и между собою. Ты ведь понимаешь, Евтидем, что ценны редкие вещи, самая же дешевая вещь – вода, хоть она и превосходна, по выражению Пиндара[235]
. Но, – заключил я, – примите все же в обучение меня и нашего Клиния».
c
После этой речи, мой Критон, и краткого обмена словами мы удалились. Так смотри же начни посещать школу этих двух мужей, ведь они уверяют, что могут обучить любого, кто заплатит деньги, причем ни природные свойства, ни возраст им не помеха; а еще важнее тебе узнать, что, по их мнению, даже и деловая занятость не может служить препятствием любому с налета воспринять их премудрость.
Критон.
Конечно, Сократ, я внимательный слушатель и с радостью чему‑нибудь поучился бы, но боюсь, что я один из тех, непохожих на Евтидема, о которых ты сказал, что они с большей радостью позволяют опровергать себя подобными речами, чем сами опровергают других.
d
И хотя смешно было бы мне наставлять тебя уму‑разуму, все же я хочу сообщить тебе то, что я слышал. Знай же: один из покинувших вас после беседы подошел ко мне во время моей прогулки – муж, почитающийся весьма мудрым, из тех, кто особенно искусны в судебных речах[236]
, – и молвил:
«– Критон, ты не слушаешь этих мудрецов?
– Нет, клянусь Зевсом, – отвечал я. – Я не сумел пробиться сквозь толпу, чтобы послушать.
– И однако, – возразил тот, – стоило бы это сделать.
– Зачем же? – спрашиваю.
e
– Чтобы услышать рассуждения мужей, искуснейших ныне в такого рода речах.
А я в ответ:
– Ну а как они показались тебе?
– Да не иначе, – отвечал он, – как всегда, когда слушаешь людей подобного сорта – болтливых и придающих мнимую серьезность никчемным вещам. (Вот прямо так он мне это сказал.)
– Однако, – возразил я, – ведь милое это дело – философия.
305
– Да чем же, – говорит, – почтеннейший, оно мило? Самое никчемное дело, и, если бы ты оказался там, я уверен, тебе было бы очень стыдно за своего приятеля: уж очень он был нелеп в своем стремлении пойти в обучение к людям, совершенно не задумывающимся над своими словами и имеющим на все готовые возражения. А ведь они, как я тебе сейчас сказал, ходят нынче в сильнейших. Но, Критон, – продолжал он, – их дело – пустое, и люди, занимающиеся таким делом, пусты и смешны».
b
Мне же, Сократ, показалось, что само дело ошибочно порицают и он и другие, кто этим занимается; но он правильно порицал стремление рассуждать с такими людьми перед лицом целой толпы.
Сократ.
Ах, Критон! Удивительны подобные люди. Не знаю, что тебе и сказать. А тот, кто подошел к тебе и порицал философию, – из каких он? Из тех ли, кто искусны в судебных препирательствах, какой‑нибудь оратор, или же он сам посылает таких ораторов в суд, сочиняя для них речи, с помощью которых они участвуют в тяжбах?
Критон.
Да нет, клянусь Зевсом, он не оратор;
c
полагаю, он никогда даже не появлялся в суде. Но говорят, что он очень хорошо понимает судебное дело – клянусь Зевсом – и весьма искусные сочиняет речи.
Сократ.
Теперь понимаю. Я и сам только что хотел сказать о подобных людях. Это те, Критон, кого Продик называет пограничными между философом и политиком: они воображают себя мудрейшими из всех и
d
вдобавок весьма значительными в глазах большинства, причем никто не мешает им пользоваться у всех доброй славой, кроме тех, кто занимается философией. Поэтому они думают, что если ославят философов как людей никчемных, то уж бесспорно завоюют у всех награду за победу в мудрости. Ведь они считают себя поистине великими мудрецами, но, когда терпят поражение в частных беседах, сваливают вину за это на последователей Евтидема.
e
Естественно, что они считают себя мудрецами, ибо в меру заимствуют у философии, в меру – у политики, и делают это на вполне достаточном основании: следует‑де насколько положено приобщаться к тому и другому; при этом, оставаясь вне опасностей и споров, они пользуются плодами мудрости.
Критон.
Ну и как, Сократ? Кажется тебе, дело они говорят? Ведь в их словах есть все‑таки какая‑то видимость истины.
306
Сократ.
Но на самом деле, Критон, здесь больше видимости, чем истины. Ведь нелегко убедить их в том, что и люди, и все прочие вещи, расположенные на грани неких двух [начал] и причастные к ним обоим, когда находятся посредине между благом и злом, оказываются хуже блага и лучше зла; те, что слагаются из двух разнородных благ, хуже каждого из них в том, в отношении чего каждое из них хорошо; и лишь те, что слагаются из двух разнородных зол и расположены посредине
b
между ними, лучше каждого из двух зол, к которым они причастны. Итак, если философия – это благо и политическая деятельность – тоже, однако в различных отношениях, те, кто причастен к ним обеим и находятся посредине между ними, болтают вздор, ибо они ниже и той и другой; если же одна из них – благо, а другая – зло, то они хуже представителей одной из них и лучше представителей другой. Наконец, если и то и другое –
c
зло, то лишь в этом случае они правы, в противном же случае – никогда. Но я не думаю, чтобы они признали как то и другое злом, так и одно из них добром, а другое – злом. На самом деле, будучи причастны к тому и другому, они ниже и философии и политики во всем том, в чем та и другая заслуживают внимания, и, занимая поистине третье место, претендуют, однако, на первое. Надо простить им это поползновение и не сердиться на
d
них, однако следует считать их такими, каковы они есть: ведь нужно почитать всякого, кто заявляет, что он хоть как‑то печется о разуме, и кто мужественно проводит в жизнь свое дело.
Критон.
Но вот, Сократ, как я всегда тебе говорил, меня заботят мои сыновья, и я недоумеваю, что же мне с ними делать? Младший еще очень мал, но Критобул уже возмужал и нуждается в руководителе. И знаешь, когда я с тобой беседую, мне начинает представляться безумием, что я, во всем остальном проявив столько старания о детях – и в смысле брака, чтобы они родились от благороднейшей матери, и в отношении
e
состояния, чтобы дать им побольше средств, – о воспитании их вдруг не позабочусь! Но когда я смотрю на кого‑либо из тех, кто берется воспитывать людей, я всякий раз бываю поражен, и все они представляются мне при ближайшем рассмотрении весьма странными, так что скажу тебе откровенно: не приложу ума, как мне склонить мальчика к философии.
307
Сократ.
Милый Критон, разве тебе неведомо, что к любому делу большинство людей непригодно и ничего не стоит, серьезных же людей и во всех отношениях стоящих очень мало? Не кажутся ли тебе прекрасными делами гимнастика, торговля, риторика, стратегия?
Критон.
Конечно.
Сократ.
Ну а разве ты не замечаешь, что большинство людей, берущихся за эти дела, достойны лишь презрения?
b
Критон.
Да, клянусь Зевсом, ты говоришь сущую правду.
Сократ.
Так что ж, из‑за этого ты и сам оставишь все занятия и сыновей не будешь к ним приучать?
Критон.
Нет, Сократ, это не дело.
Сократ.
Вот, Критон, и не поступай так, как не следует, но, махнув рукой на тех, кто подвизается в философии, – достойные они люди или плохие – хорошенько попытай само дело и, если оно покажется
c
тебе негодным, отвращай от него любого, а не только своих сыновей; если же оно явится тебе таким, каким я его считаю, смело принимайся за него и в нем упражняйся, как говорится «и сам, и дети твои».
Перевод С. Я. Шейнман‑Топштейн.
В кн.: Платон. Диалоги. М.: «Мысль», 1986
VII. ГИППИЙ МЕНЬШИЙ
Евдик, Сократ, Гиппий
363
Евдик.
Ты‑то почему молчишь, мой Сократ, после столь внушительной речи Гиппия, не присоединяясь к нашим похвалам и ничего не опровергая, если что‑нибудь у него кажется тебе плохо сказанным? Да ведь и остались здесь все свои люди, посвящающие досуг усердным занятиям философией.
Сократ.
В самом деле, Евдик, я с радостью расспросил бы Гиппия о многом из того, что он сейчас поведал нам о Гомере.
b
Ведь и от твоего отца Апеманта я слыхивал, будто Гомерова «Илиада» – поэма более прекрасная, чем его «Одиссея», – настолько более прекрасная, насколько Ахилл доблестнее Одиссея: по словам Апеманта, одна из этих поэм сочинена в честь Одиссея, другая же – в честь Ахилла[237]
. И если только Гиппий к тому расположен, именно это я с удовольствием выспросил бы у него – кто из этих двух мужей кажется ему более доблестным,
c
коль скоро он явил нам множество разнообразных соображений не только о Гомере, но и относительно ряда других поэтов[238]
.
Евдик.
Ну уж ясно, что Гиппий не откажет тебе в ответе, если ты у него о чем‑либо спросишь. Послушай, Гиппий, ты ведь ответишь, если Сократ задаст тебе свой вопрос? Не правда ли?
d
Гиппий.
Было бы очень странно, Евдик, с моей стороны, если бы, прибывая всякий раз с родины, из Элиды, в Олимпию на всенародное празднество эллинов, я предоставлял себя в храме в распоряжение всякого, желающего послушать заготовленные мною образцы доказательств, и отвечал любому на его вопросы[239]
, а тут вдруг попытался бы ускользнуть от вопросов Сократа!
364
Сократ.
Блажен ты, Гиппий, если каждую Олимпиаду прибываешь в святилище столь уверенным в расположении твоей души к мудрости! Я был бы удивлен, если бы кто‑нибудь из атлетов входил туда столь же бесстрашно и с такой же уверенностью в готовности своего тела к борьбе, в какой ты, по твоим словам, пребываешь относительно своего разума.
Гиппий.
Моя уверенность, Сократ, вполне обоснованна: с тех пор как я начал участвовать в олимпийских состязаниях, я никогда ни в чем не встречал никого мне равного.
d
Сократ.
Выходит, Гиппий, что прекрасен этот дар мудрости – твоя слава – и для града элейцев и для твоих родителей! Однако что скажешь ты нам относительно Ахилла и Одиссея: который из них достойнее и в чем именно? Пока нас здесь было много и ты держал свою речь, я упустил сказанное тобою; я воздерживался от вопросов – и из‑за присутствия огромной толпы, и чтобы не перебивать твою речь своими вопросами. Теперь же, поскольку нас мало, а наш Евдик побуждает меня к вопросам, ответь и разъясни нам получше, что говорил ты об этих двух мужах? Какое различение ты здесь проводишь?
c
Гиппий.
Но, Сократ, я хочу еще яснее, чем раньше, изложить тебе свой взгляд и на них и на других мужей: я утверждаю, что Гомер изобразил самым доблестным мужем из стоявших под Троей Ахилла, самым мудрым – Нестора[240]
, а самым хитроумным – Одиссея.
Сократ.
Поразительно, Гиппий! Но не будешь ли ты так добр не смеяться надо мной, коль я с трудом усвою сказанное и буду часто тебя переспрашивать? Прошу тебя, попытайся в своих ответах быть кротким и невзыскательным.
d
Гиппий.
Позором было бы для меня, Сократ, если бы, обучая всему этому других и считая возможным брать за это деньги[241]
, я не проявил бы снисходительности к твоим вопросам и кротости в ответах.
Сократ.
Ты прекрасно сказал. Когда ты утверждал, что Ахилл изображен самым доблестным, а Нестор – мудрейшим, мне казалось, я понимаю твои слова; в но вот когда ты сказал, что поэт изобразил Одиссея как самого хитроумного, я, по правде сказать, совсем не понял, что ты имеешь в виду. Скажи же, чтобы я лучше все это постиг: разве у Гомера Ахилл не представлен хитроумным?
Гиппий.
Отнюдь, Сократ. Напротив, он изображен честнейшим простаком, особенно в «Мольбах», где, изображая их беседующими друг с другом. Гомер заставляет Ахилла сказать Одиссею:
365
Сын богоравный Лаэрта, Улисс хитроумный и ловкий!
Должен на речи твои прямым я отказом ответить, –
Что я мыслю, скажу, и что совершить полагаю;
Ибо не менее врат Аида мне тот ненавистен,
Кто на сердце таит одно, говорит же другое.
Сам я лишь то возвещу, чему неминуемо сбыться[242]
.
b
Эти слова раскрывают характер каждого из мужей, а именно правдивость Ахилла и его прямоту, а с другой стороны, многоликость и лживость Одиссея. Ведь, по Гомеру, эти слова Ахилла направлены против Одиссея.
Сократ.
Вот теперь, Гиппий, я, кажется, понимаю, что ты говоришь: ясно, что многоликого ты почитаешь лживым.
c
Гиппий.
Именно так, Сократ. Как раз таким изобразил Одиссея Гомер всюду – и в «Илиаде», и в «Одиссее».
Сократ.
Значит, Гомеру, видимо, представляется, что один кто‑то бывает правдивым, другой же – лживым, а не так, чтобы один и тот же человек был и правдив и лжив.
Гиппий.
Как же иначе, Сократ?
Сократ.
А твое собственное мнение, Гиппий, такое же?
Гиппий.
Безусловно. Было бы странно, если бы оно оказалось иным.
Сократ.
Пожалуй, оставим в покое Гомера: теперь уже невозможно его допросить, что именно он разумел, сочиняя эти стихи.
d
Но поскольку, как видно, ты становишься сам ответчиком и тебе кажется, что ты единодушен с Гомером, то и говори сразу и за Гомера и за себя.
Гиппий.
Пусть будет так; спрашивай что хочешь, только покороче.
Сократ.
Как, по‑твоему, лжецы не способны к действию – подобно больным – или они все же на что‑то способны?
Гиппий.
Я считаю их даже очень способными и весьма на многое, особенно же на обман людей.
e
Сократ.
Значит, по‑твоему, они очень способны, а также и хитроумны, или ты это мыслишь иначе?
Гиппий.
Именно так.
Сократ.
А хитроумные они обманщики по тупости и неразумию или же благодаря изворотливости и разуму?
Гиппий.
Безусловно, благодаря изворотливости и разуму.
Сократ.
Итак, похоже, что они умны.
Гиппий.
Клянусь Зевсом, даже слишком.
Сократ.
А будучи умными, они знают, что делают, или не ведают?
Гиппий.
Весьма даже ведают, потому и злоумышляют.
Сократ.
А зная то, что они знают, невежды они или мудрые?
366
Гиппий.
Они мудры в таких вот вещах – в обманах.
Сократ.
Постой. Давай припомним, что ты сказал: ты признаешь, что лжецы – люди способные, и умные, и знающие, и мудрые в своей лжи?
Гиппий.
Да, признаю.
Сократ.
А правдивые люди и лживые отличаются друг от друга и во всем друг другу противоположны?
Гиппий.
Да, таково мое мнение.
Сократ.
Послушай же: лжецы, согласно твоему утверждению, относятся к людям способным и мудрым
Гиппий.
Несомненно.
b
Сократ.
А когда ты утверждаешь, что лжецы способны и мудры в одном и том же, ты разумеешь, что они способны лгать, когда им угодно (относительно того, в чем они лгут), или что они не способны на то, в чем они лгут?
Гиппий.
Я утверждаю, что они на это способны.
Сократ.
Итак, если это обобщить, можно сказать, что лжецы – люди способные и мудрые в лжи.
Гиппий.
Да.
Сократ.
А человек невежественный и неспособный лгать, значит, не будет лжецом?
Гиппий.
Конечно же.
Сократ.
Следовательно, способный человек – это каждый, кто может делать то, что ему угодно, если это ему угодно?
c
Я не говорю об избавлении себя от болезни или о других подобных вещах, но о том, что ты, например, способен, когда захочешь, написать мое имя. Разве не такого рода людей называешь ты способными?
Гиппий.
Да, таких.
Сократ.
Скажи же мне, Гиппий, разве ты не опытен в вычислениях и искусстве счета?
Гиппий.
И даже очень опытен, Сократ[243]
.
Сократ.
Значит, если кто спросит тебя, сколько будет трижды семьсот, ты, если пожелаешь, быстрее и лучше всех дашь правильный ответ?
d
Гиппий.
Конечно.
Сократ.
Потому, следовательно, что ты в этом деле самый способный и мудрый?
Гиппий.
Да.
Сократ.
Ты только самый мудрый и способный или и наиболее достойный человек в том, в чем ты способнейший и мудрейший, – в искусстве счета?
Гиппий.
Конечно же, Сократ, и наиболее достойный.
Сократ.
Значит, именно тебе легче всех промолвить истину в этом деле? Ведь так?
Гиппий.
Я полагаю, да.
e
Сократ.
Ну а как же относительно лжи в том же самом деле? Ответь мне, как и раньше, Гиппий, честно и откровенно: если кто спросил бы тебя, сколько будет трижды семьсот, а ты пожелал бы лгать и ни за что не отвечать правду, ты ли солгал бы лучше других и продолжал бы постоянно лгать насчет этого, если желал бы лгать и ни в коем случае не отвечать правду, или же невежда в искусстве счета сумел бы солгать лучше тебя, намеренно лгущего?
367
И не выйдет ли случайно, что часто невежда, желая солгать, невольно выскажет истину благодаря своему невежеству, – ты же, мудрец, собираясь лгать, всегда будешь лгать на один манер?
Гиппий.
Да, получится так, как ты говоришь.
Сократ.
Ну а лжец является лжецом во всем прочем, кроме числа, и не лжет, когда он ведет подсчет?
Гиппий.
Нет, клянусь Зевсом, лжет и в подсчете.
Сократ.
Значит, мы допустим, Гиппий, что бывает лжец и в деле подсчета чисел?
b
Гиппий.
Да, это так.
Сократ.
Но кто же это будет такой? Коль скоро он хочет явиться лжецом, не должна ли ему по необходимости быть присуща и способность лгать, как ты это недавно признал? Если ты припоминаешь, согласно твоим же словам, человек, не способный лгать, вроде бы и не может оказаться лжецом.
Гиппий.
Да, припоминаю, я так сказал.
Сократ.
А разве не оказался ты недавно самым способным на ложь при подсчетах?
Гиппий.
Да, сказал я также и это.
c
Сократ.
Но, следовательно, ты и больше других способен говорить правду при вычислениях?
Гиппий.
Конечно.
Сократ.
Значит, один и тот же человек способен лгать и говорить правду при вычислениях? И таким человеком является тот, кто силен в подсчетах – знаток этого дела.
Гиппий.
Да.
Сократ.
Так кто же иной, Гиппий, оказывается лжецом при подсчетах, если не тот, кто в этом достоин и силен? Он же является и способным, и он же – правдивым.
Гиппий.
Это очевидно.
Сократ.
Вот ты и видишь, что правдивый человек и лжец – это в деле вычисления одно и то же, и первый из них ничуть не лучше второго.
d
Ведь это один и тот же человек, и нет тут такой противоположности, как ты думал недавно.
Гиппий.
В этом деле, как видно, нет.
Сократ.
Хочешь, рассмотрим это для дел и иного рода?
Гиппий.
Что ж, если тебе угодно.
Сократ.
Ведь ты, конечно, сведущ и в геометрии?[244]
Гиппий.
Да, разумеется.
Сократ.
Ну что ж, не так ли все обстоит и в геометрии? Разве не один и тот же человек способнее всех и на ложь и на правду относительно чертежей, а именно знаток геометрии?
Гиппий.
Да, это так.
e
Сократ.
А достойным человеком в этом деле является он или кто‑то другой?
Гиппий.
Нет, именно он.
Сократ.
Следовательно, достойный и мудрый геометр – способнейший из всех и на ложь и на правду? И уж если кто лжет относительно чертежей, это ведь будет он – тот, кто является достойным геометром? Ведь он же способен, а плохой геометр не способен лгать, а кто не способен лгать, тот не окажется лжецом, как мы уже согласились.
Гиппий.
Это правда.
Сократ.
Давай же рассмотрим и третьего знатока – астронома: ведь в этом искусстве ты считаешь себя еще более сведущим, чем в двух предыдущих, не так ли, Гиппий?
368
Гиппий.
Да.
Сократ.
Значит, и в астрономии дело обстоит таким же образом, как и там?
Гиппий.
Похоже, что так.
Сократ.
Ив астрономии, следовательно, если кто вообще лжив, он‑то и будет хорошим лжецом как знаток астрономии, раз он способен лгать; не способный же – не сможет: ведь он невежда.
Гиппий.
Это очевидно.
Сократ.
Значит, и в области астрономии правдивый человек и лжец будет одним и тем же.
Гиппий.
Очевидно, да.
b
Сократ.
Так вот, Гиппий, рассмотри таким же образом, без обиняков, все науки и убедись в том, что ни в одной из них дело не обстоит иначе. Ты ведь вообще мудрейший из всех людей в большей части искусств: слыхал я однажды, как ты рассыпался у лавок на площади[245]
, похваляясь своей достойной зависти многомудростью. Ты говорил, что, когда однажды прибыл в Олимпию, все твое тело было украшено изделиями твоих собственных рук, и прежде всего начал ты с перстня, сказав, что это вещь твоей работы, поскольку ты владеешь искусством резьбы по камню;
c
и другая печатка оказалась твоим изделием, а также скребок и флакончик для масла[246]
– будто ты сработал их сам; потом ты сказал, что свои сандалии на ремнях ты собственноручно вырезал из кожи, а также скроил свой плащ и короткий хитон. Но что уж всем показалось весьма необычным и знаком высокой мудрости, так это твое заявление, будто ты сам сплел свой поясок для хитона, хотя такие пояса обычно носят богатые персы.
d
Вдобавок ты заявил, что принес с собою поэмы, эпические стихи, трагедии и дифирамбы и много нестихотворных, на разнообразный лад сочиненных речей. И по части тех искусств, о которых я только что говорил, ты явился превосходящим всех остальных своим знанием, да и самым искусным в науке о ритмах и гармониях, а также в правописании; и то же самое во многих других искусствах, насколько могу я припомнить… Да! Я совсем было позабыл о твоей преискусной памяти: ты ведь считаешь себя в этом самым блистательным из людей[247]
.
e
Возможно, я забыл и о многом другом. Однако я повторяю: попробуй, бросив взгляд на свои собственные искусства – их ведь немало, – а также на умения других людей, сказать мне, найдешь ли ты, исходя из того, в чем мы с тобой согласились, хоть одно, где бы правдивый человек и лжец подвизались отдельно друг от друга и не были бы одним и тем же лицом? Ищи это в любом виде мудрости, хитрости или как тебе это еще будет угодно назвать – не найдешь, мой друг! Ведь этого не бывает. А коли найдешь, скажи сам.
369
Гиппий.
Да нет, Сократ, сейчас не найдусь, что сказать.
Сократ.
Ну так не найдешься и впредь, как я полагаю. Если я прав, припомни, Гиппий, что вытекает из нашего рассуждения.
Гиппий.
Не очень‑то я могу уразуметь, Сократ, о чем ты толкуешь.
Сократ.
Быть может, именно сейчас ты забыл о своей изобретательной памяти: видно, ты считаешь, что это здесь неуместно. Но я напомню тебе: ты же знаешь, что ты сказал об Ахилле, будто он правдив, об Одиссее же, что он лжив и многолик.
b
Гиппий.
Да.
Сократ.
Теперь же, как ты сам чувствуешь, выявилось, что правдивый и лжец – это одно и то же лицо[248]
, так что если Одиссей был лжецом, то он же и выходит правдивым, а если Ахилл был правдивым, то он же оказывается лжецом, и эти мужи не различны между собой и не противоположны друг другу, но одинаковы.
Гиппий.
Ну, Сократ, вечно ты сплетаешь какие‑то странные рассуждения и, выбирая в них самое трудное, цепляешься к мелочам, а не опровергаешь в целом положение, о котором идет речь.
c
Вот и сейчас, если желаешь, я приведу тебе достаточно веское доказательство, подкрепленное множеством доводов, в пользу того, что Гомер изобразил Ахилла как человека лучшего, чем Одиссей: он не умеет лгать, Одиссей же – хитер, без конца лжет и как человек гораздо хуже, чем Ахилл. Если же хочешь, противопоставь свою речь моей и докажи, что Одиссей более достойный человек, чем Ахилл; тогда все вокруг скорее поймут, кто из нас двоих красноречивей.
d
Сократ.
Гиппий, я ведь не сражаюсь с тобой и не оспариваю того, что ты мудрее меня; но по всегдашней своей привычке я, когда кто что‑либо говорит, стараюсь вдуматься в это, особенно если говорящий кажется мне мудрецом; стремясь понять, что он говорит, я исследую, пересматриваю и сопоставляю его слова с целью познания. Если же говорящий кажется мне невеждой, я не переспрашиваю его, и нет мне дела до того, что он говорит. Из этого ты поймешь, каких людей я считаю мудрыми.
e
Ты увидишь, что я бываю очень дотошен в отношении речей подобного человека и выспрашиваю его, чтобы извлечь таким образом полезное знание. Вот и теперь, слушая тебя, я подумал насчет прочтенных тобою недавно стихов, которые должны были показать, что Ахилл порицает Одиссея как пустого бахвала (если только ты верно это толкуешь): странно, но мне кажется, что как раз изворотливый Одиссей всегда правдив,
370
Ахилл же изворотлив – в твоем понимании: ведь именно он лжет. Произнеся сперва те слова, которые ты недавно привел: Ибо не менее врат Аида мне тот ненавистен,
Кто на сердце таит одно, говорит же другое[249]
,
он немного погодя заявляет, что Одиссею и Агамемнону его не убедить и что он не намерен оставаться у Трои, но
b
Завтра, принесши Зевесу и всем небожителям жертвы,
Я корабли нагружу и спущу их на волны морские.
Если желаешь и если до этого есть тебе дело,
Рано с зарей ты увидишь, как рыбным они Геллеспонтом
Вдаль по волнам побегут под ударами сильными весел.
Если счастливое плаванье даст мне земли колебатель,
В третий уж день я прибуду в мою плодородную Фтию[250]
.
c
А еще раньше, браня Агамемнона, он говорил: Еду теперь же во Фтию! Гораздо приятней вернуться
На кораблях изогнутых домой. Посрамленный тобою
Не собираюсь тебе умножать здесь богатств и запасов![251]
d
И, сказав это в первый раз перед лицом всего войска, а затем в кругу своих друзей, он, как это становится ясным, не делает никаких приготовлений к отплытию домой и даже попыток спустить корабли на воду, выразив тем самым великолепнейшее пренебрежение к необходимости говорить правду. Так вот, Гиппий, я с самого начала спрашивал тебя, потому что недоумевал, который из этих двух мужей изображен у поэта достойнейшим,
e
и считал, что оба они в высшей степени достойные люди и трудно различить, кто из них лучше в правде и лжи и в любой способности: ведь оба они во всем этом чрезвычайно между собою сходны.
Гиппий.
Твой взгляд неверен, Сократ: ведь Ахилл лжет, как это очевидно, не умышленно, но невольно; он вынужден остаться из‑за бедственного положения своего войска, чтобы ему помочь. Одиссей же лжет добровольно и с умыслом.
Сократ.
Ты вводишь меня в заблуждение, Гиппий, беря тем самым пример с Одиссея.
371
Гиппий.
Вот уж нет, Сократ; скажи, в чем и ради чего я тебя обманываю?
Сократ.
В том, что уверяешь, будто Ахилл лжет без умысла – это он‑то, завзятый обманщик, столь нацеленный на похвальбу (как его изобразил Гомер), что оказывается гораздо более ловким, чем Одиссей, от которого он легко утаивает свое хвастовство; он осмеливается прямо противоречить самому себе, а Одиссею это и невдомек. По крайней мере слова Одиссея, обращенные к Ахиллу, ничем не выдают понимания Ахилло‑вой лжи.
b
Гиппий.
Что ты имеешь в виду, Сократ?
Сократ.
Разве тебе не известно, что после разговора с Одиссеем, когда он уверял, что намерен отплыть на заре, Аяксу он сообщает совсем другое, вовсе не подтверждая, что собирается отплывать?
Гиппий.
В каком это месте?
Сократ.
А там, где он говорит:
c
Думать начну я о битве кровавой, скажите, не раньше,
Чем крепкодушным Приамом рожденный божественный Гектор
К нашему стану придет и к черным судам Мирмидонским,
Смерть аргивянам неся и огнем корабли истребляя.
Здесь же, у ставки моей, пред моим кораблем чернобоким,
Думаю, Гектор от боя удержится, как ни желал бы[252]
.
d
Так неужели же ты, Гиппий, считаешь сына Фетиды и воспитанника премудрого Хирона[253]
настолько лишенным памяти, что, лишь недавно жестоко выбранив лицемеров, он теперь Одиссею говорит, будто намерен отплыть, Аяксу же – что он остается, и все это – словно без умысла и вовсе не потому, что он считает Одиссея простаком, а себя – далеко превосходящим его во всех этих штуках, в кознях и лжи?
e
Гиппий.
Нет, Сократ, я так не думаю: здесь, переубежденный, он простодушно говорит Аяксу не совсем то, что до того говорил Одиссею. А вот Одиссей и правду и ложь произносит всегда с умыслом.
Сократ.
Выходит, Одиссей – человек более достойный, чем Ахилл.
Гиппий.
Ну уж нет, Сократ, отнюдь.
Сократ.
Как же так? Разве не выяснилось недавно, что добровольно лгущие лучше, чем обманывающие невольно?
Гиппий.
Но каким же образом, Сократ, добровольные нечестивцы, злоумышленники и преступники могут быть достойнее невольных?
372
Ведь этим последним оказывается обычно большое снисхождение, коль скоро они учинят какое‑то зло – несправедливость или ложь – но неведению? Да и законы куда более суровые существуют для сознательных преступников и лжецов, чем для невольных.
Сократ.
Вот видишь, Гиппий, я говорю правду, когда утверждаю, что бываю очень назойлив, расспрашивая мудрецов.
b
Это, смею сказать, единственное мое достоинство, ведь прочие мои качества ничего не стоят. По существу вопроса я обычно колеблюсь, не зная, как оно обстоит на самом деле. Об этом достаточно свидетельствует то, что когда я оказываюсь лицом к лицу с кем‑либо из вас, прославленных мудростью, свидетели которой – все эллины, то кажется, будто я круглый неуч: ведь я решительно ни в чем с вами, скажем прямо, не соглашаюсь, а какое может быть более сильное доказательство невежества, чем расходиться в мнениях с мудрыми мужами?
c
Но есть у меня и чудесное преимущество, которое меня выручает: я не стыжусь учиться, я выспрашиваю и выведываю и питаю великую благодарность к тому, кто мне отвечает, и никто не бывает у меня этой благодарностью обойден. Вдобавок я никогда не отрицал, что был чему‑то научен, и не делал вид. будто это мое собственное изобретение; наоборот, я всегда прославляю своего учителя как мудреца и объявляю во всеуслышание, чему я от него научился.
d
Вот и сейчас я не согласен с тем, что ты утверждаешь, и весьма сильно расхожусь с тобою во мнении. Я отлично понимаю, что дело тут во мне самом, ибо я таков, каков я есть, говорю это без всяких преувеличений. Ведь мое представление, Гиппий, прямо противоположно твоему: те, кто вредят людям, чинят несправедливость, лгут, обманывают и совершают проступки по своей воле, а не без умысла, – люди более достойные, чем те, кто все это совершает невольно[254]
.
e
Правда, иногда у меня возникает противоположное мнение и я блуждаю вокруг да около, видимо, по неведению, но вот сейчас на меня сошло как бы наитие и мне представляется, что люди, добровольно совершающие какие‑либо проступки, лучше, чем те, кто вершат их невольно. Виню же я в этом своем состоянии наши прежние рассуждения, из‑за которых мне теперь кажется, что люди, совершающие все это невольно, хуже тех, кто действуют добровольно. Так уж будь столь любезен и не откажи исцелить мою душу;
373
ибо, искоренив невежество моей души, ты сотворишь мне гораздо большее благо, чем если бы ты излечил болезнь моего тела. Но если ты собираешься произнести длинную речь, предупреждаю тебя – ты меня не исцелишь, ибо я за нею не услежу; если же ты, как перед этим, захочешь отвечать на мои вопросы, ты великую принесешь мне пользу, себе же, я полагаю, не повредишь. Честно говоря, должен я обратиться и к тебе, сын Апеманта: ведь это ты подвигнул меня на беседу с Гиппием; и теперь, если Гиппий не пожелает мне отвечать, заступись перед ним за меня.
b
Евдик.
Но, Сократ, я думаю, что Гиппий не нуждается в нашей просьбе: ведь его прежние слова не имели такого смысла, наоборот, он заявил, что не собирается уклоняться от чьих бы то ни было вопросов. Послушай, Гиппий! Разве не так ты сказал?
Гиппий.
Да, именно так. Но, Евдик, ведь Сократ всегда мутит воду при рассуждениях вроде какого‑то злоумышленника.
Сократ.
Достойнейший Гиппий! Я делаю это без умысла – ведь тогда бы я был мудр и искусен по смыслу твоих утверждений – и невольно, так что будь ко мне снисходителен: ведь ты говоришь, что к невольному злоумышленнику надо иметь снисхождение.
c
Евдик.
Да, ни в коем случае не поступай иначе, Гиппий, но и ради нас и ради подтверждения своих прежних слов отвечай на вопросы Сократа.
Гиппий.
Я и буду отвечать, раз ты просишь. Спрашивай же, что тебе угодно.
Сократ.
Я горячо желаю, Гиппий, рассмотреть то, что было сейчас сказано: кто достойнее – те, кто совершают проступки добровольно или невольно? И я думаю, что к этому рассмотрению правильнее всего приступить так… Отвечай же: называешь ли ты какого‑либо бегуна хорошим?
d
Гиппий.
Да, конечно.
Сократ.
Или же скверным?
Гиппий.
Да.
Сократ.
Значит, бегущий хорошо – хороший бегун, а бегущий плохо – плохой?
Гиппий.
Да.
Сократ.
И значит, бегущий медленно бежит плохо, а бегущий быстро – хорошо?
Гиппий.
Да.
Сократ.
Следовательно, в беге и в умении бегать быстрота – это благо, а медлительность – зло?
Гиппий.
Как же иначе?
Сократ.
Так лучшим бегуном будет тот, кто бежит медленно с умыслом или невольно?
Гиппий.
Тот, кто с умыслом.
Сократ.
А разве бежать не значит что‑то делать?
Гиппий.
Конечно, значит.
Сократ.
А если делать, то и совершать?
e
Гиппий.
Да.
Сократ.
Следовательно, тот, кто скверно бежит, совершает в беге дурное и постыдное дело?
Гиппий.
Конечно, дурное. Как же иначе?
Сократ.
А тот, кто бежит медленно, бежит скверно?
Гиппий.
Да.
Сократ.
Значит, хороший бегун совершает это скверное и постыдное дело добровольно, а дурной – невольно?
Гиппий.
Похоже, что так.
Сократ.
Следовательно, в беге хуже тот, кто совершает скверное дело невольно, чем тот, кто вершит его добровольно?
Гиппий.
В беге – да.
374
Сократ.
А как же в борьбе? Кто будет лучший борец: тот, кто падает с умыслом, или тот, кто невольно?
Гиппий.
Похоже, тот, кто с умыслом.
Сократ.
А что в борьбе хуже и постыднее – упасть или повергнуть противника?
Гиппий.
Упасть.
Сократ.
И в борьбе, следовательно, тот, кто добровольно совершает дурное и постыдное дело, является лучшим борцом, чем тот, кто это вершит невольно.
Гиппий.
Похоже, что так.
Сократ.
А как же в любом другом телесном занятии? Разве тот, кто крепче телом, не может выполнять оба дела –
b
дело сильного и дело слабого, то, что постыдно, и то, что прекрасно? И когда совершается что‑то постыдное для тела, тот, кто покрепче телом, совершает это добровольно, а тот, кто хил, – невольно?
Гиппий.
Как будто и в отношении силы дело обстоит таким образом.
Сократ.
Ну а насчет благообразия как обстоит дело, Гиппий? Разве не так, что более красивому телу свойственно добровольно принимать постыдные и безобразные обличья, более же безобразному – невольно? Или ты думаешь иначе?
Гиппий.
Нет, именно так.
c
Сократ.
Следовательно, умышленное безобразие следует приписать достоинству тела, а невольное – его пороку?
Гиппий.
Это очевидно.
Сократ.
А что ты скажешь относительно голоса? Какой голос ты назовешь лучшим – фальшивящий умышленно или невольно?
Гиппий.
Умышленно.
Сократ.
А более негодным – тот, что фальшивит невольно?
Гиппий.
Да.
Сократ.
Ну а что бы ты предпочел иметь – хорошее или негодное?
Гиппий.
Хорошее.
Сократ.
Так ты предпочел бы иметь ноги, хромающие нарочно или же поневоле?
d
Гиппий.
Нарочно.
Сократ.
А хромота – разве это не безобразный порок?
Гиппий.
Да.
Сократ.
Пойдем дальше: подслеповатость – разве это не порок глаз?
Гиппий.
Да.
Сократ.
Какие же ты предпочел бы иметь и какими пользоваться глазами – теми, что умышленно щурятся и косят или же невольно?
Гиппий.
Теми, что умышленно.
Сократ.
Значит, ты считаешь лучшим для себя добровольно совершаемое зло, а не то, что вершится невольно?
Гиппий.
Да, если это зло такого рода.
Сократ.
Но разве все органы чувств – уши, ноздри, рот и другие – не подчинены одному и тому же определению, гласящему, что те из них, кои невольно вершат зло, нежелательны, ибо они порочны, те же, что вершат его добровольно, желанны, ибо они добротны?
e
Гиппий.
Мне кажется, это так.
Сократ.
Ну а какими орудиями лучше действовать – теми, с помощью которых можно добровольно действовать дурно, или теми, которые толкают на дурное поневоле? Например, какое кормило лучше – то, которым приходится дурно править поневоле, или то, с помощью которого неверное направление избирается добровольно?
Гиппий.
То, с помощью которого это делается добровольно.
Сократ.
И разве не так же точно обстоит дело с луком и лирой, с флейтами и со всем остальным?
Гиппий.
Ты говоришь правду.
375
Сократ.
Ну а что касается норова лошади – будет ли он лучше, если кто из‑за него станет скверно наездничать добровольно или же поневоле?
Гиппий.
Если добровольно.
Сократ.
Значит, такой норов лошади лучше.
Гиппий.
Да.
Сократ.
Значит, с лошадью менее норовистой ты дела, зависящие от ее норова, будешь добровольно совершать дурно, а с лошадью более норовистой – поневоле?
Гиппий.
Конечно же.
Сократ.
Не так же ли обстоит дело и с нравом собак и всех прочих животных?
Гиппий.
Так.
Сократ.
Ну а у человека – например, у стрелка – какая душа кажется тебе достойнее – та, что добровольно не попадает в цель, или та, что невольно?
b
Гиппий.
Та, что не попадает в цель добровольно.
Сократ.
Значит, такая душа лучше в стрелковом деле?
Гиппий.
Да.
Сократ.
А душа, промахивающаяся невольно, хуже той, что делает это добровольно?
Гиппий.
В стрелковом деле – да.
Сократ.
А во врачебном? Разве душа, добровольно причиняющая телу зло, не более сведуща в искусстве врачевания?
Гиппий.
Да, более.
Сократ.
Значит, такая душа более искусна, чем та, что не сведуща?
Гиппий.
Да, более искусна.
c
Сократ.
Ну а если душа весьма искушена в игре на кифаре и флейте и во всех других искусствах и науках, то разве та, что искушена в них больше, не добровольно погрешает в этом, совершая дурное и постыдное, а та, что менее искушена, разве не совершает это невольно?
Гиппий.
Очевидно.
Сократ.
Итак, мы бы, конечно, предпочли, чтобы рабы наши имели души, добровольно погрешающие и вершащие зло, а не невольно, ибо души эти более искушены в подобных делах.
Гиппий.
Да.
Сократ.
Что же, а собственную свою душу разве не желали бы мы иметь самую лучшую?
Гиппий.
Да.
d
Сократ.
И значит, лучше будет, если она добровольно будет совершать зло и погрешать, а не невольно?
Гиппий.
Однако чудно бы это было, Сократ, если бы добровольные злодеи оказались лучшими людьми, чем невольные.
Сократ.
Но это вытекает из сказанного.
Гиппий.
По‑моему, это неверно.
Сократ.
А я думаю, Гиппий, что и тебе это кажется верным. Ответь же мне снова: справедливость не есть ли некая способность или знание[255]
или то и другое вместе? Ведь необходимо, чтобы она была чем‑то таким?
Гиппий.
Да.
e
Сократ.
А ведь если справедливость – это способность души, то более способная душа будет и более справедливой: такая душа, милейший, оказалась у нас достойнее.
Гиппий.
Да, оказалась.
Сократ.
Ну а если справедливость есть знание? Разве более мудрая душа – не более справедливая, а более невежественная – не менее справедливая?
Гиппий.
Это так.
Сократ.
Ну а если справедливость – и то и другое? Разве не так обстоит дело, что, обладая и знанием и способностью, душа бывает более справедливой, невежественная же душа – менее? Ведь это же неизбежно.
Гиппий.
Да, очевидно.
Сократ.
Так ведь душа более способная и мудрая оказывается лучшей и более способной совершать и то и другое – прекрасное и постыдное – в любом деле?
376
Гиппий.
Да.
Сократ.
Следовательно, когда она совершает нечто постыдное, она делает это добровольно, с помощью способности и искусства? А последние, по‑видимому, присущи справедливости – оба или каждое порознь?
Гиппий.
Похоже, что так.
Сократ.
Ведь чинить несправедливость – значит поступать плохо, а не чинить ее – хорошо?
Гиппий.
Да.
Сократ.
Итак, более способная и достойная душа, когда она чинит несправедливость, чинит ее добровольно, а недостойная душа – невольно?
Гиппий.
Это очевидно.
b
Сократ.
И достойный человек – это тот, кто имеет достойную душу, скверный же человек имеет душу недостойную?
Гиппий.
Да.
Сократ.
Итак, достойному человеку свойственно чинить несправедливость добровольно, а недостойному – невольно, коль скоро достойный человек имеет достойную душу?
Гиппий.
Да ведь он же ее имеет.
Сократ.
Следовательно, Гиппий, тот, кто добровольно погрешает и чинит постыдную несправедливость – если только такой человек существует, – будет не кем иным, как человеком достойным.
Гиппий.
Трудно мне, Сократ, согласиться с тобою в этом.
c
Сократ.
Да я и сам с собой здесь не согласен, Гиппий, но все же это с необходимостью вытекает из нашего рассуждения. Однако, как я говорил раньше, я блуждаю в этом вопросе вокруг да около и никогда не имею одинакового мнения на этот счет. Правда, не удивительно, что я или другой какой‑либо обычный человек здесь находится в заблуждении. Но уж если вы, мудрецы, станете тут блуждать, это и для нас ужасно, раз мы даже с вашей помощью не можем избавиться от ошибки.
Перевод С. Я. Шейнман‑Топштейн.
В кн.: Платон. Диалоги. М.: «Мысль», 1986
VIII. АЛКИВИАД I
Сократ, Алкивиад
103
Сократ.
Сын Клиния[256]
, я полагаю, ты дивишься тому, что я, став первым твоим поклонником, продолжаю оставаться им и теперь, когда другие от тебя отвернулись, а также и тому, что тогда как все прочие досаждали тебе своими беседами, я в течение стольких лет не сказал тебе ни единого слова. Причина тому была не человеческого, но божественного свойства[257]
; позже ты сможешь оценить ее значение. Но теперь, когда она больше не служит препятствием, я пришел к тебе: я полон
b
надежды, что и впредь это препятствие не возникнет. Все это время я примечал, как ты ведешь себя по отношению к твоим поклонникам: сколь много их ни было и как ни были они заносчивы, не было среди них ни одного, которого ты не отвадил бы своей высокомерной гордыней. Причину твоего высокомерного превосходства
104
я тебе сейчас объясню. Ты утверждаешь, что тебе не нужен никто из людей: мол, присущее тебе величие – как телесное, так и душевное – таково, что ты ни в ком не нуждаешься. Ты считаешь, что ты – первый среди людей по красоте и росту, причем для каждого очевидно, что это правда. Далее, по твоему мнению, ты происходишь из самого отважного рода в своем городе, самом великом из греческих городов, и потому у тебя есть по отцу множество достойнейших друзей и сородичей,
b
которые в случае нужды придут тебе на помощь, и не меньшее число столь же достойных родственников по матери. Самый же сильный из них покровитель, как ты считаешь, – Перикл, сын Ксантиппа, коего твой отец оставил после себя вашим опекуном – твоим и твоего брата[258]
: ведь он не только в этом городе волен вершить все, что захочет, но и по всей Элладе и среди многочисленных и могущественных варварских племен. Добавлю
c
еще, что ты – из богатых; впрочем, как кажется, это менее всего питает твою гордыню. Чванясь всем этим, ты подавил своих поклонников, а они, будучи послабее, признали свое поражение. Для тебя это не прошло незамеченным. Поэтому я уверен, что ты удивляешься настроению, мешающему мне отречься от моей любви, и спрашиваешь себя, на что глядя я сохраняю твердость там, где все остальные бежали.
b
Алкивиад.
Но, быть может, тебе невдомек, Сократ, что ты лишь чуточку меня упредил: я ведь еще раньше предполагал подойти к тебе и спросить, что тебе от меня надо и чего ради ты меня не оставляешь в покое, преследуя меня на каждом шагу. Ведь и в самом деле я дивлюсь, какое у тебя ко мне дело, и с величайшей охотой получил бы ответ на этот вопрос.
Сократ.
Значит, можно предполагать, что ты со вниманием меня выслушаешь, коль скоро, как ты говоришь, тебе желательно узнать мои намерения: слова мои будут обращены к терпеливому слушателю.
Алкивиад.
Несомненно. Говори.
c
Сократ.
Смотри же, пусть тебе не покажется удивительным, если, с трудом начав этот разговор, я с таким же трудом его и окончу.
Алкивиад.
Говори же, почтеннейший; я готов тебя выслушать.
Сократ.
Пусть будет так. Нелегкое это дело – объясняться в любви человеку, ни в чем не уступающему своим поклонникам; однако надо решиться и изложить тебе мои намерения. Если бы я, мой Алкивиад, видел, что ты привержен ко всему тому, что я только что
105
перечислил, и намерен продолжать жить так и дальше, я давно бы простился со своей влюбленностью, по крайней мере я в это верю. Но я хочу доказать тебе самому, что у тебя совсем другие замыслы, и ты увидишь из этого, насколько внимательно я все это время за тобою следил. Мнится мне, что если бы кто‑нибудь из богов тебе рек: «Алкивиад, желаешь ли ты жить тем, чем жил прежде, или предпочел бы тотчас же умереть, коль скоро не сможешь рассчитывать в жизни на большее?» – ты избрал бы смерть. И я скажу тебе сейчас, в какой надежде ты продолжаешь жить. Ты полагаешь, что если
b
вскорости выступишь перед афинским народом – а это предстоит в самый короткий срок, – ты сумеешь ему доказать, что достоин таких почестей, каких не удостаивался ни Перикл и никто из его предшественников; доказав это, ты ооретешь великую власть в городе, а уж коли здесь, то и во всей Элладе ты станешь самым могущественным, да и не только среди эллинов, но и среди варваров, обитающих на одном с нами материке[259]
. А если бы тот же самый бог сказал, что тебе следует править лишь здесь, в Европе, в Азию же тебе путь закрыт и ты
c
не предназначен для тамошних дел, то. думаю я, жизнь была бы тебе не в жизнь на этих условиях, коль скоро ты не сможешь, так сказать, заполонить своим именем и могуществом все народы. Я полагаю, ты не считаешь достойным упоминания никого, кроме Кира и Ксеркса[260]
. А что ты питаешь такую надежду, я не предполагаю. но точно знаю. Быть может, сознавая, что я говорю правду, ты спросишь: «Какое отношение имеет это. Сократ, к тому. что ты собирался мне сказать о твоей
d
неотступной привязанности ко мне?» Я же тебе отвечу: «Милый сын Клиния и Дпномахи, без меня невозможно осуществить все эти твои устремления: такова моя власть, как я думаю, над твоими делами и тобою самим. Потому‑то, полагаю я, бог и запретил мне беседовать с тобой, и я ожидал на это его дозволения. Но поскольку ты лелеешь надежду доказать городу свое право на всевозможные почести, а доказав это, тотчас же забрать в свои руки власть, то и я надеюсь получить при тебе величайшую власть, доказав, что представляю собой для тебя весьма ценного человека, вплоть до того, что ни твой
e
опекун[261]
, ни твои родичи и никто другой не может обеспечить тебе желанного могущества, кроме меня, – но, конечно, с помощью бога. А так как ты был очень юн и еще не обременен такими надеждами, то бог, как я думаю, запрещал мне с тобой разговаривать, чтобы не сказать тебе что‑то впустую. Ныне же он разрешил меня
106
от запрета[262]
, и теперь ты меня послушаешь».
Алкивиад.
Мой Сократ, ты кажешься мне гораздо более странным теперь, когда ты со мной заговорил, чем раньше, когда молча за мною следовал, хотя и тогда ты казался мне весьма необычным. Ты уже разобрался, как кажется, в моих замыслах – лелею я их или нет, и если я с тобой и не соглашусь, я все равно не сумею тебя разубедить. Что ж, пусть. Но если бы я и действительно питал подобные замыслы, каким образом они осуществятся у меня с твоей помощью и не получат свершения без тебя? Можешь ты мне это объяснить?
b
Сократ.
Ты спрашиваешь, могу ли я произнести длинную речь – в том роде, как ты привык слушать?[263]
Но такая речь не в моем духе. Однако, думаю, я мог бы тебе доказать, что дело обстоит именно таким образом, если только ты в одной малости придешь мне на помощь.
Алкивиад.
Коли то, о чем ты просишь, не трудно, я готов.
Сократ.
Что же, тебе кажется трудным отвечать на вопросы?
Алкивиад.
Нет, не кажется.
Сократ.
Так отвечая же.
Алкивиад.
А ты спрашивай.
Сократ.
Значит, я буду задавать тебе вопросы так, как если бы ты в самом деле замышлял то, о чем я сейчас говорил?
c
Алкивиад.
Да, если тебе так угодно; хотел бы я знать, каковы будут твои вопросы.
Сократ.
Ну что ж. Я утверждаю, что ты намерен в самый короткий срок выступить перед афинянами со своими советами. Итак, если бы в тот миг, как ты собирался взойти на трибуну, я остановил бы тебя и спросил: «Алкивиад, о чем же собираются совещаться афиняне, что ты намерен давать им советы? Видимо, о вещах, известных тебе лучше, чем им?» – что бы ты мне ответил?
d
Алкивиад.
Я конечно же сказал бы, что о вещах, более известных мне, чем им.
Сократ.
Следовательно, ты способен быть хорошим советчиком в вещах, кои ты знаешь?
Алкивиад.
Как же иначе?
Сократ.
А знаешь ты только то, чему научился от других или открыл сам?
Алкивиад.
Что же еще мог бы я знать?
Сократ.
Но возможно ли, чтобы ты выучился чему‑либо или что‑то открыл, не желая учиться или заниматься сам поиском?
Алкивиад.
Нет, невозможно.
Сократ.
Ну а желал бы ты искать то, что ты, по твоему мнению, уже знаешь, или учиться таким вещам?
Алкивиад.
Конечно, нет.
e
Сократ.
Значит, было время, когда ты не считал, будто знаешь то, что ты знаешь сейчас?
Алкивиад.
Разумеется.
Сократ.
Но в общем‑то я могу сказать, чему ты учился; если я что‑либо упущу, ты мне подскажи. Насколько я припоминаю, ты обучался грамоте и игре на кифаре, а также борьбе. Учиться игре на флейте ты не пожелал[264]
. Вот и весь твой запас знаний, разве что ты обучился еще чему‑то тайком от меня; но значит, ты это делал, не выходя из дому ни днем, ни ночью.
Алкивиад.
Нет, никаких других занятий, кроме тех, что ты указал, у меня не было.
107
Сократ.
Итак, ты собираешься выступить с советами перед афинянами, когда они станут совещаться относительно грамотности – как им правильно писать?
Алкивиад.
Нет, клянусь Зевсом, не собираюсь.
Сократ.
Но тогда ты будешь давать советы, как ударять по струнам кифары?
Алкивиад.
Ни в коем случае.
Сократ.
Но ведь у них нет также привычки совещаться в народном собрании о приемах борьбы?
Алкивиад.
Конечно, нет.
Сократ.
Тогда о чем же им совещаться? Уж, наверное, не о строительстве?
Алкивиад.
Нет, нет.
b
Сократ.
Ведь па этот счет у зодчего найдутся лучшие советы, чем у тебя?
Алкивиад.
Да.
Сократ.
Разумеется, и не тогда ты взойдешь на помост, когда они станут совещаться о прорицаниях?[265]
Алкивиад.
Нет, не тогда.
Сократ.
Ведь прорицатель это знает лучше тебя?
Алкивиад.
Да.
Сократ.
При этом ведь неважно, высок он или низок, красив или безобразен, благородного рода или же нет?
Алкивиад.
Конечно.
Сократ.
Ну а давать советы о чем бы то ни было подобает ведь знатоку, а не богатому человеку?
Алкивиад.
Конечно.
Сократ.
Когда афиняне совещаются относительно здоровья своих сограждан, им неважно, беден или богат
c
тот, кто их убеждает, но они заинтересованы в том, чтобы советчик их был врачом.
Алкивиад.
Это естественно.
Сократ.
Но в каком же тогда случае будет правильным с твоей стороны выступить перед ними с советами?
Алкивиад.
Тогда, когда они станут совещаться о своих делах.
Сократ.
Ты имеешь в виду судостроение – какие именно им следует сооружать суда?
Алкивиад.
Да нет же, Сократ, совсем не это.
Сократ.
Я полагаю, ты не разбираешься в таком деле. Именно поэтому ты воздержишься или по какой‑то иной причине?
d
Алкивиад.
Нет, именно по этой.
Сократ.
Но какие же их дела ты имеешь в виду, о которых они станут совещаться?
Алкивиад.
Я имею в виду, Сократ, войну или мир или другие подобные же дела государства.
Сократ.
Точнее говоря, когда они станут советоваться, с кем заключить мир, а с кем воевать и каким образом?
Алкивиад.
Да.
Сократ.
Разве не нужно это делать наилучшим образом?
Алкивиад.
Да.
e
Сократ.
И в наиболее благоприятное время?
Алкивиад.
Несомненно.
Сократ.
Ив течение такого срока, какой представляется наивыгоднейшим?
Алкивиад.
Да.
Сократ.
А если бы афиняне совещались о том, с кем надо вести борьбу в палестре – обычную или на кулаках – и каким образом, кто дал бы при этом лучший совет – ты или учитель гимнастики?[266]
Алкивиад.
Конечно, учитель гимнастики.
Сократ.
А можешь ли ты мне сказать, что принимает во внимание учитель гимнастики, когда собирается дать совет, с кем следует бороться, а с кем нет, а также когда это надо делать и каким способом? Я вот что имею в виду: ведь бороться надо с теми, с кем это стоит делать? Разве не так?
Алкивиад.
Так.
108
Сократ.
И делать это надо по возможности лучше?
Алкивиад.
Да, по возможности.
Сократ.
И в самое благоприятное для этого время?
Алкивиад.
Разумеется.
Сократ.
А певцу разве не приходится временами сопровождать свое пение игрой на кифаре и ритмическими движениями?
Алкивиад.
Приходится.
Сократ.
И именно тогда, когда это лучше всего подобает?
Алкивиад.
Да.
Сократ.
И столько раз, сколько это будет наилучшим?
Алкивиад.
Конечно.
b
Сократ.
Далее. Поскольку ты прилагаешь «лучшее» к обоим случаям – и к музыкальному сопровождению и к борьбе, что ты назовешь лучшим в игре на кифаре, подобно тому как я называю в борьбе лучшим ее видом борьбу гимнастическую? Какой ты в этом случае назовешь вид?
Алкивиад.
Я тебя не понимаю.
Сократ.
Но попробуй мне подражать. Мои слова означали тот вид, который являет собой совершенство: совершенно то, что делается в соответствии с правилами искусства. Разве не так?
Алкивиад.
Так.
Сократ.
А гимнастика разве не искусство?
Алкивиад.
Конечно, искусство.
c
Сократ.
Я же сказал, что наилучшим в борьбе является ее гимнастический вид.
Алкивиад.
Да, сказал.
Сократ.
Так разве я был не прав?
Алкивиад.
Я думаю, прав.
Сократ.
Давай же и ты – ибо и тебе подобает правильно рассуждать – скажи прежде всего, что это за искусство, в котором уместны одновременная игра на кифаре, пение и ритмические движения? Как все это вместе зовется? Можешь ты это сказать?
Алкивиад.
Право, не могу.
Сократ.
Но попробуй подойти к этому так: какие богини покровительствуют этому искусству?
Алкивиад.
Ты разумеешь Муз[267]
, мой Сократ?
d
Сократ.
Да. Смотри: каково же наименование этого искусства по Музам?
Алкивиад.
Мне кажется, ты имеешь в виду мусическое искусство.
Сократ.
Да, именно его. Что же бывает в нем совершенным? Подобно тому как я тебе раньше определил правильность в гимнастическом искусстве, так и ты сейчас дай определение в отношении искусства мусического: в чем заключена его правильность?
Алкивиад.
Я думаю, в гармоничности[268]
.
e
Сократ.
Отлично. Давай же назови теперь лучшее в деле войны и мира, подобно тому как ты раньше назвал гармонию лучшим в одном из искусств и гимнастические упражнения – в другом. Попытайся же и здесь назвать лучшее.
Алкивиад.
Но я не очень‑то это разумею…
Сократ.
Да ведь это позор. Представь, если кто обратится к тебе за советом по поводу питания – мол, какое будет получше и сколько и когда оно будет уместнее, а затем тебя спросит: «Что ты разумеешь под лучшим, Алкивиад?» – ты ведь сможешь ответить, что разумеешь более здоровое питание, хотя ты и не выдаешь
109
себя за врача. А тут, выдавая себя за знатока и выступая советчиком, как человек знающий, ты не сумеешь ответить на заданный тебе вопрос! И ты не почувствуешь при этом стыда? И не покажется тебе это позорным?
Алкивиад.
Очень даже покажется.
Сократ.
Смотри же, постарайся сказать, к чему тяготеет наилучшее при заключении мира и с кем следует сражаться во время войны?
Алкивиад.
Но я хоть и стараюсь, не могу этого уразуметь.
Сократ.
Значит, ты не знаешь, какие взаимные обвинения выдвигаются при объявлении войны сторонами и с какими словами мы начинаем обычно войну?
b
Алкивиад.
Нет, знаю: мы утверждаем при этом, что мы обмануты, ограблены либо потерпели насилие.
Сократ.
Довольно! А говорим ли мы о том, каким образом потерпели все это? Попытайся сказать, в чем различие того или другого случая.
Алкивиад.
Под «случаем», мой Сократ, ты подразумеваешь, происходит ли это справедливым образом или несправедливым?
Сократ.
Вот именно.
Алкивиад.
Но это целиком и полностью отличается одно от другого.
Сократ.
Прекрасно. Что же ты посоветуешь афинянам – сражаться против обидчиков или против тех, кто действует справедливо?
c
Алкивиад.
Вопрос твой коварен: ведь даже если кому‑либо придет в голову, что следует воевать против тех, кто действует справедливо, афиняне на это не пойдут.
Сократ.
По‑видимому, потому, что это противоречит обычаю.
Алкивиад.
Разумеется; ведь это было бы неблагородно.
Сократ.
Следовательно, твои речи будут соответствовать этому справедливому обычаю?
Алкивиад.
Безусловно.
Сократ.
В таком случае на мой вопрос, что является лучшим – воевать или нет, с кем именно воевать и в какое именно время, – ответом будет, что лучшее – это более справедливое[269]
. Не так ли?
Алкивиад.
Кажется, так.
Сократ.
Но как же, милый Алкивиад? Мог ли ты сам не знать, что ты это знаешь, или же ты скрыл от меня, что обучался этому у учителя, научившего тебя различать более или менее справедливое? Кто же этот учитель? Скажи мне, чтобы ты и меня мог определить к нему в ученики.
Алкивиад.
Сократ, ты надо мной насмехаешься!
Сократ.
Нет, клянусь твоим и моим богом дружбы! И менее всего я хотел бы нарушить такую клятву[270]
. Но если ты знаешь такого учителя, скажи мне, кто он?
e
Алкивиад.
А что, если я не знаю? Почему ты не веришь, что я иным путем мог узнать, что такое справедливость и несправедливость?
Сократ.
Конечно, мог, если открыл это сам.
Алкивиад.
А ты полагаешь, что на это я не способен?
Сократ.
Нет, наоборот, если только ты будешь искать.
Алкивиад.
Значит, ты думаешь, что я не мог бы искать?
Сократ.
Разумеется, мог бы, если бы считал, что чего‑то не знаешь.
Алкивиад.
И ты полагаешь, что со мной этого никогда не бывало?
110
Сократ.
Ты хорошо сказал. Можешь ли ты назвать мне то время, когда ты считал, что не знаешь, что такое справедливость и несправедливость? Например, в прошлом году ты считал, что не знаешь этого, и искал? Или ты считал, что уже это знаешь? Отвечай правду, чтобы беседа наша не была бесплодной.
Алкивиад.
Я считал, что уже это знаю.
Сократ.
А в позапрошлом году или четыре‑пять лет тому назад ты так не считал?
Алкивиад.
Нет, считал.
Сократ.
Но ведь до этого ты был еще мальчиком, не так ли?
Алкивиад.
Да.
Сократ.
А ведь я хорошо знаю, что ты тогда думал, будто тебе эти вещи ведомы.
Алкивиад.
Как можешь ты быть в этом уверен?
b
Сократ.
Я часто слышал твои речи, когда ты был мальчиком, – в школе и в других местах, во время игры в бабки или во время прочих забав: ты не затруднялся в вопросах справедливости и несправедливости, но, наоборот, весьма уверенно и отважно высказывал свое мнение о любом из мальчишек – что, мол, он мошенник и негодяй и играет нечестно[271]
. Разве я лгу?
Алкивиад.
Но что еще должен был я делать, Сократ, если кто‑то меня надувал?
Сократ.
Однако, если тогда ты не знал, надувают тебя или нет, уместно ли тебе спрашивать, что ты мог сделать?
c
Алкивиад.
Клянусь Зевсом, я не только знал, но точно был уверен, что меня надувают.
Сократ.
Похоже, значит, ты считаешь, что и мальчиком знал, что такое справедливость и несправедливость?
Алкивиад.
Да, знал!
Сократ.
Так когда же ты это открыл? Ведь не тогда же, когда считал, что ты это знаешь?
Алкивиад.
Конечно, нет.
Сократ.
А когда же ты считал, что этого не знаешь? Вот видишь – ты никак не найдешь такого времени.
Алкивиад.
Клянусь Зевсом, Сократ, не знаю, что и сказать.
d
Сократ.
Значит, не открытие помогло тебе это узнать.
Алкивиад.
Да, совсем не оно, как видно.
Сократ.
Но недавно ты сказал, что знаешь, не обучавшись этому. А если ты и не открывал этого и этому не учился, каким образом и откуда ты это знаешь?
Алкивиад.
Но, быть может, я неверно тебе ответил, когда сказал, что знаю это благодаря собственному открытию.
Сократ.
А как это обстоит на самом деле?
Алкивиад.
Я думаю, что обучился этому так же, как и другие.
Сократ.
Мы снова вернулись к тому, с чего начали. От кого ты этому научился? Поделись со мной.
e
Алкивиад.
От многих.
Сократ.
Ссылаясь на многих, ты прибегаешь не к очень‑то серьезным учителям,
Алкивиад.
Почему же? Разве они не способны обучить?
Сократ.
Даже игре в шашки – и то не способны. А ведь это куда легче, чем внушить понятие о справедливости. Что ж, ты считаешь иначе?
Алкивиад.
Нет, я с тобою согласен.
Сократ.
Что же, те, кто не способны обучить менее серьезным вещам, способны обучить более серьезным?
Алкивиад.
Да, я так думаю: они способны обучить вещам значительно более важным, чем игра в шашки.
Сократ.
И что же это за вещи?
111
Алкивиад.
Например, я научился у них правильной эллинской речи: здесь я никак не могу назвать себя своим собственным учителем, но должен сослаться на тех, кого ты называешь несерьезными учителями.
Сократ.
В самом деле, благородный мой друг, многие – хорошие учители этого предмета и по справедливости должны быть прославлены за свою науку.
Алкивиад.
Почему же?
Сократ.
А потому, что они владеют здесь тем, чем и должны владеть хорошие учители.
b
Алкивиад.
Что ты имеешь в виду?
Сократ.
Разве ты не знаешь, что те, кто собираются чему‑либо научить, должны прежде всего знать это сами? Не так ли?
Алкивиад.
Как же иначе?
Сократ.
Но знатоки должны ведь быть между собой согласны по поводу того, что они знают, и не расходиться во мнениях?
Алкивиад.
Да.
Сократ.
А если они по какому‑либо вопросу разойдутся во мнениях, скажешь ли ты, что они этот предмет знают?
Алкивиад.
Нет, конечно.
Сократ.
В самом деле, могли бы они этому обучать?
Алкивиад.
Никоим образом.
Сократ.
Что ж, разве тебе кажется, будто многие расходятся между собой во мнении, что именно следует называть камнем или деревом?
c
И если ты кому‑либо задашь этот вопрос, разве все не согласятся между собой и не протянут руку к одному и тому же предмету – камню или же дереву? То же самое относится и к остальным подобным вещам. Ведь именно это, как я понимаю, ты называешь правильным знанием эллинской речи? Не так ли?
Алкивиад.
Так.
Сократ.
Значит, как мы сказали, они бывают согласны по этим вопросам друг с другом и сами с собой – выступая и как частные лица и от имени государства: ведь не станут же государства спорить между собой, называя этими именами одни – одно, а другие – другое.
Алкивиад.
Нет‑нет.
d
Сократ.
Значит, они, эти многие, естественно, могут быть хорошими учителями.
Алкивиад.
Да.
Сократ.
И следовательно, если мы пожелаем сделать кого‑либо знающим эти вещи, то правильно поступим, послав его в обучение к этим многим.
Алкивиад.
Несомненно.
Сократ.
Ну а если бы мы захотели узнать не только что такое люди или лошади, но и какие из них быстры в беге, а какие медленны, окажутся ли многие в состоянии нас этому научить?
Алкивиад.
Конечно, нет.
e
Сократ.
Достаточным ли для тебя свидетельством того, что они этого не знают и не являются дельными учителями в этом вопросе, будет их несогласие между собой при его решении?
Алкивиад.
Да, вполне достаточным.
Сократ.
Ну а если мы захотим узнать не только каковы люди, но и какие из них бывают здоровыми или больными, окажутся ли в этом случае многие достаточно сведущими для нас учителями?
Алкивиад.
Конечно, нет.
Сократ.
Будет ли для тебя свидетельством непригодности их для этого дела несогласие многих между собой?
Алкивиад.
Несомненно.
112
Сократ.
К чему же мы пришли? Тебе кажется, что многие согласны сами с собой и друг с другом относительно справедливых людей и дел?
Алкивиад.
Менее всего, клянусь Зевсом, Сократ!
Сократ.
Не думаешь ли ты, что именно по этим вопросам между ними больше всего разногласий?
Алкивиад.
Очень даже думаю.
Сократ.
Однако, полагаю, тебе никогда не случалось видеть или слышать настолько резкие споры между людьми относительно здоровья или болезни, чтобы это заставляло их хвататься за оружие и убивать друг друга.
Алкивиад.
Конечно, нет.
b
Сократ.
Что же касается справедливости и несправедливости, я знаю, что если ты даже этого не видел, то наверняка слышал рассказы и Гомера и многих других: ведь ты знаком и с «Одиссеей» и с «Илиадой».
Алкивиад.
Разумеется, мой Сократ.
Сократ.
А ведь поэмы эти посвящены разногласию по вопросам справедливости и несправедливости.
Алкивиад.
Да.
c
Сократ.
И все битвы и смерти воспоследовали из‑за этого разногласия среди ахейцев и троянцев, а также между женихами Пенелопы и Одиссеем[272]
.
Алкивиад.
Ты говоришь правду.
Сократ.
Думаю также, что у тех, кто пал при Танагре, – у афинян, лакедемонян и беотийцев, а также и у тех, кто позже погиб при Коронее[273]
(среди них был и твой отец Клиний), спор шел не о чем ином, как о справедливом и несправедливом, и именно этот спор был причиной смертей и сражений. Не так ли?
Алкивиад.
Ты прав.
d
Сократ.
Назовем ли мы знатоками какого‑либо предмета людей, столь сильно расходящихся во мнениях по поводу этого предмета, что в пылу спора они чинят друг другу крайние насилия?
Алкивиад.
Конечно, нет.
Сократ.
А ты ссылаешься на подобных учителей, относительно которых сам признаешь, что они невежды!
Алкивиад.
Похоже, что так.
Сократ.
Как же может быть, что тебе ведомы справедливость и несправедливость, если ты блуждаешь в этом вопросе вокруг да около и, как это очевидно, ни у кого этому не обучался и сам не пришел к такому открытию?
Алкивиад.
Судя по твоим словам, это невозможно.
e
Сократ.
Не замечаешь ли ты, Алкивиад, что ты не прав?
Алкивиад.
А в чем?
Сократ.
Ты утверждаешь, что так выходит по моим словам.
Алкивиад.
Как это? Разве не ты говоришь, будто мне неведомы справедливость и несправедливость?
Сократ.
Нет, не я.
Алкивиад.
Значит, я?!
Сократ.
Да.
Алкивиад.
Но каким это образом?
Сократ.
Смотри же: если я спрошу, что больше – единица или двойка, ты ведь ответишь, что двойка?
Алкивиад.
Конечно.
Сократ.
Насколько больше?
Алкивиад.
На единицу.
Сократ.
Так кто же из нас утверждает, что двойка больше единицы на единицу?
Алкивиад.
Я.
Сократ.
Значит, я задал вопрос, а ты мне ответил?
Алкивиад.
Да.
113
Сократ.
Итак, относительно этих вещей я задаю вопрос, а ты отвечаешь?
Алкивиад.
Да, я.
Сократ.
А если я спрошу тебя, из каких букв состоит слово «Сократ», а ты мне ответишь, кому будет принадлежать утверждение?
Алкивиад.
Мне.
Сократ.
Давай же, скажи вообще: когда есть вопрос и ответ, кто является лицом утверждающим – спрашивающий или дающий ответ?
Алкивиад.
Мне кажется, Сократ, что дающий ответ.
b
Сократ.
Ну а до сих пор во всей нашей беседе спрашивающим был я?
Алкивиад.
Да.
Сократ.
Ты же мне отвечал?
Алкивиад.
Несомненно.
Сократ.
Кто же из нас изрек сказанное?
Алкивиад.
Как это очевидно из нашей договоренности – я.
Сократ.
А разве не было сказано о справедливом и несправедливом, что Алкивиад, красивый сын Клиния, этого не знает, однако питает намерение выступить в народном собрании перед афинянами с советами о том, чего он не знает? Разве дело обстоит не так?
c
Алкивиад.
Видимо, так.
Сократ.
Здесь очень уместен, мой Алкивиад, стих Еврипида: «Не от меня, но от себя ты слышала»[274]
. В самом деле, ведь не я это утверждаю, но ты сам, и напрасно ты в этом меня обвиняешь. Но утверждение твое истинно: безумную ты лелеешь затею, добрейший мой, учить других тому, чего не знаешь сам, отказываясь вдобавок этому научиться[275]
.
d
Алкивиад.
Я думаю, мой Сократ, что афиняне да и все остальные эллины редко задаются вопросом, что справедливо, а что несправедливо: они считают, что это само собою ясно. Поэтому, отложив попечение о справедливости, они заботятся лишь о пользе дела. Ведь справедливое и полезное, как я полагаю, – это не одно и то же: скольким людям, чинившим величайшую несправедливость, это принесло выгоду, в то время как другим, хоть и вершившим справедливые дела, по‑моему, не повезло.
e
Сократ.
Но что же, если даже допустить, что справедливое и полезное весьма друг от друга отличны, не думаешь ли ты, будто тебе известно, что именно полезно людям и почему?[276]
Алкивиад.
А отчего же и нет, Сократ? Только не спрашивай меня снова, от кого я этому научился или каким образом я пришел к этому сам.
Сократ.
Но как ты можешь это требовать? Когда ты что‑либо неправильно утверждаешь и есть возможность доказать тебе это с помощью прежних доводов, ты вдруг желаешь получить какие‑то новые доказательства – так, как если бы прежние стали подобны изношенным платьям, кои ты уже больше не можешь носить?
114
Тебе, видишь ли, требуется свежее и незапятнанное доказательство! Я же пропущу мимо ушей твои словесные уловки и снова спрошу, откуда к тебе пришла наука о пользе, кто твой учитель, и еще обо всем том спрошу тебя сразу, о чем спрашивал раньше. Однако и теперь ясно, что ты пришел к тому же, что я, и не сумеешь мне доказать ни того, что ты сам открыл значение пользы, ни того, что этому научился. Но поскольку ты избалован и с неудовольствием примешь повторение прежних речей, я оставлю пока в стороне вопрос о том, знаешь ли ты или нет, что полезно афинянам.
b
Однако почему же ты не показал, одно и то же справедливое и полезное или это разные вещи? Ты мог это сделать, если тебе угодно, либо задавая мне вопросы, как я задавал их тебе, либо связно изложив это в собственном рассуждении.
Алкивиад.
Но я не знаю, мой Сократ, сумею ли я тебе это изложить.
Сократ.
А ты, мой милый, представь себе, что я – народное собрание: ведь там тебе нужно будет убедить каждого. Не так ли?
Алкивиад.
Да.
Сократ.
Разве один и тот же человек не способен убеждать людей – как поодиночке, так и всех вместе – в том, что он знает, подобно тому, как учитель грамматики убеждает в правильности письма как одного, так и многих?
c
Алкивиад.
Ты прав.
Сократ.
Точно так же и в правильности чисел один и тот же человек убеждает и одного и многих.
Алкивиад.
Да.
Сократ.
И этим человеком будет знаток арифметики?
Алкивиад.
Конечно.
Сократ.
Значит, и ты можешь в чем‑то убедить как одного человека, так и многих?
Алкивиад.
Естественно.
Сократ.
Разумеется, в том, что тебе известно?
Алкивиад.
Да.
d
Сократ.
Значит, отличие участника беседы, подобной нашей, от оратора, выступающего перед народом, состоит только в том, что последний убеждает всех скопом, первый же – лишь одного?
Алкивиад.
По‑видимому.
Сократ.
Так давай же, поскольку явно безразлично, убеждать ли многих или одного, поупражняйся на мне и попробуй мне доказать, что справедливое не всегда бывает полезным.
Алкивиад.
Ты очень заносчив, Сократ.
Сократ.
Что ж, сейчас из заносчивости я попытаюсь тебе доказать противоположное тому, что ты мне доказать не пожелал.
Алкивиад.
Говори же.
Сократ.
Ты только отвечай на вопросы.
e
Алкивиад.
Нет, говори ты сам.
Сократ.
Значит, тебе не очень желательно, чтобы я тебя убедил?
Алкивиад.
Желательно во всех отношениях.
Сократ.
Не правда ли, коль скоро ты утверждаешь, что дело обстоит таким именно образом, ты в высшей степени в этом убежден?
Алкивиад.
Мне кажется, да.
Сократ.
Отвечай же: ведь если ты не сам от себя услышишь, что справедливость полезна, а от другого, ты ему не поверишь?
Алкивиад.
Нет, конечно. Но мне следует отвечать: ничто, как я полагаю, мне здесь не повредит.
115
Сократ.
Да ты провидец! Скажи мне: ты утверждаешь, что из справедливого одно полезно, другое же – нет?
Алкивиад.
Да.
Сократ.
Но как же это? Значит, одни справедливые вещи прекрасны, другие же – нет?
Алкивиад.
Что ты имеешь в виду?
Сократ.
Я спрашиваю тебя, видел ли ты когда‑нибудь человека, совершающего безобразные, но справедливые поступки?
Алкивиад.
Нет, не видел.
Сократ.
Наоборот, все справедливое было одновременно прекрасным?
Алкивиад.
Да.
Сократ.
А что мы скажем о прекрасных поступках? Все ли они хороши, или одни хороши, другие же – нет?
Алкивиад.
Я полагаю, Сократ, что некоторые из прекрасных поступков дурны.
Сократ.
Значит, и некоторые безобразные поступки хороши?
Алкивиад.
Да.
b
Сократ.
Утверждая подобное, ты имеешь в виду, например, случаи, когда многие во время войны, придя на помощь другу или сородичу, получали ранения и умирали, другие же, хоть и должны были помочь, не помогали и оставались живы‑здоровы?
Алкивиад.
Да, именно это.
Сократ.
Значит, ты считаешь подобную помощь и попытку спасти тех, кого должно, прекрасной: ведь это проявление мужества, не так ли?
Алкивиад.
Так.
Сократ.
Дурно же это из‑за последующих ранений и смерти. Так ты полагаешь?
Алкивиад.
Да.
c
Сократ.
Но ведь мужественное поведение и смерть – это разные вещи?
Алкивиад.
Безусловно.
Сократ.
Значит, помощь оказываемая друзьям, прекрасна и дурна не в одном и том же отношении.
Алкивиад.
Видимо, так.
Сократ.
Посмотри же, не оказывается ли вообще то, что прекрасно, одновременно и хорошим, как в приведенном сейчас случае: ведь ты согласился, что мужественная помощь прекрасна. Так рассмотри само мужество – хорошо оно или дурно? Исследуй это так: что тебе более желанно – хорошее или дурное?
Алкивиад.
Хорошее.
d
Сократ.
И предпочтительно самое лучшее?
Алкивиад.
Да.
Сократ.
При этом ты менее всего хотел бы этого лишиться?
Алкивиад.
Как же иначе?
Сократ.
Что же ты скажешь относительно мужества? Ценою чего ты согласился бы его лишитъся?
Алкивиад.
Да мне и жизнь не мила будет, если я окажусь трусом!
Сократ.
Следовательно, ты считаешь трусость величайшим из зол?
Алкивиад.
Разумеется.
Сократ.
Столь же великим злом, как и смерть, – так мне кажется.
Алкивиад.
Несомненно.
Сократ.
Значит, жизнь и мужество в высшей степени противоположны смерти и трусости?
Алкивиад.
Да.
e
Сократ.
И одно ты бы очень себе пожелал, другое же – наоборот?
Алкивиад.
Да.
Сократ.
Потому что одно ты считаешь наилучшим, а другое – наихудшим?
<Алкивиад.
Разумеется.
Сократ.
Следовательно, ты относишь мужество к наилучшим вещам, а смерть – к наихудшим?>
Алкивиад.
Именно так.
Сократ.
Следовательно, помогать на войне друзьям, поскольку это прекрасный и достойный подвиг мужества, ты назвал прекрасным?
Алкивиад.
Это очевидно.
Сократ.
А как злодеяние смерти это – зло?
Алкивиад.
Да.
116
Сократ.
Значит, так следует именовать каждое из деяний: если с его помощью совершается зло, мы его называем дурным, если добро – хорошим.
Алкивиад.
Да, я с этим согласен.
Сократ.
Но ведь деяние, ведущее к добру, мы называем также прекрасным? А то, что ведет ко злу, – безобразным?
Алкивиад.
Да.
Сократ.
Следовательно, утверждая, что помощь, оказанная на войне друзьям, прекрасна, но в то же время дурна, ты тем самым называешь ее одновременно и прекрасной и скверной.
Алкивиад.
Мне кажется, ты прав, Сократ.
Сократ.
Итак. ничто прекрасное, поскольку оно прекрасно, не есть дурное и ничто безобразное, поскольку оно безобразно, не есть хорошее.
b
Алкивиад.
Это очевидно.
Сократ.
Рассмотри же еще следующее: тот, кто поступает прекрасно, разве не поступает тем самым и хорошо?
Алкивиад.
Да, это так.
Сократ.
А разве те, кто поступают хорошо, не счастливы?
Алкивиад.
Как же иначе?
Сократ.
Счастливы же они благодаря тому, что обретают благо?
Алкивиад.
Безусловно.
Сократ.
А обретают они его благодаря прекрасным поступкам?
Алкивиад.
Да.
Сократ.
Значит, поступать хорошо – это благо?
Алкивиад.
Именно так.
Сократ.
И хороший образ действий прекрасен?
Алкивиад.
Да.
c
Сократ.
Следовательно, мы снова пришли к тому, что хорошее и прекрасное – это одно и то же[277]
.
Алкивиад.
Да, это очевидно.
Сократ.
Значит, согласно этому рассуждению, то что мы сочтем прекрасным, мы тем самым сочтем и хорошим.
Алкивиад.
Это неизбежно.
Сократ.
Ну а хорошее приносит пользу или же нет?
Алкивиад.
Приносит.
Сократ.
А припоминаешь ли ты, что мы решили относительно справедливого?
Алкивиад.
Мы решили, что те, кто поступают справедливо, в силу необходимости поступают прекрасно.
Сократ.
И точно так же мы решили, что те, кто поступают прекрасно, творят благо?
Алкивиад.
Да.
d
Сократ.
Ну а благо приносит пользу?
Алкивиад.
Да.
Сократ.
Следовательно, мой Алкивиад, справедливое полезно.
Алкивиад.
Похоже, что так.
Сократ.
Что же? Разве не ты утверждаешь это, а я задаю вопросы?
Алкивиад.
В самом деле: отвечаю ведь я.
Сократ.
Так что если кто выступит с советами перед афинянами или перед пепарефийцами[278]
, считая, что ему ведомы справедливость и несправедливость, и скажет, что справедливое иногда бывает дурным, разве ты сам не поднимешь его на смех – ты, утверждающий, что справедливое и полезное – это одно и то же?
e
Алкивиад.
Но, клянусь богами, Сократ, я уже сам не понимаю, что именно я утверждаю: я оказался в нелепейшем положении: когда ты спрашиваешь, мне кажется верным то одно, то другое.
Сократ.
А ты не понимаешь, мой милый, что означает подобное состояние?
Алкивиад.
Ничуть.
Сократ.
Как ты думаешь, если бы кто‑нибудь тебя спросил, сколько у тебя глаз – два или три или рук – две их у тебя или четыре, или задал бы тебе другие подобные же вопросы, ты колебался бы в ответах, говоря то одно, то другое, или всегда отвечал бы одно и то же?
117
Алкивиад.
Я уже теперь в себе не уверен, но полагаю, что отвечал бы одно и то же.
Сократ.
Потому что знал бы это? Ведь по этой причине?
Алкивиад.
По крайней мере, я так думаю.
Сократ.
А то, относительно чего ты поневоле давал бы противоречивые ответы? Ясно ведь, что этого ты не знаешь.
b
Алкивиад.
Вероятно, да.
Сократ.
Ты ведь признаёшь, что и относительно справедливого и несправедливого, прекрасного и безобразного, хорошего и дурного, полезного и бесполезного ты колеблешься в своих ответах? И не объясняются ли твои колебания тем, что всего этого ты не знаешь?
Алкивиад.
Я с тобою согласен.
Сократ.
Вот таким‑то образом и обстоит дело: если кто‑либо чего‑то не знает, душа его по необходимости в этом колеблется.
Алкивиад.
Иначе и быть не может.
Сократ.
С другой стороны, знаешь ли ты, каким образом можно взойти на небо?
Алкивиад.
Клянусь Зевсом, вот этого‑то я не знаю.
Сократ.
И что же, колеблешься ты в своем мнении по этому поводу?
Алкивиад.
Разумеется, нет.
Сократ.
А догадываешься ли, почему? Или мне сказать?
Алкивиад.
Скажи.
Сократ.
Причина, мой друг, состоит в том, что, не зная этого, ты и не думаешь, будто знаешь.
c
Алкивиад.
Что же все‑таки ты имеешь в виду?
Сократ.
Рассмотри это вместе со мною: если ты чего‑то не знаешь и уверен в том, что этого не знаешь, станешь ли ты колебаться в этом отношении? Например, ты же хорошо знаешь, что ничего не смыслишь в приготовлении пищи, не так ли?
Алкивиад.
Разумеется.
Сократ.
Так имеешь ли ты собственное мнение по поводу готовки и вызывает ли это у тебя колебания, или же ты доверяешь это дело знатоку?
Алкивиад.
Доверяю знатоку.
d
Сократ.
Ну а если ты плывешь на корабле, думаешь ты о том, надо ли повернуть кормило к себе или от себя, и колеблешься ли, не зная этого, или же спокойно доверяешь эту задачу кормчему?
Алкивиад.
Доверяю кормчему.
Сократ.
Значит, ты не колеблешься по поводу того, чего не знаешь, если уверен в своем незнании?
Алкивиад.
Да, похоже, я в этом случае не колеблюсь.
Сократ.
Берешь ли ты в толк, что ошибки в различного рода деятельности проистекают именно от такого вот заблуждения – когда невежда воображает, что он – знаток?
Алкивиад.
Скажи, что означают эти твои слова?
Сократ.
Разве мы не тогда беремся за какое‑то дело, когда полагаем, что нам известно то, что мы делаем?
Алкивиад.
Да.
e
Сократ.
Если же кто полагает, что дело ему неизвестно, он поручает его другим?
Алкивиад.
Как же иначе?
Сократ.
Значит, такого рода незнающие люди живут, не совершая ошибок, ибо они поручают свое дело другим?
Алкивиад.
Да.
Сократ.
А кто же ошибается? Ведь не знатоки же.
Алкивиад.
Конечно, нет.
118
Сократ.
Ну а если это и не знатоки и не те из невежд, что сознают свое невежество, то ведь не остается никого, кроме невежд, воображающих себя знатоками?
Алкивиад.
Да, остаются они.
Сократ.
А ведь подобное непонимание – причина всех бед и невежество, достойное порицания?[279]
Алкивиад.
Да.
Сократ.
И чем важнее вопрос, тем это невежество злокозненней и позорней?
Алкивиад.
Несомненно.
Сократ.
Что ж, можешь ли ты назвать что‑либо более важное, чем справедливое, прекрасное, благое и полезное?
Алкивиад.
Разумеется, нет.
Сократ.
А ведь ты утверждаешь, что колеблешься именно в этом?
Алкивиад.
Да.
b
Сократ.
Но если ты колеблешься, то не ясно ли из сказанного раньше, что ты не только не ведаешь самого важного, но вдобавок, не ведая этого, воображаешь, будто ты это знаешь?
Алкивиад.
Возможно.
Сократ.
Увы, мой Алкивиад, в каком же ты пребываешь тягостном состоянии! Я боюсь даже дать ему имя; однако, поскольку мы с тобой здесь одни, пусть оно будет названо: итак, ты сожительствуешь с невежеством, мой милейший, причем с самым крайним, как это изобличает наше рассуждение и твои собственные слова. Вот ты и бросаешься очертя голову в политику раньше, чем успел этому обучиться. Но ты в этом не одинок; то же самое происходит со многими, берущимися за дела нашего государства, и можно назвать лишь несколько исключений, к которым, возможно, относится и твой опекун Перикл.
c
Алкивиад.
Но ведь говорят, Сократ, что он не сам собою стал мудрым, а потому что общался со множеством мудрых людей – и с Пифоклидом, и с Анаксагором, да и теперь еще, в свои‑то годы, обучается у Дамона – с той же самой целью[280]
.
Сократ.
Что же, знаешь ли ты какого‑нибудь мудреца, который был бы не в состоянии сделать другого мудрым в том деле, в каком он мудр сам? Например, тот, кто обучал тебя грамоте, был мудр сам и сделал искусными в этом деле и тебя и всех остальных, кого пожелал. Не так ли?
Алкивиад.
Так.
d
Сократ.
Значит и ты, научившись у него, сумеешь обучить другого?
Алкивиад.
Да.
Сократ.
И кифарист, и учитель гимнастики также смогут?
Алкивиад.
Конечно.
Сократ.
Ведь это прекрасное свидетельство знания своего дела – каким бы это дело ни было, – если человек в состоянии передать свои знания другому.
Алкивиад.
Я с этим согласен.
Сократ.
Ну а можешь ли ты сказать, что Перикл сделал кого‑либо мудрым – например, своих сыновей?
e
Алкивиад.
Да нет же, мой Сократ: ведь оба его сына оказались глупцами[281]
.
Сократ.
А твоего брата Клиния?[282]
Алкивиад.
Зачем же ты упоминаешь Клиния, этого безрассудного человека?
Сократ.
Но если Клиний безрассуден, а собственные сыновья Перикла глупцы, в чем же причина того, что он пренебрег тобою и оставил тебя в таком состоянии?
Алкивиад.
Я думаю, что причина во мне самом: я к нему не прислушивался.
119
Сократ.
Назови же кого‑либо другого из афинян либо чужеземцев – раба ли или свободного, – кто стал бы более мудр благодаря общению с Периклом, – так, как я могу тебе назвать Пифодора, сына Исолоха, и Каллия, сына Каллиада, ставших мудрее в общении с Зеноном: каждый из них, уплатив Зенону сто мин, стал мудрым и прославленным человеком[283]
.
Алкивиад.
Но я не могу тебе никого назвать.
Сократ.
Пусть. Однако что ты собираешься делать с самим собою? Остаться таким, каков ты есть, или проявить о себе некоторую заботу?
b
Алкивиад.
Мы должны это решить сообща, мой Сократ. Впрочем, я понял твои слова и с тобою согласен: те, кто вершат у нас государственные дела, за исключением немногих, – люди необразованные[284]
.
Сократ.
Ну и что же дальше?
Алкивиад.
Если бы они были хоть сколько‑нибудь образованны, тому, кто попытался бы с ними соперничать, следовало бы выступать против них во всеоружии знаний и навыков – как выступают против атлетов. Но поскольку и они совсем неумело приступают к государственным делам, для чего же мне биться над обучением и упражнениями? Ведь я уверен, что весьма сильно превосхожу их своими природными свойствами.
c
Сократ.
Ну и ну, мой милейший! Что за речи? Сколь недостойны они как твоей красоты, так и прочих твоих достоинств!
Алкивиад.
Как мне понимать эти твои слова, Сократ?
Сократ.
Я досадую на тебя и на свою собственную к тебе любовь!
Алкивиад.
Почему же?
Сократ.
Да потому, что здешних людей ты считаешь своими достойными соперниками.
Алкивиад.
Но кого же я должен такими считать?
d
Сократ.
Разве достойно мужа, приписывающего себе величие духа, задавать подобный вопрос?
Алкивиад.
Что ты говоришь?! Значит, я должен соперничать не с ними?
Сократ.
Послушай: если бы тебе пришло на ум повести в бой морскую триеру, достаточно ли было бы тебе оказаться самым искусным кормчим в команде? Или же ты считал бы, что это – необходимое условие, но надо еще считаться с истинными противниками, а не так, как ты это полагаешь сейчас, – только со своими соратниками? Этих последних ты должен превосходить
e
настолько, чтобы они и думать не смели с тобою соперничать, но, наоборот, чувствуя твое превосходство, содействовали бы твоей борьбе с врагом – коль скоро ты действительно задумал блеснуть славным подвигом, достойным и тебя и нашего города.
Алкивиад.
Да, именно это я и задумал.
Сократ.
Значит, ты будешь вполне удовлетворен, если окажешься сильнее наших воинов, и не станешь стремиться к тому, чтобы превзойти вождей наших противников, наблюдая их и примеряясь к ним в своих упражнениях?
120
Алкивиад.
Каких противников ты имеешь в виду, мой Сократ?
Сократ.
Разве ты не знаешь, что город наш всякий раз вступает в борьбу с лакедемонянами и Великим царем?[285]
Алкивиад.
Да, ты прав.
Сократ.
Следовательно, коли ты решил стать предводителем этого города, как по‑твоему, прав ли ты будешь, если задумаешь вступить в соперничество с царями лакедемонян и царем персов?
Алкивиад.
Как видно, да.
Сократ.
Нет, мой милый! На самом деле ты должен будешь брать пример с Мидия, любителя перепелов, и с других людей такого же сорта, хватающихся за государственные дела, хотя, как сказали бы женщины, их души можно понять по рабской прическе[286]
–
b
настолько они невоспитанны и еще не отрешились от своей прирожденной грубости: варвары в душе, они явились сюда, чтобы угождать городу, а не управлять им. Итак, если ты хочешь вступить в подобное состязание, тебе надо брать пример именно с них, забыв о самом себе, об изучении всего того, что можно изучить, об упражнении во всем том, в чем надо упражняться, и о любой подготовке, и вот таким образом взяться за государственное кормило.
c
Алкивиад.
Однако, Сократ, мне кажется, ты молвишь истину. Впрочем, я полагаю, что лакедемонские военачальники и персидский царь мало чем отличаются от всех прочих.
Сократ.
Но, милейший, рассмотри повнимательней это свое мнение.
Алкивиад.
Мнение о чем?
Сократ.
Прежде всего, как ты думаешь: проявишь ты большую заботу о себе, если будешь их страшиться и считать для себя опасными или если будешь придерживаться противоположного мнения?
d
Алкивиад.
Ясно, если буду считать их опасными.
Сократ.
Полагаешь ли ты, что понесешь какой‑то урон, если позаботишься о себе?
Алкивиад.
Отнюдь. Наоборот, я извлеку из этого великую пользу.
Сократ.
Значит, высказанное тобой прежде мнение имеет уже одну весьма вредную для тебя сторону.
Алкивиад.
Ты прав.
Сократ.
Второе – это его ложность: рассмотри это на основе вероятного предположения.
Алкивиад.
Каким образом?
e
Сократ.
Вероятнее ли рождение более достойных натур в благородных родах или нет?
Алкивиад.
Разумеется, для благородных родов это более вероятно.
Сократ.
Значит, благороднорожденные, если к тому же они и достойно воспитаны, будут обладать совершенной добродетелью?
Алкивиад.
Это неизбежно.
Сократ.
Посмотрим же прежде всего, сопоставив наши и их достоинства, из худших ли родов происходят цари лакедемонян и персов: или мы не знаем, что первые ведут свой род от Геракла, вторые же – от Ахемена[287]
и что оба этих рода восходят к Персею, сыну Зевса?
121
Алкивиад.
Но мой род, Сократ, восходит к Еврисаку, а род Еврисака – к Зевсу[288]
.
Сократ.
Да и мой род, благородный Алкивиад, восходит к Дедалу, Дедал же происходит от Гефеста, сына Зевса[289]
. Однако все их потомство – цари, происходящие от царей, вплоть до Зевса – и правители Аргоса и Лакедемона, и цари Персиды, правившие во все времена, а часто, как в наше время, и правители всей остальной Азии; мы же, напротив, частные лица, равно
b
как и наши отцы. И если бы ты вздумал указать на своих предков Артаксерксу, сыну Ксеркса, и сказать ему, что Саламин был родиной Еврисака, а Эгина – родиной еще более древнего твоего предка, Эака[290]
, тогда бы ты услышал в ответ громовой хохот! Смотри, как бы нашему роду не оказаться ниже тех по величию наших мужей, а также по их воспитанию. Разве ты не знаешь, сколь велико могущество лакедемонских царей и что жены в их государстве охраняются эфорами[291]
, дабы по
c
возможности предотвратить тайное рождение царя не от потомков Геракла? А персидский царь обладает таким превосходством, что никто не смеет и подозревать, будто его сын родился не от него, и посему для охраны царской жены достаточно одного только страха. Когда рождается старший сын, коему будет принадлежать власть, тотчас все подданные устрояют празднество, а в последующие времена в этот же день вся Азия совершает жертвоприношения и празднует рождение царя. Когда же, Алкивиад, появляемся на свет мы, то, по выражению комического поэта, едва ли и соседи наши это
d
замечают[292]
. Затем царский сын воспитывается не никудышной женщиной, но избранными евнухами из приближенных царя. При этом им поручается всевозможная забота о новорожденном, в том числе и умелое формирование мальчишеских членов и фигуры: благодаря этой своей задаче они находятся в особой чести. Когда же наследникам исполняется семь лет, они
e
обучаются верховой езде и к ним приставляют для этого учителей; кроме того, они начинают ходить на охоту. После того как им стукнет четырнадцать, мальчиков отдают в руки тех, что именуются у них царскими наставниками; это – четверо избранных достойнейших людей среди персов, достигших преклонного возраста: наимудрейший, наисправедливейший, наирассудительнейший и наихрабрейший[293]
. Один из них преподает магию Зороастра, сына Ормузда[294]
: суть ее в
122
почитании богов. Кроме того, он преподает царскую науку. Самый справедливый учит правдивости в течение всей жизни. Самый рассудительный – не подчиняться никаким наслаждениям, дабы выработать у себя привычку быть свободным человеком и истинным царем, в первую очередь властвуя над своими собственными порывами, а не рабски им повинуясь; тот же, что мужественнее всех, делает юношу храбрым, не знающим страха, ибо если он боится – он раб. А тебе, Алкивиад, Перикл дал в учители слугу, совсем непригодного к этому делу по
b
старости, – фракийца Зопира[295]
. Я бы еще подробнее рассказал тебе о воспитании и обучении твоих противников, но это будет чересчур долго; однако и сказанного довольно для того, чтобы стало ясно все остальное. Никого, можно сказать, не заботит, мой Алкивиад, ни твое происхождение, воспитание или образование, ни какого‑либо другого афинянина. Это интересует разве лишь кого‑нибудь из твоих поклонников. Если же ты бросишь взгляд на богатство и пышность персов, их влачащиеся по земле одеяния и благовонные мази, на толпы
c
следующих за ними слуг и прочую роскошь, тебе станет стыдно от сознания собственной отсталости. А если вдобавок обратишь внимание на рассудительность и скромность, ловкость и подвижность, а также на величавость, дисциплинированность, мужественность, воздержность, трудолюбие, честолюбие и стремление побеждать у лакедемонян, ты сочтешь самого себя ребенком во всем том, что я перечислил. Если же ты придаешь значение богатству и думаешь, что уж здесь‑то ты что‑то собой
d
представляешь, пусть и об этом будет сказано – каково тут твое положение. Если ты обратишь внимание, как богаты лакедемоняне, ты поймешь, насколько мы их беднее. Никто не может соперничать с ними – обладателями своей земли и земли в Мессении – по обширности и добротности этих земель, но количеству рабов,
e
в том числе и илотов[296]
, а также лошадей и другого скота, пасущегося в Мессении. Но если даже оставить все это в стороне, у всех эллинов нет столько золота и серебра, сколько у одного только Лакедемона: ведь уже в течении многих поколений золото течет туда из всех эллинских государств, а часто и от варваров, обратно же
123
никуда не уходит: в точности по Эзоповой басне, если вспомнить слова лисицы, обращенные ко льву, вполне можно заметить следы монет в направлении к Лакедемону, но никто никогда не видел подобных следов, ведущих оттуда[297]
. Так что надо хорошенько понять, что лакедемоняне богаче всех эллинов и золотом и серебром, а среди них самих самый богатый – царь, ибо из всех этих поборов самые большие и частые достаются царям, да, кроме того, немала по размеру и царская подать, уплачиваемая им лакедемонянами. Но доля
b
лакедемонян, огромная в сравнении с богатством остальных эллинов, ничто по сравнению с богатством персов и их царей. Я слышал рассказ заслуживающего веры человека – из тех, что совершили путешествие к царскому двору; по его словам, он проехал в течение дня обширнейшую и богатую землю, которую местные жители именовали «поясом царской жены»; была там и другая земля, именовавшаяся ее «покрывалом»[298]
; кроме того,
c
он видел еще прекрасные и плодоносные земли, предназначенные для украшения царицы, и каждое из мест носило имя какой‑либо части ее убора. Так что, думаю я, если бы кто сказал матери царя Аместриде, жене Ксеркса, что сын Диномахи, чей убор стоит самое большее пятьдесят мин, задумал поднять оружие против ее сына, притом что собственные его угодья в Эрхии равняются менее чем тремстам плетрам[299]
, она изумилась бы, на что надеется этот Алкивиад, думая
d
затеять борьбу с Артаксерксом. И полагаю, она ответила бы себе, что единственной надеждой этого мужа в его предприятии могут быть лишь прилежание и мудрость: ведь только они – настоящие достоинства эллинов. Но если она узнает, что этот Алкивиад принимается за дело, не будучи еще полных двадцати лет от роду, и что он совершенно необразован, да вдобавок, несмотря на уверения его поклонника в том, что в подобную борьбу с царем ему следует вступать не раньше,
e
чем он обучится, проявит прилежание и поупражняется, не желает к этому прислушиваться, но твердит, что ему довольно и того, что у него есть, я полагаю, она изумится и скажет: «Так на что же надеется этот юнец?» И если мы ответим ей, что он полагается на свою красоту и статность, на родовитость, богатство и природные свойства своей души, она несомненно сочтет, мой Алкивиад, что мы не в своем уме, если сравнит все это с подобными же качествами у персов. Думаю также, что и Лампидо, дочь Леотихида, жена Архидама и мать
124
Агиса[300]
– а все они были царями, – была бы удивлена, сравнивая твои данные с преимуществами своих сородичей, и задавалась бы вопросом, каким образом рассчитываешь ты, будучи столь скверно воспитан, бороться с ее сыном. А не позор ли это, если жены наших врагов лучше нас самих судят о том, какими мы должны быть, чтобы с ними сражаться?
Послушай же, милый, меня и того, что начертано в Дельфах: познай самого себя[301]
и пойми, что
b
противники твои таковы, как я говорю, а не такие, какими ты их себе мыслишь. Мы ничего не можем им противопоставить, кроме искусства и прилежания. Если ты этим пренебрежешь, то потеряешь возможность прославить свое имя среди эллинов и варваров, – а ты, кажется мне, жаждешь этого более, чем кто‑либо другой чего‑то иного.
Алкивиад.
Но в чем, мой Сократ, должно заключаться мое стремление к прилежанию? Можешь ты мне это объяснить? Ведь ты, как никто, похож на человека, говорящего правду.
Сократ.
Да, могу. Но мы должны вместе искать путь к наивысшему совершенству. Ведь мои слова о
c
необходимости учения относятся столько же ко мне, сколь и к тебе: разница между нами состоит лишь в одном.
Алкивиад.
В чем же?
Сократ.
Мой опекун лучше и мудрее, чем твой Перикл.
Алкивиад.
А кто же он такой, Сократ?
Сократ.
Бог, мой Алкивиад, запрещавший мне до сего дня с тобой разговаривать[302]
. Доверяя ему, я утверждаю, что почет придет к тебе ни с чьей иной помощью, но лишь с моей.
d
Алкивиад.
Ты шутишь, Сократ.
Сократ.
Быть может. Однако я говорю правду, что мы нуждаемся в прилежании: оно необходимо всем людям, нам же обоим – особенно.
Алкивиад.
В том, что касается меня. ты не ошибаешься.
Сократ.
Я не ошибаюсь и в том, что касается меня.
Алкивиад.
Так что же мы станем делать?
Сократ.
Нам не следует ни отрекаться, ни колебаться, мой Друг.
Алкивиад.
В самом деле, Сократ, не следует.
e
Сократ.
Решено. Значит, надо подумать вместе. Скажи мне: мы ведь говорим, что хотим стать как можно лучше. Не так ли?
Алкивиад.
Да.
Сократ.
К какой добродетели мы стремимся?
Алкивиад.
Ясно, что к добродетели достойных людей.
Сократ.
Достойных в чем?
Алкивиад.
Ясно, что в умении вершить дела.
Сократ.
Какие дела? Имеющие отношение к верховой езде?
Алкивиад.
Конечно, нет.
Сократ.
Ибо в этом случае мы обратились бы к мастерам верховой езды?
Алкивиад.
Да.
Сократ.
Может быть, ты имеешь в виду корабельное искусство?
Алкивиад.
Нет.
Сократ.
Ведь тогда нам нужно было бы обратиться к морякам?
Алкивиад.
Да.
Сократ.
Но о каких делах идет речь? Кто эти дела вершит?
Алкивиад.
Лучшие[303]
люди Афин.
125
Сократ.
А лучшими ты называешь разумных или же безрассудных?
Алкивиад.
Разумных.
Сократ.
Значит, в чем каждый разумен, в том он и добродетелен?
Алкивиад.
Да.
Сократ.
Неразумный же человек порочен?
Алкивиад.
Как же иначе?
Сократ.
Следовательно, сапожник разумен в деле изготовления обуви?
Алкивиад.
Несомненно.
Сократ.
Значит, и добродетелен в этом?
Алкивиад.
Да.
Сократ.
Ну а в деле изготовления плащей разве не будет он неразумным?
Алкивиад.
Будет.
b
Сократ.
И, значит, порочным в этом?
Алкивиад.
Да.
Сократ.
Согласно этому рассуждению, один и тот же человек оказывается и добродетельным и порочным?
Алкивиад.
По‑видимому.
Сократ.
Значит, ты утверждаешь, что добродетельные люди одновременно также порочны?
Алкивиад.
Нет, конечно.
Сократ.
Но кого же ты именуешь добродетельными?
Алкивиад.
Тех, кто способен повелевать в государстве.
Сократ.
Повелевать… не лошадьми же?
Алкивиад.
Разумеется, нет.
Сократ.
Значит, людьми?
Алкивиад.
Да.
Сократ.
Какими людьми – больными?
Алкивиад.
Нет.
Сократ.
Может быть, теми, кто находится в плавании?
Алкивиад.
Да нет же!
Сократ.
Или снимающими урожай?
Алкивиад.
Нет.
c
Сократ.
Все же теми, кто ничего не делает или делает что‑то?
Алкивиад.
Я говорю о тех, кто имеет занятия.
Сократ.
Какие же именно? Попробуй мне объяснить.
Алкивиад.
Речь идет о людях, общающихся друг с другом и вступающих между собою в деловые отношения, как это происходит в нашей государственной жизни.
Сократ.
Значит, ты говоришь о тех, что повелевают людьми и используют их в своих интересах?
Алкивиад.
Да.
Сократ.
Ты имеешь в виду старших над гребцами, повелевающих ими?
Алкивиад.
Конечно, нет.
Сократ.
Ведь это была бы добродетель кормчего?
Алкивиад.
Да.
d
Сократ.
Может быть, ты говоришь о людях, повелевающих флейтистами, руководящих пением хора и использующих хоревтов?
Алкивиад.
Нет, конечно, нет.
Сократ.
Ибо это была бы добродетель постановщика хора?
Алкивиад.
Несомненно.
Сократ.
Но в каком же смысле говоришь ты, что люди могут повелевать другими людьми, которых они используют в своих интересах?
Алкивиад.
Я имею в виду, что именно тем, кто принимают участие в государственных делах и сталкиваются на этом поприще с другими людьми, и надлежит повелевать в государстве.
Сократ.
В чем же суть этого искусства? Как если бы, например, я тебя снова спросил: какое искусство учит повелевать теми, кто участвуют в морских путешествиях?
Алкивиад.
Искусство кормчего.
e
Сократ.
А какая наука – мы об этом сейчас говорили – учит повелевать участниками хора?
Алкивиад.
Та, о которой ты недавно сказал: наука постановщика хора[304]
.
Сократ.
Ну а как ты назовешь науку тех, кто занимается государственными делами?
Алкивиад.
Я бы назвал ее наукой о здравомыслии.
Сократ.
Как? Разве наука кормчих кажется тебе бессмыслицей?
Алкивиад.
Нет, конечно.
Сократ.
Значит, наоборот, она полна смысла?
126
Алкивиад.
Мне кажется, да, особенно когда речь идет о безопасности плывущих.
Сократ.
Прекрасно. Далее: то здравомыслие, о котором ты говоришь, на что оно направлено?
Алкивиад.
На то, чтобы наилучшим образом управлять государством и обеспечивать его безопасность.
Сократ.
А присутствие или отсутствие каких вещей обеспечивает государству наилучшее управление и сохранность? Если бы, например, ты у меня спросил:
«Присутствие или отсутствие каких вещей обеспечивает лучшее управление нашим телом и его сохранность?» – я бы ответил тебе: «Присутствие здоровья и отсутствие болезни». Ты с этим согласен?
b
Алкивиад.
Да.
Сократ.
А если бы ты опять‑таки у меня спросил: «Присутствие каких вещей делает наши глаза лучшими?» – я ответил бы: «Присутствие зрения и отсутствие слепоты». Уши улучшает отсутствие глухоты, а благодаря присутствию слуха они становятся лучше и уход за ними облегчается.
Алкивиад.
Это правильно.
Сократ.
А что скажем мы о государстве? Благодаря присутствию и отсутствию каких вещей становится оно лучше и легче поддается управлению и заботе?
c
Алкивиад.
Мне кажется, мой Сократ, что этому способствуют дружелюбные взаимоотношения и отсутствие ненависти и мятежей.
Сократ.
Итак, дружелюбием ты называешь единодушие или раздор?
Алкивиад.
Единодушие.
Сократ.
А благодаря какому искусству государства приходят к согласию относительно числа?
Алкивиад.
Благодаря искусству арифметики.
Сократ.
Ну а частные лица? Разве не благодаря тому же искусству?
Алкивиад.
Да, так.
Сократ.
И каждый с самим собой согласен относительно числа благодаря этому же искусству?
Алкивиад.
Да.
Сократ.
Ну а благодаря какому искусству каждый согласен с самим собой относительно пяди и локтя – какая из этих мер больше? Разве не благодаря измерительному?
d
Алкивиад.
Как же иначе?
Сократ.
И благодаря ему же согласны между собою частные лица и государства?
Алкивиад.
Да.
Сократ.
Ну а относительно веса разве дело обстоит не таким же образом?
Алкивиад.
Конечно, таким.
e
Сократ.
А то единодушие, о котором ты говоришь, – в чем его суть и к чему оно относится, а также какое искусство его обеспечивает? Причем одинаково ли обеспечивает оно согласие не только государству, но и частным лицам – как с самими собой, так и с другими частными лицами?
Алкивиад.
Похоже, что одинаково.
Сократ.
Но что же это за искусство? Не надо колебаться в ответе, смело скажи.
Алкивиад.
Я имею в виду то дружелюбие и единодушие, с какими отец и мать относятся к любимому сыну, брат – к брату и жена – к мужу.
Сократ.
Ты полагаешь, Алкивиад, что муж может быть единодушен с женой относительно шерстопрядения, хотя он не разбирается в этом деле, а она разбирается?
Алкивиад.
Конечно, нет.
Сократ.
Да в этом и нет нужды: ведь наука эта – женская.
Алкивиад.
Да.
Сократ.
127
Ну а может ли жена быть единодушной с мужем относительно искусства владеть тяжелым вооружением?[305]
Ведь она этому не обучалась.
Алкивиад.
Конечно, не может.
Сократ.
Наверное, ты скажешь, что это – мужское занятие.
Алкивиад.
Разумеется, я так скажу.
Сократ.
Следовательно, по твоему слову, существуют науки мужские и женские.
Алкивиад.
Именно так.
Сократ.
Значит, в этих вещах не бывает единодушия между женами и мужьями.
Алкивиад.
Не бывает.
Сократ.
А следовательно, не бывает и дружбы, если дружба – это единодушие.
Алкивиад.
Видимо, нет.
Сократ.
Значит, жены, поскольку они заняты женскими делами, не пользуются любовью своих мужей.
b
Алкивиад.
Очевидно, нет.
Сократ.
И мужья, в подобном же случае, не пользуются любовью жен.
Алкивиад.
Да, не пользуются.
Сократ.
Таким образом получается, что государства не благоденствуют, если каждый из граждан занимается собственным делом?
Алкивиад.
Да, Сократ, получается так.
Сократ.
Однако как можешь ты это допустить, если мы согласились, что наличие дружбы – причина благоденствия государств, отсутствие же ее ведет к обратному?
Алкивиад.
Но мне кажется, что дружелюбие возникает в государствах и благодаря тому, что каждый занимается своим делом.
c
Сократ.
Однако только что ты говорил иначе. А теперь каково твое мнение? Дружелюбие возникает и там, где нет единодушия? Но может ли существовать единодушие в тех вещах, которые одним ведомы, другим же – нет?
Алкивиад.
Это невозможно.
Сократ.
Правильно ли поступают или неправильно те, кто занимаются каждый своими делами?
Алкивиад.
Правильно. Как же иначе?
Сократ.
А если граждане в государстве поступают правильно, разве между ними не возникает дружба?
Алкивиад.
Мне кажется, непременно возникает, Сократ.
d
Сократ.
Так чем же, в конце концов, является эта дружба, или единодушие, относительно которого мы должны проявлять мудрость и здравый смысл, если хотим быть достойными людьми? Я никак не могу взять в толк ни в чем его суть, ни среди каких людей оно встречается: то мне кажется, если верить твоим словам, что оно присуще одинаковым людям, то – нет.
Алкивиад.
Но клянусь богами, Сократ, я и сам не знаю, что говорю; видно, я давно уже не замечаю, насколько постыдно мое положение.
Сократ.
Ну, выше голову! Если бы ты заметил это свое состояние в пятьдесят лет, тебе трудно было бы поправить дело прилежанием. А сейчас ты как раз в том возрасте, когда необходимо чувствовать такие вещи.
e
Алкивиад.
А тому, Сократ, кто это почувствует, что следует делать?
Сократ.
Отвечать тому, кто задает тебе вопросы, Алкивиад. И если ты так поступишь, то коль пожелает бог и если меня не обманывает предчувствие (а я должен на него полагаться), тебе и мне станет лучше.
Алкивиад.
Если дело лишь за моими ответами, пусть будет так.
Сократ.
Скажи же, что это означает – прилежно заботиться о себе? Разве не бывает часто, что мы о себе не заботимся, хоть и думаем, что делаем это?
128
В каких случаях человек это делает? И когда он проявляет заботу о своих вещах, заботится ли он тем самым и о себе?
Алкивиад.
Мне кажется, да.
Сократ.
Что же, выражается это в заботе человека о своих ногах или же о том, что им принадлежит?
Алкивиад.
Я не понимаю тебя.
Сократ.
Что ты называешь принадлежностью руки? Например, кольцо является принадлежностью пальца или какой‑либо иной части человека?
Алкивиад.
Конечно, пальца.
Сократ.
И то же самое можно сказать о башмаке в отношении ноги?
Алкивиад.
Да.
Сократ.
Равно как и о плащах и накидках в отношении остальной части тела?
b
Алкивиад.
Да.
Сократ.
Но когда мы заботимся о башмаках, мы тем самым заботимся и о ногах?
Алкивиад.
Я не очень‑то возьму в толк, Сократ.
Сократ.
Как так, Алкивиад? Ты понимаешь, что значит правильно заботиться о чем бы то ни было?
Алкивиад.
Да, разумеется.
Сократ.
Но ведь ты называешь правильной заботой, когда кто‑то что‑либо улучшает?
Алкивиад.
Да.
Сократ.
Так какое же искусство делает лучшими башмаки?
Алкивиад.
Сапожное.
Сократ.
Значит, мы заботимся о башмаках с помощью сапожного искусства?
c
Алкивиад.
Да.
Сократ.
И о ногах мы заботимся с его помощью? Или же с помощью того искусства, что улучшает ноги?
Алкивиад.
Да, с помощью этого последнего.
Сократ.
Но ведь то же самое искусство делает лучшим и все остальное тело?
Алкивиад.
Мне кажется, да.
Сократ.
Разве это делает не искусство гимнастики?
Алкивиад.
Именно оно.
Сократ.
Значит, с помощью гимнастики мы заботимся о ногах, с помощью же сапожного искусства о том, что ногам принадлежит?
d
Алкивиад.
Безусловно.
Сократ.
И с помощью гимнастики мы заботимся о руках, а с помощью искусства резьбы – о том, что принадлежит руке?
Алкивиад.
Да.
Сократ.
Далее, с помощью гимнастики мы заботимся о нашем теле, а с помощью ткачества и других искусств – о том, что ему принадлежит?
Алкивиад.
Несомненно.
Сократ.
Итак, одно искусство помогает нам заботиться о каждом из нас, другое же – о том, что каждому принадлежит?
Алкивиад.
Очевидно.
Сократ.
Значит, забота о своих принадлежностях еще не будет заботой о самом себе?
Алкивиад.
Ни в коей мере.
Сократ.
Следовательно, это разные искусства – то, с помощью которого мы заботимся о себе, и то, с помощью которого заботимся о своих принадлежностях.
Алкивиад.
Ясно, что разные.
Сократ.
Скажи же, что это за искусство, которое помогает нам заботиться о себе?
Алкивиад.
Не знаю…
e
Сократ.
Но ведь мы согласились хотя бы, что искусство это улучшает не то, что принадлежит нам, – чем бы это ни было – а нас самих?
Алкивиад.
Ты молвишь правду.
Сократ.
С другой стороны, знали бы мы, какое искусство улучшает башмаки, если бы не знали, что представляют собою эти последние?
Алкивиад.
Это было бы невозможно.
Сократ.
Точно так же мы не знали бы, какое искусство улучшает кольца, если бы не знали, что такое кольцо.
Алкивиад.
Это верно.
Сократ.
Что же? Можем ли мы знать, какое искусство нас улучшает, если не знаем, что мы такое?
129
Алкивиад.
Нет, не можем.
Сократ.
Легко ли познать самого себя (ведь не первый же встречный начертал это на Пифийском храме![306]
)? Или, наоборот, это трудно и доступно не всякому?
Алкивиад.
Часто мне казалось, Сократ, что это доступно всем, а часто, наоборот, представлялось весьма трудным делом.
Сократ.
Но, Алкивиад, легко ли это или нет, с нами происходит следующее: познав самих себя, мы одновременно познаем заботу, в которой нуждаемся, а без такого познания мы никогда этого не поймем.
Алкивиад.
Истинно так.
b
Сократ.
Послушай же: каким образом могли бы мы отыскать самое «само»?[307]
Ведь так мы, быть может, узнали бы, что мы собой представляем, не зная же первого, мы не можем знать и себя.
Алкивиад.
Ты прав.
Сократ.
Будь же внимателен, ради Зевса! С кем ты сейчас беседуешь? Не со мной ли?
Алкивиад.
С тобой.
Сократ.
Значит, и я веду беседу с тобой?
Алкивиад.
Да.
Сократ.
Следовательно, ведущий беседу – это Сократ?
Алкивиад.
Несомненно.
Сократ.
А слушает Сократа Алкивиад?
Алкивиад.
Да.
Сократ.
Не с помощью ли речи ведет беседу Сократ?
c
Алкивиад.
Само собой разумеется.
Сократ.
А беседовать и пользоваться словом, по твоему мнению, это одно и то же?
Алкивиад.
Несомненно.
Сократ.
Ну а пользующийся чем‑то и то, чем он пользуется, разве не разные вещи?
Алкивиад.
Как ты говоришь?!
Сократ.
К примеру, сапожник работает резаком, ножом и другими инструментами.
Алкивиад.
Да.
Сократ.
Значит, тот, кто работает и пользуется резаком, и то, чем работающий пользуется, – это разные вещи?
Алкивиад.
Как же иначе?
Сократ.
Тогда, следовательно, инструмент, на котором играет кифарист, и сам кифарист – это тоже разные, вещи?
Алкивиад.
Да.
d
Сократ.
Вот об этом я только что и спрашивал – всегда ли представляются отличными друг от друга тот, кто пользуется чем‑либо, и то, чем он пользуется?
Алкивиад.
Всегда.
Сократ.
Что же мы скажем о сапожнике: работает он только инструментами или также и руками?
Алкивиад.
Также и руками.
Сократ.
Значит, и ими он пользуется?
Алкивиад.
Да.
Сократ.
Но когда он сапожничает, он ведь пользуется и глазами?
Алкивиад.
Да.
e
Сократ.
Следовательно, сапожник и кифарист – это не то, что руки и глаза, с помощью которых они работают?
Алкивиад.
Это очевидно.
Сократ.
Но ведь человек пользуется и всем своим телом?
Алкивиад.
Несомненно.
Сократ.
А ведь мы говорили, что пользующееся чем‑то и то, чем оно пользуется, это разные вещи?
Алкивиад.
Да.
Сократ.
Значит, человек – это нечто отличное от своего собственного тела?
Алкивиад.
Похоже, что да.
Сократ.
Что же это такое – человек?
Алкивиад.
Не умею сказать.
Сократ.
Но, во всяком случае, ты уже знаешь: человек – это то, что пользуется своим телом.
Алкивиад.
Да.
130
Сократ.
А что иное пользуется телом, как не душа?
Алкивиад.
Да, это так.
Сократ.
Значит, она им управляет?
Алкивиад.
Да.
Сократ.
Полагаю, что никто не думает иначе вот о чем…
Алкивиад.
О чем же?
Сократ.
Человек – не является ли он одной из трех вещей?
Алкивиад.
Какие же это вещи?
Сократ.
Душа, тело и целое, состоящее из того и другого.
Алкивиад.
Это само собой разумеется.
Сократ.
Но ведь мы признали человеком то самое, что управляет телом?
b
Алкивиад.
Да.
Сократ.
Что же, разве тело управляет само собой?
Алкивиад.
Ни в коем случае.
Сократ.
Мы ведь сказали, что оно управляемо.
Алкивиад.
Да.
Сократ.
Вряд ли поэтому оно то, что мы ищем.
Алкивиад.
Видимо, да.
Сократ.
Но, значит, телом управляют совместно душа и тело, и это и есть человек?
Алкивиад.
Возможно, конечно.
Сократ.
На самом же деле менее всего: если одно из двух, составляющих целое, не участвует в управлении, никоим образом не могут управлять оба вместе.
Алкивиад.
Это верно.
c
Сократ.
Ну а если ни тело, ни целое, состоящее из тела и души, не есть человек, остается, думаю я, либо считать его ничем, либо, если он все же является чем‑то, заключить, что человек – это душа.
Алкивиад.
Безусловно, так.
Сократ.
Нужно ли мне с большей ясностью доказать тебе, что именно душа – это человек?[308]
Алкивиад.
Нет, клянусь Зевсом, мне кажется, что сказанного достаточно.
Сократ.
Даже если доказательство было не вполне безупречным, однако в меру достаточным, этого нам довольно. Безупречно осведомлены мы будем тогда, когда выясним то, что пока опустили из‑за необходимости подробного рассмотрения.
d
Алкивиад.
А что это такое?
Сократ.
Перед этим было сказано, что прежде всего надо рассмотреть самое «само». Теперь же вместо «самого» как такового мы рассмотрели каждую «самость» – что она собой представляет, – и, быть может, этого нам будет довольно: мы ведь отметили, что в нас нет ничего главнее души.
Алкивиад.
Разумеется, нет.
Сократ.
Значит, правильным будет считать, что, когда мы общаемся друг с другом и пользуемся при этом речью, это душа говорит с душою?
Алкивиад.
Несомненно.
e
Сократ.
В этом и заключалось значение того, что я сказал несколько раньше: когда Сократ беседует с Алкивиадом, пользуясь речью, он обращается со своими речами не к лицу Алкивиада, как можно было бы думать, но к самому Алкивиаду, то есть к его душе.
Алкивиад.
Я с этим согласен.
Сократ.
Следовательно, тот, кто велит нам познать самих себя, приказывает познать свою душу.
131
Алкивиад.
По‑видимому.
Сократ.
Значит, тот, кому известно что‑либо о частях своего тела, знает то, что ему принадлежит, но не самого себя.
Алкивиад.
Это так.
Сократ.
Следовательно, ни один врач не знает себя как врача, и ни один учитель гимнастики не знает себя как такового.
Алкивиад.
Видимо, нет.
Сократ.
Значит, далеко до того, чтобы земледельцы и другие ремесленники знали самих себя; вдобавок они, по‑видимому, не знают и своих собственных свойств, но понимают лишь то, что более отдаленно относится к их ремеслу. Они разбираются только в том, что имеет отношение к телу и помогает за ним ухаживать.
b
Алкивиад.
Ты прав.
Сократ.
Если же рассудительность заключается в познании самого себя, то никто из них не разумеет этого искусства.
Алкивиад.
Видимо, нет.
Сократ.
Потому‑то ремесла эти кажутся благородному человеку пошлыми и недостойными изучения.
Алкивиад.
Да, безусловно.
Сократ.
Значит, мы снова пришли к тому, что человек, заботящийся о своем теле, заботится о том, что ему принадлежит, но не о себе самом?
Алкивиад.
По‑видимому.
Сократ.
Тот же, кто проявляет заботу об имуществе, заботится и не о себе и не о том, что ему принадлежит, но о вещах еще более отдаленных.
c
Алкивиад.
Я с этим согласен.
Сократ.
Ведь любитель наживы занимается даже не своими вещами.
Алкивиад.
Это верно.
Сократ.
И если бы кто был влюблен в Алкивиадово тело, он любил бы не Алкивиада, но что‑то из принадлежащих Алкивиаду вещей.
Алкивиад.
Ты говоришь правду.
Сократ.
А тот, кто влюблен в твою душу?
Алкивиад.
Вывод напрашивается сам собой.
Сократ.
Значит, тот, кто любит твое тело, покидает тебя тотчас же, как только тело твое перестает цвести?
Алкивиад.
Очевидно.
d
Сократ.
Ну а кто любит твою душу, тот, видно, не покинет ее до тех пор, пока она будет стремиться к совершенствованию?
Алкивиад.
По всей вероятности.
Сократ.
Вот я и не ухожу, но остаюсь, хотя тело твое начинает увядать и другие тебя покинули.
Алкивиад.
Ты хорошо поступаешь, Сократ, не уходи же.
Сократ.
Так позаботься о том, чтобы стать по возможности совершеннее.
Алкивиад.
Да, я позабочусь об этом.
e
Сократ.
Значит, вот как обстоит твое дело: не было и нет, как видно, приверженца у Алкивиада, сына Клиния, кроме единственного и любезного ему Сократа[309]
, сына Софрониска и Фенареты.
Алкивиад.
Воистину так.
Сократ.
Не сказал ли ты, что я, подойдя к тебе, лишь немного тебя упредил, поскольку ты первым хотел подойти и спросить, по какой причине лишь я один тебя не покидаю?
Алкивиад.
Да, так оно и было.
Сократ.
Итак, причина заключается в том, что я был единственным твоим поклонником, все же остальные поклонялись не тебе, а тому, что тебе принадлежит. Но красота твоя увядает, ты же, напротив, начинаешь цвести.
132
И теперь, если только ты не дашь развратить себя афинскому народу и не станешь уродлив, я тебя не оставлю. А я очень опасаюсь того, чтобы ты, стар приверженцем народа, не развратился: ведь это приключилось уже со многими достойными афинянами. «Народ отважного Эрехфея»[310]
на вид очень хорош, но надо сорвать личину, чтобы он предстал в своем истинном свете; прими же предосторожность, какую я тебе посоветовал.
Алкивиад.
Какую именно?
b
Сократ.
Прежде всего упражняйся, мой милый, учись тому, что следует знать, чтобы взяться за государственные дела. А до этого не берись, чтобы не лишиться противоядия и не попасть в опасное положение.
Алкивиад.
Мне кажется, ты прав, Сократ. Но попытайся объяснить мне, каким именно образом следует нам о себе заботиться.
Сократ.
Быть может, мы уже сделали к этому первый шаг: мы пришли к надлежащему согласию относительно того, что мы собой представляем. Ведь было опасение, как бы, обманываясь на этот счет, мы нечаянно не стали заботиться о чем‑то другом, а не о себе.
Алкивиад.
Это так.
c
Сократ.
А затем мы поняли, что надо заботиться о душе и именно на нее обращать внимание.
Алкивиад.
Это ясно.
Сократ.
Ну а заботу о наших телах и имуществе следует предоставить другим.
Алкивиад.
Само собой разумеется.
Сократ.
Каким же образом мы всё это яснее познаем? Ведь познав это, мы, очевидно, познаем себя самих. Но, во имя богов, постигли ли мы значение прекрасной дельфийской надписи, о которой мы вспоминали недавно?
Алкивиад.
Что ты имеешь в виду, мой Сократ?
d
Сократ.
Я скажу тебе, о чем, как я подозреваю, говорит нам и что советует эта надпись. Правда, боюсь. что не подберу достаточного количества примеров, разве вот только пример зрения.
Алкивиад.
Как ты это понимаешь?
Сократ.
Посмотри и ты: предположим, что изречение это советовало бы нашему глазу, как человеку: «Увидь самого себя!» Как восприняли бы мы подобный совет? Не так ли, что глаз должен смотреть на то, что позволит ему увидеть самого себя?
Алкивиад.
Это понятно.
Сократ.
Представим же себе ту вещь, глядя на которую мы одновременно увидим и ее и себя самих.
e
Алкивиад.
Ясно ведь, Сократ, что это – зеркало или нечто подобное.
Сократ.
Ты прав. Но, значит, и в глазу, которым мы смотрим, также содержится нечто подобное?
Алкивиад.
Несомненно.
133
Сократ.
Ты ведь заметил, что, когда мы смотрим кому‑то в глаза, наше лицо, как в зеркале, отражается в глазах лица, находящегося напротив? В так называемом зрачке появляется изображение того, кто в него смотрит.
Алкивиад.
Да, это правда.
Сократ.
Следовательно, когда глаз смотрит в глаз и вглядывается в лучшую его часть – ту, которой глаз видит, – он видит самого себя.
Алкивиад.
Это очевидно.
Сократ.
Если же он будет смотреть на какую‑либо другую часть человека или на любую из вещей, кроме тех, которым подобен глаз, он себя не увидит.
b
Алкивиад.
Ты прав.
Сократ.
Следовательно, если глаз желает увидеть себя, он должен смотреть в [другой] глаз, а именно в ту его часть, в которой заключено все достоинство глаза; достоинство это – зрение.
Алкивиад.
Так.
Сократ.
Значит, мой милый Алкивиад, и душа, если она хочет познать самое себя, должна заглянуть в душу, особенно же в ту ее часть, в которой заключено достоинство души – мудрость, или же в любой другой предмет, коему душа подобна.
Алкивиад.
Я согласен с тобой, Сократ.
c
Сократ.
Можем ли мы назвать более божественную часть души, чем ту, к которой относится познание и разумение?
Алкивиад.
Нет, не можем.
Сократ.
Значит, эта ее часть подобна божеству, и тот, кто всматривается в нее и познает всё божественное – бога и разум – таким образом лучше всего познает самого себя.
Алкивиад.
Это очевидно.
Сократ.
И подобно тому как зеркала бывают более ясными, чистыми и сверкающими, чем зеркало глаз, так и божество являет себя более блистательным и чистым, чем лучшая часть нашей души.
Алкивиад.
Это правдоподобно, Сократ.
Сократ.
Следовательно, вглядываясь в божество, мы пользуемся этим прекраснейшим зеркалом и определяем человеческие качества в соответствии с добродетелью души: именно таким образом мы видим и познаем самих себя.
Алкивиад.
Да.[311]
Сократ.
Ну а познавать самого себя, как мы согласились, – значит быть рассудительным?
Алкивиад.
Несомненно.
Сократ.
А не познавая самих себя и не будучи рассудительными, можем ли мы понять, что в нас есть хорошего и плохого?
Алкивиад.
Но как, мой Сократ, могло бы это статься?
d
Сократ.
Тебе ведь, наверное, показалось бы невозможным, чтобы тот, кто не знает Алкивиада, знал бы, что именно принадлежит Алкивиаду как его неотъемлемое свойство?
Алкивиад.
Да, невозможным, клянусь Зевсом.
Сократ.
Точно так же ведь невозможно знать наши свойства, если мы не знаем самих себя?
Алкивиад.
Конечно.
Сократ.
А если мы не знаем собственных свойств, то не знаем и того, что к ним относится?
Алкивиад.
Ясно, что не знаем.
Сократ.
Но тогда мы не вполне верно признали недавно, что есть люди, не знающие себя, но знающие свои свойства, а также люди, знающие, что относится к этим свойствам: ведь постигать всё это – себя, свои свойства и то, что к ним относится, – по‑видимому, дело одного и того же искусства.
e
Алкивиад.
Похоже, ты прав.
Сократ.
При этом всякий, кто не знает своих свойств, не может знать соответственно и свойств других людей.
Алкивиад.
Совершенно верно.
Сократ.
А если он не знает свойств других людей, он не будет знать и свойств государства.
Алкивиад.
Это неизбежно.
Сократ.
Такой человек не может стать государственным мужем.
Алкивиад.
Конечно, нет.
Сократ.
А также и хозяином дома.
134
Алкивиад.
Никоим образом.
Сократ.
Ведь он не будет даже понимать, что он делает.
Алкивиад.
Разумеется.
Сократ.
Ну а тот, кто этого не понимает, не будет разве подвержен ошибкам?
Алкивиад.
Несомненно, будет.
Сократ.
А ошибаясь, разве не скверно будет он вести как домашние, так и общественные дела?
Алкивиад.
Разумеется, скверно.
Сократ.
Ведя же их скверно, не будет ли он выглядеть жалким?
Алкивиад.
И даже очень.
Сократ.
А те, для которых он будет трудиться?
Алкивиад.
И они также.
Сократ.
Значит, невозможно быть счастливым, не будучи разумным и достойным.
b
Алкивиад.
Да, невозможно.
Сократ.
Значит, порочные люди несчастливы.
Алкивиад.
Именно так.
Сократ.
Следовательно, и разбогатевший человек не избегнет несчастья; его избежит лишь человек рассудительный.
Алкивиад.
Это очевидно.
Сократ.
Значит, государства для своего благополучия, мой Алкивиад, не нуждаются ни в стенах, ни в триерах, ни в корабельных верфях, ни в многонаселенности, ни в огромных размерах, если они лишены добродетели.
Алкивиад.
Да, это так.
Сократ.
Если же ты желаешь правильно и достойно заниматься государственными делами, ты должен прививать своим согражданам добродетель.
c
Алкивиад.
Как же иначе?
Сократ.
Но может ли кто привить другому то, чего он сам не имеет?
Алкивиад.
Как мог бы он это сделать?
Сократ.
Поэтому прежде всего ему надо самому обрести эту добродетель. Это также долг каждого, кто намерен управлять не только собой и тем, что ему принадлежит, и проявлять об этом заботу, но и заботиться о государстве и его интересах.
Алкивиад.
Ты говоришь правду.
Сократ.
Поэтому ты должен уготовить себе не свободу властвовать, делая для себя и для города все, что тебе угодно, но рассудительность и справедливость.
Алкивиад.
Это очевидно.
d
Сократ.
Ибо если вы – ты и город – будете действовать справедливо и рассудительно, ваши действия будут угодны богам.
Алкивиад.
По всей вероятности.
Сократ.
И как мы говорили раньше, вы будете в этом случае действовать, вглядываясь в ясный блеск божества.
Алкивиад.
Это понятно.
Сократ.
А имея этот блеск перед глазами, вы узрите и познаете самих себя и то, что является для вас благом.
Алкивиад.
Да.
Сократ.
Значит, вы будете действовать правильно и достойно.
Алкивиад.
Да.
e
Сократ.
Но я могу поручиться, что, действуя таким образом, вы наверняка будете счастливы.
Алкивиад.
Ты – верный поручитель.
Сократ.
Если же вы будете действовать несправедливо и брать в пример все безбожное и темное, то, естественно, и дела ваши будут такими и самих себя вы не познаете.
Алкивиад.
По‑видимому.
Сократ.
В самом деле, мой милый Алкивиад, если у кого‑либо (будь то частное лицо или государство) есть возможность делать все, что ему вздумается, а ума при этом нет, какая ему может быть уготована судьба? Например, если бы больному была предоставлена возможность делать все, что он вздумает, при том, что он не обладает разумом врача, и он будет действовать как тиран, то есть не сумеет себя обуздать, каков будет его удел? Разве не погубит он скорее всего свое тело?
135
Алкивиад.
Ты прав.
Сократ.
А если на корабле любому будет дана возможность делать все, что ему угодно, при том, что у него нет разума и добродетели кормчего, – понимаешь ли ты, что приключилось бы с ним и его спутниками по плаванию?
Алкивиад.
Да, в этом случае все они погибли бы.
Сократ.
Точно таким же образом обстоит дело в государстве и при всех видах неограниченной власти: как только исчезает добродетель, наступает несчастье.
b
Алкивиад.
Да, это неизбежно.
Сократ.
Следовательно, достойнейший мой Алкивиад, тебе надо уготавливать как себе, так и городу, если вы намерены процветать, не тиранию[312]
, но добродетель.
Алкивиад.
Это правда.
Сократ.
И раньше, чем будет обретена добродетель, не то что ребенку, но и зрелому мужу лучше не властвовать, но отдать себя под водительство более достойного человека.
Алкивиад.
Ясно, что лучше.
Сократ.
А то, что лучше, разве не прекраснее?
Алкивиад.
Прекраснее.
Сократ.
То же, что прекраснее, разве не более подобает?
c
Алкивиад.
Как же иначе?
Сократ.
Следовательно, дурному человеку подобает рабствовать: так будет лучше.
Алкивиад.
Да.
Сократ.
Ведь порочность – это рабское свойство.
Алкивиад.
Очевидно.
Сократ.
А добродетель присуща свободе.
Алкивиад.
Да.
Сократ.
Так разве, мой друг, не следует избегать всего рабского?
Алкивиад.
И даже очень, Сократ.
Сократ.
Чувствуешь ли ты теперь свое состояние? Подобает оно свободному человеку или нет?
Алкивиад.
Мне кажется, я его даже очень чувствую[313]
.
Сократ.
Знаешь ли ты, как можно избежать того, что с тобою сейчас творится? Мне не хочется давать имя этому твоему состоянию – ты так красив.
d
Алкивиад.
Но я и сам знаю.
Сократ.
Ну и как же?
Алкивиад.
Я избегну этого состояния, если ты пожелаешь, Сократ.
Сократ.
Нехорошо ты говоришь, Алкивиад.
Алкивиад.
Но как же надо сказать?
Сократ.
«Если захочет бог»[314]
.
Алкивиад.
Вот я и говорю это. А кроме того, я опасаюсь, что мы поменяемся ролями, мой Сократ: ты возьмешь мою личину, я – твою. Начиная с нынешнего дня я, может статься, буду руководить тобою, ты же подчинишься моему руководству.
e
Сократ.
Благородный Алкивиад, любовь моя в этом случае ничем не будет отличаться от любви аиста[315]
: взлелеяв в твоей душе легкокрылого эроса, она теперь будет пользоваться его заботой.
Алкивиад.
Но решено: с этого момента я буду печься о справедливости.
Сократ.
Хорошо, если б ты остался при этом решении. Страшусь, однако, – не потому, что не доверяю твоему нраву, но потому, что вижу силу нашего города – как бы он не одолел и тебя, и меня[316]
.
Перевод С. Я. Шейнман‑Топштейн.
В кн.: Платон. Диалоги. М.: «Мысль», 1986
IX. ЛАХЕТ
Лисимах, Мелесий, Никий, Лахет, сыновья Лисимаха и Мелесия, Сократ
178
Лисимах
[317]
. Вы, Никий и Лахет, сейчас наблюдали за человеком, сражавшимся в тяжелом вооружении[318]
. Но почему мы – я и Мелесий[319]
– попросили вас быть вместе с нами свидетелями этого зрелища, мы сразу вам не сказали, теперь же откроем. Мы считаем, что с вами должны быть вполне откровенны.
b
Правда, бывают люди, насмехающиеся над такими, как мы, и, если кто спросит у них совета, не открывают, что у них на уме, но, стремясь разгадать вопрошающего, отвечают не то, что думают. Однако мы, посчитав, что вы достаточно сведущи и, будучи таковыми, прямо скажете нам ваше мнение, привлекли вас к совету по интересующему нас делу.
179
Дело же, коему я предпослал столь длинное введение, состоит в следующем: вот это – наши сыновья, один – Мелесиев, названный по деду своему Фукидидом, а этот – мой; он также наречен именем деда, моего отца, и зовем мы его Аристидом[320]
. Нам представляется, что мы обязаны как можно лучше о них позаботиться и, не подражая большинству людей, которые позволяют своим сыновьям, когда они возмужают, делать все, что им заблагорассудится, теперь же приступить к самому что ни на есть внимательному о них попечению.
b
Зная, что и у вас есть сыновья[321]
, мы подумали, что и вас они заботят – кому же еще и проявлять такую заботу – и вы мыслите о том, какое воспитание сделает их достойнейшими. Если же ваш ум не был постоянно направлен на эту заботу, то мы напомним вам, что не следует этим пренебрегать, и призовем вас вместе с нами проявить попечение о сыновьях.
Следует послушать, Никий и Лахет, как мы к этому пришли, даже если это и покажется несколько длинным. Я и вот Мелесий, мы обычно обедаем вместе[322]
, и в нашей трапезе участвуют также наши мальчики.
c
Как я сказал в начале нашей беседы, мы будем с вами вполне откровенны. Каждый из нас может рассказать юношам о множестве прекрасных дел наших отцов – и об их ратных трудах, и о мирных, когда они ведали делами и союзников и своего государства[323]
; о своих же собственных делах нам обоим нечего сказать. Мы устыдились этого перед нашими сыновьями и обвинили наших отцов в том, что они позволили нам бездельничать в роскоши, когда мы были подростками, сами же занимались чужими делами[324]
.
d
Мы объяснили это и нашим юношам, говоря им, что если они не позаботятся о себе и не послушают нас, то вырастут людьми, лишенными славы, если же они будут о себе печься, то вскорости станут достойными тех имен, которые они носят. Они же говорят, что будут нас слушаться; а мы думаем о том, чему они должны научиться и о чем позаботиться, чтобы стать возможно более достойными людьми.
e
Один человек указал нам и на эту науку – прекрасно, мол, обучать молодого человека сражаться в тяжелом вооружении. И он похвалил того, на кого вы сейчас смотрели, и советовал его понаблюдать. А мы подумали, что и нам следует пойти посмотреть на этого мужа и вас пригласить с собой зрителями, а также советчиками и помощниками, если только вам это будет угодно, в деле воспитания наших сыновей[325]
.
180
Вот это мы и хотели вам сообщить. Теперь ваш черед дать нам совет и относительно этой науки – считаете ли вы, что ей нужно обучаться или нет, – и о прочих также, если вы намерены посоветовать какую‑либо науку или занятие молодым людям, а также сказать, в чем здесь будет заключаться ваше участие.
Никий.
Я со своей стороны, Лисимах и Мелесий, одобряю ваш замысел и готов в нем участвовать; думаю, что и Лахет также.
b
Лахет.
Да, Никий, ты мыслишь правильно. То, что сейчас сказал Лисимах о своем отце и отце Мелесия, вполне относится и к ним и к нам, а также ко всем тем, кто занимается государственными делами: в самом деле, с ними случается, как он и говорит, что они пренебрегают своими детьми и другими личными делами и лишают их своего внимания. Да, Лисимах, ты прекрасно это сказал; но вот призывать нас советниками в деле воспитания этих юношей
c
и забыть о присутствующем здесь Сократе – странно; ведь он прежде всего твой земляк, из того же дема[326]
, а кроме того, он всегда проводит время там, где можно найти вещи, в коих ты нуждаешься для молодых людей, – науку ли или достойное занятие.
Лисимах.
Что ты говоришь, Лахет? Наш Сократ занят подобной заботой?
Лахет.
Конечно же, Лисимах.
d
Никий.
Я могу подтвердить тебе это не хуже Лахета. Ведь и мне он недавно привел для сына учителя музыки Агафокла, ученика Дамона[327]
, человека образованнейшего не только в музыке, но и во всем остальном, что может считаться достойным занятием для молодых людей этого возраста.
Лисимах.
Сократ, Никий и Лахет! Люди моих лет не знают как следует молодых, ибо в силу нашего возраста мы много времени проводим дома. Но если ты, сын Софрониска, можешь дать своему земляку хороший совет, надо его дать. Это было бы справедливо: ведь ты наш друг еще по отцу; я и твой отец всегда были товарищами и друзьями[328]
, и он ушел из жизни прежде, чем между нами смогла возникнуть какая‑то рознь.
e
Сейчас вот, пока они говорили, мне кое‑что пришло вдруг на память: мальчики эти, беседуя между собою дома, часто упоминали Сократа и очень его хвалили. Но я ни разу у них не спросил, имеют ли они в виду сына Софрониска. Скажите же мне, дети, это тот Сократ, о котором вы всякий раз вспоминали?
181
Мальчики.
Конечно, отец, именно он.
Лисимах.
Прекрасно, клянусь Герой, Сократ! Ты делаешь честь достойнейшему из людей – своему отцу, особенно тем, что даришь нам свою дружбу, как и мы тебе – свою.
Лахет.
Итак, Лисимах, не отпускай этого мужа. Ведь я и в других случаях видел, как он делает честь не только своему отцу, но и своей родине.
b
Во время бегства из‑под Делия он отступал вместе со мною[329]
, и говорю тебе: если бы другие держались так, как он, наш город бы тогда устоял и не пал столь бесславно.
Лисимах.
Сократ, прекрасна хвала, кою воздают тебе по поводу таких дел люди, заслуживающие веры. Знай же, что, слыша это, я радуюсь твоей славе, и считай меня одним из самых больших твоих доброжелателей. Нужно было тебе еще раньше самому прийти к нам, по справедливости почитая нас своими людьми.
c
Но с нынешнего дня, поскольку мы теперь узнали друг друга, поступай только так: общайся с нами, узнай и нас и нашу молодежь, дабы и вы продолжили нашу дружбу. Ты и сам об этом позаботишься, да и мы со своей стороны будем тебе об этом напоминать. Но ответь нам хоть что‑нибудь на вопрос, с которого мы начали: что ты об этом думаешь? Полезно ли будет юношам обучаться сражению в тяжелых доспехах или же нет?
d
Сократ.
Я и в этом вопросе, Лисимах, попробую дать вам совет и помочь во всем остальном, с чем ты ко мне обратился. Но мне представляется самым правильным, поскольку я моложе Никия и Лахета и менее опытен[330]
, сначала послушать, что они скажут, и поучиться у них. Если же у меня будет что добавить сверх высказанного ими, то я сообщу об этом и постараюсь убедить и тебя и их. Что ж, Никий, почему не высказывается никто из вас двоих?
e
Никий.
Да нет, мой Сократ, этому ничто не препятствует. Мне кажется, что наука эта во всех отношениях пойдет на пользу молодым людям. И не надо предаваться другому времяпрепровождению, какое бывает любезно юношам, когда они располагают досугом, но прекрасно будет заниматься именно этим делом, благодаря которому тело непременно становится крепче (ведь занятие это ничуть не хуже других телесных упражнений и требует не меньшей затраты труда).
182
Вместе с тем свободнорожденному гражданину особо приличествует такой род упражнений, а также верховая езда: ведь мы знатоки в этом роде борьбы и в нем отличаются лишь те, кто упражняются в тяжелых доспехах. Далее, наука эта принесет определенную пользу и в настоящем сражении, когда придется сражаться в строю плечом к плечу со всеми другими воинами, а величайшая от нее польза бывает тогда, когда ряды воинов расстраиваются и уже надо сражаться один на один, либо настойчиво преследовать того, кто защищается, или, наоборот, убегая, обороняться от того, кто на тебя нападет.
b
Тому, кто преуспел в этой науке, такая стычка один на один ничем не грозит; возможно, и от большего числа противников он не пострадает и получит благодаря этой сноровке всевозможные преимущества. Кроме того, знание это возбуждает стремление и к другой прекрасной науке: ведь всякий, обучившись сражаться в тяжелом вооружении, должен стремиться к следующему за этим знанию – к знакомству с боевым строем, а обретя это знание и алкая в этом деле почестей, он устремится ко всем тонкостям искусства стратегии[331]
.
c
При этом ясно, что наука эта приводит к обладанию всеми подобными знаниями и навыками, прекрасными и весьма ценными для ученого и опытного мужа. Добавим к этому то немалое обстоятельство, что знание это делает любого человека намного более мужественным и смелым в сражении. Не сочтем также лишним сказать, даже если это и покажется малозначительной вещью, что наука эта придает мужу прекрасную осанку как раз тогда, когда ему нужно казаться статным, ибо при этом он и врагам благодаря своей статности кажется более страшным,
d
Итак, Лисимах, как я и говорю, я уверен, что юноши должны этому обучаться, и я объяснил, почему таково мое мнение. Если же Лахет что‑либо мне возразит, я с интересом его послушаю.
Лахет.
Конечно, тягостно, мой Никий, говорить о какой бы то ни было науке, что не следует ее изучать: ведь представляется прекрасным знать решительно всё. И бой в тяжелом вооружении – если только это наука (как утверждают ее учители, а также и Никий) – следует изучать.
e
Но если это не наука, и те, кто выдают это за нее, вводят нас в заблуждение, или если это наука, но не очень серьезная, – зачем же ее изучать?
183
А говорю я так об этом, принимая во внимание, что, если бы подобная наука представляла собой нечто значительное, это, по‑моему, не укрылось бы от лакедемонян, чьей единственной заботой в жизни являются поиски и усердные упражнения в тех вещах, зная и умея которые они могли бы превосходить других в ратном деле. Если же они это и упустили, то уж от учителей этого дела не укрылось, что лакедемоняне более всех эллинов усердствуют в подобных занятиях, так что если кто среди них бывает в этом прославлен, он получает от других огромные деньги подобно нашим знаменитым трагическим поэтам.
b
Разумеется, когда поэт, по общему мнению, прекрасно сочиняет трагедии, он не разъезжает за пределами Аттики по другим городам для их постановки, но спешит прямо сюда и показывает их здешним жителям, как то и следует. Для всех же этих гоплитов Лакедемон, как я замечаю, является заповедным местом, куда они и на цыпочках‑то боятся ступить, но обходят его стороной, предпочитая показывать свое искусство всем остальным, особенно тем, кто признает многих сильнее себя в ратном деле[332]
.
c
Кроме того, мой Лисимах, с немалым числом этих людей я сталкивался в деле и вижу, каковы они. Ведь мы можем рассмотреть вопрос и с этой точки зрения, а именно: в войне никогда не прославился ни один муж, усердно упражнявшийся в тяжелом вооружении. Между тем во всех других искусствах, если кто в чем‑то усердно упражняются, из них вырастают знаменитые люди. Гоплиты же, похоже, в противоположность прочим терпят в своем деле сильные неудачи.
d
Вот и Стесилая, на которого вместе со мной вы сейчас смотрели при великом стечении народа – как он показывал свое искусство и немало им похвалялся, – мне случилось более внимательно наблюдать при других обстоятельствах, в деле, когда свое искусство он показал невольно. Однажды военный корабль, на котором он служил, напал на грузовое судно, и тут Стесилай стал сражаться серповидным копьем – оружием, конечно, весьма необычным, но ведь и он человек, несхожий с другими.
e
Иных рассказов он, правда, не заслуживает, но стоит послушать, что вышло из этой хитроумной затеи – приделать к копью серп: пока он так сражался, копье его зацепилось за снасти чужого корабля и застряло. Стесилай потянулся, чтобы его вытащить, но не смог.
184
Тем временем чужой корабль стал проходить мимо нашего и повлек за собой Стесилая, ухватившегося за свое копье; оно стало постепенно выскальзывать у него из руки, но ему еще удалось ухватить его за нижний конец. Сколько же было смеху и шуму на грузовом судне из‑за его вида! А когда один из тех моряков бросил на палубу ему под ноги камень и он отпустил копье, то уже и те, кто находился на триере, не могли удержаться от смеха, видя, как его пресловутое копье раскачивается на грузовом судне. Так что, быть может, Никий и прав в этом вопросе, я же поведал вам о том, что мне случилось видеть[333]
.
b
Как я и говорил с самого начала, если это наука, то от нее мало пользы, если же это и вовсе не наука, но ее таковой пытаются изобразить, то не стоит и стараться ее изучать. Мне кажется, что если трус вообразит, будто он знает эту науку, то, обретя благодаря своему знанию дерзость, еще больше обнаружит, чем он является. Если же человек храбр, то, будучи на виду у всех, он даже из‑за малой ошибки навлечет на себя большую хулу, ибо претензия на такое знание вызывает зависть.
c
Так что если человек не отличается от других удивительным мужеством, не избежать ему осмеяния, коль скоро он заявляет, что преуспел в этой науке. Вот, Лисимах, что можно, на мой взгляд, сказать об усердии в этом деле. Поэтому надо, как я и говорил сразу, не отпускать нашего Сократа, но посоветоваться с ним, как он относится к нашей задаче.
d
Лисимах.
Да, прошу тебя об этом, Сократ. Мне представляется, что наш совет нуждается в третейском судье. Если бы обе стороны были между собою согласны, в нем было бы мало нужды; но теперь, как ты сам видишь, Лахет выступил против Никия. Хорошо было бы послушать тебя – за кого из этих мужей подашь ты свой голос.
Сократ.
Что же, мой Лисимах? Ты намерен придерживаться того, что одобрим мы большинством?
Лисимах.
Но как же еще поступить, Сократ?
Сократ.
И ты, Мелесий, поступишь так же? Даже если речь пойдет у нас об упражнении твоего сына в борьбе, ты последуешь совету большинства из нас, а не того, кто обучался и упражнялся под руководством хорошего учителя гимнастики?[334]
e
Мелесий.
Конечно, именно его совету, Сократ.
Сократ.
Следовательно, ты поверишь ему скорее, чем нам четверым?
Мелесий.
Пожалуй.
Сократ.
Я думаю, что судить надо на основе знания, а не принимать решение по важному вопросу большинством голосов.
Мелесий.
Именно так.
185
Сократ.
Значит, и сейчас прежде всего надо посмотреть, искусен ли кто‑либо из нас в деле, о котором мы совещаемся, или нет. И если искусен, надо поверить ему одному, а на остальных не обращать внимания; если же нет, надо поискать кого‑то другого. Уж не считаете ли вы – ты и Лисимах, – что рискуете сейчас чем‑то маловажным, а не величайшим достоянием из всего вашего имущества? Речь идет о том, будут ли ваши сыновья достойными людьми или наоборот, а ведь дом отца устрояется сообразно тому, каковы его сыновья.
Мелесий.
Ты прав.
Сократ.
Вот потому и надлежит проявлять здесь большую предусмотрительность.
Мелесии.
Несомненно.
b
Сократ.
Каким же образом – я уже задал этот вопрос недавно – следует нам рассмотреть это, если мы хотим понять, кто из нас наиболее искусен в борьбе? Вероятно, это будет тот, кто обучался ей и в ней упражнялся, а также у кого были в этом деле хорошие учители?
Мелесий.
Мне кажется это верным.
Сократ.
А не нужно ли нам раньше понять, что это за дело такое, учителей которого мы разыскиваем?
Мелесий.
Что ты имеешь в виду?
c
Сократ.
Попробую это разъяснить: мне кажется, что с самого начала мы не договорились о предмете нашего совещания и исследования, а именно не задали себе вопрос, кто из нас может считаться искусным и потому подходящим учителем, а кто – нет.
Никий.
Но разве, Сократ, мы говорили не об искусстве сражаться в тяжелом вооружении – нужно ли ему обучать юношей или нет?
Сократ.
Конечно, об этом, Никий. Но если кто разузнает что‑либо о лекарстве для глаз – стоит ли употреблять какую‑то мазь или нет, – он держит совет относительно лекарства или относительно глаз?
Никий.
Относительно глаз.
d
Сократ.
А когда кто‑либо интересуется уздечкой для коня – надевать ее или нет и когда именно, – он ведь держит совет о лошади, а не об уздечке?
Никий.
Ты прав.
Сократ.
Одним словом, когда кто‑либо рассматривает какой‑то вопрос ради чего‑то, он советуется о том, ради чего этот вопрос был поставлен, и вовсе не стремится прийти к чему‑то другому.
Никий.
Безусловно.
Сократ.
Следует, значит, посмотреть, искусен ли советчик в том, что он должен уладить и ради чего мы, размышляя, предпринимаем это исследование.
Никий.
Конечно.
e
Сократ.
Но разве мы рассматриваем сейчас не ту науку, которая полезна для души юношей?
Никий.
Да, именно эту.
Сократ.
Следовательно, надо рассмотреть, искусен ли кто‑либо из нас в врачевании душ и способен ли он прекрасно о них заботиться, а также у кого из нас были хорошие учители.
Лахет.
Но, мой Сократ, разве тебе не случалось видеть, что в некоторых делах люди без учителей оказываются более искусными, чем с учителями?
186
Сократ.
Конечно, Лахет. Однако ты не захочешь поверить тем, кто скажет, что они – хорошие мастера, если они но сумеют показать тебе произведения своего искусства, отлично сработанные, и не одно, а многие.
Лахет.
В этом ты прав.
Сократ.
Итак, Лахет и Никий, поскольку Лисимах и Мелесий пригласили нас на совет относительно своих сыновей, заботясь о том, чтобы души их стали сколь можно достойнее, нам следует показать им также, какие у нас были учители (если мы утверждаем, что они у нас были), кои и сами были достойными людьми и, позаботившись о душах многих юношей, научили, по‑видимому, своему делу и нас.
b
Или же – если кто из нас говорит, что не имел учителей, – он должен назвать свои собственные дела и показать, кто из афинян либо чужеземцев – рабов или свободных – стал благодаря ему, по общему мнению, лучше. Если же мы не владеем таким искусством, мы должны посоветовать вам поискать других, чтобы не рисковать испортить сыновей наших друзей, и не заслужить величайший упрек от близких.
c
О себе же, Лисимах и Мелесий, я прежде всего скажу, что не имел учителя в таком деле, хотя и стремлюсь преуспеть в нем с юности. Но у меня нет денег, чтобы платить софистам, а ведь только они одни заявляют, что способны сделать меня человеком достойным; сам же я пока не могу овладеть этим искусством. Если же Никий или Лахет обучались ему и им овладели, я не удивлюсь: они ведь состоятельнее меня, так что могут брать у других уроки, и, кроме того, они старше и потому успели познать эту науку. Мне кажется, они в состоянии воспитать человека:
d
вряд ли бы они столь решительно высказались относительно хороших и дурных навыков у молодого человека, если бы не чувствовали, что сами достаточно хорошо в этом разбираются. Однако, хотя в остальном я им доверяю, все же мне удивительно, что они так разошлись во мнениях. Вот и я призываю тебя, Лисимах (как только что Лахет призывал тебя не отпускать меня, но спросить моего совета), и прошу тебя не отпускать ни Лахета, ни Никия, но непременно спросить совета у них:
e
Сократ, мол, утверждает, что он не знаток в этом деле и не в состоянии рассудить, кто из вас прав; ведь он здесь ничего не изобрел и ни у кого не учился таким вещам. Ты же, Лахет, и ты, Никий, поведайте нам каждый в отдельности, с какого рода искуснейшим мастером занимались вы вопросами воспитания юношей и переняли ли вы у него эту науку или изобрели ее сами, а если не сами, то кто именно учил каждого из вас и какие еще есть знатоки в этой области, –
187
чтобы не пропадало зря ваше время, предназначенное для государственных дел, и чтобы мы отправились к этим людям и умоляли их с помощью даров или вежливых слов или того и другого вместе взять на себя заботу и о наших и о ваших детях, дабы они не позорили предков своею никчемностью. Если же вы сами изобрели эту науку, покажите нам ее образец и расскажите, кого вы вашим попечением сделали достойными людьми из негодных.
b
Ибо если вы лишь сейчас собираетесь взяться за воспитание, смотрите, как бы не получилось у вас так, что вы рискнете не карийцем[335]
, но своими собственными детьми и сыновьями своих друзей, и как бы не вышло у вас в точности по пословице, что вы начинаете гончарное дело с пифоса[336]
. Скажите им, что вам подвластно, как вы полагаете, и что пристало свершать в этом деле, а что нет. Итак, Лисимах, не отпускай этих мужей и услышь это от них самих.
c
Лисимах.
Мне кажется, друзья, Сократ говорит прекрасно. Желаете ли вы выслушать вопросы по этому делу и высказать свое мнение, Никий и Лахет, это должны решить вы сами. Что касается меня и вот Мелесия, ясно, мы будем очень рады, если вы пожелаете разобрать с помощью рассуждения все то, о чем спрашивает Сократ. Ведь как я сразу сказал, я привлек вас к совету по той причине, что и вас, как мы полагаем, конечно, заботят такие вещи – и вообще, и потому, что сыновья ваши, точно так же, как наши, вот‑вот достигнут возраста, когда они будут нуждаться в воспитании.
d
Поэтому, если только вы не возражаете, говорите и рассмотрите это вместе с Сократом, обмениваясь вопросами и ответами; ведь прекрасно он сказал, что мы совещаемся сейчас по важнейшему для нас делу. Смотрите же, нужно ли так поступить.
Никий.
Лисимах, мне кажется, ты действительно знаком с Сократом лишь по отцу, самого же его ты видал только мальчиком, когда он встречался с тобою среди сограждан по дему, сопровождая своего отца, – в храме или другом каком‑либо собрании земляков. Ясно, однако, что в более позднем возрасте ты не имел с ним дела.
e
Лисимах.
Но почему ты так думаешь, Никий?
Никий.
Мне кажется, ты не знаешь, что тот, кто вступает с Сократом в тесное общение и начинает с ним доверительную беседу, бывает вынужден, даже если сначала разговор шел о чем‑то другом, прекратить эту беседу не раньше, чем, приведенный к такой необходимости самим рассуждением, незаметно для самого себя отчитается в своем образе жизни как в нынешнее, так и в прежнее время.
188
Когда же он оказывается в таком положении, Сократ отпускает его не прежде, чем допросит его обо всем с пристрастием. Я‑то к этому привык и знаю, что необходимо терпеть это от него; вдобавок я вполне уверен, что и сам окажусь в таком положении. Я, Лисимах, получаю удовольствие от близкого общения с этим мужем и не считаю злом, если нам напоминают,
b
что мы сделали что‑то плохо или продолжаем так поступать, но полагаю, что человек, не избегающий таких наставлений и сознательно стремящийся, согласно сказанному Солоном, учиться, пока он жив[337]
, необходимо станет более осмотрительным в последующей своей жизни и не будет думать, будто старость сама по себе делает нас умнее. Для меня нет ничего непривычного в том, чтобы меня испытывал Сократ, и я уже давно понял, что в присутствии Сократа у нас пойдет разговор не о мальчиках, а о нас самих.
c
Как я и говорю, что касается меня, ничто не препятствует моему общению с Сократом по собственному его усмотрению. Но смотри, как отнесется к этому наш Лахет.
Лахет.
Никий, мое отношение к рассуждениям однозначно, и все же, если тебе угодно, не столько однозначно, сколько двузначно: ведь я могу одновременно показаться и любителем слов и их ненавистником. Когда я слышу какого‑либо мужа, рассуждающего о добродетели или какой ни на есть мудрости, и он при этом настоящий человек и достоин своих собственных слов, я радуюсь сверх меры, видя, как соответствуют и подобают друг другу говорящий и его речи.
d
При этом мне такой человек представляется совершенным мастером музыки, создавшим прекраснейшую гармонию[338]
, но гармонию не лиры и не другого какого‑то инструмента, годного для забавы, а истинную гармонию жизни, ибо он сам настроил свою жизнь как гармоническое созвучие слов и дел, причем не на ионийский лад и не на фригийский, а также и не на лидийский, но на дорийский, являющий собой единственную истинно эллинскую гармонию. Такой человек звучанием своей речи доставляет мне радость, и я начинаю казаться всякому любителем слов – настолько впечатляют меня его речи.
e
Тот же, кто действует противоположным образом, доставляет мне огорчение, и, чем лучше кажется он говорящим, тем огорчение это сильнее, что и заставляет меня казаться ненавистником слов. Сократовых же речей мне не случалось слышать, но прежде, как мне кажется, я узнал о его делах и тогда счел его достойным произносить прекрасные слова со всевозможной свободой.
189
Если он обладает и этим даром, то я во всем с ним согласен и охотно подвергнусь испытанию со стороны такого человека, не посетую на его науку и уступлю Солону с одной только оговоркой: старея, я хочу еще многому научиться, но лишь у достойных людей. Пусть Солон мне уступит в том, что и сам учитель должен быть хорошим человеком, дабы учился я без отвращения и не показался неучем. А будет ли учитель моложе меня, человеком, пока не стяжавшим славу либо обладающим еще каким‑то таким недостатком, мне до этого нет дела.
b
Итак, Сократ, я призываю тебя учить меня и испытывать, как тебе угодно, а также учиться у меня тому, что я знаю, – таким пользуешься ты у меня доверием с того дня, когда вместе со мной подвергался опасности и показал образец мужества[339]
, как это и полагается тому, кто действительно хочет его показать. Говори же все, что у тебя на душе, не считаясь с нашим возрастом.
Сократ.
c
По‑видимому, мы не сможем вас обвинить в нежелании как дать нам совет, так и подвергнуть вопрос совместному рассмотрению.
Лисимах.
Мы, с нашей стороны, также должны выразить эту готовность, Сократ: ведь я тебя причисляю к нам в этом деле. Рассмотри же вместо меня в пользу молодых людей то, что мы хотим выведать у Никия и Лахета, и, побеседовав с ними, дай нам совет. Я‑то из‑за своего возраста уже забыл многое из того, что предполагал спросить, а также и то, что уже услышал. Если же еще и другие пойдут здесь речи, то я и подавно их не упомню.
d
Вы же побеседуйте и обстоятельно обсудите между собой то, что мы вам предложили. А я послушаю и вместе с нашим Мелесием поступлю так, как и вы сочтете правильным.
Сократ.
Никий и Лахет, мы должны уступить Лисимаху и Мелесию. Быть может, и неплохо было с нашей стороны самим исследовать то, что сейчас мы попытались рассмотреть, а именно кем были наши учители в таком воспитании и кого из других людей сделали мы совершеннее. Но вот какое исследование, полагаю я, приведет нас к той же цели и, возможно, с самого начала оно было бы основательнее;
e
если мы выясним относительно какой‑либо вещи, что, присоединяясь к чему‑то, она делает лучшим то, чему становится причастной, и вдобавок если мы сможем действительно ее к этому присоединить, ясно, что мы узнаем то самое, относительно чего сможем дать совет, как это легче и лучше всего добыть.
190
Быть может, вам пока трудно уразуметь, что я имею в виду, но такую вещь вы легче поймете: если мы узнаем, что зрение, присоединяясь к глазам, делает их более зоркими у тех, у кого оно к ним присоединяется, и вдобавок если мы сможем сделать так, что оно действительно присоединится к его очам, нам станет ясно, что зрение – это то самое, относительно чего мы должны советоваться, как его легче и лучше приобрести. Но если мы не узнаем этого, а именно что такое зрение или слух, то едва ли мы сможем давать советы в качестве достойных целителей глаз или ушей и поучать, каким образом кто‑либо может обрести наилучший слух или зрение.
b
Лахет.
Ты говоришь правду, Сократ.
Сократ.
Итак, Лахет, оба этих мужа привлекают нас сейчас к совету о том, каким образом, придав душам их сыновей добродетель, сделать их более достойными людьми?
Лахет.
Именно так.
Сократ.
Следовательно, надо начать с того, чтобы узнать, существует ли добродетель? Ведь если мы вообще не будем знать о добродетели, что она существует, как сможем мы стать советчиками для кого бы то ни было в вопросе о том, каким образом приобрести ее наилучшим путем?
Лахет.
Никак, мне думается, Сократ, не сможем.
c
Сократ.
Значит, мы утверждаем, Лахет, будто знаем, что она существует.
Лахет.
Конечно же.
Сократ.
Итак, высказывая предположительно, что она собой представляет, мы говорим о вещи, кою мы знаем.
Лахет.
Да не иначе.
Сократ.
Но, достойнейший мой, давай не будем поспешно судить обо всей добродетели в целом: наверное, это слишком большое дело. Посмотрим сначала, достаточно ли хорошо мы знаем какую‑либо ее часть; тогда, по‑видимому, и само исследование окажется для нас более легким.
d
Лахет.
Сделаем, Сократ, как тебе угодно.
Сократ.
Какую же из частей добродетели мы прежде всего изберем? Не ясно ли, что ту, к которой, по‑видимому, тяготеет наука о тяжелом вооружении? А этой частью большинство людей почитают мужество. Разве не так?
Лахет.
И очень даже так.
Сократ.
Следовательно, прежде всего, Лахет, попытаемся сказать, что же это такое – мужество? А после того рассмотрим, каким образом можно придать его юношам, насколько это зависит от навыков и науки. Постарайся же определить, как я говорю, что такое мужество.
e
Лахет.
Но, клянусь Зевсом, Сократ, это не трудно сказать. Если кто добровольно остается в строю, чтобы отразить врагов, и не бежит, знай, это и есть мужественный человек.
Сократ.
Ты хорошо сказал, Лахет. Но, быть может, моя вина в том, что я неясно выразился, ибо ты ответил не на задуманный мною вопрос, но совсем другое.
Лахет.
Что ты имеешь в виду, Сократ?
191
Сократ.
Скажу, если только сумею. По‑видимому, мужествен тот, кто, по твоим словам, оставаясь в строю, продолжает сражаться с врагами.
Лахет.
Да, я так утверждаю.
Сократ.
Я тоже. Ну а если он, убегая и не оставаясь в строю, продолжает сражаться с врагами?
Лахет.
Как это – убегая?
Сократ.
А вот как скифы, о которых говорят, что они, убегая, сражаются не хуже, чем преследуя[340]
. Также и Гомер, восхваляя в одном месте лошадей Энея, говорит, что они,
b
устремляясь во всех направлениях, способны были «и преследовать, и в страхе нестись прочь». И самого Энея он восхваляет за понимание того, что такое страх, и называет его «насылателем страха»[341]
.
Лахет.
И прекрасно называет, Сократ, ибо Гомер говорит о боевых колесницах, а ты говоришь о скифских всадниках. Но это ведь скифская конница так сражается, я же говорю о тяжеловооруженной пехоте эллинов.
c
Сократ.
Здесь надо исключить лакедемонян, Лахет. Ведь о них говорят, что под Платеями, когда они оказались перед рядами щитоносцев, они не пожелали держать строй и продолжать сражение и побежали; когда же ряды персов расстроились, они, подобно всадникам, развернулись обратно и таким образом выиграли сражение[342]
.
Лахет.
Ты говоришь правду.
Сократ.
Да, как я недавно сказал, я сам виноват в том, что ты неправильно мне ответил, потому что я неправильно задал вопрос. В действительности же я хотел у тебя узнать о людях, мужественных не только в бою
d
гоплитов, но и в конном сражении и в любом другом виде боя, и кроме того не только в бою, но и среди морских опасностей, в болезнях, в бедности и в государственных делах, а вдобавок и о тех, кто мужествен не только перед лицом бед и страхов, но умеет искусно бороться со страстями и наслаждениями, оставаясь ли в строю или отступая: ведь мужество существует у людей и в подобных вещах, Лахет?
e
Лахет.
Существует, и даже очень, Сократ.
Сократ.
Итак, все эти люди мужественны, но одни из них обладают мужеством в наслаждениях, другие – в горе, третьи – в страстях, четвертые – в страхах, а иные, думаю я, выказывают во всем этом только трусость.
Лахет.
Очень верно.
Сократ.
Так вот, я спрашиваю, что означает каждое из этих двух понятий? Попытайся же снова определить мужество – каким образом во всех этих различных вещах оно оказывается одним и тем же. Или ты и сейчас еще не постигаешь, что я имею в виду?
Лахет.
Не очень.
192
Сократ.
Но я подразумеваю вот что: если бы я спрашивал относительно скорости – что это такое, скорость, встречающаяся нам и в беге, и при игре на кифаре, и при разговоре, и при обучении, а также во многих иных вещах и которую мы проявляем почти в каждой из вещей, достойных внимания, – в деятельности ли наших рук или бедер, рта и голоса или мысли, – разве не так поставил бы ты вопрос?
Лахет.
Да, именно так.
b
Сократ.
Значит, если бы кто спросил меня: «Сократ, как ты понимаешь то, что во всех вещах именуешь проворством?» – я ответил бы ему, что называю этим словом способность многого достичь за короткий срок – в отношении голоса, бега и во всех остальных вещах.
Лахет.
И ты будешь совершенно прав.
Сократ.
Вот ты и попытайся, Лахет, точно так же определить мужество – что это за способность, которая и в радости, и в горе, и во всем остальном, что мы сейчас перечислили, остается самою собой и потому именуется мужеством.
c
Лахет.
Мне кажется, мужество – это некая стойкость души: так и надо сказать обо всем, что по природе своей связано с мужеством.
Сократ.
Конечно, надо так сказать, если мы хотим сами себе дать ответ на вопрос. Но мне‑то кажется, что не всякая стойкость представляется тебе мужеством. А делаю я этот вывод вот из чего: ведь я‑то догадываюсь, мой Лахет, что ты причисляешь мужество к самым прекрасным вещам.
Лахет.
Да, будь уверен, что из всех вещей – к прекраснейшим.
Сократ.
Значит, стойкость, сопряженная с разумом, – это прекрасная вещь?
d
Лахет.
Несомненно.
Сократ.
А если она сопряжена с неразумностью? Разве не окажется она, напротив, вредной и злокозненной?
Лахет.
Да.
Сократ.
Назовешь ли ты прекрасным что‑то такое, что будет злокозненным и вредным?
Лахет.
Это было бы неправильно, Сократ.
Сократ.
Следовательно, такого рода стойкость ты не признаешь мужеством, поскольку она не прекрасна, мужество же прекрасно.
Лахет.
Ты молвишь правду.
Сократ.
Итак, по твоим словам, мужество – это разумная стойкость?
Лахет.
Видимо, да.
e
Сократ.
А знаем ли мы, по отношению к чему эта стойкость разумна? Ко всему – и к большому и к малому? Например, если бы кто‑нибудь упорствовал в разумном расходовании денег, зная при этом, что, потратив эти деньги, он приобретет большее, назовешь ли ты это мужеством?
Лахет.
Нет, конечно, клянусь Зевсом.
Сократ.
А если, например, врач, когда у его сына или у кого другого воспаление легких и тот просит есть или пить, не уступит ему, но воздержится?
Лахет.
Нет, и это вовсе не стойкость.
193
Сократ.
Но возьмем мужа, что проявляет стойкость в войне и стремится сражаться на разумном основании, поскольку он знает, что другие ему помогут, что он выступает против меньшего числа врагов и вдобавок худших воинов, чем его соратники, да еще и позиция его лучше, – назовешь ли ты стойкость, основанную на такой разумности и предусмотрительности, мужественной или же скорее припишешь это свойство тому, кто, находясь в войске противника, стремится оказать сопротивление и устоять?
b
Лахет.
Тому, думаю я, кто находится в войске противника, мой Сократ.
Сократ.
Но такая стойкость будет менее разумной, чем первая.
Лахет.
Ты прав.
Сократ.
И того, кто со знанием дела противостоит коннице в конном бою, ты назовешь менее мужественным, чем того, кто в этом деле не смыслит?
Лахет.
Мне кажется, да.
Сократ.
А также и того, кто стоек в искусстве метания из пращи, стрельбы из лука или в другой какой‑то сноровке?
c
Лахет.
Несомненно.
Сократ.
И о тех, кто хотят, спустившись в колодец и погрузившись в него поглубже, проявить в этом занятии стойкость, не будучи искушенны в нем или в чем‑то подобном, ты скажешь, что они мужественнее, чем искушенные?
Лахет.
Но кто сказал бы иначе, Сократ?
Сократ.
Никто, если бы мыслил подобным образом.
Лахет.
А ведь я так и мыслю.
Сократ.
Однако такие люди, Лахет, менее разумны, когда идут на риск и когда проявляют стойкость, чем те, кто делает то же самое, владея искусством?
Лахет.
Очевидно.
d
Сократ.
А разве безрассудная отвага и стойкость не показалась нам прежде постыдной и вредной?
Лахет.
Безусловно, показалась.
Сократ.
Мы же признали, что мужество – это нечто прекрасное.
Лахет.
Признали.
Сократ.
А теперь мы снова твердим, что это постыдное – безрассудная стойкость – называется мужеством?!
Лахет.
Похоже, что да.
Сократ.
И тебе кажется, что это у нас хорошо получается?
Лахет.
Нет, Сократ, клянусь Зевсом, наоборот!
e
Сократ.
Значит, Лахет, по твоим словам, мы – я и ты – настроены не на дорийский лад: ведь дела у нас не созвучны со словами, потому что кто‑то сможет, если подслушает наш разговор, сказать, что на деле мы с тобою причастны мужеству, на словах же – нет.
Лахет.
Ты говоришь сущую правду.
Сократ.
Ну и что же? Хорошо ли, по‑твоему, находиться нам в таком положении?
Лахет.
Нет, нисколько.
194
Сократ.
Желаешь ли ты, чтобы мы хоть немного последовали сказанному?
Лахет.
Чему же мы должны последовать и насколько?
Сократ.
А рассуждению, повелевающему быть стойкими. Итак, если тебе угодно, давай останемся при нашем исследовании и будем стойкими, чтобы само мужество не посмеялось над нами за то, что мы немужественно его ищем, коль скоро стойкость, как таковая, часто оказывается мужеством.
b
Лахет.
У меня привычка, Сократ, не отступать; и хоть я и не искушен в подобных речах, однако сказанное задело меня каким‑то образом за живое, и я негодую при мысли, что не могу выразить в словах то, что у меня на уме. Мне кажется, я понимаю, что такое мужество, и не знаю, каким образом оно от меня только что ускользнуло, так что я не могу схватить его словом и определить.
Сократ.
Так не думаешь ли ты, мой друг, что надо пустить по его следу хорошего ловца, который его не упустит?
Лахет.
Да, ты во всех отношениях прав.
Сократ.
Давай же привлечем к этой охоте нашего Никия – быть может, он окажется проворнее нас?
c
Лахет.
Я согласен. Почему нам не поступить таким образом?
Сократ.
Мой Никий, приди же на помощь, если ты в силах, своим друзьям, терпящим невзгоду в словесной буре[343]
: ты видишь, в каком мы сейчас затруднении. Сказавши нам, что именно ты считаешь мужеством, ты высвободишь нас из пут и подкрепишь своим словом то, что ты мыслишь.
Никий.
Мне давно кажется, мой Сократ, что вы неверно определяете мужество, а прекрасными речами, которые я уже от тебя слышал, вы не воспользовались.
Сократ.
Какими же это речами, Никий?
d
Никий.
Мне часто доводилось от тебя слышать, что каждый из нас хорош в том, в чем он мудр, там же, где он невежествен, он плох.
Сократ.
Клянусь Зевсом, Никий, ты говоришь правду.
Никий.
Значит, если мужественный человек хорош, ясно, что он и мудр.
Сократ.
Ты слышишь, Лахет?
Лахет.
Слышу, хотя и не очень понимаю, о чем он.
Сократ.
А я, мне кажется, понимаю, и мне представляется, что он называет мужество некой мудростью.
Лахет.
Какой же это мудростью, Сократ?
e
Сократ.
Ты спрашиваешь об этом у Никия?
Лахет.
Да, именно у него.
Сократ.
Так ответь же ему, Никий, какую именно мудрость считаешь ты мужеством; ведь не премудрость же игры на флейте.
Никий.
Ни в коей мере.
Сократ.
И также на кифаре.
Никий.
Конечно, нет.
Сократ.
Но что же это за наука и о чем она?
Лахет.
Ты очень правильно ставишь перед ним вопрос, Сократ; пусть скажет, что это за наука.
195
Никий.
Я имею в виду, Лахет, науку о том, чего следует и чего не следует опасаться как на войне, так и во всех прочих делах.
Лахет.
Как нескладно он говорит, Сократ!
Сократ.
Почему тебе так кажется, Лахет?
Лахет.
Да потому, что мудрость не имеет никакого отношения к мужеству.
Сократ.
Но Никий так не считает.
Лахет.
Нет, клянусь Зевсом! Отсюда‑то его пустые слова.
Сократ.
Так, может быть, научим его, а не будем над ним насмехаться?
b
Никий.
Нет, мой Сократ, Лахет этого не желает; он хочет сказать, что я болтаю вздор, потому что сейчас только оказалось, что он сам говорит пустое.
Лахет.
Да, мой Никий, весьма хочу, и постараюсь свои слова подтвердить. Да, ты говоришь вздор. Разве, например, врачи не знают, чего надо опасаться в болезнях? Или тебе кажется, что это знают только люди мужественные? А может быть, ты как раз врачей и называешь мужественными людьми?
Никий.
Нет, вовсе нет.
Лахет.
Тогда, думаю я, земледельцев. Ведь знают же они всё опасное в земледелии, точно так же как и все прочие мастера в своих ремеслах понимают, чего надо и чего не надо страшиться. Но от этого они ничуть не становятся мужественнее.
c
Сократ.
Что ты думаешь, Никий, о словах Лахета? Кажется, он говорит что‑то дельное.
Никий.
Да, что‑то он говорит, но не истину.
Сократ.
Как так?
Никий.
Да так, что он полагает, будто врачи знают о больных нечто большее, чем то, что полезно или вредно для их здоровья. А на самом деле знают они лишь это. Не думаешь ли ты, Лахет, будто врачи знают, что для некоторых здоровье более опасно, чем болезнь? Разве ты не знаешь, что для многих лучше не оправиться после болезни, чем оправиться? Скажи: ты считаешь, что всем лучше оставаться живыми, и не допускаешь, что многим лучше умереть?
d
Лахет.
Нет, я вполне это допускаю.
Никий.
И ты полагаешь, что одного и того же следует опасаться и тем, кому целесообразно жить, и тем, кому лучше умереть?
Лахет.
Нет, этого я не думаю.
Никий.
И это‑то знание ты приписываешь врачам или другим каким‑то мастерам своего дела, а не тому, кто знает, что опасно или, наоборот, не опасно, и кого я именую мужественным?
Сократ.
Лахет, ты понимаешь, что он имеет в виду?
e
Лахет.
Понимаю, что мужественными именует он прорицателей. Ведь кто же, кроме них, знает, кому лучше жить, а кому – умереть? Ну а себя‑то, Никий, ты считаешь прорицателем или и не прорицателем и не истинным мужем?
Никий.
Ну вот! Значит, ты думаешь, будто это дело прорицателя – знать, чего надо остерегаться и чего – нет?
Лахет.
Да чье же еще это может быть дело?
Никий.
Да гораздо скорее того, кого я имею в виду, мой добрейший: ведь прорицателю надлежит всего только различать знамения будущего – суждена ли смерть или болезнь или утрата состояния, а также победа или поражение в войне или какой‑то иной борьбе. А что из этого лучше испытать или не испытать – разве об этом более подобает судить ему, чем любому иному?
196
Лахет.
Но я не возьму в толк, Сократ, что он хочет сказать. Ясно, что он не считает мужественным человеком ни прорицателя, ни врача, ни кого‑либо другого – разве только какого‑то бога. Мне кажется, Никий не хочет честно признаться, что он говорит вздор, но изворачивается и так и эдак, чтобы скрыть свою несостоятельность.
b
Однако и мы могли бы точно так же вот изворачиваться – я и ты, – если бы хотели доказать, что мы не противоречим самим себе. Ведь если бы нам надо было держать ответ в суде, мы уж нашли бы для этого нужные слова. А вот теперь, в подобной частной беседе, зачем это нужно бесцельно тратить слова, чтобы выставить себя в лучшем свете?
Сократ.
Мне тоже кажется, что это ни к чему, Лахет. Однако давай посмотрим, не считает ли Никий, что он вовсе не держит речь ради красного словца, но говорит дело.
c
Давай поточнее выведаем у него, что он имеет в виду, и, если окажется, что он говорит дельно, согласимся с ним, если же нет – поучим его уму‑разуму.
Лахет.
Коли тебе угодно выведывать, Сократ, ты и выведывай; я же, мне кажется, уже довольно узнал.
Сократ.
Ничто не препятствует мне это сделать: ведь у нас с тобой общая цель расспросов.
Лахет.
Разумеется.
Сократ.
Ответь же мне, вернее, нам обоим, Никий, (ведь мы оба – и я и Лахет – участвуем в разговоре): ты утверждаешь, что мужество – это знание того, чего надо и чего не надо остерегаться?
d
Никий.
Да.
Сократ.
И такое знание доступно не всякому, поскольку ни врач, ни прорицатель им не обладают и потому не могут считаться мужественными людьми, если не приобретут и это самое знание. Так ведь ты говоришь?
Никий.
Да, именно так.
Сократ.
Значит, если вспомнить поговорку, то на самом деле не «всякая свинья» может обладать знанием и быть мужественной[344]
.
Никий.
Да, мне так кажется.
Сократ.
Следовательно, Никий, ясно, что и в отношении кроммионской свиньи[345]
ты не поверишь, будто она может быть мужественной. Я говорю это вовсе не в шутку, но полагаю, что человек, произносящий эту пословицу, не допустит мужественности ни у одного из животных, а также и не признает какое‑либо животное настолько мудрым,
e
чтобы можно было сказать, будто знание вещей, известных лишь немногим людям из‑за трудности их постижения, можно приписать льву, или пантере, или какому‑то вепрю. А ведь в то же время необходимо приписать природное мужество и льву, и оленю, и волу, и обезьяне, если считать мужеством то, что ты полагаешь.
197
Лахет.
Клянусь богами, ты хорошо сказал, мой Сократ. Ответь же нам искренне, Никий, считаешь ли ты более мудрыми, чем мы, тех животных, которых все признают мужественными? Или же ты осмелишься вопреки всем не называть их такими?
Никий.
Но, Лахет, я и не думаю называть мужественными ни зверей, ни какое‑либо иное существо, не страшащееся опасности по неразумию и потому бесстрашное и глупое. Может быть, ты думаешь, что я назову мужественными всех без исключения детей, которые по неразумию ничего не страшатся?
b
Я считаю, что бесстрашное существо и существо мужественное – это не одно и то же. Я полагаю, что мужеству и разумной предусмотрительности причастны весьма немногие, дерзкая же отвага и бесстрашие, сопряженные с непредусмотрительностью, свойственны очень многим – и мужчинам, и женщинам, и детям, и животным. И те существа, что ты вместе со многими именуешь мужественными, я называю дерзкими, мужественными же именую разумных, о которых я говорю.
c
Лахет.
Погляди‑ка, Сократ, как ловко он, по его мнению, приукрасил себя словами; и тех, кого все признают мужественными, он пытается лишить этой чести.
Никий.
Вовсе нет, мой Лахет, будь спокоен: я утверждаю, что ты мудр, а также и Ламах[346]
, коль скоро вы мужественны, и то же самое говорю о многих других афинянах.
Лахет.
Я ничего не отвечу на это, хотя ответить и мог бы, ибо боюсь, как бы ты не назвал меня настоящим эксонцем[347]
.
d
Сократ.
Не говори так, Лахет. Мне кажется, ты не улавливаешь, что Никий усвоил эту мудрость от нашего друга Дамона, Дамон же весьма близок к Продику[348]
, который, как кажется, из всех софистов лучше других разбирается в таких именах.
Лахет.
Да и больше подобает, Сократ, софисту пускаться в такие тонкости, чем мужу, которого город считает своим достойным защитником.
Сократ.
Однако, достойнейший мой, чем больше доверяют защитнику, тем более должен он быть разумным. И мне кажется, Никий заслуживает, чтобы мы рассмотрели, что он имеет в виду, когда произносит слово «мужество».
e
Лахет.
Так ты сам и рассматривай это, Сократ.
Сократ.
Я и намерен это сделать, добрейший мой, однако не лишай меня твоей поддержки в беседе, но будь внимателен и рассматривай вместе со мною сказанное.
Лахет.
Пусть будет так, если ты считаешь это необходимым.
Сократ.
Да, это необходимо. Ты же, Никий, скажи нам снова: знаешь ли ты, что с самого начала нашей беседы мы рассматривали мужество как часть добродетели?
198
Никий.
Конечно, знаю.
Сократ.
Значит, и ты выразил мнение, что это – некая часть, и при этом существуют другие части, все вместе именующиеся добродетелью?
Никий.
Как же иначе?
Сократ.
Но имеешь ли ты при этом в виду то же, что и я? Я ведь причисляю к добродетели кроме мужества рассудительность, справедливость и все прочее в том же роде. А ты?
b
Никий.
И я, разумеется, также.
Сократ.
Посмотри: в этом мы все согласны, что же касается опасности и безопасности, то мы стремимся в нашем исследовании, чтобы твое мнение здесь не расходилось с нашим. Сейчас я тебе скажу, что мы думаем; если же ты с этим не согласишься, укажи это нам. Считаем же мы, что опасное – это то, что порождает страх, безопасное же, наоборот, его не порождает. Страх в свою очередь порождают не возникающие и не наличные беды, но ожидаемые: ведь страх – это ожидание грядущей беды. Не кажется ли тебе так, Лахет?
c
Лахет.
Именно так, мой Сократ.
Сократ.
Значит, Никий, ты слышишь наше мнение, состоящее в том, что опасностью мы считаем грядущее зло, безопасным же – отсутствие ожидания зла или добра. А ты думаешь так же или иначе об этом предмете?
Никий.
Точно так же.
Сократ.
И ты объявляешь знание этих вещей мужеством?
Никий.
Совершенно верно.
Сократ.
Посмотрим еще, согласен ли ты с нами по третьему пункту.
Никий.
По какому же это?
d
Сократ.
Сейчас скажу. Мне и вот Лахету кажется, что если существует знание о чем‑то, то оно не отлично от знания происхождения данной вещи (то есть знания того, как она возникла) или от знания ее становления (то есть ее самопроявления), а также от знания того, как наилучшим образом могло бы осуществиться и осуществится в будущем нечто еще не происшедшее, но всё это – одно и то же знание. Например, в отношении здоровья для всех времен существует не различное, но одно‑единственное врачебное знание, кое наблюдает за тем, что происходит, что возникло, что должно возникнуть в будущем и каким образом это возникает;
e
точно так же обстоит дело в земледелии относительно того, что рождает земля. Конечно же и в военном деле вы сами засвидетельствуете, что искусство стратегии прекраснейшим образом предусматривает в числе прочих вещей то, что ожидается в будущем, и никто не думает, будто ему должно содействовать искусство гадания; наоборот, стратегия повелевает этим последним, гораздо лучше ведая все относительно войны – как происходящее, так и то, что произойдет.
199
Да и закон устанавливает, что не прорицатель должен руководить военачальником, а военачальник – прорицателем[349]
. Ведь так мы скажем, Лахет?
Лахет.
Да, так.
Сократ.
А ты, Никий, согласишься с нами, что относительно одних и тех же вещей существует одно и то же знание, касается ли это будущего, настоящего или прошлого?
Никий.
Да, конечно, и я так думаю, мой Сократ.
Сократ.
Значит, почтеннейши мой, мужество, как ты утверждаешь, – это знание опасного и безопасного. Не так ли?
b
Никий.
Так.
Сократ.
А опасное и безопасное, как мы согласились, может оказаться в будущем и добром и злом.
Никий.
Безусловно.
Сократ.
Наука же об этих вещах – и ожидаемых в будущем и могущих иметь различный исход – одна и та же.
Никий.
Это так.
c
Сократ.
Следовательно, мужество – наука не только об опасном и безопасном, ибо она знает толк не только в грядущем добре и зле, но и в настоящем, и в прошедшем – в самых различных отношениях, – как и все другие науки.
Никий.
Очевидно.
Сократ.
Таким образом, Никий, ты дал нам примерный ответ, относящийся лишь к одной трети мужества. Однако мы спрашивали тебя о мужестве в целом – что оно такое. И вот теперь, если судить по твоим словам, оно, по‑видимому, является не только наукой о том, что опасно и что безопасно, но и наукой едва ли не обо всем добре и зле во всех их проявлениях. Согласен ты на такую поправку или нет, мой Никий?
Никий.
Я согласен, Сократ.
d
Сократ.
А неужели ты, чудесный мой, думаешь, что может недоставать добродетели такому человеку, коему ведомо все добро во всех его проявлениях – сущее, бывшее и будущее – и точно так же и зло? И что он испытывает недостаток в рассудительности, справедливости и благочестии – он единственный, кому по силам в божественных делах и в человеческих тщательно взвесить, что опасно и что безопасно, и обрести блага, зная, как правильно обращаться к богам и людям?
Никий.
Мне кажется, Сократ, ты говоришь дело.
Сократ.
Значит, Никий, то, о чем ты сейчас сказал, – это не часть добродетели, но вся добродетель в целом.
e
Никий.
По‑видимому.
Сократ.
И все же мы сказали, что мужество – это часть добродетели.
Никий.
Да, сказали.
Сократ.
Но с теперешними нашими словами это не согласуется.
Никий.
Да, как будто не согласуется.
Сократ.
Значит, мой Никий, мы не выявили, что же такое мужество.
Никий.
Кажется, нет.
200
Лахет.
А я‑то, добрейший мой Никий, думал, что ты это выявишь, когда, пренебрегши мною, ты стал отвечать Сократу. Великую питал я надежду, что ты объяснишь нам мужество с помощью Дамоновой мудрости.
Никий.
Хорош же ты, Лахет, если считаешь пустяком свое собственное, недавно проявившееся невежество в определении мужества и желаешь лишь, чтобы и я показал себя в том же свете, причем для тебя, похоже, не имеет никакого значения, что ты. так же как и я, ничего не смыслишь в том знании, кос подобает иметь всякому уважающему себя мужу. Поистине, мне кажется, ты поступаешь, как большинство людей, не видя ничего за самим собой, но примечая зато за другими.
b
Я же считаю, что теперь мною достаточно сказано о предмете нашей беседы, а если и было что‑то упущено, то это можно будет после поправить вместе с Дамоном, (над которым ты считаешь возможным смеяться, хотя никогда не был с ним знаком), а также с другими. И когда я это осуществлю, я разъясню тебе все без утайки, ибо, мне кажется, ты очень нуждаешься в этой науке.
c
Лахет.
Да, Никий, уж ты мудрец. И все же я посоветую нашим Лисимаху и Мелесию отстранить нас с тобою от воспитания юношей, но зато, как я говорил с самого начала, не отпускать нашего Сократа: если бы у меня были сыновья этого возраста, я поступил бы точно так же.
Никий.
Да и я согласен, если только Сократ желает заняться воспитанием мальчиков, не надо искать никого другого; ведь я и сам охотно поручил бы ему Никерата[350]
, если бы он пожелал.
d
Но Сократ всякий раз, как я ему напоминаю о Никерате, отсылает меня к другим, сам же не хочет за это браться. Смотри же, Лисимах, может быть, ты сделаешь Сократа более сговорчивым.
Лисимах.
Ты прав, мой Никий, ведь и я готов для него сделать гораздо больше того, что желал бы делать для многих других. Что скажешь ты, мой Сократ? Пойдешь ли ты нам навстречу и возьмешь ли на себя заботу о мальчиках, чтобы они стали как можно более достойными людьми?
e
Сократ.
Было бы ужасно, мой Лисимах, если бы кто не пожелал позаботиться о том, чтобы человек стал по возможности лучшим. И если бы в состоявшейся нынче беседе я проявил себя как знаток, а Никий и Лахет – как невежды, было бы правильно пригласить для этого дела меня. Но на самом деле мы все оказались в затруднении; как же можно остановить свой выбор на ком‑либо из нас?
201
Мне лично представляется, что это невозможно. А если это так, посмотрите, не покажется ли вам дельным мой совет. Я считаю, друзья (между нами будь сказано), что надо нам всем вместе усердно искать самого лучшего наставника для себя самих (ведь мы в нем очень нуждаемся), а уж потом для мальчиков, не жалея при этом ни денег, ни иных каких‑либо средств; оставаться же нам в таком положении, в каком мы сейчас, я не советую. А если кто станет насмехаться над нами, что, мол, в подобном возрасте мы хотим стать учениками, то нам надо, считаю я, выставить своим поборником Гомера, который сказал: «Не подобает тому, кто в нужде, быть стыдливым»[351]
. Так и мы, махнув рукой на того, кто что‑либо скажет, все вместе позаботимся и о самих себе и о юношах.
b
Лисимах.
Мне нравится, Сократ, то, что ты говоришь. И я хочу, даром что я самый старший, тем усерднее обучаться вместе с подростками. Но сделай для меня вот что: приходи завтра спозаранку в мой дом, не откажи с мне, и мы будем держать об этом совет. Сегодняшнюю же беседу давайте закончим.
Сократ.
Да, я так поступлю, Лисимах, и приду к тебе завтра, если захочет бог[352]
.
Перевод С. Я. Шейнман‑Топштейн.
В кн.: Платон. Диалоги. М.: «Мысль», 1986
X. ЕВТИФРОН
Евтифрон, Сократ
2
Евтифрон.
Что это за новость, Сократ? Оставив свои беседы в Ликее, ты теперь проводишь время здесь, у царского портика[353]
? Нет ли и у тебя какой‑нибудь жалобы к царю[354]
, как у меня?
Сократ.
Но афиняне, Евтифрон, называют это не жалобой, а иском[355]
.
b
Евтифрон.
Что ты говоришь? Кто‑то вчинил тебе иск? Ведь не могу же я поверить, что, наоборот, ты сам обвиняешь кого‑то.
Сократ.
Конечно, нет.
Евтифрон.
Значит, кто‑то другой обвиняет тебя?
Сократ.
Вот именно.
Евтифрон.
Кто же это?
Сократ.
Я и сам, Евтифрон, не очень‑то знаю этого человека: мне представляется, он из молодых и мало известных; зовут же его, как мне кажется, Мелетом, а родом он из дема Питфа[356]
. Можешь ты вообразить себе такого питфейца Мелета – длинноволосого и жидкобородого да к тому же еще и курносого?
c
Евтифрон.
Нет, мой Сократ, такого я не припомню. Но какой же он вчинил тебе иск?
Сократ.
Какой иск? Да, на мой взгляд, нешуточный. Ведь это не пустяк – в молодые годы распознать подобное дело. Ему‑де известно, говорит он, почему развращаются молодые люди и кто именно их развращает. Выходит, что он‑де мудрец, а я, как он усмотрел, невежда и развращаю его сверстников, потому‑то он и выступает перед городом‑матерью с обвинением против меня. Мне мнится, что среди всех государственных мужей он
d
единственный действует правильно: в самом деле, ведь правильно прежде всего проявить заботу о молодых людях, чтобы они были как можно лучше, как хорошему земледельцу подобает прежде всего позаботиться о молодых побегах, а уж после обо всем остальном. Подобным же образом и Мелет, возможно, сначала хочет выполоть нас,
3
из‑за которых гибнут ростки юности так он говорит, – а уж затем, как это ясно, он позаботится и о старших и учинит для города множество величайших благ: по крайней мере так обычно бывает с теми, кто выступает с подобными начинаниями.
Евтифрон.
Хотел бы я, Сократ, чтобы было так. Однако боюсь, как бы не вышло прямо противоположного: ведь мне решительно кажется, что, замышляя неправое дело против тебя, он начинает разрушать свой дом с очага[357]
. Но скажи мне, каким образом, утверждает он, развращаешь ты юношей?
b
Сократ.
Странные вещи делаю я, если его послушать, мой милый. Он утверждает, что я творю богов. И обвинение его состоит в том, что я ввожу новых богов, старых же не почитаю, как он говорит.
Евтифрон.
Понятно, Сократ: ведь ты сам утверждаешь, что тебе часто является твой гений[358]
. Значит, он строит свое обвинение на твоих предполагаемых нововведениях в божественных вопросах и выступает в суде с клеветой, хорошо понимая, что подобные вещи легко становятся предосудительными в глазах большинства. Ведь и надо мною потешаются, как над безумцем[359]
, когда я предсказываю в народном собрании что‑либо
c
относительно божественных предначертаний. И хотя все мои предсказания были правдивыми, все же людям, подобным мне, всегда завидуют; однако надо не обращать на завистников никакого внимания и смело идти против них[360]
.
Сократ.
Милый Евтифрон, то, что они высмеивают меня, это пустяк. Афинян, как мне кажется, не слишком задевает, если кто‑либо считается сильным в философии, лишь бы он был не способен передать свою мудрость другим.
d
Но вот когда они думают, что кто‑то делает и других подобными себе, они приходят в ярость – либо из зависти, либо по какой‑то иной причине.
Евтифрон.
Тут‑то мне мало дела до того, как они ко мне относятся.
Сократ.
Быть может, они полагают, что ты воздерживаешься от поучений и не желаешь передавать свою мудрость другим. Что до меня, то боюсь, они считают, будто я по человеколюбию щедро рассыпаю перед всеми свое достояние, не только не требуя вознаграждения, но вдобавок и от души приплачивая за то только, чтобы меня пожелали слушать.
e
Если бы, я повторяю, они собирались надо мной посмеяться, как, по твоим словам, они смеются над тобою, то ничего не было бы тягостного в том, чтобы провести время в суде за шутками и смехом; но коли они начинают дело всерьез, то совсем не ясно, чем это может кончиться, – разве только это видно вам, прорицателям.
Евтифрон.
Скорее всего, мой Сократ, это ничем серьезным не кончится, и ты успешно выиграешь свою тяжбу, как и я, полагаю, свою.
Сократ.
А у тебя, Евтифрон, тоже какая‑то тяжба? И ты выступаешь в ней ответчиком или истцом?
Евтифрон.
Истцом.
Сократ.
Против кого?
4
Евтифрон.
Против такого человека, что и здесь могу показаться безумцем.
Сократ.
Каким же образом? Может быть, ты гонишься за тем, кто неуловим?[361]
Евтифрон.
Куда уж там быть неуловимым такому старцу!
Сократ.
Кто же это такой?
Евтифрон.
Мой отец.
Сократ.
Твой отец, почтеннейший?
Евтифрон.
Вот именно.
Сократ.
В чем же состоит жалоба и из‑за чего идет тяжба?
Евтифрон.
Из‑за убийства, Сократ.
b
Сократ.
Клянусь Гераклом! Разумеется, Евтифрон, большинству здесь неведомо, прав ты или не прав. Не думаю, чтобы первому встречному было по плечу правильно решить это дело, разве только тому, кто достиг высокой степени мудрости.
Евтифрон.
Да, клянусь Зевсом, тому, кто достиг.
Сократ.
Без сомнения, умерший по вине твоего отца кто‑либо из домашних? Это ведь ясно. Ведь не стал бы ты привлекать отца к судебной ответственности из‑за чужого?[362]
Евтифрон.
Смехотворно, Сократ, если ты думаешь, будто есть разница, из домашних ли убитый или чужой, и не считаешь, что надо заботиться лишь о том, по праву ли умертвил его убивший или же нет, и если по праву, то отпустить его с миром, а если нет, то
c
преследовать по суду, будь даже убийца твоим домочадцем и сотрапезником. Ведь ты подвергаешься осквернению не меньше, чем он, если будешь общаться с таким человеком, зная о его провинности, и не очистишь себя самого и его, обратившись в суд[363]
. Впрочем, убитый был из моих поденщиков; когда мы обрабатывали землю на Наксосе[364]
, он там у нас работал. Напившись пьяным, он рассердился на одного из наших рабов и зарезал его. Отец мои, связав его по рукам и ногам, бросил в какой‑то ров и послал сюда человека, дабы узнать у экзегета[365]
, что делать дальше.
d
Тем временем он не обращает на связанного никакого внимания и не проявляет о нем никакой заботы: дескать, это убийца, и ничего не случится, если он умрет. А он‑то возьми и умри. От голода и холода и оттого, что был связан, умер он раньше, чем вернулся вестник от экзегета. Вот за это‑то и гневается мой отец и другие домашние, что из‑за убийцы я обвиняю в убийстве отца, который и не убивал‑то вовсе, а если бы и убил, то, поскольку убитый сам убил человека, о нем не стоит и беспокоиться: мол, нечестиво со стороны сына преследовать по суду своего отца за убийство. А ведь они просто плохо знают божественный закон, касающийся благочестия и нечестия.
e
Сократ.
Скажи ради Зевса, Евтифрон, ты‑то себя считаешь настолько точно осведомленным в божественных законах и в вопросах благочестия и нечестия, что не страшишься – даже если все было так, как ты говоришь, – сам совершить нечестивое дело, преследуя отца по суду?
Евтифрон.
Мало было бы от меня пользы, Сократ, и ничем не отличался бы Евтифрон[366]
от большинства людей, если бы я не был точно осведомлен о подобных вещах.
5
Сократ.
Пожалуй, уважаемый Евтифрон, для меня самое лучшее – стать твоим учеником и прежде, чем состоится моя тяжба с Мелетом, возбудить против него ходатайство со своей стороны, заявив, что я и раньше высоко ценил познание божественных законов, теперь же, когда он обвиняет меня в том, что я погрешаю против этих законов, самовольничая и вводя различные новшества, я стал твоим учеником. «И вот, – сказал бы я, – если ты, Мелет, признаешь Евтифрона мудрым
b
в этих вопросах, то считай и меня человеком правильно мыслящим и не преследуй меня по суду; если же нет, то прежде, чем мне, вчини иск ему, моему наставнику, за то, что он губит стариков, меня и своего отца, тем, что меня обучает, а его – проучает и наказывает». И если он мне не поверит и не освободит меня от обвинения или не вчинит иск вместо меня тебе, я смогу в суде выставить то же ходатайство, с которым я выступил перед ним.
c
Евтифрон.
Клянусь Зевсом, Сократ, если только он попробует вчинить мне иск, то я уж отыщу, я думаю, его слабое место, и скорее всего дело в суде пойдет у нас о нем, чем обо мне.
Сократ.
Вот и я, дорогой мой друг, понимая это, жажду стать твоим учеником, ибо знаю, что ни этот Мелет, ни кто‑либо другой тебя вроде бы и не замечают, меня же он разглядел так легко и ясно, что даже обвинил в нечестии. Поведай же мне, ради Зевса, то, относительно чего ты сейчас настойчиво утверждал, будто доподлинно это знаешь, а именно в чем заключается благочестие и нечестие как в отношении убийства, так и во всем остальном?
d
Разве же в любом деле благочестивое не тождественно самому себе, и, с другой стороны, разве нечестивое не противоположно всему благочестивому, самому же себе подобно, и разве не имеет оно некоей единственной идеи, выражающей нечестие для всего, что по необходимости бывает нечестивым?
Евтифрон.
Само собой разумеется, Сократ.
Сократ.
Так скажи же, что именно ты называешь благочестивым и нечестивым?
Евтифрон.
Я утверждаю: благочестиво то, что я сейчас делаю, а именно благочестиво преследовать по суду преступника, совершившего убийство, либо ограбившего храм, либо учинившего еще какое‑нибудь
e
подобное нарушение, будь этим преступником отец, мать или кто бы то ни было другой; не преследовать же по суду в таких случаях – нечестиво. Смотри же, Сократ, сколь сильное доказательство я приведу тебе в пользу того, что закон именно таков (я говорил об этом уже и другим). Правильно было бы не поощрять преступника, кем бы он ни был:
6
ведь признают же сами люди Зевса наилучшим и справедливейшим из богов, а в то же время все они верят, что он заключил в оковы собственного отца за то, что он преступно пожирал своих сыновей, а тот в свою очередь оскопил своего отца за подобные же деяния[367]
. А на меня они негодуют за то, что я преследую по суду своего преступного отца, и таким образом противоречат сами себе в вопросе о богах и обо мне.
Сократ.
Так значит, Евтифрон, именно потому я выступаю ответчиком, что, когда рассказывают нечто подобное о богах, меня это раздражает? Вот поэтому, видно, найдутся такие, которые скажут, что я нарушаю закон. Теперь же, раз и тебе, столь хорошо разбирающемуся в этих вещах, все это кажется верным, похоже, что мне надо уступить.
b
Да и что могу я сказать, если сам признаюсь, что ничего об этом не знаю? Но поведай мне, ради Покровителя дружбы[368]
, ты‑то в самом деле полагаешь, что все это было так?
Евтифрон.
Мало того, все это было еще более поразительным, хотя большинство ничего об этом не знает.
Сократ.
Значит, ты полагаешь, будто между богами и в самом деле бывают войны, жестокая вражда, битвы и прочее в том же роде, как об этом рассказывают поэты, а хорошие живописцы расписывают этими чудесами священную утварь?
c
Например, во время Великих Панафиней в Акрополь вносят облаченье богини, расцвеченное такими рисунками[369]
. И мы признаем, Евтифрон, что все это правда?
Евтифрон.
Не только это, Сократ, но и то, о чем я сказал недавно; да и многое другое я могу порассказать тебе, если желаешь, о божественных делах, так что, услышав это, я уверен, ты будешь ошеломлен.
Сократ.
Да и не удивительно! Но об этом ты мне расскажешь в другой раз, на досуге, а сейчас постарайся яснее изложить то, о чем я тебя недавно просил.
d
Ведь ты, мой друг, перед этим неудовлетворительно ответил на мой вопрос, что такое благочестивое вообще, сказав лишь, будто благочестивым является то, что ты сейчас делаешь, преследуя отца по суду за убийство.
Евтифрон.
И правду сказал я тебе, Сократ.
Сократ.
Положим. Но ведь ты же признаешь, Евтифрон, что и многое другое бывает благочестивым?
Евтифрон.
Конечно, бывает.
Сократ.
Так припомни же, что я просил тебя не о том, чтобы ты назвал мне одно или два из благочестивых деяний, но чтобы определил идею как таковую, в силу которой все благочестивое является благочестивым. Ведь ты подтвердил, что именно в силу единой идеи[370]
нечестивое является нечестивым, а благочестивое – благочестивым. Разве ты этого не помнишь?
e
Евтифрон.
Помню, конечно.
Сократ.
Так разъясни же мне относительно этой идеи – что именно она собой представляет, дабы, взирая на нее и пользуясь ею как образцом[371]
, я называл бы что‑либо одно, совершаемое тобою либо кем‑то другим и подобное этому образцу, благочестивым, другое же, не подобное ему, таковым бы не называл.
Евтифрон.
Но если ты желаешь, Сократ, я тебе это скажу!
Сократ.
Да, я желаю.
Евтифрон.
Итак, благочестиво то, что угодно богам, нечестиво же то, что им неугодно.
7
Сократ.
Великолепно, Евтифрон! Ты дал мне именно тот ответ, которого я от тебя добивался. Правда, я не знаю, правильно ли это, но ясно, что ты докажешь в дальнейшем истинность своих слов.
Евтифрон.
Разумеется.
Сократ.
Давай же рассмотрим заново то, что мы говорим: итак, угодное богам и угодный им человек – это благочестивые вещи, а неугодное богам и неугодный им человек – нечестивые, и, значит, благочестивое и нечестивое не тождественны между собою, а прямо противоположны друг другу. Не так ли?
b
Евтифрон.
Именно так.
Сократ.
Как тебе кажется, хорошо это сказано?
Евтифрон.
Думаю, да, Сократ, я ведь это уже подтвердил.
Сократ.
Значит, и то, что у богов бывает противоборство, междоусобицы и взаимная вражда, – это тоже ты подтверждаешь?
Евтифрон.
Да, подтверждаю.
Сократ.
А какие разногласия вызывают гнев и вражду? И о чем идет спор? Давай рассмотрим следующее: если бы, например, у нас с тобою возникло разногласие относительно чисел – какое из них больше, – то разве это разногласие породило бы между нами вражду и взаимный гнев, или же, занявшись вычислением, мы очень скоро пришли бы к согласию в этом деле?
c
Евтифрон.
Конечно, пришли бы.
Сократ.
Значит, и если бы мы разошлись во мнении относительно большего и меньшего размера предмета, то, занявшись измерением, мы быстро прекратили бы спор?
Евтифрон.
Да, это так.
Сократ.
А перейдя к взвешиванию, мы бы, думаю я, пришли к решению, какой предмет тяжелее, а какой легче?
Евтифрон.
Как же иначе?
Сократ.
Так из‑за какого же разногласия, не позволяющего нам принять решение, могли бы мы прийти в гнев и стать друг другу врагами? Быть может, тебе это не очень доступно, но проследи за тем, что я говорю:
d
разве это не будет справедливое и несправедливое, прекрасное и постыдное, доброе и злое? И не из‑за этого ли мы спорим и не можем прийти к удовлетворительному решению, становясь друг другу врагами во время таких раздоров – и я, и ты, и все остальные люди?
Евтифрон.
Да, Сократ, разногласие может касаться и этого.
Сократ.
Ну а боги, Евтифрон? Разве когда между ними происходит раздор, он происходит не из‑за таких вещей?
Евтифрон.
Безусловно, из‑за таких.
e
Сократ.
А среди богов, благороднейший Евтифрон, одни, по твоим словам, почитают одно справедливым, прекрасным, постыдным, добрым и злым, а другие – другое: ведь не восставали бы они друг на друга, если бы не спорили из‑за этого. Как ты думаешь?
Евтифрон.
Ты прав.
Сократ.
Итак, каждый, считая что‑либо прекрасным, добрым и справедливым, именно это и любит, противоположное же ненавидит?
Евтифрон.
Конечно.
8
Сократ.
Но ведь одно и то же, по твоим словам, одни считают справедливым, другие – несправедливым? Из‑за этих‑то споров между ними и происходят междоусобицы и войны. Разве не так?
Евтифрон.
Так.
Сократ.
Похоже, что одно и то же боги и любят и ненавидят, и оно одновременно является богоугодным и богопротивным.
Евтифрон.
Похоже.
Сократ.
Но, Евтифрон, согласно этому рассуждению, благочестивое и нечестивое – это одно и то же.
Евтифрон.
Видимо, так.
Сократ.
Значит, почтеннейший, ты не ответил на мой вопрос: ведь я спрашивал не о том, что оказывается одновременно и благочестивым и нечестивым; тут же получилось, что богоугодное одновременно является богопротивным.
b
Таким образом, Евтифрон, нет ничего удивительного, если то, что ты сейчас делаешь, стремясь покарать отца, окажется деянием, угодным Зевсу, но ненавистным Крону и Урану, любезным Гефесту, но противным Гере[372]
; то же самое получится и в отношении других богов, если между ними существуют расхождения по этому вопросу.
Евтифрон.
Но я полагаю, Сократ, что здесь ни один из богов не расходится в мнении с другим и никто из них не считает, будто несправедливо убивший другого человека не должен держать за это ответ.
c
Сократ.
В самом деле, Евтифрон? А тебе разве не доводилось слышать, как кто‑либо из людей оспаривает необходимость наказания человека, незаконно убившего другого или совершившего что‑либо незаконное?
Евтифрон.
Да люди без конца затевают такие споры – и в суде, и где угодно еще. Совершая множество незаконных деяний, они говорят и делают всё, чтобы избежать кары.
Сократ.
Как же так, Евтифрон? Они признают, что нарушили закон, и в то же время, признавая это, не хотят быть в ответе?
Евтифрон.
Уж это‑то ни в коем случае.
Сократ.
Значит, они говорят и делают не всё, что угодно. Ведь, полагаю я, они не осмеливаются оспаривать необходимость нести наказание за совершенный ими проступок: я думаю, они просто не соглашаются с тем, что они преступники. Как ты считаешь?
d
Евтифрон.
Ты прав.
Сократ.
Следовательно, они оспаривают не то, что преступнику следует нести наказание, но, по‑видимому, спорят о том, кто является преступником, что он совершил и когда?
Евтифрон.
Ты говоришь верно.
Сократ.
То же самое, думаю я, относится и к богам, коль скоро, по твоим словам, они враждуют из‑за справедливого и несправедливого, и одни говорят, что другие чинят им несправедливость, те же опровергают это обвинение. Потому что, почтеннейший, ведь никто ни из богов, ни из людей не посмеет сказать, будто виновный не должен нести наказание.
e
Евтифрон.
Да, в общем ты это правильно говоришь, Сократ.
Сократ.
Но по каждому отдельному случаю, Евтифрон, я думаю, спорщики спорят – и люди и боги, если только боги и вправду спорят: расходясь в мнении по поводу какого‑либо деяния, одни говорят, что оно законно, другие – что нет. Разве не так?
Евтифрон.
Конечно же.
9
Сократ.
Так вот, друг мой Евтифрон, объясни ты мне, дабы стал я мудрее: какое у тебя доказательство того, что все боги считают безвинно погибшим человека. который, служа по найму, стал убийцей и, будучи связан господином убитого, скончался в оковах раньше, чем тот, кто его сковал, получил распоряжение от экзегета, и что они полагают правильным, чтобы из‑за этого сын преследовал по суду и обвинял в убийстве своего отца? Прошу тебя, постарайся мне ясно доказать, что все боги считают наиболее правильным твое поведение, и, если ты мне это удовлетворительно докажешь, я никогда не перестану восхвалять твою мудрость.
b
Евтифрон.
Но, пожалуй, это нешуточное дело, Сократ, хотя я мог бы доказать тебе это очень ясно.
Сократ.
Я понимаю, что кажусь тебе менее понятливым, чем судьи: им же ты, очевидно, докажешь, что поступок твоего отца – незаконный и все боги ненавидят подобные дела.
Евтифрон.
И докажу как нельзя более ясно, Сократ, если только они станут меня слушать.
c
Сократ.
Но они станут слушать, если им покажется, что ты говоришь дело. Однако вот что пришло мне в голову, пока ты говорил, и о чем я подумал про себя: «Если даже Евтифрон докажет мне наилучшим образом, что все боги считают подобную гибель несправедливой, что нового узнаю я у него относительно сущности благочестивого и нечестивого? По‑видимому, оказалось бы, что дело это богопротивно; однако благочестивое и нечестивое, как недавно выяснилось, определяются не этим, ибо богопротивное оказалось одновременно и богоугодным». Итак, я освобождаю тебя от этого, Евтифрон: пусть, коли тебе угодно, все боги считают это противозаконным и ненавидят.
d
Но давай внесем сейчас такую поправку в рассуждение: нечестиво ненавистное всем богам, а угодное всем им – благочестиво, если же что‑либо одни из них любят, а другие ненавидят, то это либо ни то ни другое, либо и то и другое одновременно. Желаешь ли ты, чтобы у нас теперь было такое определение благочестивого и нечестивого?
Евтифрон.
А что этому мешает, Сократ?
Сократ.
По мне, ровно ничего, но ты будь внимателен к своему делу: не получится ли, что, выдвинув такое предположение, ты не сумеешь мне с легкостью объяснить обещанное?
e
Евтифрон.
Но и я бы назвал благочестивым то, что любят все боги, и, наоборот, нечестивым то, что все они ненавидят.
Сократ.
Что же, Евтифрон, посмотрим, хорошо ли мы сказали, или оставим это и будем воспринимать свои и чужие речи – если кто что‑либо утверждает – как требующие немедленного согласия? Или надо все‑таки рассмотреть, что именно утверждает говорящий?
Евтифрон.
Надо рассмотреть. Однако я считаю, что сказанное сейчас сказано хорошо.
10
Сократ.
Скоро, добрейший мой, мы это лучше узнаем. Но подумай вот о чем: благочестивое любимо богами потому, что оно благочестиво, или оно благочестиво потому, что его любят боги?
Евтифрон.
Я не понимаю, о чем ты, Сократ?
Сократ.
Что ж, постараюсь выразиться яснее. Называем мы нечто несомым и несущим, ведомым и ведущим, рассматриваемым и смотрящим? И понимаешь ли ты, что все подобные вещи между собою различны и в чем состоит это различие?
Евтифрон.
Мне кажется, я понимаю.
Сократ.
Значит, существует нечто любимое и соответственно нечто отличное от него, любящее?
b
Евтифрон.
Как же иначе?
Сократ.
Скажи же мне, несомое является таковым потому, что его несут, или по другой какой‑то причине?
Евтифрон.
Нет, разумеется именно поэтому.
Сократ.
А ведомое – потому, что его ведут, и рассматриваемое – потому, что на него смотрят?
Евтифрон.
Безусловно.
Сократ.
Следовательно, на него не потому смотрят, что оно является рассматриваемым, но, наоборот, оно является рассматриваемым, поскольку на него смотрят; и не потому ведомое ведут, что оно является ведомым, но оно потому и ведомо, что его ведут;
c
наконец, не потому несомое несут, что оно несомо, но оно несомо потому, что его несут. Значит, ясно, Евтифрон, что я хочу сказать, а именно: если нечто является чем‑то и что‑то испытывает, то не потому оно является, что бывает являющимся, но оно являющееся потому, что является; и не из‑за того оно нечто испытывает, что бывает страдающим, но страдает из‑за того, что нечто испытывает. Или ты с этим не согласен?
Евтифрон.
Нет, я согласен.
Сократ.
Значит, и любимым бывает либо нечто являющееся чем‑то, либо испытывающее что‑либо от чего‑то?
Евтифрон.
Конечно.
Сократ.
А значит, и здесь все обстоит так же, как в прежних случаях: не потому его любят любящие, что оно любимое, но оно любимое, раз его любят?
Евтифрон.
Безусловно.
d
Сократ.
Что же мы скажем, Евтифрон, о благочестивом? Любят ли его все боги, как ты утверждал?
Евтифрон.
Да.
Сократ.
Но потому ли они его любят, что оно благочестиво, или за что‑то другое?
Евтифрон.
Нет, именно за это.
Сократ.
Значит, его любят потому, что оно благочестиво, а не потому оно благочестиво, что его любят?
Евтифрон.
Очевидно.
Сократ.
Ну а богоугодное ведь является таковым потому, что оно угодно богам?
Евтифрон.
Как же иначе?
e
Сократ.
Значит, богоугодное, Евтифрон, – это не благочестивое и благочестивое – это не богоугодное, как ты утверждаешь, но это две различные вещи.
Евтифрон.
Как же так, Сократ?
Сократ.
Ведь мы признали, что благочестивое любимо потому, что оно благочестиво, а не благочестиво потому, что оно любимо. Не правда ли?
Евтифрон.
Так.
Сократ.
С другой стороны, мы признали, что богоугодное является таковым, потому что его любят боги, но не потому оно любимо, что богоугодно.
Евтифрон.
Ты прав.
11
Сократ.
Ведь если бы, дорогой Евтифрон, богоугодное и благочестивое было одним и тем же, то как благочестивое любили бы за то, что оно благочестиво, так и богоугодное любили бы за то, что оно богоугодно; с другой стороны, если бы богоугодное было богоугодным потому, что его любят боги, то и благочестивое было бы благочестивым потому, что они его любят. У нас же получилось нечто противоположное – между богоугодным и благочестивым существует полное различие: одному свойственно быть любимым, потому что его любят, другое любят, потому что ему свойственно быть любимым. Похоже, Евтифрон, ты не желаешь разъяснить мне вопрос о том, что такое благочестивое, и показать его сущность, а говоришь лишь о некоем состоянии, претерпеваемом благочестивым, а именно о том, что оно любимо всеми богами;
b
сущность же его ты не раскрываешь. Послушай, если тебе угодно, не таись от меня, но скажи мне снова, с самого начала, в чем состоит сущность благочестивого, из‑за которой оно любимо богами или испытывает еще какое‑то состояние? Ведь из‑за этого у нас с тобой не возникнет спора. Скажи же откровенно, что такое благочестивое и нечестивое?
Евтифрон.
Но, Сократ, я как‑то не могу объяснить тебе, что именно я разумею. Наше предположение всё блуждает вокруг да около и не желает закрепиться там, куда мы его водружаем.
c
Сократ.
Евтифрон, то, что ты сказал, было бы уместно в устах Дедала, нашего предка[373]
; однако, если бы это были мои слова и положения, ты, пожалуй, мог бы и посмеяться надо мной – мол, ввиду моего с ним родства мои словесные построения от меня ускользают и не желают оставаться там, куда я их поставил; но ведь предположения эти принадлежат тебе, а потому и насмешка эта будет совсем не по адресу: именно твои положения оказываются неустойчивыми – ты видишь это и сам.
d
Евтифрон.
Но мне как‑то представляется, Сократ, что такая насмешка прямо относится к сказанному: ведь не я вложил в наши слова эту способность блуждать и не оставаться на месте, но именно ты кажешься мне Дедалом. У меня‑то они уж стояли бы твердо.
Сократ.
Боюсь, мой друг, я окажусь искуснее этого мужа: ведь он придавал подвижность только своим творениям, я же – не только своим, но похоже, что и чужим. Однако особая тонкость моего искусства заключена в том, что я мудр поневоле: ведь больше, чем обладать искусством Дедала да еще вдобавок и богатством
e
Тантала[374]
, желал бы я, чтобы мои слова оставались твердо водруженными на месте. Но довольно об этом. Поскольку, мне кажется, ты слабоват, я сам постараюсь показать тебе, как надо мне разъяснить благочестие; но смотри, не падай духом прежде времени. Ну вот, не думаешь ли ты, что все благочестивое необходимо должно быть справедливым?
Евтифрон.
Да, я так думаю.
12
Сократ.
Значит, и все справедливое должно быть благочестивым или же все благочестивое будет справедливым, справедливое же не всё будет благочестивым, но в одних случаях будет, а в других – нет?
Евтифрон.
Сократ, я не поспеваю за твоими словами.
Сократ.
Но ведь ты настолько же моложе меня, по крайней мере, насколько мудрее! Говорю я тебе, что ты расслабился от избытка мудрости. Однако, милейший. прошу тебя, подтянись: ведь не так уж трудно постичь то, что я говорю; говорю же я прямо противоположное тому, что сочинил поэт, молвивший: Зевса, который все создал и сам все устроил, –
Зевса не хочешь назвать: знать, со страхом стыд неразлучен[375]
.
b
Я же вот чем отличаюсь от этого поэта… Сказать тебе?
Евтифрон.
Конечно.
Сократ.
Мне не кажется, что «там, где страх, там и стыд»[376]
. Многие, думается мне, страшащиеся болезней, бедности и всего другого в таком же роде, страшатся, однако не стыдятся ни одной из пугающих их вещей. Ты не согласен?
Евтифрон.
Конечно, согласен.
Сократ.
Но зато там, где стыд, там и страх. Разве возможно, чтобы совестящиеся и стыдящиеся чего‑либо люди не страшились и не избегали бы при этом дурной молвы?
c
Евтифрон.
Да, они страшатся.
Сократ.
Поэтому неверно говорить где страх, там и стыд; наоборот, где стыд, там и страх, но вовсе не так обстоит дело, что всюду, где страх, там и стыд, ибо страх встречается чаще, чем стыд. Стыд ведь есть как бы часть страха, подобно тому как нечетное есть часть числа, однако дело обстоит не так, чтобы там, где было число, было и нечетное; наоборот, где нечетное, там и число. Теперь‑то ты поспеваешь за мною?
Евтифрон.
Да, конечно.
Сократ.
Нечто подобное я говорил и тогда, спрашивая тебя: где справедливое, там и благочестивое, или же где благочестивое, там и справедливое, – так что не всюду, где справедливое, там и благочестивое? Ведь благочестивое – часть справедливого: так мы скажем, или ты считаешь иначе?
d
Евтифрон.
Нет, именно так. Мне кажется, ты правильно говоришь.
Сократ.
Посмотри же еще и следующее: если благочестивое – часть справедливого, нам следует выяснить, какой именно частью справедливого оно является. Вот если бы ты спросил меня о чем‑то таком, – к примеру, какою частью числа будет четное и что оно собой представляет, я ответил бы, что это число, не припадающее на одну ногу, но ровно стоящее на обеих ногах. Или ты иного мнения?
e
Евтифрон.
Нет, я думаю именно так.
Сократ.
Вот и постарайся таким образом разъяснить мне, какою частью справедливого будет благочестивое, дабы я и Мелету мог сказать, чтобы он не чинил нам несправедливости и не обвинял нас в нечестии, ибо мы уже как следует у тебя обучились тому, что является праведным и благочестивым, а что – нет.
Евтифрон.
Итак, Сократ, мне представляется, что праведным и благочестивым является та часть справедливого, которая относится к служению богам; то же, что относится к заботе о людях, будет остальною частью справедливого.
13
Сократ.
Прекрасно, как мне кажется, ты это молвил, Евтифрон, но мне недостает здесь самой малости: я не вполне уразумел, о каком служении и какой заботе идет речь; не хочешь же ты сказать, что забота о богах носит такой же характер, как забота обо всем прочем. Ну, к примеру, говорим же мы, что не любой человек умеет заботиться о лошадях, но лишь наездник. Не так ли?
Евтифрон.
Конечно.
Сократ.
Ведь искусство верховой езды – это и есть забота о лошадях?
Евтифрон.
Да.
Сократ.
И за собаками ведь не всякий умеет ходить, но только охотник?
Евтифрон.
Так.
b
Сократ.
Следовательно, охота связана с уходом за собаками.
Евтифрон.
Да. Сократ. А искусство ухода за рогатым скотом – это забота о скоте?
Евтифрон.
Конечно.
Сократ.
Ну а благочестие и праведность – это забота о богах, Евтифрон? Ты так утверждаешь?
Евтифрон.
Именно так.
Сократ.
Но ведь не всякая забота направлена на одно и то же. Например, она служит некоему добру и пользе для того, на кого направлена: так, лошади под заботливым воздействием искусства верховой езды, как ты замечаешь, получают пользу и становятся лучше. Или ты этого не думаешь?
Евтифрон.
Нет, думаю.
c
Сократ.
То же самое и собаки под воздействием охотничьего искусства, и быки от ухода за ними, я так далее. Ведь не думаешь же ты, что забота приносит тому, о ком заботятся, вред?
Евтифрон.
Нет, клянусь Зевсом.
Сократ.
Значит, она приносит пользу?
Евтифрон.
Как же иначе?
Сократ.
Так значит, и благочестие, будучи заботой о богах, приносит богам пользу и делает их лучшими? И ты согласишься с тем, что, когда ты совершаешь что‑то благочестивое, ты делаешь кого‑то из богов лучшим?
Евтифрон.
Конечно, нет, клянусь Зевсом!
Сократ.
Да я и не думаю, Евтифрон, чтобы ты это утверждал, вовсе нет! Но именно поэтому я и спросил тебя, что ты разумеешь под служением богам. Я и не предполагал, что ты имеешь в виду такого рода заботу.
d
Евтифрон.
И верно, Сократ, я имею в виду не такую заботу.
Сократ.
Так скажи же, какого рода служение богам является благочестивым?
Евтифрон.
А такое, каким служат рабы своим господам.
Сократ.
Понимаю: значит, это своего рода искусство служить богам.
Евтифрон.
Несомненно.
Сократ.
Можешь ли ты тогда сказать, к какому созиданию приводит искусство услужения врачам? Не приносит ли оно здоровье?
Евтифрон.
Да, конечно.
e
Сократ.
Ну а искусство услужения корабельным мастерам служит какому делу?
Евтифрон.
Ясно, Сократ, что созданию корабля.
Сократ.
А искусство услужения зодчим служит созданию домов?
Евтифрон.
Да.
Сократ.
Так скажи же, добрейший, к какому созиданию ведет искусство услужения богам? Ясно, что ты это знаешь, коль скоро ты утверждаешь, что тебе лучше других людей ведомы божественные дела.
Евтифрон.
И я говорю правду, Сократ.
Сократ.
Но скажи, ради Зевса, что это за расчудесное дело, которое вершат боги, пользуясь нами как слугами?
Евтифрон.
Многие чудесные дела они вершат, Сократ.
14
Сократ.
И военачальники тоже, мой друг; однако ты легко можешь сказать, что главное их дело – достижение победы в войне. Не так ли?
Евтифрон.
Как же иначе?
Сократ.
И землевладельцы, думаю я, совершают много чудесных дел; но главная их забота – добывание из земли пищи.
Евтифрон.
Конечно.
Сократ.
Ну и что же? Из множества чудесных дел, вершимых богами, какое дело является главным?
Евтифрон.
Но я ведь только недавно сказал тебе, Сократ, что немалое дело – в точности понять, как с этим всем обстоит.
b
Скажу тебе лишь попросту, что если кто умеет говорить или делать что‑либо приятное богам, вознося молитвы и совершая жертвоприношения, то это – благочестиво, и подобные действия оберегают и собственные дома, и государственное достояние; действия же, противоположные угождению богам, нечестивы и направлены на всеобщее разрушение и гибель.
Сократ.
Но ты мог бы, Евтифрон, если бы пожелал, гораздо более кратко назвать то, о чем я тебя спросил. Однако у тебя, видно, нет охоты меня научить. Вот и сейчас, лишь только приблизился ты к самой сути, как снова ускользнул в сторону.
c
А если бы ты мне это ответил, я бы достаточно много узнал от тебя о благочестии. Теперь же – поскольку вопрошающий вынужден следовать за вопрошаемым, куда бы он ни повел, – поясни, как же ты все‑таки понимаешь благочестивое и благочестие? Уж не есть ли это некое умение приносить жертвы и возносить молитвы?
Евтифрон.
Вот именно.
Сократ.
Но ведь приносить жертвы – это значит одарять богов, а возносить мольбы – значит у них что‑то просить?
d
Евтифрон.
Конечно же, Сократ.
Сократ.
Итак, согласно твоему слову получается, что благочестие – это наука о том, как просить и одаривать богов.
Евтифрон.
Ты отлично понял, Сократ, то, что я сказал.
Сократ.
Да ведь я жажду, мой друг, приобщиться к твоей мудрости и весь обратился в слух, так что ни одно твое словечко не пропадет даром. Но скажи мне, в чем состоит эта служба богам? Ты говоришь, что следует просить их и одаривать?
Евтифрон.
Да, вот именно.
Сократ.
Так не будет ли правильным просить их о том, в чем мы нуждаемся?
Евтифрон.
Конечно, о чем же еще?
e
Сократ.
А правильно ли будет одаривать их взамен тем, в чем у них от нас есть нужда? Ведь как‑то неловко одаривать кого‑либо тем, в чем он вовсе и не нуждается.
Евтифрон.
Ты говоришь правду, Сократ.
Сократ.
Итак, Евтифрон, благочестие – это некое искусство торговли между людьми и богами.
Евтифрон.
Что ж, пусть это будет искусство торговли, если тебе так нравится.
Сократ.
Мне‑то это совсем не нравится, коль скоро это неверно. Молви же, какую пользу извлекают боги из получаемых от нас даров? Что дают нам они, это любому ясно, ибо нет у нас ни единого блага, которое исходило бы не от них.
15
Но какая им польза от того, что они получают от нас? Или уж мы так наживаемся за их счет при этом обмене, что получаем от них все блага, они же от нас – ничего?
Евтифрон.
Но неужели ты думаешь, Сократ, что боги извлекают какую‑то пользу из того, что получают от нас?
Сократ.
Но тогда что же это такое, Евтифрон, – наши дары богам?
Евтифрон.
Что же иное, полагаешь ты, как не почетные награды, приятные им, как я сказал раньше?
b
Сократ.
Значит, Евтифрон, благочестивое – это приятное, а не полезное и угодное богам?
Евтифрон.
Думаю, что, несомненно, это угодное им.
Сократ.
Значит, вот оно что такое, благочестивое, – это угодное богам.
Евтифрон.
Несомненно.
Сократ.
И после всего этого ты удивляешься тому, что твои слова как бы не стоят на месте, но бродят вокруг да около, и обвиняешь меня в том, что я, как Дедал, заставляю их так бродить, а сам куда искуснее Дедала гоняешь слова по кругу!
c
Или ты не замечаешь, что наше рассуждение, описав круг, вернулось к исходной точке? Припомни же, что вначале благочестивое и богоугодное оказались у нас не одним и тем же, но двумя различными вещами. Или ты не припоминаешь?
Евтифрон.
Припоминаю.
Сократ.
А сейчас разве ты не замечаешь, что угодное богам ты называешь благочестивым? Разве угодное богам это не богоугодное? Как ты считаешь?
Евтифрон.
Конечно же.
Сократ.
Значит, либо мы недавно пришли к неправильному решению, либо, если тогда мы решили правильно, то сейчас мы не правы.
Евтифрон.
Да, похоже.
d
Сократ.
Следовательно, нам надо с самого начала пересмотреть, что такое благочестивое: ведь пока я этого не узнаю, я не отступлюсь. Прошу тебя, не пренебрегай мною, но изо всех сил постарайся сосредоточиться и ответить мне правду. Ведь если кто и знает ее, так это именно ты, и тебя не следует отпускать, как Протея, пока ты не дашь ответ[377]
. Если бы ты не имел ясного представления о благочестивом и нечестивом, ты никоим образом не мог бы из‑за поденщика преследовать престарелого отца за убийство, но убоялся бы и богов – не отважился ли ты на ложный шаг – и людей постыдился бы тоже.
e
Ну, а теперь‑то я уверен, что ты ясно представляешь себе благочестивое и нечестивое. Скажи же, любезнейший Евтифрон, что ты об этом думаешь, не таясь.
Евтифрон.
В другой раз, Сократ. Сейчас же я тороплюсь в одно место, и мне пора уходить.
16
Сократ.
Что ж это ты делаешь, друг мой! Уходишь, лишая меня великой надежды узнать от тебя о благочестивом и нечестивом и избежать Мелетова иска, доказав ему, что я стал мудрым в божественных вопросах благодаря Евтифрону и никогда уже не буду заниматься невежественной болтовней и вводить в этом деле различные новшества, но впредь стану жить самой достойной жизнью!
Перевод С. Я. Шейнман‑Топштейн.
В кн.: Платон. Диалоги. М.: «Мысль», 1986
XI. ЛИСИД
Сократ
203
Я направился из Академии прямо в Ликей дорогой, коя окаймляет городскую стену снаружи и тесно к ней примыкает[378]
. Когда я оказался у небольшого входа – того, что расположен у Панопова источника, – я встретил там Гиппотала, сына Гиеронима, Ктесиппа из Пэании[379]
и других толпившихся вокруг них молодых людей.
Гиппотал, увидев, что я подхожу, молвил:
b
– Сократ мой, откуда ты держишь путь и куда?
– Из Академии, – отвечал я, – а иду я в Ликей.
– Значит, – отозвался он, – ты идешь туда же, куда и мы. Не присоединишься ли к нам? Это стоило бы сделать.
– Куда именно, – спросил я, – ты хочешь меня повести и к кому я должен присоединиться?
– Сюда, – отвечал он, указывая мне на расположенное напротив стены крытое помещение с отворенной дверью. – Мы здесь проводим время – мы и многие другие прекрасные юноши.
204
– А что это за постройка и в чем состоит ваше времяпрепровождение здесь?
– Это, – отвечал он, – недавно выстроенная палестра. Проводим же мы время большей частью в беседах, к которым с радостью привлечем и тебя.
– И прекрасно сделаете, – отозвался я. – А кто здесь наставник?
– Твой приятель и поклонник, – отвечал он, – Микк[380]
.
– Клянусь Зевсом, – сказал я, – это муж не без достоинств и способный софист.
– Так не хочешь ли последовать за нами, – спросил Гиппотал, – и посмотреть, кто там собрался?
b
– Сначала я охотно услышал бы от тебя, для чего ты меня приглашаешь и кто среди собравшихся там выделяется своей красотой?
– На этот счет мнения наши расходятся, Сократ, – отвечал он.
– Но тебе‑то кто кажется красивым, Гиппотал? Ответь мне.
Однако он, услышав этот вопрос, покраснел, и тогда я сказал:
c
– Сын Гиеронима, Гиппотал! Можешь и не говорить, влюблен ты в кого‑нибудь или нет: я вижу, что ты не только влюблен, но и далеко зашел в этой своей любви. И хотя во всем остальном я человек неспособный и бесполезный, это даровано мне самим богом – немедленно распознавать влюбленного и любимого.
Но, услышав мои слова, он покраснел еще больше.
Тут Ктесипп сказал:
– Мой Гиппотал, что ты краснеешь и не решаешься открыть Сократу имя любимого – это свидетельство изысканного воспитания. Но если он хоть недолго с тобой побеседует, то пресытится до отвала бесконечным твоим повторением этого имени.
d
Наши же уши уже до отказа забиты и переполнены именем Лисида[381]
, а если Гиппотал вдобавок выпьет немножко вина, то даже тогда, когда мы внезапно пробуждаемся от сна, нам будет мерещиться имя Лисида. И хотя рассказы, которые он ведет, невероятно докучливы, еще страшнее бывает, когда он пытается обрушить на нас стихи и прозу. Но самое ужасное, что он воспевает своего любимца в песнях пронзительным голосом и мы должны терпеливо это выслушивать. А вот теперь, когда ты его спрашиваешь, он краснеет!
e
– Лисид этот, – сказал я, – видно, совсем еще юн. Я сужу по тому, что имя его показалось мне незнакомым.
– Это из‑за того, – возразил Ктесипп, – что его не часто называют по имени, но величают пока по отцу, который весьма известен. Я ведь хорошо знаю, что облик мальчика тебе достаточно знаком, а этого одного довольно, чтобы его признать.
– Скажи же, – молвил я, – чей он сын?
– Он – старший сын Демократа из дема Эксоны[382]
.
205
– Что ж, – сказал я, – ты, Гиппотал, избрал себе любовь великолепную и дерзновенную во всех отношениях! Иди же сюда и покажи мне свое искусство, как показывал его им, дабы я увидел, знаешь ли ты, как влюбленному надлежит говорить о своем любимце – и ему самому и остальным.
– Веришь ли ты, Сократ, хоть одному слову из того, что здесь наговорил Ктесипп? – возразил Гиппотал.
– Что ж, – отозвался я, – ты будешь отрицать и любовь, о которой он нам поведал?
– Нет, не любовь, – возразил он, – но то, будто я сочиняю в честь своего любимца стихи и прозу.
– Он не в своем уме, – вмешался Ктесипп. – Это бред и болтовня!
Но я сказал:
b
– Мой Гиппотал, мне нет нужды слушать стихи и песни, даже если ты сочинил их в честь юноши, но меня интересует твой образ мыслей: я хочу знать, как обращаешься ты к своему любимцу.
– А вот Ктесипп тебе скажет, – бросил он. – Ведь он хорошо это знает и помнит, если, как он утверждает, я постоянно утомляю своими песнями его слух.
– Да, клянусь богами, – сказал Ктесипп, – и даже слишком: славословия‑то эти достойны смеха. И как не быть им смехотворными, если влюбленный, уделяющий особое внимание мальчику, не умеет сказать ничего своего, но повторяет лишь то, что доступно любому ребенку?
c
Ведь все его сочинения и речи о том, что весь город твердит о Демократе и Лисиде, деде этого мальчика, а также обо всех его предках – их богатстве, конюшнях, о победах на Пифийских, Истмийских и Немейских играх на четырехконных колесницах и верхом – и вдобавок о еще более древних вещах[383]
. Вчера в одной из таких поэм он подробно поведал о гостеприимстве, оказанном Гераклу[384]
: мол, ввиду своего родства с Гераклом один из предков Лисида (родившийся якобы от Зевса и дочери основателя его дема) принимал у себя героя: это же россказни старух[385]
– и все прочее в том же духе, Сократ; вот какие речи и песни принуждает он нас выслушивать.
d
Услышав это, я молвил:
– Чудак ты, Гиппотал! Что же ты поешь себе славу раньше, чем одержал победу?
– Но, Сократ, – возразил он, – я пою песни не в свою честь.
– Ты просто не подумал об этом, – сказал я.
– А на самом деле? – спросил он.
e
– Да все эти песнопения прежде всего относятся к тебе самому, – отвечал я. – Ведь если ты покоришь такого любимца, то все сказанное и спетое тобою послужит к вящей твоей славе и воистину станет хвалебным гимном в твою честь как победителя, коль скоро ты добился расположения этого мальчика. Если же он от тебя ускользнет, то, чем более возвышенными были славословия, пропетые тобой в честь твоего любимца, тем более в смешном виде предстанешь ты, утратив для себя все его прелести.
206
Ведь тот, мой друг, кто искушен в любовных делах, не восхваляет любимого до того, как одержит над ним победу, страшась неожиданностей в будущем. Вместе с тем и красавцы, когда кто‑либо восхваляет их и превозносит, преисполняются высокомерием и самомнением. Ты не согласен?
– Нет, конечно, согласен, – отвечал он.
– И чем они самонадеяннее, тем ведь труднее поймать их в сети?
– Видимо, да.
– Каким же тебе покажется охотник, во время погони лишь спугивающий дичь и делающий ее тем самым неуловимой?
b
– Ясно, он покажется мне негодным охотником.
– А разве это не безвкусица, когда слова и песни не очаровывают, но лишь возбуждают? Ведь так?
– Мне кажется, да.
– Смотри же, Гиппотал, как бы ты не оказался виновным во всем этом из‑за своей поэзии; я думаю, тот, кто поэзией вредит себе самому, не может считать себя хорошим поэтом: ведь он себе враг.
c
– Ты прав, клянусь Зевсом, – сказал Гиппотал. – Это было бы страшной бессмыслицей. Но раз так, я хочу посоветоваться с тобой, Сократ: если тебе что‑либо известно на этот счет, скажи мне, с помощью каких слов и действий можно стать милым своему любимцу?
– Не легко, – выразил я, – на это ответить. Но если ты согласен склонить его к беседе со мною, быть может, я смогу тебе показать, что надо ему говорить вместо тех слов и песен, какие, по словам других, ты к нему обращаешь.
– Нет ничего легче, – сказал он. – Если ты войдешь вместе с нашим Ктесиппом и, сев, начнешь беседу, я думаю, Лисид сам к тебе подойдет: ведь он необычайно внимательный слушатель, Сократ,
d
да кроме того, в честь Гермеса мальчики совершают все обряды совместно с юношами[386]
. Он подойдет к тебе, конечно. Если же нет, то знай, что он знаком с Ктесиппом через его родича, Менексена[387]
, последнему же он лучший друг. Итак, если он не подойдет сам, Ктесипп его подзовет.
– Так надо сделать, – сказал я.
С этими словами, увлекая за собой Ктесиппа, я направился к палестре; остальные последовали туда за нами.
e
Когда мы вошли, мы увидели, что мальчики уже совершили жертвоприношение, почти покончили с торжественными обрядами и, одетые все по‑праздничному, играют в бабки. Многие резвились снаружи, во дворе, а некоторые в углу раздевальни играли в чёт и нечет с помощью кучи бабок, которые они извлекали из нескольких плетеных корзин.
207
Их окружала толпа зрителей; среди последних был и Лисид: он стоял в кругу мальчиков и юношей, с венком на голове, выделяясь всем своим видом – не только заслуживающей хвалы красотою, но и явными внутренними достоинствами[388]
.
Мы направились в противоположный угол – поскольку там царила тишина – и, сев, начали о чем‑то между собою беседовать. Лисид же, обернувшись, часто на нас взглядывал, и было ясно, что ему не терпится подойти. Однако он еще колебался, не решаясь приблизиться один. Тут вошел со двора в круг играющих Meнексен и, едва только завидел меня и Ктесиппа, приблизился с намерением сесть рядом.
b
Заметив его, Лисид последовал за ним и уселся около нас с ним вместе. Подошли тут и другие, а также и Гиппотал, когда увидел, что многие нас окружили: не желая, чтобы его видел Лисид, и опасаясь навлечь его гнев, он использовал их как прикрытие. Так он нас слушал, стоя рядом.
Тут я, взглянув на Менексена, спросил его:
– Сын Демофонта, кто из вас двоих старше?
c
– Мы на этот счет спорим, – отвечал он.
– Так вы, видно, спорите и о том, кто из вас знатнее?
– Да, конечно, – отвечал он.
– Что же, и о том, кто красивее?
Тут они оба рассмеялись.
– Но я не стану спрашивать, – продолжал я, – который из вас богаче: ведь вы – друзья. Не так ли?
– Несомненно, – отвечали оба.
– Не говорится ли, что у друзей – все общее[389]
, так что в этом они ничуть не отличаются друг от друга, если только правду молвят о своей дружбе?
d
Оба согласились с моими словами.
После этого я хотел было спросить, кто из них более справедлив и разумен, но тут некий человек подошел и отвел в сторону Менексена, говоря, что его зовет учитель гимнастики: мне показалось, что он был озабочен жертвоприношением.
Итак, Менексен удалился. Я же спросил Лисида:
– Наверное, мой Лисид, тебя очень любят твои отец и мать?
– Да, очень, – отвечал он.
– Значит, они хотели бы видеть тебя как можно более счастливым?
e
– Конечно.
– А думаешь ли ты, что счастлив человек, пребывающий в рабстве и которому не дано совершить ничего из того, к чему он стремится?
– Нет, клянусь Зевсом! – отвечал он.
– Значит, если отец и мать тебя любят и стремятся к твоему счастью, ясно во всех отношениях, что они проявляют заботу о том, чтобы тебе было хорошо.
– Да и как же иначе? – молвил он.
– Следовательно, они разрешают тебе делать все, что заблагорассудится, и не бранят тебя и не препятствуют исполнять твои желания?
– Нет, клянусь Зевсом, бранят и многое мне запрещают.
208
– Что ты говоришь? – воскликнул я. – Желая тебе счастья, они мешают исполнению твоих желаний? Скажи же мне вот что: если ты пожелаешь покататься на одной из колесниц твоего отца, взяв вожжи, когда он участвует в состязании, разрешит он это тебе или запретит?
– Клянусь Зевсом, не разрешит, – отвечал он.
– А кому он это разрешит?
– У отца есть возница, которому он платит.
– Что ты говоришь? Наемнику больше, чем тебе, доверяют делать с лошадьми все, что ему угодно, и вдобавок платят ему за это деньги?
b
– Но что же тут удивительного? – спросил Лисид.
– Однако, думаю я, упряжкой мулов тебе разрешают править и, если ты пожелаешь, стегать их кнутом?
– Да как же, – воскликнул он, – можно мне это разрешить?!
– Что же, – спросил я, – никому не разрешается их стегать?
– Конечно, разрешается, – сказал он, – погонщику мулов.
– Свободному или рабу?
– Рабу.
– Похоже, что раба они ставят выше тебя, своего сына, и доверяют ему свое имущество больше, чем тебе, разрешая ему делать все, что он пожелает; тебе же они это запрещают. Но скажи мне еще: позволяют они тебе управлять самим собою или и этого тебе не доверяют?
c
– Но как, – возразил он, – могут они мне это доверить?
– Однако кто‑то тобой управляет?
– Вот он, мой воспитатель[390]
, – отвечал Лисид.
– Будучи рабом?
– Что ж тут такого? Ведь это наш раб, – сказал он.
– Чудно это, – молвил я, – когда свободный человек находится под властью раба. А что же делает он в качестве твоего воспитателя?
– Он отводит меня в школу, к учителю.
– Значит, тобою управляют также учители?
– Разумеется.
d
– Много же над тобой поставлено повелителей и господ волею твоего отца. Но когда ты возвращаешься домой, к своей матери, она разрешает тебе, когда ткет, делать все, что тебе угодно, с шерстью или ткацким станком – чтобы ты был у нее счастливым? Наверное, она не запрещает тебе хвататься за ее станок, челнок или другие шерстопрядильные инструменты?
– Нет, клянусь Зевсом! – воскликнул он, рассмеявишсь. – Не только запрещает, но был бы я бит, если бы позволял себе это.
e
– О, Геракл! – вскричал я. – Уж не обидел ли ты чем‑нибудь своего отца или мать?
– Нет, клянусь Зевсом, никоим образом, – отвечал он.
– Но за что же они столь ужасным образом мешают тебе быть счастливым и делать, что тебе вздумается, и воспитывают тебя так, что в течение целого дня ты кому‑то подчиняешься, – одним словом, так, что ты не имеешь возможности делать почти ничего из того, что ты хочешь?
209
Получается, что тебе нет никакой пользы ни от обладания большим состоянием – ибо все остальные распоряжаются им больше, чем ты, – ни от твоего столь благородного телосложения – ибо тело твое находится на попечении и под присмотром кого‑то другого. Ты же ничем не владеешь, Лисид, и не свершаешь ничего из того, что тебе желанно.
– Но, Сократ, ведь я еще недостаточно взрослый, – возразил он.
– Не это, сын Демократа, служит тебе препятствием, ибо кое в чем отец и мать доверяют тебе и не ждут, пока ты повзрослеешь. Ведь когда им нужно, чтобы им что‑нибудь прочитали или написали, они во всем доме тебе первому это поручают. Не так ли?
b
– Да, конечно.
– Значит, ты можешь при этом поставить первой ту букву, какую сам пожелаешь, и вторую также на свой выбор; подобным же образом можешь ты и читать. И, думаю я, когда ты берешь в руки лиру, ни отец, ни мать не мешают тебе натянуть или ослабить какую угодно струну и перебирать и ударять плектром по струнам[391]
. Или мешают?
– Нет, конечно.
– Так какая же причина, Лисид, что в этих делах они тебе не мешают, а в том, о чем мы говорили недавно, препятствуют?
c
– Думаю, та, что эти вещи я знаю, те же другие, нет.
– Прекрасно, – сказал я, – мой доблестный друг. Значит, отец твой дожидается не твоего повзросления, чтобы доверить тебе все дела, а того дня, когда он сочтет, что ты разумеешь все лучше его: тогда он доверит тебе и себя самого и свое достояние.
– Да, я так думаю, – отозвался он.
– Отлично. Как же, полагаешь ты, обстоит дело с соседом? Разве для него будет действительна не та же мерка в отношении тебя, что и для твоего отца?
d
Не мыслишь ли ты, что он доверит тебе управление своим домом, когда сочтет, что ты лучше разбираешься в хозяйстве, чем он, или, по‑твоему, он и тогда сохранит управление за собой?
– Я думаю, он передаст его мне.
– Ну а афиняне, полагаешь ты, не передадут тебе управление своими делами, если почувствуют, что ты вполне разумен?
– Я полагаю, передадут.
– Во имя Зевса, – спросил я, – а как же Великий царь? Доверит ли он старшему сыну, который наследует власть над всей Азией, добавить что‑либо в суп по своему усмотрению, когда варится мясо, или же нам, если мы, придя к нему, докажем, что лучше его сына разбираемся в приготовлении мясных блюд?
e
– Ясно, что нам, – отвечал он.
– А своему сыну он не позволит добавить в суп ничего, даже самой малости; нам же, какую пригоршню соли мы ни схватили бы по своему усмотрению, он, верно, дозволил бы положить ее целиком.
– Как же иначе?
– А если бы у его сына болели глаза, дозволил бы он ему прикоснуться к своим глазам, зная, что тот не сведущ в лечении, или бы запретил?
210
– Запретил бы.
– Нам же, если бы он понял, что мы умеем лечить, полагаю, он не препятствовал бы, даже если бы мы вздумали, открыв глаза его сына, насыпать в них пепла: он считал бы, что мы понимаем, что делаем.
– Ты правильно говоришь.
– Следовательно, и во всем остальном он доверился бы нам скорее, чем самому себе или своему сыну, – в том, относительно чего мы показались бы ему более сведущими, чем они.
– Да, безусловно, Сократ, – отозвался он.
b
– Вот как, следовательно, обстоит дело, милый Лисид, – сказал я. – В том, в чем мы бываем разумны, все нам доверяют – эллины и варвары, мужчины и женщины; мы делаем здесь все, что нам вздумается, и никто добровольно не станет нам ставить палки в колеса, но мы будем и сами свободно действовать на всех этих поприщах и повелевать другими, поскольку это – наши владения, от которых мы будем получать прибыль. Но в том, чего мы не умеем, никто не окажет нам доверия и не позволит делать все, что нам покажется правильным;
c
наоборот, все будут нам в этом препятствовать, насколько смогут, и не только чужие, но и родные отец с матерью, и даже еще более близкие, если это возможно, люди; мы в этих делах будем подчиняться другим, и дела эти будут чужим достоянием, ибо мы от них не получим никакой выгоды. Ты с этим согласен?
– Согласен.
– Но при таких обстоятельствах будем ли мы кому‑то угодны и будет ли нас хоть кто‑то любить, коль скоро мы в этих делах проявим себя непригодными?
– Конечно, никто, – отвечал он.
– Значит, и твой отец не любит тебя, как никто обычно не любит человека, оказывающегося бесполезным.
d
– Похоже, что так, – отозвался он.
– Если же ты станешь более сведущим, мой мальчик, все будут тебя любить и станут тебе близкими друзьями: ведь ты окажешься человеком полезным и достойным. А коль не поумнеешь, тебе ни твой отец и никто другой не будут друзьями – ни даже мать, ни другие твои домочадцы. Но возможно ли кому‑то. Лиснд, сильно чваниться тем, в чем он ничего не смыслит?
– Да могло ли бы это статься? – отозвался он.
– А ведь если ты нуждаешься в учителе, ты пока еще несмышленыш.
– Это правда.
– Следовательно, ты не очень‑то мнишь о себе, коль скоро ты еще не умен[392]
.
– Клянусь Зевсом, Сократ, – отвечал он, – я и сам такого же мнения.
e
Услышав его ответ, я обернулся к Гиппоталу, чуть было не допустив оплошность; я едва не сказал: вот так, мол, Гиппотал, надо разговаривать со своим любимцем, стараясь его унизить и подавить, а не так, как ты это делаешь, кружа ему голову похвалами и тем самым расслабляя его.
211
Но заметив, как он взволнован и смущен всем сказанным, я вспомнил, что, хоть он и находится рядом, он не желает, чтобы Лисид его заметил. Поэтому я сдержался и ничего не сказал.
Тут как раз вернулся к нам Менексен; он сел рядом с Лисидом, на то место, с которого раньше встал. А Лисид с милой ребячьей шутливостью тайком от Менексена тихо мне шепнул:
– Мой Сократ, скажи и Менексену то, что ты сказал мне.
А я в ответ:
– Ты сам скажешь ему это, Лисид: ты ведь очень внимательно меня слушал.
– Да, не сомневайся, – отозвался он.
b
– Попытайся же, – сказал я, – по возможности лучше это припомнить, чтобы передать ему все поточнее. Если же что‑либо от тебя ускользнет, переспроси меня об этом при первом же случае.
– Но я все именно так и сделаю, Сократ, и очень усердно, будь совершенно спокоен, – заверил он меня, – но скажи ему еще что‑нибудь, чтобы и я мог послушать, пока не настало время идти домой.
– Что ж, надо так сделать, раз и ты на этом настаиваешь. Но смотри, приди мне на помощь, если Менексен попытается меня опровергнуть. Или ты не знаешь, какой он спорщик?
– Да, клянусь Зевсом, он к этому очень склонен. Потому‑то я и хочу, чтобы ты с ним побеседовал.
c
– Для того, – заметил я, – чтобы стать посмешищем?
– Нет, клянусь Зевсом, – сказал он, – но чтобы его проучить.
– Каким образом? – спросил я. – Это не легко: ведь он ученик Ктесиппа и человек весьма искушенный[393]
. Да Ктесипп и сам здесь присутствует. Или ты не видишь?
– Пусть тебя это совсем не заботит, Сократ, – возразил Лисид. – Пожалуйста, побеседуй с ним.
– Что ж, побеседую, – сказал я.
Так мы разговаривали между собою, но тут вмешался Ктесипп:
– Что это вы оба наслаждаетесь разговором между собой и не приглашаете нас участвовать в вашей беседе?
d
– Да нет же, примите, пожалуйста, в ней участие. Ведь Лисид не понимает того, о чем я ему толкую, и говорит, что скорее всего в этом разберется Менексен. Поэтому он настаивает, чтобы я его расспросил.
– Так что же, – сказал Ктесипп, – ты его не расспрашиваешь?
– Но сейчас я начну задавать ему вопросы, – возразил я. – Ответь же мне, Менексен, на то, что я у тебя спрошу. Случилось так, что с детства у меня было страстное стремление к некоему приобретению, как это бывает и с другими людьми, желающими одни – одного, другие – другого. Один стремится приобрести лошадей, другой – собак, третий – золото, четвертый – почет.
e
Я же к подобным вещам равнодушен, но зато весьма алчен в приобретении друзей и желал бы иметь хорошего друга гораздо больше, чем самого лучщего в мире перепела или же петуха[394]
либо, клянусь Зевсом, коня или собаку; и полагаю, клянусь собакой, я гораздо скорее, чем сокровище Дария[395]
, взял бы себе товарища (предпочтя его самому Дарию) – так страстно жажду я дружбы.
212
И вот, видя вас вместе с Лисидом, я поражен волнением и почитаю вас счастливыми: несмотря на свою молодость, вы оба сумели легко и быстрo сделать это приобретение; и ты, таким образом, быстро и верно приобрел в качестве друга Лисида и он – тебя; я же столь далек от подобного приобретения, что даже не знаю, как один человек становится другом другому, и хочу спросить об этом тебя: ведь у тебя есть опыт.
Так скажи мне: когда один человек любит другого, кто из них кому становится другом: тот, кто любит, – любимому или любимый – тому, кто любит? Или же тут нет никакой разницы?
b
– Мне кажется, – отвечал он, – разницы здесь нет никакой.
– Что ты говоришь? – спросил я. – Значит, если один любит другого, они оба становятся друзьями друг другу?
– Да, – отвечал он, – по крайней мере, таково мое мнение.
– Как, разве не бывает, что любящий не встречает ответной любви со стороны того, кого он любит?
– Бывает.
– Но, значит, бывает даже и ненависть к любящему? Иногда ведь, думается, влюбленные испытывают это со стороны своих любимцев: любя очень сильно, они чувствуют, что не встречают ответной любви, другим же их любимцы попросту отвечают ненавистью. Разве тебе не кажется, что так бывает?
c
– Да, и даже очень, – отвечал он.
– Разве в подобном случае дело обстоит не так, что один любит, другой же – любим?
– Да, так.
– Но кто же из них кому друг? Любящий – любимому – даже если он не пользуется взаимностью или ему платят ненавистью – или любимый – любящему? Или при таких обстоятельствах ни один из них не бывает другому другом – когда нет взаимной любви между обоими?
– Видимо, дело обстоит именно так.
d
– Значит, мы пришли к иному мнению, чем раньше. Тогда мы считали, что если один из двух любит, то они оба – друзья. Теперь же нам кажется, что если нет взаимной любви, то ни один из двоих не может считаться другом.
– Это похоже на правду, – отвечал Менексен.
– Значит, любящему ничто не мило, если он не встречает взаимности?
– По‑видимому, да.
– Значит, нельзя назвать любителями лошадей тех, кому лошади не отвечают любовью, или любителями перепелов, а также собак, вина, телесных упражнений или мудрости, если (в последнем случае) мудрость не платит им взаимностью? Или каждый из них любит эти вещи, хотя они им не дружественны, и солгал поэт, сказавший:
e
Счастлив, кто любит детей и коней однокопытных,
Гончих псов и странника – чужеземного гостя[396]
.
– Нет, мне думается, он не лжет, – сказал Менексен.
– Значит, ты считаешь, что он говорит правду?
– Да.
– Похоже, следовательно, что любимое мило любящему, если оно и не отвечает ему взаимностью или даже его ненавидит? Это видно и в случае с новорожденными детьми:
213
одно они еще не любят, другое даже ненавидят – когда, к примеру, их наказывает отец или мать, – но и питая ненависть, они в эту пору милее всего на свете своим родителям.
– Да, – подтвердил Менексен, – мне кажется, это так.
– Следовательно, по этому слову, другом оказывается не любящий, но любимый.
– По‑видимому.
– И врагом оказывается ненавидимый, а не тот, кто ненавидит.
– Это ясно.
– А следовательно, многие бывают любимы своими врагами и ненавидимы друзьями и, таким образом, бывают друзьями своих врагов и врагами своих друзей, коль скоро друг – любимый, а не любящий.
b
Однако это в высшей степени нелепо, мой милый товарищ, более того, думаю я, невозможно быть врагом своему другу и другом своему врагу.
– Похоже, что ты говоришь правду, Сократ, – сказал Менексен.
– Значит, если это невозможно, любящее должно быть мило любимому.
– Очевидно.
– И, с другой стороны, ненавидящее должно быть враждебно ненавидимому.
– Это неизбежно.
c
– И все‑таки мы вынуждены будем признать то, с чем предположительно согласились раньше: часто мы бываем друзьями тому, кто нам не друг, а нередко и враг, – тогда, когда кто‑либо любит не любящего или даже ненавидящего, – и будто нередко мы бываем врагами тем. кто нам не враждебен или даже нас любит, – тогда, когда кто‑либо ненавидит того, кто к нему не питает ненависти или любит его.
– Видимо, ты прав, – сказал он.
– Но какой же у нас будет выход, – спросил я, – если ни любящие не окажутся друзьями, ни любимые, ни любящие и любимые? Можем ли мы помимо них всех назвать еще и других, кому дано стать друзьями друг другу?
d
– Клянусь Зевсом, Сократ, – отвечал Менексен, – мне очень трудно тебе на это ответить.
– Быть может, мой Менексен, – сказал я, – мы вообще шли неверным путем в нашем исследовании?
– Да, мне кажется, что неверным, Сократ, – сказал тут Лисид.
При этих словах он покраснел, и мне показалось, что сказанное вырвалось у него невольно из‑за того, что он очень внимательно вслушивался в нашу беседу: по нему было видно, что он весь обратился в слух.
Итак, я, желая дать передышку Менексену и радуясь в то же время любознательности, которую проявил его друг, обернулся к Лисиду и продолжал разговор уже с ним. Я сказал:
e
– Мой Лисид, думается мне, ты говоришь правду, ибо, если бы мы вели рассмотрение правильно, мы не впали бы в такое заблуждение. Не будем же продолжать в подобном роде – исследование это рисуется мне в виде трудной дороги, – но, кажется мне, надо идти тем путем, на который мы уже встали, а именно надо обратиться к поэтам:
214
ведь они для нас как бы отцы премудрости и наши вожатые. Несомненно, они совсем неплохо высказываются относительно друзей: так, они утверждают, что само божество делает их друзьями, сводя вместе. Вот как, думается мне, они примерно говорят: Бог, известно, всегда подобного сводит с подобным[397]
.
b
и знакомит их между собой. Тебе не встречались эти стихи?
– Встречались, – отвечал Лисид.
– Так, значит, тебе попадались и сочинения мудрейших мужей, в которых говорится то же самое – что подобное неизбежно будет дружественным подобному? Я имею в виду тех, кто рассуждает и пишет о природе и о вселенной[398]
.
– Да, – отвечал он, – ты верно на них ссылаешься.
– Так как же, – спросил я, – говорится там правда?
– Быть может, – отвечал он.
– Возможно, эти изречения истинны наполовину, а может быть, и совсем, только мы этого не постигаем. Ведь нам кажется, что, чем ближе и теснее негодный человек общается с другим негодным человеком, тем большим врагом он ему становится. Ведь он чинит ему несправедливость, а между обидчиком и обиженным невозможна дружба. Разве не так?
c
– Так, – отвечал Лисид.
– Таким образом, половина приведенного высказывания неверна, коль скоро дурные люди подобны друг другу.
– Ты прав.
– Но мне кажется, что сочинители эти считают хороших людей подобными и дружественными друг Другу, что же касается людей дурных, то, как о них говорится, они никогда не бывают в ладу даже с самими собою, напротив, они безрассудны и неуравновешенны; а тот, кто не в ладу с самим собою, но, наоборот, в разладе, едва ли может быть в ладу и дружбе с другим. Не такого ли и ты мнения?
d
– Да, я с этим согласен, – сказал Лисид.
– Те, мой друг, кто утверждают, что подобное дружественно подобному, кажется мне, дают только понять, что хороший человек может быть другом лишь хорошему человеку, дурной же человек никогда не достигнет истинной дружбы ни с хорошим человеком, ни с дурным. Ты с этим согласен?
Лисид кивнул утвердительно.
– Теперь мы уже понимаем, кто такие друзья: наше рассуждение показывает нам, что это – хорошие люди.
– Да, это очень похоже на правду, – подтвердил Лисид.
e
– Мне тоже так кажется, – добавил я, – хотя кое‑чем я и недоволен в сказанном: давай, во имя Зевса, посмотрим, что я подозреваю. Дружит ли подобный с подобным, насколько он ему подобен, и полезен ли такой человек другому, подобному ему человеку? Или лучше вот так: какую может принести пользу или вред любое подобное любому другому подобному, кои оно не принесло бы себе самому?
215
Либо что оно может претерпеть, если не то, что и от самого себя? Как могут такие подобные люди тянуться друг к другу, если они не могут оказать друг другу никакой помощи? Возможно ли это?
– Нет, невозможно.
– Но может ли быть милым то, к чему нет тяготения?
– Ни в коем случае.
– Значит, подобный подобному – не друг. А хороший человек может быть другом хорошему в той мере, в какой он хорош, а не в той, в какой он ему подобен?
– Возможно.
– Далее, хороший человек, в той мере, в какой он хорош, не довлеет ли настолько же самому себе?
– Да, довлеет.
– Тот же, кто довлеет себе, ни в чем не нуждается по причине этого самодовления.
b
– Несомненно.
– А тот, кто ни в чем не нуждается, ни к чему и не тяготеет.
– Да, это так,
– Далее, кто не тяготеет к чему‑то, тот и не любит.
– Конечно, нет.
– Тот же, кто не любит, – не друг.
– Ясно, что это так.
– Каким же образом – начнем с этого – могут быть хорошие люди друзьями хорошим, если они, будучи далеки друг от друга, не испытывают взаимного тяготения и довлеют самим себе, живя порознь, да и находясь вместе, не могут принести друг другу никакой пользы? И какое ухищрение может заставить таких людей высоко друг друга ценить?
c
– Да никакое, – отвечал Лисид.
– Ну а не ценя друг друга, они не могут быть и друзьями.
– Это правда.
– Вникни же, мой Лисид, насколько мы отклонились от истины. Пожалуй, мы находимся полностью в заблуждении.
– Как же это? – спросил он.
– Мне случилось некогда слышать от кого‑то – сейчас я это припоминаю, – будто подобное подобному и хорошие хорошим в высшей степени враждебны[399]
; при этом он ссылался в качестве свидетеля на Гесиода, сказавшего, что
d
Гончар гончара ненавидит, аэд не выносит аэда,
А нищего – нищий…[400]
И относительно всего остального он таким же образом утверждал, будто неизбежно, что, чем более одно подобно другому, тем более оба они исполнены взаимной неприязни, зависти и вражды, в то время как самое между собой несходное преисполнено дружбы[401]
. Поэтому бедный неизбежно будет другом богатому, слабый – сильному, ибо они могут в таком случае рассчитывать на помощь, болезненный же человек будет другом врачу; и точно так же всякий несведущий человек будет любить и уважать сведущего.
e
В еще более возвышенных выражениях он рассуждал о том, что подобное никак не бывает дружественно подобному, но дело обстоит прямо противоположным образом: величайшая дружба существует между крайними противоположностями. И каждый вожделеет именно к своей крайней противоположности, но не к своему подобию: сухое стремится к влажному, холодное – к горячему, горькое – к сладкому, острое – к тупому, пустота – к наполненности, а наполненность – к пустоте, и все прочее – таким же точно порядком[402]
.
216
Ведь противоположное питает противоположное, тогда как подобное не получает ничего от подобного. В самом деле, мой друг, говоря это, он показал себя весьма изысканным человеком: прекрасно ведь это сказано. А вам, – спросил я, – как нравится его речь?
– Очень нравится – в том виде, как мы ее сейчас слышим, – сказал Менексен.
– Итак, скажем мы, что противоположное в высшей степени дружественно противоположному?
– Да, конечно.
– Но, – возразил я, – не странно ли это, Менексен? Ведь тут же на нас, ликуя, набросятся все эти высокомудрые мужи – любители противоречий, вопрошая, не в высшей ли степени противоположны между собою вражда и дружба? И что мы им ответим? Быть может, необходимо признать, что здесь они правы?
b
– Да, это необходимо.
– Так что же, – спросят они, – враждебное дружественно дружественному или дружественное – враждебному?
– Ни то ни другое. – отвечал Менексен.
– А справедливое – несправедливому, скромное – невоздержному или благое – дурному дружественны?
– Нет, мне кажется, это неверно.
– Однако, – возразил я, – если что‑либо бывает дружественным чему‑то в силу крайней противоположности, необходимо и этим вещам быть дружественными?
– Необходимо.
– Следовательно, ни подобное подобному, ни противоположное противоположному не бывает дружественным.
c
– Похоже, что не бывает.
– Рассмотрим же еще вот что, дабы от нас впредь не утаилось, что дружественное поистине не имеет отношения ко всем этим вещам, но ни хорошее ни дурное не бывает дружественным хорошему[403]
.
– Что ты имеешь в виду? – спросил Менексен.
– Клянусь Зевсом, – отвечал я, – я и сам этого хорошенько не знаю, но испытываю настоящее головокружение из‑за сложности рассуждения. Быть может, согласно древней поговорке, нам мило прелестное[404]
: слова эти напоминают что‑то легкое, гладкое, лоснящееся; возможно, поэтому‑то они от нас всячески ускользают. Итак, я утверждаю, что благо прекрасно. Ты не согласен?
d
– Нет, согласен.
– Далее, я утверждаю как своего рода пророчество, что прекрасному и благому дружественно то, что и не хорошо и не дурно. Послушай же, к чему относится мое прорицание. Мне представляется, что существуют как бы неких три рода – хорошее, дурное и третье – ни хорошее ни дурное[405]
. А ты как считаешь?
– Точно так же, – отвечал Менексен.
– И при этом ни хорошее хорошему, ни дурное дурному, ни хорошее дурному не бывают дружественными – это запрещает наше прежнее рассуждение. Таким образом, если что и бывает дружественным другому, то остается ни хорошее ни плохое в качестве дружественного либо хорошему, либо такому же, как оно само. Ведь плохому ничто не может быть дружественным.
e
– Это правда.
– Но и подобное не может быть дружественным подобному, как мы сказали недавно. Не так ли?
– Да.
– Значит, ни хорошее ни плохое не будет дружественным такому же, как оно само.
– Очевидно, нет.
– Таким образом, одно только то, что и не хорошо и не плохо, может оказаться дружественным хорошему.
217
– Похоже, что это неизбежно.
– Итак, мои мальчики, теперешнее рассуждение указало нам, по‑видимому, прекрасный путь? – спросил я. – Если мы пожелаем представить себе здоровое тело, то поймем, что оно не нуждается ни во врачебном искусстве, ни в получении какой‑либо пользы; оно довлеет себе, так что ни один здоровый человек не будет другом врачу: ведь он здоров. Не так ли?
– Именно так.
– А больной человек из‑за своей болезни будет в нем нуждаться?
– Как же иначе?
– Ведь болезнь – это зло, врачебное же искусство – нечто полезное и благое.
b
– Да.
– Тело же само по себе – это ни благо ни зло.
– Правильно.
– А бывает оно вынуждено из‑за своей болезни тянуться к врачебному искусству и его любить?
– Мне кажется, да.
– Следовательно, ни дурное ни хорошее становится дружественным хорошему из‑за присутствующего в нем зла?
– Похоже, что так.
– Ясно, что оно становится дружественным хорошему раньше, чем оказывается плохим из‑за наличного в нем зла. Ведь оно стремится к хорошему и дружески тянется к нему до того, как само станет плохим: мы же сказали, что дурное не может быть другом хорошему.
c
– Да, не может.
– Посмотрите же, что именно я утверждаю: некоторые вощи, говорю я, сами уподобляются тому, что в них присутствует, другие же нет. Например, если кто пожелает выкрасить некий предмет какой‑нибудь краской, то краска эта будет присутствовать в том, что ею выкрашено.
– Конечно.
– В этом случае выкрашенный предмет будет иметь такой же цвет, как положенная на него краска?
– Я не совсем тебя понимаю, – молвил Менексен.
d
– Но я вот что имею в виду, – продолжал я. – Если кто‑нибудь твои рыжие волосы покрасит белилами, станут они от этого белыми или лишь будут казаться такими?
– Будут казаться, – отвечал он.
– Но в них будет присутствовать белизна.
– Да.
– Однако от этого они ничуть не станут белыми, но, несмотря на присутствие белизны, окажутся ни белыми, ни черными.
– Это правда.
– Когда же, мой друг, старость выкрасит их в тот же цвет, они станут подобны тому, что к ним добавилось, – белыми от присутствия белизны.
e
– Как же иначе?
– Вот о том я тебя сейчас и спрашиваю: если к чему‑то присоединится нечто, уподобится ли то, что получило данный признак, этому последнему? Или же это будет зависеть от способа, каким произошло это присоединение?
– Скорее именно так, – отвечал Менексен.
– Значит, и то, что ни плохо ни хорошо, иногда от присоединения плохого не становится плохим до поры до времени, а бывает, что и становится.
– Несомненно.
218
– И пока оно еще не стало плохим от присоединения плохого, присутствие этого последнего заставляет его стремиться к хорошему. То же, что делает его плохим, лишает его одновременно и такого стремления и любви к добру. Ибо оно уже не будет ни плохим ни хорошим, но оказывается плохим, а плохое не может быть, как мы видели, другом хорошему.
– Нет, не может.
– Поэтому мы должны сказать, что те, кто уже мудры, не стремятся более к мудрости, боги они или люди. Не стремятся к ней и те, кого крайнее невежество делает плохими людьми: ни один дурной и невежественный человек не тяготеет к мудрости. Остаются те, в ком хоть и гнездится это зло – невежество, однако не делает их совсем неразумными и невежественными: они еще понимают, что не знают того, что им неизвестно.
b
Поэтому‑то стремится к мудрости тот, кто не хорош и не плох; плохие же люди к ней не стремятся и точно так же хорошие[406]
, ибо, как показало наше прежнее рассуждение, ни противоположное не дружественно противоположному, ни подобное – подобному. Припоминаете ли вы это?
– Разумеется, – отвечали оба.
– Теперь, – продолжал я, – Лисид и Менексен, мы наилучшим образом установили, что есть дружественное, а что таковым не является.
c
Мы утверждаем, что ни хорошее ни плохое – идет ли речь о душе, теле или о чем бы то ни было другом – оказывается дружественным хорошему в силу присутствия в нем плохого.
Оба они согласились с тем, что это во всех отношениях верно.
Сам я также очень обрадовался, подобно охотнику, настигшему наконец свою добычу[407]
. Но потом – не знаю откуда – пришло мне в голову нелепейшее подозрение, что наш общий вывод неверен. Сразу опечалившись, я молвил:
– Увы, Лисид и Менексен, кажется, богатство наше нам только приснилось!
d
– Да как же так? – спросил Менексен.
– Боюсь, – отвечал я, – не уподобились ли мы лживым бахвалам, попусту бросающимся такими вот словами относительно дружбы.
– Что ты имеешь в виду? – спросил он.
– А вот что, – сказал я, – давайте посмотрим: тот, кто является другом, является им кому‑то или же нет?
– Разумеется, кому‑то, – отвечал он.
– Без всякой причины и цели или по какой‑то причине и ради чего‑то?
– По какой‑то причине и ради чего‑то.
– А тому, ради чего друг является другом своему другу, он дружествен или же не дружествен и не враждебен?
e
– Я не совсем понимаю, – промолвил Менексен.
– Это не удивительно, – сказал я. – Но, быть может, тебе будет яснее, да и сам я лучше осмыслю свои слова, если скажу так: мы только что утверждали, что больной человек бывает другом врачу. Не так ли?
– Да.
– Значит, он друг ему по причине своей болезни и ради выздоровления?
– Да.
– А болезнь – это зло?
– Ну конечно.
– А здоровье? – спросил я. – Благо или зло или ни то ни другое?
219
– Благо, – отвечал он.
– Итак, мы говорили, если я не ошибаюсь, что тело, не являясь ни благом ни злом, бывает дружественно врачебному искусству по причине болезни, то есть по причине зла. Врачебное же искусство – благо, ему дарят дружбу ради здоровья, а здоровье – это также благо. Ты согласен с этим?
– Да.
– Так другом или недругом бывает здоровье?
– Другом.
– А болезнь – это враг?
b
– Разумеется.
– Значит, то, что не есть ни благо ни зло, становится другом хорошему по причине зла и вражды и ради блага и дружбы.
– Это очевидно.
– Следовательно, друг становится другом во имя дружбы и по причине вражды.
– По‑видимому.
– Ну что ж, дети мои, – сказал я. – Коль скоро мы к этому пришли, давайте будем внимательны, чтобы не промахнуться. Ведь то, что дружественное оказалось дружественным дружественному и подобное оказывается таким образом дружественным подобному, я оставляю пока в покое – мы же признаём это невозможным. Но давайте проследим, чтобы нас не обмануло наше теперешнее рассуждение. Итак, мы сказали, что врачебное искусство дружественно во имя здоровья?
c
– Да.
– Значит, и здоровье дружественно также?
– Конечно.
– А если дружественно, то ведь ради чего‑то?
– Да.
– Ради чего‑то дружественного, если придерживаться прежнего решения?
– Разумеется.
– Но, значит, и это последнее будет дружественным ради чего‑то дружественного?
– Да.
– Однако, став на такой путь, не должны ли мы будем в конце концов неизбежно остановиться либо прийти к некоему первоначалу[408]
, которое уже не приведет нас более к другому дружественному, но окажется тем первичным дружественным, во имя которого мы и считаем дружественным все остальное?
d
– Да, это неизбежно.
– Вот это и есть то, что я имею в виду: я опасался, как бы не обмануло нас все, что, по нашим словам, дружественно на основе этого первоначала и представляет собой как бы его отображение, в то время как само это первоначало есть истинно дружественное. Давайте поразмыслим вот над чем: когда кто‑нибудь ценит что‑либо чрезвычайно высоко – например, когда отец всему своему достоянию предпочитает своего сына, – он ведь должен из предпочтения к своему сыну высоко ценить и что‑то еще? Например, если бы он увидел, что тот выпил цикуту[409]
, он ведь выше всего ценил бы тогда вино, считая, что оно может спасти его сыну жизнь?
e
– Несомненно, – откликнулся Менексен.
– А также и сосуд, в котором содержалось бы это вино?
– Конечно.
– Но значит ли это, что в таких обстоятельствах он не делает никакого различия между глиняным кубком и своим сыном или между своим сыном и тремя мерами вина? Или же в действительности дело обстоит так: все эти усилия делаются не ради средств, употребляемых для достижения поставленной цели, но ради цели, во имя которой пускаются в ход эти средства?
220
Часто мы говорим, что высоко ценим золото и серебро; однако это не вполне верно: выше всего мы ценим то, во имя чего мы копим и золото и все остальные средства. Так ли мы скажем?
– Разумеется, так.
– Но не то же ли самое относится к дружественному? Все то, что мы называем дружественным нам из‑за некоего иного дружественного, дружественно не в собственном смысле этого слова: на самом деле дружественно, как видно, лишь то самое, к чему устремляется все это так называемое дружественное.
b
– По‑видимому, так оно и есть, – сказал Менексен.
– Значит, то, что дружественно по существу, дружественно не из‑за какого‑то другого дружественного?
– Это верно.
– Значит, следует исключить то, что дружественное Дружественно по причине какого‑то другого дружественного. А благо – это нечто дружественное?
– Мне кажется, да.
c
– Итак, благо любят по причине зла, и дело обстоит следующим образом: если бы из трех вещей, сейчас нами перечисленных, – блага, зла и того, что не есть ни благо ни зло, остались бы только две, причем зло бы исчезло и ничему больше не грозило – ни телу, ни душе, ни всему остальному, что мы определили как само по себе ни плохое ни хорошее, то благо не принесло бы нам никакой пользы, но оказалось бы бесполезным?
d
Если ничто не наносит нам более ущерба и мы не ожидаем для себя никакой пользы, именно тогда становится ясным, что мы любим и ценим благо из‑за присутствия зла, как некое лекарство от этого зла, зло же приравниваем к болезни; а при отсутствии болезни нет нужды ни в каком лекарстве. Такова природа блага, и любим мы его по причине зла, когда сами находимся посредине между благом и злом; само же по себе – как самоцель – оно ведь не приносит никакой пользы?
– Похоже, что нет, – отозвался Менексен.
– Итак, нам дружественно то, к чему устремляется все остальное, именуемое нами дружественным из‑за иного дружественного, кое ничем не напоминает остальное.
e
Последнее именуется дружественным из‑за того дружественного, кое в полную противоположность остальному оказывается истинно дружественным, дружественным по самой своей природе: ведь остальное для нас дружественно по причине враждебного; если же враждебное исчезает, оно, по‑видимому, не будет больше нам дружественным.
– По крайней мере, – сказал Менексен, – если верить сказанному сейчас.
221
– Но, – спросил я, – во имя Зевса, если зло погибнет, исчезнут ли также голод и жажда или другие подобные вещи? Или, коль скоро существуют люди и другие живые существа, голод останется, хотя он и не будет вредоносным? Также и жажда и другие вожделения не будут больше злом, ибо ведь зло погибло? Или вообще вопрос о том, что тогда будет или чего не будет, смехотворен? Кому ж это может быть ведомо? Однако одно мы знаем, а именно что в настоящее время голодающий человек может испытывать и урон и пользу. Не так ли?
– Разумеется.
b
– Значит, и терпящий жажду или испытывающий другие подобные вожделения может иногда испытывать их с пользой для себя, иногда – во вред, а иногда и не так и не этак?
– Несомненно.
– Что ж, если зло погибнет, следует ли из этого, что вместе с ним должно погибнуть и то, что не является злом?
– Вовсе нет.
– Значит, вожделения, кои ни хороши и ни дурны, останутся и тогда, когда погибнет зло?
– Очевидно.
– Так вот, возможно ли, испытывая к чему‑либо вожделение и страсть, не любить то, что вызывает эти страстные вожделения?
c
– Мне кажется, нет.
– Значит, и после исчезновения зла останется что‑то дружественное?
– Да.
– Но ведь если зло – причина того, что нечто является дружественным, то после его гибели ничто не может быть дружественным чему‑то другому. Коль скоро причина погибла, не может продолжать существование то, чему она служила причиной.
– Ты прав.
– А разве мы не признали, что дружественное дружественно чему‑то и по какой‑то причине? Мы ведь считали тогда, что причина эта – зло, и именно по причине зла то, что и не хорошо и не плохо, дружественно хорошему.
– Это правда.
– А вот теперь, похоже, обнаруживается какая‑то иная причина взаимной дружбы.
– Да, похоже, что так.
d
– Значит, и в самом деле, как мы говорили недавно, вожделение есть причина дружбы, и вожделеющее дружественно тому, к чему оно вожделеет, и тогда, когда оно вожделеет, а то, что мы прежде говорили относительно дружественного, оказывается вздором – словно поэма, изобилующая длиннотами?
– Это возможно.
– Однако вожделеющее вожделеет к тому, в чем оно нуждается[410]
. Не так ли?
– Да.
– Значит, нуждающееся дружественно тому, в чем оно нуждается?
– Мне так кажется.
e
– Нуждается же оно в том, чего оно каким‑то образом лишено?
– Как же иначе?
– Итак, Менсксен и Лисид, похоже, что любовь, дружба и вожделение оказываются чем‑то внутренне нам присущим[411]
.
Они с этим согласились.
– Значит, коль скоро вы между собою друзья, вы по своей природе друг другу родственны.
– Да, несомненно! – воскликнули они в один голос.
222
– И если, мальчики, – сказал я, – кто‑либо из двух вожделеет к другому или любит его, то, следовательно, он не вожделел, не любил бы его и не испытывал бы к нему дружеского чувства, если бы не был каким‑то образом родствен любимому – душою ли или неким свойством, привычкой либо особенностью души.
– Несомненно, – отозвался Менексен; Лисид же промолчал.
– Далее, – заметил я, – мы, естественно, должны любить родственное нам по своей природе.
– Да, это естественно, – сказал Менексен.
– А посему подлинно любящему, а не делающему вид, что он любит, любимец должен отвечать любовью. На это Лисид и Менексен едва кивнули, Гиппотал же от радости то бледнел, то краснел.
b
А я, желая пересмотреть сказанное заново, говорю:
– Если нечто родственное отлично от подобного, то, как мне кажется, Лисид и Менексен, мы говорим дело относительно дружбы. Если же подобное и родственное – одно и тоже, нелегко нам будет отбросить наше прежнее рассуждение, ибо тогда окажется, что подобное подобному вовсе не бесполезно в силу своей подобности; и уж совсем чистым вздором выглядело бы допущение, будто бесполезное дружественно. Итак, не желаете ли вы, – продолжал я, – поскольку мы уже почти пьяны от слов, согласиться с утверждением, что родственное чем‑то отлично от подобного?
c
– Конечно, желаем.
– Не предположим ли мы также, что благо родственно всему, зло же, наоборот, чуждо? Или что зло родственно злу, благо – благу, а то, что не есть ни благо ни зло, – тому, что не есть ни благо ни зло?
Они согласились с каждым из членов этого положения.
– Итак, мальчики, – сказал я, – мы снова впали в то недоразумение относительно дружбы, которое отбросили раньше: получается, что несправедливый человек несправедливому и дурной дурному будет таким же другом, как хороший человек хорошему.
– Похоже, что так, – откликнулся Менексен.
d
– Далее, если мы утверждаем, что благое и родственное тождественны[412]
, разве это не то же самое, что сказать: только хороший человек – друг хорошему?
– Конечно, то же самое.
– Однако припоминаете ли вы, что и по этому пункту мы, как нам казалось, себя опровергли?
– Припоминаем.
– Но как же еще можем мы воспользоваться нашим рассуждением? Не ясно ли, что никак? У меня возникла потребность, подобно мудрым судьям, пересмотреть с самого начала все нами сказанное.
e
Итак, если ни любящие, ни любимые, ни подобные, ни неподобные, ни добрые люди, ни родственные, равно как и все прочее, что мы перечислили, – я уж и не упомню всего, такое этих вещей было множество – если ничто из этого не является дружественным, мне нечего больше сказать.
223
Говоря это, я имел в виду привлечь к нашей беседе кого‑нибудь из тех, кто постарше. Но тут, подобно злым демонам, приблизились воспитатели Менексена и Лисида, ведя за собою их братьев; они позвали мальчиков и приказали им идти домой. Было уже позднее время. Мы и все стоявшие вокруг нас хотели было их прогнать, но, поскольку они не обращали на нас никакого внимания и, сердито лопоча что‑то на своем варварском наречии, продолжали их звать, нам показалось, что они перепились на празднестве Гермеса и не в состоянии с нами разговаривать[413]
; побежденные, мы прервали нашу беседу. Однако, когда они уже уходили, я сказал:
b
– Вот видите, Лисид и Менексен, я, старик, вместе с вами оказался в смешном положении. Ведь все, кто уйдет отсюда, скажут, что мы, считая себя друзьями – я и себя отношу к вашим друзьям, – оказались не в состоянии выяснить, что же это такое – друг.
Перевод С. Я. Шейнман‑Топштейн.
В кн.: Платон. Диалоги. М.: «Мысль», 1986
XII. ХАРМИД
Сократ
153
Вернулся я вчера вечером из лагеря под Потидеей[414]
, и так как я долго отсутствовал, то с радостью пошел к привычным местам бесед. Зашел я также в палестру Посейдона Таврия, что напротив царского храма[415]
, и застал там много народу – некоторые из них были мне незнакомы, большинство же известны. И как только завидели они меня, неожиданно вошедшего, тотчас же прямо издалека и со всех сторон стали меня приветствовать.
b
А Херефонт[416]
с присущей ему восторженностью, вырвавшись вперед, подбежал ко мне и, схватив за руку, воскликнул: «Сократ мой, так ты уцелел в битве?!» (В самом деле, незадолго до моего отбытия из Потидеи там произошла битва, о которой собравшиеся здесь узнали лишь недавно.) А я ему в ответ: «Как видишь, уцелел».
c
– Да ведь сюда дошли вести, – сказал он, – что битва была очень жестокой и в ней пали многие люди, которых мы знаем.
– Пожалуй, – отвечал я, – это правдивые вести.
– Значит, – спросил он, – ты участвовал в битве?
– Участвовал.
– Садись же сюда, – сказал он, – и расскажи нам: ведь не обо всем мы точно осведомлены.
С этими словами он усадил меня подле Крития[417]
, сына Каллесхра. Сев рядом, я приветствовал Крития и остальных и стал рассказывать им о войске все, что каждого интересовало; вопросы же сыпались со всех сторон.
d
А когда мы вдоволь наговорились об этом, я в свою очередь стал расспрашивать их о здешних делах: о философии – в каком она сейчас состоянии, и о молодежи – есть ли среди них кто‑либо, выдающийся своим разумом, красотой или тем и другим вместе. В это мгновение Критий, оглянувшись на дверь и увидев нескольких входящих юношей, шумно споривших между собою, и следующую за ними толпу людей, сказал:
154
– Что касается красивых, Сократ, ты тотчас же, кажется мне, это узнаешь: ведь входящие сейчас сюда как раз и являются поклонниками и глашатаями того, кто ныне слывет самым красивым; мне представляется, что он и сам вот‑вот подойдет.
– А кто это и чей он сын? – спросил я.
– Ты его, в общем‑то, знаешь, – отвечал он, – но до твоего отъезда он был еще недостаточно взрослым: это Хармид, сын Главкона[418]
, моего дяди, и мой двоюродный брат.
b
– Да, я его знаю, клянусь Зевсом, – сказал я. – Он был недурен и тогда еще, маленьким мальчиком, теперь же, думаю, он уже совсем повзрослел и стал юношей.
– Вот сейчас ты увидишь, – сказал Критий, – и насколько он вырос и каков он собою.
И при этих его словах вошел сам Хармид.
Я‑то, мой друг, здесь совсем не судья: в вопросах красоты я совершенный неуч, почти все юноши в поре возмужалости кажутся мне красивыми. И все же он мне представился тогда на диво прекрасным и статным, и показалось, что все остальные в него влюблены –
c
так они были поражены и взволнованы в момент его появления; многие же другие поклонники следовали за ним. Со стороны нас, мужчин, это было менее удивительно, но я наблюдал и за мальчиками, и никто из них, даже из самых младших, не смотрел более никуда, но все созерцали его, словно некое изваяние.
Тогда Херефонт, обратившись ко мне, сказал:
d
– Как нравится тебе юноша, мой Сократ? Разве лицо его не прекрасно?
– Необыкновенно прекрасно, – отвечал я.
– А захоти он снять с себя одежды, ты и не заметил бы его лица – настолько весь облик его совершенен.
И все согласились в этом с Херефонтом. Я же сказал:
– Геракл свидетель, вы справедливо называете его неотразимым! Если бы только ему было присуще еще нечто совсем небольшое.
– Что же это? – спросил Критий.
e
– Если бы он от природы обладал достойной душою. А ведь именно таким ему подобает быть, Критий, раз он принадлежит к твоему семейству[419]
.
– Но, – возразил Критий, – и в этом отношении он в высшей степени достойный человек[420]
.
– Так почему же нам, – спросил я, – не снять одежды именно с этой его части и не предаться ее созерцанию прежде, чем созерцанию его внешности?[421]
Во всяком случае, в таком возрасте он уже готов к собеседованиям.
155
– И даже очень, – отозвался Критий. – Ведь он и философ, а также, как кажется и другим, и ему самому, обладает большим поэтическим даром[422]
.
– Этот прекрасный дар, милый Критий, – сказал я, – присущ вам всем издавна благодаря родству вашему с Солоном[423]
. Но почему ты не представишь мне юношу, подозвавши его сюда? Ведь даже если бы он был еще моложе, для него не было бы ничего зазорного в том, чтобы беседовать с нами в твоем присутствии: ты одновременно и родственник его и опекун.
– Это правильно сказано, – откликнулся он, – Позовем же его.
b
И, повернувшись к своему прислужнику, он приказал: «Мальчик, позови Хармида да скажи ему, что я желаю показать его врачу по поводу той болезни, которой, как он совсем недавно говорил, он страдает». Мне же Критий сказал:
– Давеча он мне говорил, что мучается головной болью, когда поднимается ото сна с зарею. Тебе ничего не стоит притвориться, будто ты знаешь средство от головной боли.
– Это я могу, – отвечал я. – Пусть только подойдет.
– Сейчас! – сказал Критий.
c
Так и произошло. Хармид подошел и вызвал громкий смех, ибо каждый из нас, сидящих, освобождая для него место, хорошенько потеснил своего соседа – чтобы оказаться сидящим рядом с ним, – пока мы не заставили встать одного из сидевших с края и не сбросили на землю другого. Хармид же, подойдя, сел между мной и Критием. И уже с этого мгновения, милый друг, мною овладело смущение и разом исчезла та отвага, с которой я намеревался столь легко провести с ним беседу.
d
Когда же после слов Критпя, что я знаток необходимого ему средства, он бросил на меня невыразимый взгляд и сделал движение, как бы намереваясь обратиться ко мне с вопросом, а все собравшиеся в палестре обступили нас тесным кругом, – тогда, благородный мой друг, я узрел то, что скрывалось у него под верхней одеждой, и меня охватил пламень: я был вне себя и подумал, что в любовных делах мудрейший поэт – Кидий, советовавший кому‑то по поводу встречи с прекрасным мальчиком «остерегаться, выйдя», олененку подобно, «навстречу льву, разделить удел жертвенного мяса»[424]
: ведь мне показалось, что я и сам раздираем на части таким чудовищем.
e
Однако, когда он спросил меня, знаю ли я средство от головной боли, я, хоть и с трудом, выдавил из себя, что знаю.
– И какое это, – спросил он, – средство?
Я отвечал, что это некая травка, но к ней надо добавлять определенный заговор, если же принять ее без этого заговора, то от травки не будет пользы. А он мне на это:
156
– Так я спишу у тебя этот заговор.
– В том случае, – сказал я, – если ты мне поверишь или даже без этого?
А он, рассмеявшись:
– Разумеется, если поверю, Сократ.
– Что ж, пусть будет так, – сказал я. – И ты уверен, что мое имя – Сократ?
– Если не ошибаюсь: ведь о тебе немало разговоров идет среди моих сверстников, да и с детских лет, как припоминаю, я видел тебя в обществе нашего Крития.
b
– А, это хорошо, – сказал я. – Тем более смело расскажу я тебе о заговоре – в чем он состоит. А то раньше я недоумевал, каким образом сумею доказать тебе его силу. Заговор же этот таков, что с его помощью нельзя излечить одну только голову, но как, быть может, и ты слыхивал о хороших врачах – когда кто‑нибудь приходит к ним с глазной болью, они говорят, что напрасно пытаться излечить одни только глаза, но необходимо, если только больной хочет привести в порядок глаза, подлечить одновременно и голову, точно так же совершенно бессмысленно думать,
c
будто можно излечить каким‑то образом голову саму по себе, не вылечив все тело в целом. На этом основании с помощью должных предписаний для всего тела они стараются излечить часть одновременно с целым. Или ты не слыхал, что об этом так говорят и именно так обстоит дело?
– Нет, конечно, слыхал, – отвечал он.
– Значит, тебе это представляется верным, и ты это одобряешь?
– Несомненно, – отвечал он.
d
А я, почувствовав его одобрение, воспрянул духом, и вскоре ко мне вернулась моя отвага; я оживился и сказал:
– Итак, мой Хармид, подобным же образом обстоит дело и с этим заговором. Научился же я ему, когда находился там, при войске, у некоего фракийского врача из учеников Залмоксида: считается, что врачи эти дают людям бессмертие[425]
. Так вот, фракиец этот говорил, будто эллинские врачи правильно передают то, что я тебе сейчас поведал; но Залмоксид, сказал он, наш царь, будучи богом, говорит:
e
«Как не следует пытаться лечить глаза отдельно от головы и голову – отдельно от тела, так не следует и лечить тело, не леча душу, и у эллинских врачей именно тогда бывают неудачи при лечении многих болезней, когда они не признают необходимости заботиться о целом, а между тем если целое в плохом состоянии, то и часть не может быть в порядке[426]
. Ибо, – говорит он, – всё – и хорошее и плохое – порождается в теле и во всем человеке душою, и именно из нее все проистекает, точно так же как в глазах все проистекает от головы.
157
Потому‑то и надо прежде всего и преимущественно лечить душу, если хочешь, чтобы и голова и все остальное тело хорошо себя чувствовали. Лечить же душу, дорогой мой, должно известными заклинаниями, последние же представляют собой не что иное, как верные речи[427]
: от этих речей в душе укореняется рассудительность, а ее укоренение и присутствие облегчают внедрение здоровья и в области головы и в области всего тела».
b
Так он наставлял меня и относительно лекарства и относительно заговоров: мол, пусть никто не вздумает убеждать тебя излечить ему голову с помощью этого лекарства, если он прежде не даст тебе подлечить с помощью заговора его душу. «Ныне, – сказал он, – распространенной среди людей ошибкой является попытка некоторых из них лечить либо одним из этих средств, либо другим». И он наказывал весьма настойчиво, чтобы я не поддавался на уговоры ни богатых людей, ни знатных, ни красивых и не поступал бы вопреки этому наставлению.
c
Я же послушаюсь его (ведь я поклялся ему, так что мне необходимо повиноваться!), и если ты пожелаешь, согласно наставлениям чужеземца, сначала предоставить мне душу, чтобы заговорить ее заговором фракийца, то я присовокуплю к этому и лекарство для головы; если же не пожелаешь, то у меня нет средства помочь тебе, мой милый Хармид.
Критий, услышав эти мои слова, воскликнул:
– Мой Сократ, головная боль была бы для юноши истинным даром Гермеса[428]
, если бы она вынудила его ради головы усовершенствовать и свой разум. Скажу тебе, однако, что Хармид отличается от своих сверстников не только своим внешним обликом,
d
но и тем самым, ради чего нужен, по твоим словам, твой заговор: ведь заговор этот служит приобретению рассудительности, не так ли?
– Именно так, – отвечал я.
– Так будь уверен, – возразил он, – что он кажется намного рассудительнее, чем юноши нашего времени; да и в отношении всех остальных качеств, коими бывает наделен его возраст, он ничуть не хуже других.
– Это и справедливо, Хармид, – отозвался я, – чтобы ты отличался всем этим от других: думаю, никто из присутствующих здесь не смог бы легко указать,
e
какие два афинских семейства, соединившись, естественно произвели бы на свет более доблестное и знатное потомство, чем те, из которых ты происходишь. Ведь по отцу твоя семья ведет свой род от Крития, сына Дропида, и прославлена Анакреонтом, Солоном[429]
и многими другими поэтами (так гласит предание) за свою красоту, добродетель и другие так называемые дары богов.
158
И со стороны матери у тебя то же самое: никто на земле не слывет более красивым и статным мужем, чем дядя твой Пириламп[430]
, многократно ездивший послом к Великому царю и другим правителям; да и вся семья ни в чем не уступает никакому другому роду. Поэтому тебе, происходящему от таких людей, подобает во всем быть первым. Что касается твоего внешнего вида, милый сын Главкона, то мне кажется, ты решительно никому ни в чем не уступаешь;
b
если же ты, как говорит нам Критий, уродился достойным человеком и по своей рассудительности и в отношении других своих качеств, то счастливцем родила тебя твоя мать, мой милый Хармид. Дело обстоит вот каким образом: если тебе уже присуща рассудительность, как сказал Критий, и ты достаточно разумен, ты не нуждаешься в этом случае ни в каком заговоре – ни в Залмоксидовом, ни в том, какой есть у Абариса‑гиперборейца[431]
, но нужно просто дать тебе лекарство от головы;
c
если же тебе кажется, что ты нуждаешься в заговорах, то надо произнести заговор до приема лекарства. Скажи же мне сам, согласен ли ты с Критием в том, что ты уже причастен рассудительности, или тебе ее все‑таки недостает?
Хармид сначала покраснел и показался еще прекраснее: застенчивость подобала его возрасту. А затем он ответил не без достоинства, сказав, что нелегко в подобных обстоятельствах как выразить согласие, так и дать отрицательный ответ.
d
– Ведь если, – сказал он, – я не соглашусь с тем, что я рассудителен, то одновременно будет и странным говорить так о самом себе, и окажется, что я выставлю лжецами как Крития, так и многих других, кому я кажусь рассудительным, по его словам; если же, с другой стороны, я дам утвердительный ответ и превознесу самого себя, то это, возможно, покажется дерзким, так что мне трудно тебе ответить. Я же на это:
– Ты говоришь дело, Хармид. И мне кажется, – продолжал я, – что нам надо вместе рассмотреть, обладаешь ли ты свойством, которое меня интересует, или нет,
e
дабы и ты не был вынужден говорить то, чего не желаешь, и мне не пришлось бы бездумно взяться за лечение. Итак, если тебе угодно, я хочу рассмотреть это вместе с тобою; если же нет, давай это оставим.
– Но мне это в высшей степени желанно, поэтому рассмотри вопрос таким способом, какой представляется тебе самому наилучшим.
– Мне представляется наилучшим такой способ рассмотрения: ведь ясно, что, если тебе свойственна рассудительность, у тебя должно быть насчет нее свое мнение.
159
Она необходимо должна, если только она тебе присуща, возбуждать у тебя определенное ощущение, из которого у тебя возникало бы о ней некое мнение – что такое эта рассудительность и каковы ее свойства? Или ты иного мнения?
– Нет, я думаю именно так.
– Ну, – продолжал я, – если только ты владеешь эллинской речью, то ведь сможешь нам сказать, что ты об этом думаешь и чем именно она тебе представляется?
– Возможно, – отвечал он.
– Для того чтобы мы могли установить, присуща тебе рассудительность или нет, скажи, – продолжал я, – что называешь ты, согласно твоему мнению, этим именем?
b
Но он сначала заколебался и не склонен был отвечать. Затем, однако, сказал, что рассудительностью кажется ему умение все делать, соблюдая порядок и не спеша, – в пути, и в рассуждениях, и во всем остальном также. «Мне кажется, – добавил он, – что в целом то, о чем ты спрашиваешь, можно определить как некую осмотрительность».
– И ты считаешь, что ты прав? – спросил я. – Впрочем, Хармид, действительно говорят, что осмотрительные люди рассудительны. Посмотрим же, дельны ли эти речи. Скажи мне, разве рассудительность не принадлежит к прекрасным вещам?
c
– Разумеется, – отвечал он.
– А какое свойство является более прекрасным для учителя грамматики – писать соответствующие буквы[432]
быстро или медленно?
– Быстро.
– А читать? Быстро или медленно?
– Быстро.
– А быстро играть на кифаре и стремительно побеждать в борьбе ведь прекраснее, чем делать то же самое спокойно и медленно?
– Да.
– Ну а когда бьешься на кулаках или участвуешь в многоборье, разве дело обстоит не таким же образом?
– Несомненно.
d
– А в беге и прыжках и во всех остальных телесных упражнениях разве не присуще прекрасному все то, что совершается стремительно и быстро, а постыдному – то, что делается медленно и с трудом?
– Это очевидно.
– Значит, для нас очевидно, – сказал я, – что в отношении тела самым прекрасным является не осмотрительность, но высокая скорость и стремительность. Или это не так?
– Несомненно, так.
– Ну а рассудительность была у нас чем‑то прекрасным?
– Да.
– Значит, что касается тела, не осмотрительность, но скорость была бы более разумной, поскольку рассудительность – это нечто прекрасное?
e
– Похоже, что так, – отвечал он.
– Далее, – сказал я, – что лучше: понятливость или тупость?
– Понятливость.
– А понятливость является ли способностью понимать быстро, в то время как тупость означает замедленное понимание?
– Да.
– А что неизмеримо прекраснее: обучить другого быстро и решительно или же медленно и постепенно?
– Быстро, – отвечал он, – и решительно.
– Далее, припоминать и запоминать лучше медленно и постепенно или решительно и быстро?
160
– Решительно и быстро, – отвечал он.
– И находчивость является некоей стремительностью души, а вовсе не ее медлительностью?
– Это правда.
– Так не сводится ли все сказанное – об учителе грамматики, кифаристе или любом другом мастере – к тому, что наилучшим является самое быстрое, а не самое медленное?
– Это так.
b
– Ну а при душевных поисках и размышлениях, думаю я, достойным похвалы оказывается не самый медлительный, с трудом соображающий и находящий решение человек, но тот, кто это решение усматривает быстрее и легче всех.
– Да, это так, – сказал он.
– И разве, Хармид, – спросил я, – все, что касается тела и души, не представляется нам более прекрасным, если ему свойственны стремительность и скорость, а не медлительность и осмотрительность?
– Видимо, это так, – отвечал он.
c
– Следовательно, рассудительность не может быть осмотрительностью, и рассудительная жизнь – не осмотрительная, если верить этому рассуждению: ведь, согласно ему, рассудительная жизнь должна быть прекрасной. Нам показалось одно из двух: либо осторожные действия в жизни вообще менее прекрасны, либо только в очень немногих случаях более прекрасны, чем быстрые и решительные. Если же, мой друг, осторожные действия большей частью оказываются ничуть не прекраснее, чем напористые и быстрые, то рассудительность будет не более заключаться в осторожных действиях, чем в решительных и быстрых, – идет ли речь о походке, словах или о чем‑либо ином –
d
и осторожная жизнь не будет рассудительнее неосторожной, коль скоро мы предположили в нашем рассуждении, что рассудительность – это нечто прекрасное, быстрое же оказалось не менее прекрасным, чем медленное.
– Мне кажется, Сократ, – сказал Хармид, – что ты молвил правду.
– Итак, Хармид, – сказал я, – если ты вновь как следует вдумаешься в сказанное, бросив взгляд на самого себя, и представишь себе, каким именно делает тебя свойственная тебе рассудительность, то, взвесив все это, ты сможешь смело и точно определить, что же она собой представляет.
e
А он, чуть‑чуть помедлив, а затем вполне мужественно оценив себя, молвил:
– Теперь мне кажется, что рассудительность делает человека стыдливым и скромным и что она то же самое, что стыдливость.
– Пойдем дальше, – сказал я. – Ведь перед этим ты согласился, что рассудительность – это нечто прекрасное?
– Конечно, – отвечал он.
– Но разве люди рассудительные – это одновременно не хорошие люди?
– Да, хорошие.
– А разве может быть хорошим то, что не делает людей хорошими?
– Конечно, нет.
– Следовательно, рассудительность – это не только прекрасная, но и благая вещь.
– Мне кажется, это так.
161
– Что ж, – продолжал я, – веришь ли ты, будто Гомер удачно изрек эти слова:
Не подобает тому, кто в нужде, быть стыдливым[433]
.
– Верю.
– Похоже, следовательно, что стыдливость – это благо и одновременно не благо?
– Да, очевидно.
– Но ведь рассудительность – это благо, если она делает хорошими, а не плохими тех, кому она присуща.
– Да, мне кажется, дело обстоит именно так, как ты говоришь.
b
– Значит, рассудительность – это не стыдливость, коль скоро она – благо, стыдливость же оказывается не более благом, чем злом.
– Мне, Сократ, – возразил он, – представляется все это верно сказанным. Однако как бы ты отнесся к такому мнению о рассудительности: только что я вспомнил, что слыхал от кого‑то, будто рассудительность – это [умение] «заниматься своим»[434]
. Посмотри же, правильным ли тебе покажется изречение того, кто это сказал.
А я на это:
c
– Ах ты, плут! Ведь ты слыхал это от нашего Крития или кого‑то другого из мудрецов!
– Видно, – вмешался Критий, – это чьи‑то чужие слова: я их не произносил.
– Но, мой Сократ, – возразил на это Хармид, – какая разница, от кого я это слыхал?
– Никакой, – отвечал я. – Во всяком случае, рассмотреть надлежит не кто это сказал, но истинны эти слова или нет.
– Это ты правильно говоришь, – молвил он.
– Клянусь Зевсом! – воскликнул тут я. – Будет удивительно, если мы здесь к чему‑то придем: ведь слова эти напоминают загадку.
d
– Почему же? – спросил он.
– Да потому, что тот, кто сказал, будто рассудительность – это умение «заниматься своим», подразумевал не то, что произнес вслух. Или, по‑твоему, когда учитель грамматики пишет либо читает, он ничем не занимается?
– Нет, я думаю, наоборот, что он занимается чем‑то, – отвечал Хармид.
– Так что же, тебе кажется, будто учитель грамматики пишет и читает лишь свое имя и лишь этому учит вас, мальчиков, или вы точно так же писали имена своих врагов, как и свои собственные и своих друзей?
– Точно так же.
e
– Значит, занимаясь этим, вы делали много лишнего и не проявляли рассудительности?
– Вовсе нет.
– Но ведь вы занимались вовсе не «своим», если только читать и писать означает заниматься.
– Ничего иного это не означает.
– А лечить, мой друг, строить дома, ткать или вообще создавать с помощью какого‑либо искусства любые произведения этого искусства означает, по‑твоему, чем‑то заниматься?
– Несомненно.
– Но как тебе кажется, – спросил я, – правильно ли, если государство управляется законом, повелевающим каждому самому ткать и стирать себе плащ, тачать сапоги, и подобным же образом выделывать фляги, скребки и всю прочую утварь, а за чужие вещи не браться, но каждому производить и изготовлять только свое?
162
– Нет, мне не кажется это правильным.
– Однако, – продолжал я, – если бы государство это жило рассудительно, оно жило бы правильно?
– Как же иначе? – отвечал он.
– Следовательно, – заключил я, – заниматься такими делами и подобным образом делать свое не означает быть рассудительным.
– По‑видимому, не означает.
– Следовательно, как я и утверждал недавно, похоже, что загадками говорил сказавший, будто рассудительность – это умение «заниматься своим»: ведь не был же он настолько прост. Или, быть может, Хармид, ты слыхал это от какого‑нибудь дурачка?
b
– Вовсе нет, – отвечал он, – ведь человек этот казался весьма даже мудрым.
– Тогда, как мне думается, он скорее всего загадал загадку, поскольку трудно ведь догадаться, что это значит – «заниматься своим».
– Может быть, – отозвался Хармид.
– Что же это, однако, значило бы – «заниматься своим»? Ты не мог бы сказать?
– Нет, клянусь Зевсом, я этого не знаю! Но, быть может, ничто не мешает такому предположению: тот, кто это сказал, и сам не знает, что он имел в виду.
c
И говоря это, он с усмешкой оглянулся на Крития. Что до Крития, то давно уже было видно, как он раздражен и как жаждет показать себя перед Хармидом и всеми остальными присутствующими. И раньше‑то он едва сдерживался, а тут совсем потерял над собою власть. Мне кажется, скорее всего я был прав, когда предположил, что именно от Крития слышал Хармид это объяснение рассудительности. А Хармид, не желая сам объяснить это, но стремясь услышать ответ от Крития, старался его подзадорить, делая вид, что тот опровергнут;
d
Критий же этого не стерпел, и мне показалось, что он гневается на Хармида, как обычно гневается поэт на актера, скверно истолковавшего его сочинение. Пристально посмотрев на Хармида, он бросил:
– Ты так считаешь, Хармид? Значит, если ты не уразумел мысли того, кто сказал, что рассудительность – это умение «заниматься своим», то он и сам этого не разумеет?
– Но, достойнейший мой Критий, – вмешался я, – нет ничего удивительного, если в своем возрасте он этого не разумеет; тебе же подобает это знать и по возрасту, и потому, что ты его воспитатель.
e
Если ты согласен, что рассудительность – именно то, о чем говорит Хармид, и принимаешь такое объяснение, я с гораздо большим удовольствием рассмотрю с тобою, правильно ли это сказано или нет.
– Но я полностью согласен и принимаю его объяснение, – сказал Критий.
– И прекрасно делаешь, – подтвердил я. – Скажи же мне: согласен ли ты с тем, что я сейчас спрашивал о мастерах, а именно что все они делают нечто?
– Да, согласен.
163
– И тебе кажется, что они делают только свое дело или также и чужие дела?
– И чужие также.
– Значит, рассудительными бывают не только те, кто делают лишь свои дела?
– Почему бы и нет? – отвечал Критий.
– Я тоже так думаю, – сказал я. – Но смотри, чтобы это не задело того, кто, предположив, что рассудительность – это умение «заниматься своим», позже, ничтоже сумняшеся, признает, что могут быть рассудительными и те, кто занимаются чужими делами!
b
– Как это? – возразил он. – Признав, что рассудительными бывают люди, делающие чужие дела, я признал, будто ими бывают и те, кто занимаются чужими делами?!
– Скажи мне, – возразил я, – разве не одно и то же ты называешь словами «делать» и «заниматься»?[435]
– Нет, не одно и то же, – отвечал он. – Да и «трудиться» не означает «делать»[436]
. Я перенял это у Гесиода, сказавшего, что никакой труд не может считаться зазорным[437]
. Или, думаешь ты, если бы он называл словами «трудиться» и «заниматься» те дела, что ты сейчас перечислил, он решился бы сказать, что нет никакого позора в ремесле сапожника, торговца соленой рыбой или продажного развратника?
c
Не надо так думать, Сократ; я полагаю, что он считал «дело» чем‑то отличным от «труда» и «занятия». И дело оказывается иногда постыдным, если оно не связано с чем‑то прекрасным, труд же никогда и ни в коей мере не может быть позором: ведь Гесиод именует трудами то, что делается прекрасно и с пользой, а дела, подобные тем, называет делячеством и наживой. Нужно еще сказать, что собственными делами он считает лишь первые, а все вредные занятия относит к чужеродным. Так что надо думать, и Гесиод и любой другой разумный человек именуют рассудительным того, кто занимается собственным делом.
d
– Мой Критий, – сказал я, – едва лишь ты начал свою речь, как я уже уловил, что ты называешь то, что нам присуще и свойственно, «хорошим», а свершение хорошего именуешь «занятиями». Я ведь много раз слышал от Продика подобные различения имен[438]
. И я предоставляю тебе распорядиться любым названием, как тебе это будет угодно; разъясни лишь, к чему именно относишь ты то имя, которое произносишь. Поэтому сейчас надо снова уточнить: стало быть, свершение, или творение (или как тебе еще угодно это именовать), хороших дел ты именуешь рассудительностью?
e
– Вот именно, – отвечал он.
– Значит, тот, кто совершает дурные дела, не рассудителен, и рассудителен лишь тот, кто вершит хорошие?
– А тебе, достойнейший мой, – возразил он, – разве не так это представляется?
– Оставь это, – сказал я. – Ведь мы рассматриваем сейчас не мои представления, но твои нынешние высказывания.
– Я утверждаю, – сказал он, – что тот, кто вершит не достойные, но дурные дела, не рассудителен, рассудителен же тот, кто вершит хорошие дела, а не плохие. Я ясно условился с тобой, что рассудительность – это свершение хороших дел.
164
– Вполне возможно, что ты и прав. Удивляет меня, – продолжал я, – лишь следующее: что же, ты считаешь, будто рассудительные люди не ведают того, что они рассудительны?
– Нет, я этого не считаю, – возразил он.
– Но разве ты не сказал совсем недавно, – продолжал я, – будто ничто не мешает мастерам, делающим чужие дела, быть все же рассудительными?
– Да, – отвечал он, – я это говорил; ну и что же?
– Ничего. Но скажи, не думаешь ли ты, что врач, делая кого‑то здоровым, приносит пользу и себе, и тому, кого он излечивает?
b
– Да, я так думаю.
– Значит, тот, кто совершает подобное дело, занимается тем, чем должно?
– Да.
– А тот, кто занимается тем, что должно, разве не рассудителен?
– Конечно, рассудителен.
– И, разумеется, врачу необходимо знать, когда он лечит с пользой, а когда – нет? И ведь точно так же любому мастеру надо знать, будет ли польза от дела, которым он занимается, или же нет?
– Быть может, и не надо.
c
– Значит, иногда, – сказал я, – врач сам не сознает, принес ли он пользу или причинил вред, когда что‑либо сделал? Хотя, когда он приносит пользу, он, по твоим словам, поступает рассудительно? Или ты не так сказал?
– Именно так.
– Следовательно, получается, что иногда, принося пользу, он поступает рассудительно и бывает рассудительным человеком, хотя и не осознает себя как такового?
– Но этого, Сократ, – возразил он, – не может быть. И если ты считаешь, что из моих прежних утверждений необходимо следует такой вывод, то я скорее от них отступлюсь и не стану стыдиться признания,
d
что я был тогда не прав, чем соглашусь с тем, что рассудительный человек может не осознавать себя как такового. Мое утверждение состоит примерно в том, что рассудительность – это самопознание, и я вполне согласен с человеком, сделавшим подобную надпись в Дельфах[439]
. Мне кажется, что она была сделана с той целью, чтобы служить приветствием бога, обращенным к входящим, вместо слова «здравствуй!»[440]
. Сделавший ее, видно, считал обращение «здравствуй!» неправильным и советовал вместо того желать друг другу быть рассудительными.
e
Таким образом, бог приветствует входящих в святилище иначе, чем люди, – вот в чем заключался, на мой взгляд, замысел того, кто сделал надпись. И потому говорят, что всякому посетителю бог возвещает только одно: «Будь рассудителен!» Правда, в качестве прорицателя он выражается немного загадочно: ведь «Познай самого себя!» и «Будь рассудителен!» – это одно и то же, как следует из буквального значения этих слов и как считаю я сам.
165
Быть может, кто‑нибудь и сочтет, что дело обстоит иначе, как, я думаю, произошло и с теми, кто сочинил более поздние надписи: «Ничего сверх меры!» и «Не зарекайся – быть беде!»[441]
Они полагали, что изречение «Познай самого себя!» – это совет, а не приветствие, обращенное богом к входящим; поэтому, стремясь приписать богу не менее полезные советы, они и начертали эти надписи. А говорю я это, Сократ, вот ради чего: все, что было сказано раньше, я отдаю на твое усмотрение;
b
быть может, ты сказал об этом нечто более правильное, быть может, и я, но нами не было сказано ничего достаточно ясного. Теперь же я желаю предоставить слово тебе, если ты не согласен, что рассудительность – это самопознание.
– Но, мой Критий, – возразил я, – ты так нападаешь на меня, как будто я уже знаю то, о чем я тебя спрашиваю, и соглашаюсь с тобой, когда мне вздумается. Однако все обстоит иначе: я, наоборот, все время стремлюсь вместе с тобою выяснить поставленный мною вопрос, потому что сам я не знаю ответа.
c
А сказать, согласен ли я с тобою или нет, я хочу после того, как мы с тобой этот вопрос выясним. Потерпи же, пока мы его рассмотрим.
– Так рассматривай же, – сказал он.
– Вот я и рассматриваю, – отвечал я. – Ведь если рассудительность есть умение что‑либо познавать, ясно, что она представляет собою знание некоей вещи. Или ты не согласен?
– Да, – отвечал он, – это знание самого себя.
– Значит, и врачебное искусство есть знание того, что дает здоровье?
– Несомненно.
d
– Итак, если ты спросишь меня: «Для чего нам пригодно врачебное искусство, коль скоро оно – наука о здоровье, и что оно совершает?» – я могу ответить, что оно приносит немалую пользу. Ведь оно доставляет нам здоровье – прекрасную вещь, если только ты это допускаешь.
– Да, допускаю.
– А если ты меня спросишь о строительстве – какое, согласно моему мнению, оно вершит дело, будучи. знанием того, как строить, – я отвечу, что оно строит дома; и точно так же я отвечу по поводу других искусств.
e
Поэтому, Критий, тебе следует, коль скоро ты утверждаешь, что рассудительность – это знание самого себя, уметь ответить на вопрос: будучи наукой о себе, что доставляет нам рассудительность прекрасного и достойного упоминания? Ну, отвечай же.
– Но, Сократ, – возразил он, – ты неверно ведешь исследование. Ведь рассудительность не подобна другим знаниям, да и все остальные знания не подобны друг другу. Ты же исследуешь их так, как если бы они были друг другу подобны. Поэтому скажи мне, – продолжал он, – разве у счетного искусства или у геометрии есть произведения,
166
подобные жилищу, создаваемому искусством строительства, или плащу – творению ткацкого искусства, или многим другим таким творениям, кои можно указать для многих искусств? Можешь ли ты мне указать на подобные произведения первых двух названных мною искусств? Нет, ты не сможешь этого сделать!
А я отвечал:
– Ты прав. Но я могу тебе указать, к чему отличному от науки самой по себе относится каждая из этих наук[442]
. Например, счетное искусство имеет дело с четными и нечетными числами и с вопросом о том, каково их количество само по себе и по отношению друг к другу. Не так ли?
– Безусловно, так, – отвечал он.
b
– Но разве при этом чёт и нечет не являются чем‑то отличным от самого искусства счета?
– Как же иначе?
– Точно таким же образом и искусство взвешивания – это наука о более и менее тяжелом весе. Но тяжелое и легкое – это ведь нечто отличное от искусства взвешивания самого по себе. Ты согласен?
– Конечно.
– Скажи же, наукой о чем является рассудительность? Ведь, наверное, о том, что отлично от рассудительности самой по себе?
– Вот в этом‑то и все дело, Сократ, – сказал он. – Ты в своих поисках пришел к тому, что отличает рассудительность от всех остальных знаний, но тем не менее продолжаешь отыскивать некое ее сходство с ними.
c
Однако это не так, все остальные науки имеют своим предметом нечто иное, а не самих себя, рассудительность же – единственная наука, имеющая своим предметом как другие науки, так и самое себя. И это вовсе для тебя не секрет. Однако, думаю я, ты делаешь то, что недавно еще за собой отрицал: ты пытаешься меня опровергнуть, пренебрегая самой сутью нашего рассуждения.
– Как можешь ты думать, – возразил я, – если бы даже я тебя полностью опроверг, будто я это делаю ради чего‑то иного, а не ради того, о чем я и сам себя вопрошаю – каковы на этот счет мои взгляды – ибо опасаюсь, как бы от меня не укрылась какая‑то вещь, в знании коей я убежден, между тем как на самом деле ее не знаю.
d
И сейчас я утверждаю, что занят именно этим, и рассматриваю твое суждение главным образом ради себя, а может быть, и ради пользы других: или ты не считаешь, что это было бы общим благом почти всех людей, если бы стала очевидной суть каждой вещи?
– Нет, напротив, Сократ, я думаю именно так.
– А посему, – сказал я, – смело отвечай, мой милый, на вопрос, что тебе кажется правильным, и оставь заботу о том, будет ли опровергнут Критий или Сократ: внимательно вдумавшись в само рассуждение, посмотри, какой выход останется тому, кто окажется опровергнут.
e
– Что ж, – отвечал он, – я так и сделаю. Мне кажется, ты говоришь ладно.
– Так скажи же, – подхватил я, – как ты судишь о рассудительности?
– Итак, я утверждаю, – отвечал он, – что среди всех прочих знаний она единственная является наукой и о самой себе и о других науках.
– Значит, – спросил я, – она является также наукой о невежестве, коль скоро она – наука о знании?
– Несомненно, – отвечал он.
167
– Следовательно, один только рассудительный человек может познать самого себя и выявить, что именно он знает и что – нет, и точно так же он будет способен разглядеть других – что именно каждый из них знает и думает (если только он что‑то знает), а с другой стороны, что каждый знает по его собственному мнению, на самом же деле не знает. Никто другой всего этого не может. Таким образом, быть рассудительным и рассудительность и самопознание – все это означает не что иное, как способность знать, что именно ты знаешь и чего не знаешь. Ведь именно это ты утверждаешь?
– Да, именно это, – отвечал он.
b
– Давай совершим третье жертвоприношение Зевсу Спасителю[443]
, – сказал я, – и, начав заново наше исследование, во‑первых, посмотрим, возможно или нет кому‑то знать о том, что мы знаем и чего мы не знаем, и знаем ли мы это или нет; затем, если это даже возможно знать, какая нам польза в таком знании?
– Да, это следует рассмотреть, – отозвался он.
– Так давай же, мой Критий, – предложил я, – посмотри, не окажешься ли ты здесь находчивее меня? Я ведь пребываю в полном недоумении. И сказать тебе. по какой причине?
– Да, конечно, – отвечал он.
c
– Не сводится ли все это, – продолжал я, – к тому, что, как ты сейчас сказал, существует некая единая наука, предмет которой есть не что иное, как она сама и другие науки, причем она является также наукой и о невежестве?
– Несомненно.
– Посмотри же, мой друг, как странна та речь, что мы с тобой повели: ведь если ты рассмотришь тот же самый вопрос в других областях, ты увидишь, думаю я, насколько это невероятно.
– Каким образом я это увижу и на каких примерах?
d
– А вот на каких. Представь себе, если угодно, что существует некое зрение, которое не имеет своим объектом то, что является объектом всех других зрений, но представляет собою видение лишь самого себя и других зрений, а также слепоты; при этом оно, будучи зрением, вовсе не различает цвета, но видит лишь себя и другие зрения. Думаешь ли ты, что нечто подобное существует?
– Нет, клянусь Зевсом, ни в коей мере.
– А как насчет слуха, который не слышит ни одного звука, но зато слышит сам себя и другие слышания, а также глухоту?
– И этого не бывает.
– Рассмотри же в целом все чувства – покажется ли тебе, что какое‑то из них является ощущением самого себя и других чувств, само же оно не ощущает ничего из того, что дано ощущать другим чувствам?
e
– Нет, мне это кажется невозможным.
– А бывает ли, по‑твоему, какая‑то страсть, которая не направлена ни на одно из удовольствий, но лишь на самое себя и на другие страсти?
– Конечно, нет.
– Точно так же, думаю я, не бывает и желания, которое не желает ничего хорошего, но желает лишь самого себя и другие желания.
– Конечно же не бывает.
– А можешь ли ты назвать любовь, которая не была бы любовью к чему‑то прекрасному, но была бы направлена лишь на себя и на другие любовные страсти?
– Нет, не могу, – отвечал он.
168
– Ну а можешь ли ты вообразить себе страх, который направлен на самого себя и на другие страхи, но не боится ничего ужасного?
– Нет, я не представляю себе этого, – сказал он.
– А мнение, направленное на другие мнения и на само себя, но не имеющее никакого мнения о том, что составляет предмет других мнений?
– Ни в коем случае.
– Но вот о науке, похоже, мы утверждаем, что ей свойственно, не имея никакого предмета изучения, быть наукой о себе самой и о других науках?
– Да, мы это утверждаем.
– Так разве это не странно, если даже это и обстоит таким образом? Не будем же настаивать на том, что этого не бывает, но попробуем разобраться еще раз – может быть, это возможно.
b
– Твои слова правильны.
– Что же, скажем ли мы, что эта наука является наукой о чем‑то и в ней заложена некая потенция быть таковой? Ты с этим согласен?
– Да, несомненно.
– Ведь и о большем мы утверждаем, что оно обладает такого рода потенцией, которая позволяет ему быть большим, чем нечто другое?
– Да.
– А это другое разве не является меньшим, коль скоро большее – больше?
– Это неизбежно.
– Итак, если бы мы нашли некое большее, которое было бы больше [других] больших и самого себя, но другие большие не превышали бы ни одно из них, то ему вполне оказалось бы присущим быть больше самого себя и одновременно меньше? Или ты не согласен с этим?
c
– Напротив, я считаю это само собой разумеющимся, Сократ, – отвечал Критий.
– Значит, если что‑либо является двойным по отношению к другим двойным величинам и к самому себе, то именно будучи половиной самого себя и других двойных величин, оно будет двойным как по отношению к самому себе, так и к ним. Ведь двойным оно может быть только по отношению к своей половине[444]
.
– Это верно.
– Что‑нибудь более многочисленное по отношению к самому себе разве не будет одновременно менее многочисленным, более тяжелое – менее тяжелым, более старое – менее старым и так далее?
d
Какой бы потенцией оно в отношении самого себя ни обладало, разве не обретет оно ту сущность, к которой применялась данная потенция? Я имею в виду, например, следующее: слух, говорим мы, является слухом только по отношению к звуку. Не так ли?
– Так.
– Значит, если бы он слышал самого себя, то лишь в том случае, если бы обладал звуком: ведь в противном случае он не мог бы себя слышать.
– Да, безусловно так.
e
– Ну а зрение, мой достойнейший друг, если оно видит само себя, ведь ему необходимо иметь окраску? Не может же зрение видеть нечто бесцветное.
– Конечно, не может.
– Ты видишь, Критий, что среди всех перечисленных примеров одни кажутся нам невозможными, другие же весьма сомнительными с точки зрения применения собственной потенции к самим себе. Что касается величины, множества и других подобных вещей, такое применение полностью исключается. Не так ли?
– Несомненно.
– А что до слуха, зрения, а также способности движения себя двигать, жары – себя сжигать и т. п., то кому‑то это внушает сомнение, а некоторым, быть может, и нет.
169
Здесь требуется, мой друг, великий человек, который сумел бы провести все эти различения и установить, точно ли ничто из сущего не имеет по своей природе собственной потенции, направленной на самое себя, а не на иное, или же одни вещи ее имеют, другие же – нет? И если окажется, что существуют вещи, потенция которых направлена на них самих, значит, к ним принадлежит и наука, кою мы именуем рассудительностью. Я не верю, что сам смогу в этом разобраться, а потому не буду настаивать, что возможно существование науки наук,
b
и не допущу также, даже если это в высшей степени вероятно, что такой наукой является рассудительность, раньше чем не исследую, приносит ли она нам в качестве таковой какую‑то пользу или нет. А что рассудительность есть нечто полезное и благое, я берусь предсказать заранее; ты же, сын Каллесхра, поскольку допустил, что рассудительность – это наука о науке, а также и о невежестве, покажи прежде всего, что сказанное мною сейчас возможно, а затем что рассудительность вдобавок еще и полезна: тем самым ты, быть может, меня убедишь в том, что твое определение рассудительности правильно.
c
Мне показалось, что Критий, услышав это и видя меня недоумевающим, под воздействием моего недоумения сам оказался в плену подобных же сомнений, как те, кто, видя перед собой зевающего человека, сами начинают зевать. А так как он привык к постоянному почету, то стыдился присутствующих и не желал признаться мне, что он не в состоянии разрешить ту задачу, которую я ему предложил; притом он не произносил ничего ясного, скрывая свое замешательство. Тогда я, чтобы рассуждение наше продвинулось вперед, сказал:
d
– Но, Критий, если тебе это по душе, давай сейчас договоримся, что возможно существование науки о науке, и снова посмотрим, так ли это на самом деле. Следовательно, если принять, что это в высшей степени вероятно, то насколько больше возможно благодаря этому знать, что именно кто‑то знает или чего он не знает? Ведь именно это мы называли самопознанием и рассудительностью, не так ли?
– Да, конечно, – отвечал он, – так‑то и получается, мой Сократ: если кто обладает знанием, которое познает самое себя, то и сам он таков, как то, чем он обладает.
e
Подобно этому, если кто обладает скоростью, то он скор, если красотою – прекрасен, если же познанием, то он – познающий; когда же кто обладает познанием, познающим самое себя, то он тем самым будет познающим самого себя[445]
.
– Я не оспариваю. – возразил я, – того, что человек. обладающий тем, что само себя познает, может познать самого себя, но спрашиваю, неизбежно ли тот, кто этим свойством обладает, узнаёт, что он знает, а чего – нет?
– Неизбежно, Сократ, ибо то и другое между собой тождественно.
170
– Возможно, – сказал я, – но боюсь, что я остаюсь все тем же: я снова не понимаю, что это одно и то же – сознавать свое знание и знать, чего именно кто‑то не знает.
– Что ты хочешь этим сказать? – переспросил он.
– А вот что: знание, будучи знанием лишь себя самого, способно ли различать нечто большее, чем то, что одно из двух – это знание, а другое – незнание?
– Нет, только это.
– Но разве это одно и то же – знание и незнание в области здоровья и знание и незнание в области справедливости?
b
– Ни в коей мере.
– Ведь одно дело, полагаю я, это врачебное знание, другое – знание государственное и еще другое – знание само по себе?
– Как же иначе?
– Значит, если кто не сведущ вдобавок в области здоровья и справедливости, но познает лишь само знание. имея знание только о том, что он знает нечто и обладает неким знанием, то он естественно познает и самого себя и других. Так ты считаешь?
– Да.
c
– Но каким образом с помощью этого знания будет он знать, что именно он познает? Ведь законы здоровья он познает с помощью врачебного искусства, а не рассудительности, законы гармонии – не благодаря рассудительности, а благодаря искусству музыки, правила домостроительства – тоже не с помощью рассудительности, но благодаря искусству зодчества, и так же обстоит дело во всем остальном. Разве нет?
– По‑видимому, так.
– Каким же образом рассудительность, если она лишь наука наук, узнает, что она познаёт то, что относится к здоровью или же к зодчеству?
– Да, это для нее невозможно.
– Значит, тот, кто не знает эти предметы, будет лишь знать, что он знающий, но не узнает, что именно ему дано знать.
d
– Это похоже на правду.
– Итак, рассудительность и умение быть рассудительным – это не способность знать, что именно ты знаешь или чего не знаешь, но, как видно, лишь способность знать вообще, что ты – знающий или незнающий.
– Возможно.
– И значит, такой человек не сможет испытать того, кто утверждает, что знает нечто, и выяснить, знает он это самое или нет: он сможет, по‑видимому, только понять, что тот обладает неким знанием, но выявить, знанием чего именно, – в этом рассудительность не сможет ему помочь.
– Очевидно, нет.
e
– И, следовательно, невозможно будет отличить человека, делающего вид, что он врач, но на самом деле врачом не являющегося, от истинного врача и точно так же других знающих людей – от невежд. Это можно увидеть на следующем примере. Разве не так поступит рассудительный или какой бы то ни было другой человек, если захочет распознать истинного врача и самозванца: он не станет беседовать с ним о врачебном искусстве, ибо, как мы сказали, врач не смыслит ни в чем, кроме здоровья и болезней. Не правда ли?
– Да, так.
– О знании же он ничего не ведает – мы ведь отдали знание на откуп рассудительности.
– Да.
– И о врачебном искусстве, следовательно, человек, умеющий лечить, ничего не знает, поскольку врачебное искусство – это знание.
171
– Это верно.
– А что врач обладает неким знанием, это рассудительный человек распознает. Но так как необходимо испробовать, какого оно рода, должен он все‑таки посмотреть, о чем это знание? Ведь любое знание определяется не только тем, что оно есть знание, но и тем, каково оно и о чем?
– Да, именно этим.
– И врачебное искусство определяется как отличное от других познаний тем, что оно есть знание здоровья и болезней.
– Да.
b
– Так разве тот, кто стремится разобраться во врачебном искусстве, не должен прежде всего разобраться, в чем именно оно состоит? А до того, что находится за его пределами, ему не должно быть ни малейшего дела.
– Да, не должно.
– Следовательно, тот, кто правильно разбирается, будет рассматривать врача – насколько он способен лечить – в отношении к здоровью и болезням.
– Это естественно.
– Разве не будет он смотреть за тем, чтобы все сказанное или сделанное в этой области было сказано или сделано правильно?
– Это необходимо.
c
– А не владея врачебным искусством, мог бы кто‑нибудь проследить за тем или другим?
– Конечно, нет.
– Этого не мог бы, очевидно, ни рассудительный человек, ни кто‑либо другой, кроме врача: ведь рассудительный человек должен быть для этого и врачом.
– Совершенно верно.
– Итак, несомненно, что если рассудительность есть только знание о знании и о невежестве, то она не в состоянии будет распознать ни врача – сведущ ли он в своем искусстве или нет и думает ли он при этом о себе, что он врач, или только изображает из себя такового, – ни какого‑либо иного знатока, кем бы он ни был; распознать можно только собрата по искусству, о каких бы мастерах ни шла речь.
d
– Это очевидно, – подтвердил Критий.
– Так какая же в таком случае нам польза, Критий, – продолжал я, – от рассудительности? Если бы, как мы это предположили с самого начала, рассудительный человек знал, что он знает и чего не знает, что одно он знает, а другое – нет, и мог бы разобраться и в другом человеке точно таким же образом, великую пользу принесла бы она нам, говорим мы, коль скоро мы будем рассудительными: обладая рассудительностью, мы прожили бы свою жизнь безупречно, и также все остальные, кто пользовался бы нашим руководством.
e
Мы и сами не брались бы за дела, в которых ничего не смыслим, но искали бы знатоков, чтобы им эти дела поручить, и других людей, пользующихся нашим руководством, побуждали бы приниматься лишь за то, что они предполагают выполнить правильно, то есть за то, что они хорошо знают. Таким образом, благодаря рассудительности и дом под нашим руководством хорошо бы управлялся, и государство, и все прочее, что подвластно рассудительности.
172
И если ошибки будут устранены и воцарится правильность, то все, кто будут так настроены, в любом деле необходимо станут действовать прекрасно и правильно, а ведь те, кто действуют правильно, бывают счастливы. Не так ли говорили мы, Критий, – продолжал я, – о рассудительности, когда утверждали, что великим благом было бы знать, кто что знает и чего он не знает?
– Разумеется, – отвечал он, – именно так мы и говорили.
– Но теперь ведь ты видишь, что никакая наука никогда не бывает такой по своей природе.
– Да, вижу, – отвечал он.
b
– Однако, – сказал я, – быть может, то, что мы определили сейчас как рассудительность, а именно возможность отличать знание от невежества, имеет то преимущество, что человек, обладающий этой возможностью, усваивая что‑то иное, легче это усваивает, и все представляется ему более ясным, ибо всему, что он изучает, он предпосылает знание. И, быть может, других людей он лучше испытает в отношении того, что ему самому понятно, а те, кто производят испытание без такого знания, делают это слабее и хуже?
c
Значит, мой друг, вот какие примерно выгоды можно извлечь из рассудительности, мы же усматриваем в ней нечто большее и стремимся придать ей более высокое значение, чем она имеет на самом деле?
– Возможно, – отвечал он, – ты и прав.
– Может быть, – сказал я. – Но может и статься, что мы не выяснили ничего полезного. Мне лично рассудительность представляется чем‑то странным, если она такова, какой нам показалась. Давай, если ты не возражаешь, согласимся, что можно познавать знание, и не будем также отрицать наше первоначальное предположение, что рассудительность – знание того, кто что знает и чего он не знает, но допустим его;
d
а допустив все это, мы еще лучше увидим, приносит ли она нам в таком своем качестве пользу. Однако вот то, что мы сегодня сказали о рассудительности – будто великим была бы она благом, если бы оказалась способной руководить и домашним и государственным обиходом, – мне кажется, Критий, мы допустили неправильно.
– Почему так? – спросил он.
– А потому, – отвечал я, – что мы с легкостью допустили, будто для людей было бы великим благом, если бы каждый из нас делал сам то, что он знает, а то, что ему неведомо, препоручал бы людям знающим.
e
– Значит, это, – перебил меня Критий вопросом, – мы неправильно допустили?
– Мне кажется, неправильно, – отвечал я.
– В самом деле, ты говоришь о чудных вещах, мой Сократ, – молвил он.
– Да, клянусь собакой, – сказал я, – и мне так кажется, и, когда я недавно вдумался в это, я тоже сказал, что мне представляется это несколько странным и нам следует опасаться, что мы неверно ведем исследование. По правде сказать, если рассудительность по преимуществу такова, мне совсем не кажется очевидным, что она способствует нашему благу.
173
– Как ты это понимаешь? – спросил он. – Скажи, чтобы и мы поняли, что ты имеешь в виду.
– Боюсь, – отвечал я, – что говорю пустое; однако необходимо рассмотреть то, что мне видится, и не проходить необдуманно мимо этого, если только мы хоть немного заботимся о себе.
– Ты прекрасно сказал, – молвил Критий.
– Слушай же, – продолжал я, – мой сон, пришел ли он ко мне через роговые ворота или через ворота из слоновой кости[446]
. Ведь если нами руководит по преимуществу рассудительность –
b
в том качестве, как мы ее сейчас определили, – и, с другой стороны, если она действует в соответствии с науками, то ни один самозваный кормчий нас не обманул бы, и ни врач, ни стратег, ни кто‑либо другой, делающий вид, что он знает то, чего он не знает, не остался бы неразгаданным. А коль скоро это обстоит таким образом, какой может быть иной для нас вывод, кроме того, что и тела наши будут более здоровыми, чем теперь, и скорее спасутся те, кто рискуют как на войне, так и на море, и любая утварь, одежда, обувь –
c
одним словом, любые вещи будут изготовляться искусно для нас, и все прочее, ибо мы будем пользоваться услугами только истинных мастеров. И если ты не возражаешь, давай согласимся, что прорицание – это также наука о будущем, и рассудительность, руководя им, отпугнет всех шарлатанов, истинных же пророков назначит нам прорицателями того, чему суждено свершиться. Я постигаю, что человеческий род будет подготовлен и снаряжен для сознательной жизни и деятельности таким образом:
d
рассудительность, как верный страж, не допустит, чтобы вмешалось невежество и стало нашим помощником. Однако, мой милый Критий. мы не можем пока быть уверенными в том, что, действуя сознательно, тем самым добьемся для себя благополучия и счастья.
– Но, – возразил Критий, – если ты недооценишь сознательный подход, ты нелегко отыщешь другое средство осуществления благополучия[447]
.
– Прошу тебя, – сказал я на это, – разъясни мне еще немного: к чему должен я применить сознательный подход? Не к изготовлению ли обуви?
e
– Нет, клянусь Зевсом!
– Так не к обработке ли меди?
– Никоим образом.
– Но тогда к обработке шерсти, дерева или еще чего‑либо в этом роде?
– Конечно, нет.
– Следовательно, – сказал я, – мы не будем продолжать настаивать на слове, гласящем, что человек, живущий сознательно, тем самым и благоденствует. Ведь ты не признаешь, что те, кто живут сознательно, счастливы, наоборот, кажется мне, ты отличаешь благоденствующего человека от людей, живущих в некоторых отношениях сознательно. Но, быть может, ты причислишь к сознательно живущим того, кого я назвал недавно, – прорицателя, ведающего все, чему суждено сбыться? Назовешь ли ты среди них его или кого‑то иного?
174
– Я лично назову и его, и другого.
– Кого же? – спросил я. – Ведь не того, кому ведомо кроме будущего и минувшее и настоящее, и ничто для него не тайна?[448]
Допустим даже, что такой человек существует. Однако, полагаю я, ты не сумеешь назвать никого, кто жил бы еще более сознательно?
– Конечно, нет.
– Но, кроме того, я жажду знать, какое из знаний делает его благоденствующим? Или же все без разбора?
– Нет, так не может быть, – отвечал Критий.
b
– Какая же наука имеет тут преимущество? И что именно благодаря ей знает такой человек о настоящем, прошедшем и будущем? Уж не разумеешь ли ты игру в шашки?
– Какие там шашки! – воскликнул Критий.
– Быть может, искусство счета?
– Вовсе нет.
– Так, значит, то, что относится к здоровью?
– Скорее уж это, – отвечал он.
– А то знание, которое имеет, как я сказал, преимущественное значение, – что именно оно позволяет знать?
– Добро, – отвечал он, – и зло.
– Ах ты, злодей! – воскликнул я. – Ты давно уже меня водишь за нос и скрываешь от меня, что не сознательная жизнь приводит к благополучию и счастью и не все науки, сколько их есть,
c
но лишь одна эта единственная наука – о добре и зле[449]
. Но если, Критий, ты захочешь вычленить эту науку из остальных, не меньше ли от этого принесет нам здоровья искусство врачевания, не худшую ли обувь – сапожное ремесло и худшее платье – ткацкое и не меньше ли искусство кораблевождения убережет нас от гибели в море, а стратегическое искусство – от смерти в сражении?
– Нет, ничуть не меньше, – отвечал он.
d
– Но, милый Критий, мы будем лишены без этой науки благого и полезного свершения всех этих дел.
– Ты прав.
– Похоже, что здесь речь идет не о рассудительности, но о той науке, чье дело приносить нам пользу. И оказывается, что эта иная наука – не о знании и невежестве, но о благе и зле. Так что если суть такой науки – приносить нам пользу, то рассудительность имеет для нас какое‑то иное значение.
e
– А почему бы, – спросил он, – ей и не быть полезной? Если рассудительность – это наука наук по преимуществу и она руководит другими науками, то, начальствуя при этом и над наукой о благе, она приносит нам пользу.
– Значит, и здоровье нам приносит она, а не врачебное искусство? – спросил я. – И все задачи других искусств выполняет она, а не каждое из них делает свое дело? Но разве мы не засвидетельствовали уже давным‑давно, что она – знание лишь о знании и о невежестве и более ни о чем? Не так ли?
– Это очевидно.
– Значит, она не будет творцом здоровья?
175
– Нет‑нет.
– И здоровье – это творение другого искусства? Ведь правда?
– Да, другого.
– Точно так же она не творец пользы, мой друг: ведь мы сейчас отдали эту задачу другому искусству. Или не так?
– Нет, именно так.
– Какая же польза от рассудительности, если она не создает ничего полезного?
– Да, видимо, никакой, Сократ.
– Теперь ты видишь, Критий, что раньше я недаром опасался и справедливо обвинял самого себя в том, что не усматриваю ничего дельного по поводу рассудительности?
b
Ведь то, что. по общему мнению, прекраснее всего, не могло бы показаться нам бесполезным, если бы от меня была хоть какая‑то польза в правильном исследовании. Ныне же мы разбиты по всем направлениям и не в состоянии понять, чему из сущего учредитель имен[450]
дал это имя – «рассудительность». При этом мы приняли много такого, что не вытекает из нашего рассуждения. Так, мы допустили существование науки наук, хотя рассуждение нам этого не позволяло и не давало для этого основания; мы также приняли, что эта наука ведает делами других наук (хотя и это не вытекало из нашего рассуждения),
c
дабы у нас получилось, что рассудительный человек, будучи знающим, знает то, что он знает, и не знает того, чего он не знает. С этим мы согласились весьма самонадеянно, не обратив внимания, что невозможно хоть как‑то знать то, что совсем не знаешь: ведь наше допущение позволяет думать, что можно знать то, чего ты не знаешь. Однако, как мне кажется, не может быть ничего более бессмысленного.
d
И поскольку наше исследование оказалось наивным и лишенным прочного основания, оно совсем не в состоянии найти истину; наоборот, мы так над ним насмеялись, что придуманная всеми нами вначале и сообща принятая на веру рассудительность показалась нам по великой нашей самонадеянности бесполезной[451]
.
Из‑за себя я на это не так уже негодую; но за тебя, мой Хармид, мне было бы очень досадно, если бы ты, столь видный собою и вдобавок обладающий столь рассудительной душой,
e
не извлек никакой выгоды из своей рассудительности и она не принесла бы тебе своим присутствием никакой пользы в жизни. А еще более досадно мне из‑за заговора, которому научился я у фракийца, – я выучил его со столь великим трудом, а он оказался непригодным для стоящего дела. Однако я все же не думаю, чтобы это обстояло таким образом; скорее всего я просто негодный исследователь: ведь рассудительность – это великое благо, и, если бы ты обладал ею, ты был бы блаженным человеком.
176
Но посмотри, может быть, ты ею и обладаешь и вовсе не нуждаешься в заговоре: ведь если она у тебя есть, я скорее буду советовать тебе считать меня пустословом, неспособным что бы то ни было исследовать с помощью рассуждения, а тебя самого, насколько ты рассудительнее меня, настолько же почитать и более счастливым.
А Хармид на это:
– Клянусь Зевсом, Сократ, я лично не знаю, обладаю я рассудительностью или нет. И как я могу знать то, относительно чего даже вы с Критием не сумели – как ты сам говоришь – выяснить, что же это такое.
b
Однако я не слишком тебе доверяю, Сократ, и думаю, что весьма нуждаюсь в заговоре; так что с моей стороны нет никакого препятствия к тому, чтобы ты заговаривал меня столько дней, сколько ты сам сочтешь нужным.
– Прекрасно, – молвил Критий, – но, Хармид, прими во внимание вот что: для меня это будет свидетельством твоей рассудительности, если ты предоставишь Сократу тебя заговаривать и не отойдешь уже впредь от него ни на шаг[452]
.
c
– Уж я, – сказал Хармид, – буду следовать за ним и не оставлю его в покое. Ведь было бы ужасно с моей стороны, если бы я не повиновался тебе, моему опекуну, и не выполнил бы того, что ты велишь.
– Да, я велю тебе это, – молвил Критий.
– Так я и поступлю, – отвечал он, – и начну с сегодняшнего же дня.
– Послушайте‑ка, – вставил тут я, – что это вы задумываете?
– Ничего, – отвечал Хармид, – все уже задумано.
– Значит, ты, – сказал я, – принуждаешь меня подчиниться и лишаешь меня права голоса?
d
– Да, я тебя принуждаю, – отвечал он, – по приказу нашего Крития. Подумай же, что ты с этим можешь поделать?
– Мне ничего не остается делать, – возразил я. – Ведь если ты за что‑то берешься и хочешь кого‑то к чему‑то принудить, никто из людей не может против тебя устоять.
– Так и ты, – молвил он, – не сопротивляйся.
– Нет, – сказал я, – я не буду сопротивляться.
Перевод С. Я. Шейнман‑Топштейн.
В кн.: Платон. Диалоги. М.: «Мысль», 1986
XIII. ИОН
Сократ, Ион
530
Сократ.
Иону привет! Откуда ты теперь к нам? Из дому, из Эфеса[453]
, что ли?
Ион.
Совсем нет, Сократ, из Эпидавра[454]
, с празднеств Асклепия.
Сократ.
Разве эпидаврийцы устраивают в честь этого бога и состязания рапсодов?
Ион.
Как же! Да и в других мусических искусствах там состязаются.
b
Сократ.
Что же, и мы выступали на состязании? И как ты выступил?
Ион.
Мы[455]
получили первую награду, Сократ.
Сократ.
Вот это хорошо! Смотри же, чтобы мы победили и на Панафинеях[456]
!
Ион.
Так и будет, если бог захочет.
Сократ.
Да, Ион, часто я завидовал вашему искусству… Оно всегда требует, чтобы вы выглядели как можно красивее и были в нарядном уборе, вместе с тем вам необходимо заниматься многими отличными поэтами,
c
и прежде всех – Гомером, самым лучшим и божественным из поэтов, и постигать его замысел, а не только заучивать стихи. Как вам не позавидовать! Ведь нельзя стать хорошим рапсодом, не вникая в то, что говорит поэт; рапсод должен стать для слушателей истолкователем замысла поэта, а справиться с этим тому, кто не знает, что говорит поэт, невозможно. Тут есть чему позавидовать!
d
Ион.
Ты прав, Сократ. Для меня это и было самым трудным в моем искусстве; все же, мне думается, я объясняю Гомера лучше всех, так что ни Метродор Лампсакский, ни Стесимброт Фасосский, ни Главкон[457]
, ни другой кто из живших когда‑либо не был в состоянии высказать о Гомере гак много верных мыслей, как я.
Сократ.
Это хорошо. Ион; ты, верно, не откажешься сообщить их мне.
Ион.
Да, Сократ, действительно стоит послушать, в какой прекрасный убор я одеваю Гомера: по‑моему, я достоин того, чтобы гомериды[458]
увенчали меня золотым венком.
531
Сократ.
Я непременно выберу время, чтобы послушать тебя. А сейчас скажи мне вот что: только ли в Гомере ты силен или также и в Гесиоде и Архилохе[459]
?
Ион.
Нет, только в Гомере; мне кажется, и этого достаточно.
Сократ.
А есть ли что‑нибудь такое, о чем и Гомер и Гесиод оба говорят одно и то же?
Ион.
Я думаю, есть, и даже многое.
Сократ.
И то, что об этом говорит Гомер, ты лучше истолковал бы, чем то, что говорит Гесиод?
Ион.
Если они говорят одно и то же, то и я, Сократ, истолковал бы это одинаково.
b
Сократ.
А то, о чем они говорят по‑разному? Например, о прорицании говорят ли что‑нибудь и Гомер и Гесиод?
Ион.
Конечно.
Сократ.
Так что же? Кто истолковал бы лучше сходство и различие в том, что оба поэта говорили о прорицании – ты или кто‑нибудь из хороших прорицателей?
Ион.
Кто‑нибудь из прорицателей.
Сократ.
А если бы ты был прорицателем, разве ты не мог бы толковать и то, что сказано ими по‑разному, раз уж ты умеешь истолковывать сказанное одинаково?
Ион.
Ясно, что так.
c
Сократ.
Как же это ты силен в том, что касается Гомера, а в том, что касается Гесиода и остальных поэтов, не силен? Разве Гомер говорит не о том же, о чем все остальные поэты? Разве он не рассказывает большею частью о войне и отношениях людей, хороших и плохих, простых и умудренных в чем‑нибудь; о богах, как они общаются друг с другом и с людьми; о том, что творится на небе и в Аиде, и о происхождении богов и героев? Не это ли составляет предмет поэзии Гомера?
d
Ион.
Ты прав, Сократ.
Сократ.
А что ж остальные поэты? Разве они говорят не о том же самом?
Ион.
Да, Сократ, но их творчество не такое, как у Гомера.
Сократ.
Что же? Хуже?
Ион.
Да, гораздо хуже.
Сократ.
А Гомер лучше?
Ион.
Конечно, лучше, клянусь Зевсом.
Сократ.
Не правда ли, милый Ион, когда, например, о числе станут говорить многие, а один будет говорить лучше всех, то ведь кто‑нибудь отличит хорошо говорящего?
Ион.
Я полагаю.
e
Сократ.
Будет ли это тот же самый, кто отличит и говорящих плохо, или другой человек?
Ион.
Конечно, тот же самый.
Сократ.
Не тот ли это, кто владеет искусством арифметики?
Ион.
Да.
Сократ.
А если многие станут обсуждать, какая пища полезна, и кто‑нибудь из них будет говорить получше, то отличить говорящего лучше всех может один человек, а говорящего хуже всех – другой, или один и тот же человек отличит обоих?
Ион.
Конечно, один и тот же; это ясно.
Сократ.
Кто же он? Как его назвать?
Ион.
Это врач.
532
Сократ.
Итак, скажем вообще: если многие говорят об одном и том же, то всегда один и тот же человек отличит, кто говорит хорошо, а кто плохо; а тот, кто не отличит говорящего плохо, не отличит, ясное дело, и говорящего хорошо, раз они говорят об одном и том же.
Ион.
Да, это так.
Сократ.
Значит, один и тот же человек способен судить о них обоих?
Ион.
Да.
Сократ.
Ты говоришь, что и Гомер, и остальные поэты, в том числе и Гесиод и Архилох, говорят хотя и об одном, но не одинаково: Гомер хорошо, а те хуже.
Ион.
Да, и я прав.
b
Сократ.
Но если ты отличаешь говорящих хорошо, то отличил бы и говорящих хуже, то есть мог бы узнать, что они хуже говорят.
Ион.
Само собой разумеется.
Сократ.
Значит, дорогой мой, мы не ошибемся, если скажем, что Ион одинаково силен и в Гомере, и в остальных поэтах, раз он сам соглашается, что один и тот же человек может быть хорошим судьей всех, кто говорит об одном и том же; а ведь чуть ли не все поэты воспевают одно и то же.
c
Ион.
В чем же причина, Сократ, что когда кто‑нибудь говорит о другом поэте, я не обращаю внимания и не в силах добавить ничего стоящего, а попросту дремлю, между тем, лишь только кто упомянет о Гомере, я тотчас просыпаюсь, становлюсь внимателен и нисколько не затрудняюсь, что сказать?
Сократ.
Об этом нетрудно догадаться, друг мой. Всякому ясно, что не благодаря выучке и знаниям ты способен говорить о Гомере; если бы ты мог делать это благодаря выучке, то мог бы говорить и обо всех остальных поэтах: ведь поэтическое искусство есть нечто цельное[460]
. Не так ли?
Ион.
Да.
d
Сократ.
А если взять любое другое искусство в его целом, то разве не один и тот же способ рассмотрения применим и ко всем искусствам? Хочешь послушать, как я это понимаю, Ион?
Ион.
Очень хочу, Сократ, клянусь Зевсом; мне приятно слушать вас, мудрецов.
Сократ.
Хотелось бы мне, Ион, чтобы ты был прав; но мудрецы‑то скорее вы, рапсоды, актеры и те, чьи творения вы поете, а я всего только говорю правду, как и следует заурядному человеку.
e
Посмотри, о каком пустяке я теперь спросил тебя: всякий может легко и просто понять мои слова, что рассмотрение останется тем же, если взять искусство в целом. В самом деле, разберем последовательно. Существует ли, например, искусство живописи как целое?
Ион.
Да.
Сократ.
И много было и есть художников, хороших и плохих?
Ион.
Совершенно верно.
533
Сократ.
Так вот, видал ли ты кого‑нибудь, кто способен объяснить, чту в живописи Полигнота[461]
, сына Аглаофонта, хорошо, а чту нет, а когда дело коснется других художников – бессилен, и когда кто‑нибудь говорит о произведениях всех прочих художников, то он дремлет, затрудняется и не может ничего объяснить; а когда нужно высказать мнение о Полигноте или об ином, но только одном каком‑нибудь художнике, он вдруг просыпается, становится внимателен и нисколько не затрудняется, что сказать?
b
Ион.
Нет, клянусь Зевсом, я не видал такого человека.
Сократ.
Ну, а если речь идет о ваянии, видал ли ты кого‑нибудь, кто способен разобрать достоинства творчества Дедала, сына Метиона, или Эпея, сына Панопея, или Феодора Самосца[462]
, или одного кого‑нибудь из прочих ваятелей, а произведения других ваятелей ему недоступны, и он дремлет, не зная, что сказать?
Ион.
Нет, клянусь Зевсом, я не видывал такого.
c
Сократ.
И наверное, думаю я, когда дело идет об игре на флейте, либо на кифаре, или о пении под кифару, или об искусстве рапсодов, ты никогда не видал человека, который способен говорить об Олимпе, о Фамире, об Орфее или о Фемии, итакийском рапсоде[463]
, а слушая Иона эфесца, становится в тупик и не может сообразить, что в его пении хорошо, а что нет.
Ион.
Мне нечего возразить на это, Сократ. Я только уверен, что о Гомере я говорю лучше всех и при этом бываю находчив; и все другие подтверждают, что о Гомере я хорошо говорю, а об остальных нет. Вот и пойми, в чем тут дело.
d
Сократ.
Понимаю, Ион, и сейчас объясню тебе, что это, по‑моему, значит. Твоя способность хорошо говорить о Гомере – это, как я только что сказал, не уменье, а божественная сила, которая тобою движет, как в том камне, который Эврипид назвал магнесийским, а большинство называет гераклейским[464]
. Этот камень не только притягивает железные кольца,
e
но и сообщает им такую силу, что они, в свою очередь, могут делать то же самое, что и камень, то есть притягивать другие кольца, так что иногда получается очень длинная цепь из кусочков железа и колец, висящих одно за другим; у них у всех сила зависит от того камня.
534
Так и Муза сама делает вдохновенными одних, а от этих тянется цепь других восторженных. Все хорошие эпические поэты не благодаря уменью слагают свои прекрасные поэмы, а только когда становятся вдохновенными и одержимыми; точно так и хорошие мелические поэты; как корибанты[465]
пляшут в исступлении, так и они в исступлении творят эти свои прекрасные песнопения; когда ими овладеет гармония и ритм, они становятся вакхантами и одержимыми: вакханки в минуту одержимости черпают из рек мед и молоко, а в здравом уме – не черпают[466]
, и то же бывает с душою мелических поэтов, как они сами свидетельствуют.
b
Говорят же нам поэты, что они летают, как пчелы, и приносят нам свои песни, собранные у медоносных источников в садах и рощах Муз[467]
. И они говорят правду: поэт – это существо легкое, крылатое и священное[468]
; он может творить не ранее, чем сделается вдохновенным и исступленным и не будет в нем более рассудка; а пока у человека есть это достояние, никто не способен творить и вещать.
c
Поэты, творя, говорят много прекрасного о различных предметах, как ты о Гомере, не от умения, а по божественному наитию, и каждый может хорошо творить только то, на что его подвигнула Муза, – один – дифирамбы, другой – энкомии, третий – ипорхемы, этот – эпические поэмы, тот – ямбы[469]
; во всем же прочем каждый из них слаб. Ведь не от уменья они Это говорят, а от божественной силы: если бы они благодаря уменью могли хорошо говорить об одном, то могли бы говорить и обо всем прочем;
d
потому‑то бог и отнимает у них рассудок и делает их своими слугами, вещателями и божественными прорицателями, чтобы мы, слушатели, знали, что это не они, у кого и рассудка‑то нет, говорят такие ценные вещи, а говорит сам бог и через них подает нам голос.
Лучшее подтверждение этому взгляду – Тинних халкидец, который ни разу не создал ничего достойного упоминания, кроме того пэана[470]
, который все поют, – это, пожалуй, прекраснейшее из всех песнопений; то была просто какая‑то «находка Муз», как выражается и сам Тинних.
e
Тут, по‑моему, бог яснее ясного показал нам все, чтобы мы не сомневались, что не человеческие эти прекрасные творения и не людям они принадлежат, но что они – божественны и принадлежат богам, поэты же – не что иное, как передатчики богов, одержимые каждый тем богом, который им овладеет.
535
Чтобы доказать это, бог нарочно пропел прекраснейшую песнь устами слабейшего поэта. Разве я, по‑твоему, не прав, Ион?
Ион.
По‑моему, ты прав, клянусь Зевсом; твои речи захватывают мою душу, Сократ, и мне кажется, что хорошие поэты под божественным наитием передают нам это от богов.
Сократ.
А вы, рапсоды, в свою очередь передаете творения поэтов?
Ион.
И в этом ты прав.
Сократ.
Стало быть, вы оказываетесь передатчиками передатчиков?
Ион.
Совершенно верно.
b
Сократ.
Скажи мне вот что, Ион, не скрывай от меня того, о чем я тебя спрошу. Всякий раз как тебе удается исполнение эпоса и ты особенно поражаешь зрителей, когда поешь, как Одиссей вскакивает на порог, открываясь женихам, и высыпает себе под ноги стрелы, или как Ахилл ринулся на Гектора[471]
, или что‑нибудь жалостное об Андромахе, о Гекабе или о Приаме, –
c
в уме ли ты тогда или вне себя, так что твоей душе, в порыве вдохновения, кажется, что она тоже там, где совершаются события, о которых ты говоришь, – на Итаке[472]
, в Трое или где бы то ни было?
Ион.
Как наглядно подтвердил ты свои слова, Сократ! Отвечу тебе, не таясь. Когда я исполняю что‑нибудь жалостное, у меня глаза полны слез, а когда страшное и грозное – волосы становятся дыбом от страха и сердце сильно бьется.
d
Сократ.
Что же, Ион? Скажем ли мы, что находится в Здравом рассудке тот человек, который, нарядившись в расцвеченные одежды и надев золотой венец, станет плакать среди жертвоприношений и празднеств, ничего не потеряв из своего убранства, или будет испытывать страх, находясь среди более чем двадцати тысяч дружественно расположенных людей, когда никто его не грабит и не обижает?
Ион.
Клянусь Звсом, Сократ, такой человек, по правде сказать, совсем не в здравом рассудке.
Сократ.
Знаешь ли ты, что вы доводите до того же состояния[473]
и многих из зрителей?
e
Ион.
Знаю, и очень хорошо: я каждый раз вижу сверху, с возвышения, как слушатели плачут и испуганно глядят и поражаются, когда я говорю. Ведь мне необходимо очень внимательно следить за ними: если я заставлю их плакать, то сам буду смеяться, получая деньги, а если заставлю смеяться, сам буду плакать, лишившись денег.
536
Сократ.
Теперь ты понимаешь, что такой зритель – последнее из тех звеньев, которые, как я говорил, получают одно от другого силу под воздействием гераклейского камня. Среднее звено – это ты, рапсод и актер, первое – это сам поэт, а бог через вас всех влечет душу человека куда захочет, сообщая силу через одного другому. И тянется, как от того камня, длинная цепь хоревтов[474]
и учителей с их помощниками: они держатся сбоку на звеньях, соединенных с Музой.
b
И один поэт зависит от одной Музы, другой – от другой. Мы обозначаем это словом «одержим», и это почти то же самое: ведь Муза держит его. А от этих первых звеньев – поэтов, зависят другие вдохновленные: один от Орфея, другой от Мусея[475]
; большинство же одержимы Гомером, или Гомер держит их. Один из них – ты, Ион, и Гомер держит тебя.
Когда кто‑нибудь поет творения другого поэта, ты спишь и не находишь, что сказать, а когда Запоют песнь этого твоего поэта, ты тотчас пробуждаешься, твоя душа пляшет[476]
, и ты нисколько не затрудняешься, что сказать.
c
Ведь то, что ты говоришь о Гомере, все это не от уменья и знания, а от божественного определения я одержимости; как корибанты чутко внемлют только напеву, исходящему от того бога, которым они одержимы, и для этого напева у них достаточно и телодвижений и слов, о других же они и не помышляют, так и ты, Ион, когда кто‑нибудь вспомнит о Гомере, знаешь, что сказать, а в остальных поэтах затрудняешься.
d
И причина того, о чем ты меня спрашиваешь – почему ты о Гомере Знаешь, а об остальных нет, – причина здесь та, что не выучкой, а божественным определением ты – искусный хвалитель Гомера.
Ион.
Хорошо говоришь ты, Сократ; а все же я удивился бы, если бы тебе удалось убедить меня, что я восхваляю Гомера в состоянии одержимости и исступленности. Я думаю, что и тебе не казалось бы так, если бы ты послушал, как я говорю о Гомере.
e
Сократ.
Да я и хочу послушать, только не раньше, чем ты ответишь мне вот на какой вопрос: из того, что говорит Гомер, о чем ты хорошо говоришь? Ведь не обо всем же, конечно[477]
.
Ион.
Будь уверен, Сократ, что обо всем без исключения.
Сократ.
Но ведь не о том же, чего ты, паче чаяния, не знаешь, хотя Гомер об этом и упоминает?
Ион.
О чем же это Гомер говорит, а я не знаю?
537
Сократ.
Гомер часто и много говорит о различных искусствах, например, об управлении колесницей, – сейчас скажу тебе, если вспомню место.
Ион.
Да я сам скажу, я помню.
Сократ.
Так скажи мне, что говорит Нестор своему сыну Антилоху, советуя ему быть осторожным на поворотах при состязании колесниц на тризне Патрокла.
Ион.
«Сам же», – говорит Нестор, –
b
крепко держась в колеснице красивосплетенной,
Влево легко наклонись, а коня, что под правой рукою,
Криком гони и бичом и бразды попусти совершенно,
Левый же конь твой пускай подле самой меты обогнется
Так, чтоб казалось, поверхность ее колесо очертило
Ступицей жаркою. Но берегись, не ударься о камень[478]
.
c
Сократ.
Достаточно. Вот здесь, Ион, кто лучше мог бы судить, правильно ли говорит Гомер или нет – врач или возничий?
Ион.
Конечно, возничий.
Сократ.
Потому ли, что владеет этим искусством, или по другой причине?
Ион.
Нет, именно благодаря своему искусству.
Сократ.
И каждому искусству дано от бога ведать одним каким‑нибудь делом? Ведь то, что мы узнаём, овладев искусством кормчего, мы не можем узнать, освоив искусство врача.
Ион.
Конечно, нет.
Сократ.
И, овладев искусством строителя, – то, что узнаём, освоив искусство врача?
Ион.
Конечно, нет.
d
Сократ.
Не так ли и во всех искусствах: что мы узнаем, изучив одно искусство, того мы не узнаем, изучив другое? Но сначала скажи мне вот что: не называешь ли ты одно искусство так, а другое иначе?
Ион.
Да.
Сократ.
И я, замечая, что одно искусство есть знание одних вещей, а другое – других, называю одно так, а другое иначе; так же поступаешь и ты?
Ион.
Да.
e
Сократ.
Ведь если бы и то и другое искусство было знанием одних и тех же вещей, то зачем стали бы мы называть одно так, а другое – иначе, раз одно и то же можно было бы узнать, овладев любым из двух. Вот, например, я знаю, что здесь пять пальцев, и ты знаешь то же самое, что и я; и если бы я тебя спросил, не с помощью ли одного искусства – искусства счисления – познаём одно и то же и я и ты или с помощью разных искусств, ты, конечно, сказал бы, что с помощью одного и того же.
Ион.
Да.
538
Сократ.
Вот теперь скажи мне то, о чем я хотел спросить: думаешь ли ты, что так бывает во всех искусствах и что, изучая одно искусство, познаешь одно, а изучая другое – познаешь уже не то же самое, а нечто совсем иное, если, конечно, само искусство другое.
Ион.
Я думаю, что так, Сократ.
Сократ.
А кто не овладеет каким‑либо искусством, тот не способен будет хорошо знать то, что говорится или делается согласно этому искусству, не правда ли?
b
Ион.
Правда твоя.
Сократ.
А кто лучше знает, правильно ли говорит Гомер в тех стихах, которые ты привел, – ты или возничий?
Ион.
Возничий.
Сократ.
Ведь ты – рапсод, а не возничий.
Ион.
Да.
Сократ.
А искусство рапсода – иное по сравнению с искусством возничего?
Ион.
Да.
Сократ.
И раз оно иное, то оно есть знание иных вещей?
c
Ион.
Да. Сократ. Ну, а когда Гомер говорит, как Гекамеда, наложница Нестора, дает раненому Махаону питье, приблизительно в таких словах: …растворила
Смесь на вине прамнийском, натерла козьего сыра
Теркою медной и лук на закуску к питью предложила[479]
, –
то, чтобы узнать, правильно ли говорит Гомер или нет, требуется врачебное искусство или искусство рапсода?
Ион.
Врачебное.
Сократ.
А когда Гомер говорит:
Быстро в пучину Ирида, подобно свинцу, погрузилась,
Ежели он, прикрепленный под рогом вола стенового,
Мчится, коварный, рыбам прожорливым гибель несущий[480]
, –
d
то как мы ответим на вопрос, чье искусство – рыболова или рапсода – скорее разберет, что он говорит, и правильно ли?
Ион.
Ясно, Сократ, что искусство рыболова.
Сократ.
Посмотри же: если бы ты, задавая мне вопрос, сказал: «Раз ты, Сократ, находишь у Гомера то, что подлежит ведению каждого из искусств, то найди мне и для прорицателя и его искусства что‑нибудь такое,
e
о чем ему надлежит судить, хорошо или плохо это сочинено», – посмотри, как легко и правильно я тебе отвечу. Часто Гомер говорит это и в «Одиссее», – например, то, что говорит женихам гадатель из рода Мелампа, Феоклимен:
539
Вы, злополучные, горе вам, горе! Невидимы стали
Головы ваши во мгле, и невидимы ваши колена;
Слышен мне стон ваш, слезами обрызганы ваши ланиты;
И привиденьями, в бездну Эреба бегущими, полны
Сени и двор, и на солнце небесное, вижу я, всходит
Страшная тень, и под ней вся земля покрывается мраком[481]
,
b
часто и в «Илиаде», например, в «Сражении у стен»; ведь и там Гомер говорит:
Ров перейти им пылавшим явилася вещая птица,
Свыше летящий орел, рассекающий воинство слева,
Мчащий в когтях обагренного кровью огромного змея:
Жив еще был он, крутился и брани еще не оставил;
c
Взвившись назад, своего похитителя около выи
В грудь уязвил, и, растерзанный болью, на землю добычу,
Змея, отбросил орел, уронил посреди ополченья,
Сам же, крикнувши звучно, понесся по веянью ветра[482]
.
d
Вот это, скажу я, и тому подобное подлежит рассмотрению и суждению прорицателя.
Ион.
И ты будешь прав, Сократ.
Сократ.
Да и ты прав, Ион, говоря об этом. Ну‑ка, теперь и ты выбери мне, как я тебе выбрал из «Одиссеи» и из «Илиады» то, что относится к прорицателю, к врачу и к рыболову, – так и ты, Ион, выбери мне – ты же и опытнее в Гомере, – чту относится к рапсоду и к его искусству и что подлежит рассмотрению и суждению рапсода предпочтительно пред всеми другими людьми.
e
Ион.
Я утверждаю, Сократ, что решительно всё.
Сократ.
Нет, не это ты утверждаешь, Ион, будто решительно всё, неужто ты так забывчив? А не следовало бы рапсоду быть забывчивым.
540
Ион.
Что же я забыл?
Сократ.
Не помнишь разве, как ты говорил, что искусство рапсода – иное по сравнению с искусством возничего?
Ион.
Помню.
Сократ.
И ты соглашался, что раз оно иное, то иной будет и область его ведения?
Ион.
Да.
Сократ.
Значит, по твоим же собственным словам, уже не все будет входить в ведение рапсода и его искусства.
b
Ион.
Кроме, пожалуй, вот таких вещей, Сократ.
Сократ.
Под «такими вещами» ты понимаешь, видимо, то, что относится к другим искусствам; но если не все, то что же именно будет в ведении рапсода?
Ион.
По‑моему, в его ведении будет то, какие речи приличны мужчине и какие – женщине, какие – рабу, а какие – свободному, какие – подчиненному, а какие – начальствующему.
Сократ.
А какие распоряжения надо сделать, если в море корабль застигнут бурей, по‑твоему, рапсод будет знать лучше, чем кормчий?
c
Ион.
Нет, это лучше знает кормчий.
Сократ.
Или как надо распорядиться в случае болезни, рапсод будет знать лучше, чем врач?
Ион.
Нет.
Сократ.
Но, по‑твоему, ты знаешь, как должен говорить раб?
Ион.
Да.
Сократ.
Например, что должен сказать раб‑волопас, укрощающий взбесившихся быков, по‑твоему, будет лучше знать рапсод, а не волопас?
Ион.
Нет, конечно.
d
Сократ.
Или то, что должна сказать женщина‑пряха, прядущая шерсть?
Ион.
Нет.
Сократ.
А может быть, рапсод будет знать, что должен сказать военачальник, ободряя воинов?
Ион.
Да, вот это рапсод будет знать.
Сократ.
Что же, искусство рапсода – это искусство военачальника?
Ион.
Я‑то, по крайней мере, знал бы, какие речи подобают военачальнику.
Сократ.
Потому что ты. вероятно, и в искусстве военачальника сведущ, Ион. А если бы, например, ты одновременно и умел играть на кифаре и был бы наездником, а значит распознавал бы хорошо и дурно выезженных коней, и я бы спросил тебя: благодаря какому же искусству ты, Ион, распознаёшь хорошо выезженных коней? Тому же самому, благодаря которому ты стал наездником, или тому, благодаря которому играешь на кифаре, что ответил бы ты мне?
e
Ион.
Благодаря тому же искусству, с помощью которого я стал наездником, сказал бы я.
Сократ.
И если бы ты отличал, кто хорошо играет на кифаре, ты согласился бы, что делаешь это при помощи того искусства, благодаря которому ты – кифарист, а не благодаря тому, что ты – наездник?
Ион.
Да.
Сократ.
А если ты знаешь толк в воинском деле, то при помощи ли того искусства, благодаря которому ты сведущий военачальник, или из‑за того, что ты хороший рапсод?
Ион.
По‑моему, это совершенно безразлично.
541
Сократ.
Как? Ты говоришь, что это совершенно безразлично? Искусство рапсода и искусство военачальника – одно искусство или два? Что ты скажешь?
Ион.
По‑моему, одно.
Сократ.
Значит, кто хороший рапсод, тот, оказывается, и хороший военачальник?
Ион.
Непременно, Сократ.
Сократ.
И оказывается, кто хороший военачальник, тот и хороший рапсод?
b
Ион.
Этого‑то я не думаю.
Сократ.
Но кто хороший рапсод, тот, по‑твоему, и хороший военачальник?
Ион.
Конечно.
Сократ.
Не лучший ли ты рапсод, чем любой из греков?
Ион.
И намного, Сократ.
Сократ.
Так ты и военачальник, Ион, лучший среди греков?
Ион.
Будь уверен в этом, Сократ; а научился я этому из произведений Гомера.
c
Сократ.
Ради богов, Ион, почему же в таком случае ты, лучший военачальник и лучший рапсод из греков, только поешь, разъезжая среди греков, а не начальствуешь над войском? Неужели ты думаешь, что рапсод, увенчанный золотым венком, очень нужен грекам, а военачальник – не нужен?
Ион.
Наш город, Сократ, находится под вашей властью и военным начальствованием и поэтому вовсе не нуждается в военачальнике, а ваш город и город лакедемонян не выберут меня военачальником: вы ведь считаете, что и сами справитесь.
Сократ.
Дорогой Ион, не знаешь ли ты Аполлодора из Кизика?
d
Ион.
Какого это?
Сократ.
Того, кого афиняне много раз избирали своим полководцем, хотя он и чужестранец; и Фаносфену с Андроса, и Гераклиду из Клазомен[483]
наш город поручает и стратегию, и другие должности, так как они, хотя и чужеземцы, показали себя достойными этого. Почему же Иона эфесца город наш не изберет военачальником и не почтит этим званием, если он окажется достойным? Что ж? Разве вы, эфесцы[484]
, не афиняне издревле, или Эфес уступает какому‑нибудь другому городу?
e
Если ты, Ион, прав, что благодаря уменью и знанию ты способен восхвалять Гомера, тогда ты виноват вот в чем: пообещав показать, как много хорошего ты знаешь о Гомере, ты обманываешь меня и далек от того, чтобы показать мне это. Ты даже не желаешь ответить на то, чего я давно добиваюсь, – что это такое, в чем ты силен. Вместо того ты, прямо‑таки как Протей[485]
, извиваясь во все стороны, принимаешь всевозможные обличья и, в конце концов, ускользаешь от меня, оказавшись даже военачальником, лишь бы только не показать, как ты силен в гомеровской премудрости.
542
Если ты искусен – о чем я только что говорил, – то ты обманываешь меня, не сдержав обещания показать это на Гомере, и поступаешь несправедливо; если же ты не искусен и, ничего не зная по Гомеру, но одержимый божественным наитием, высказываешь об этом поэте много прекрасного, как я уже о тебе говорил, то ты ни в чем не виноват. Итак, вот тебе на выбор: кем ты хочешь у нас прослыть – несправедливым человеком или божественным?
Ион.
Большая разница, Сократ: ведь гораздо прекраснее прослыть божественным.
Сократ.
Так это – нечто более прекрасное – и останется у нас за тобой, Ион; ты – божественный, а не искусный хвалитель Гомера.
Перевод Я. М. Боровского.
В кн.: Платон. Избранные диалоги. М., 1965
XIV. ГИППИЙ БОЛЬШИЙ
Сократ, Гиппий
281
Сократ.
Гиппий, славный и мудрый, наконец‑то ты прибыл к нам в Афины!
Гиппий.
Все недосуг, Сократ. Всякий раз, как Элиде[486]
нужно бывает вести переговоры с каким‑нибудь государством, она обращается ко мне прежде, чем к кому‑нибудь другому из граждан, и выбирает меня послом, считая наиболее подходящим судьею и вестником тех речей, которые обычно произносятся от каждого из государств.
b
Много раз я бывал послом в различных государствах, чаще же всего и по поводу самых многочисленных и важных дел – в Лакедемоне. Это‑то и есть мой ответ на твой вопрос, ведь я не часто заезжаю в ваши места.
Сократ.
Вот что значит, Гиппий, быть поистине мудрым и совершенным человеком. Ведь ты умеешь и в частной жизни, беря с молодых людей большие деньги, приносить им пользу еще большую, чем эти деньги;
c
с другой стороны, ты и на общественном поприще умеешь оказывать благодеяния своему государству, как и должен поступать всякий, кто не желает, чтобы его презирали, а, напротив, хочет пользоваться доброй славой среди народа. Однако, Гиппий, какая причина того, что древние мужи, прославившие свои имена мудростью, – и Питтак, и Биант, и последователи милетянина Фалеса, да и позднее жившие, вплоть до Анаксагора[487]
, – все или большинство из них, по‑видимому, держались в стороне от государственных дел?
d
Гиппий.
Какая же, Сократ, иная причина, если не та, что они были не в силах и не способны обнять разумом и то и другое – дела общественные и дела частные?
Сократ.
Значит, клянусь Зевсом, подобно тому как все остальные искусства сделали успехи и по сравнению с нынешними старые мастера плохи, то же самое придется сказать и о вашем искусстве – искусстве софистов[488]
: оно сделало успехи, а мудрецы из древних плохи по сравнению с вами.
Гиппий.
Совершенно правильно.
Сократ.
Следовательно, Гиппий, если бы у нас ожил теперь Биант, то, пожалуй, вызвал бы у вас смех,
282
все равно как о Дедале[489]
говорят ваятели, что, появись он теперь и начни исполнять такие же работы, как те, которые создали ему имя, он был бы смешон.
Гиппий.
Все это так, как ты говоришь, Сократ. Однако я все‑таки обыкновенно древних и живших прежде нас восхваляю в первую очередь и больше, чем нынешних, так как остерегаюсь зависти живых и боюсь гнева мертвых.
b
Сократ.
Ты, Гиппий, по‑моему, прекрасно говоришь и рассуждаешь, и я могу подтвердить правильность твоих слов. Действительно, ваше искусство сделало успехи в том, что дает возможность заниматься и общественными делами наряду с частными. Ведь вот Горгий[490]
, леонтинский софист, прибыл сюда со своей родины в общественном порядке, как посол и как человек, наиболее способный из всех леонтинян к общественной деятельности; он и в Народном собрании оказался отличным оратором, и частным образом, выступая с показательными речами и занимаясь с молодыми людьми, заработал и собрал с нашего города большие деньги.
c
Если угодно, то и наш приятель, известный Продик, часто и раньше приезжал сюда по общественным делам, а в последний раз, недавно, приехав с Кеоса по такого же рода делам, очень отличился своей речью в Совете[491]
, да и частным образом, выступая с показательными речами и занимаясь с молодыми людьми, получил удивительно много денег. А из тех, древних, никто никогда не считал возможным требовать денежного вознаграждения
d
и выставлять напоказ свою мудрость пред всякого рода людьми. Вот как они были просты! Не заметили, что деньги имеют большую цену. Из этих же двух мужей каждый заработал своей мудростью больше денег, чем другие мастера каким угодно искусством, а еще раньше них – Протагор[492]
.
Гиппий.
Ничего‑то ты, Сократ, об этом по‑настоящему не знаешь! Если бы ты знал, сколько денег заработал я, ты бы изумился! Не говоря об остальном, когда я однажды прибыл в Сицилию,
e
в то время как там находился Протагор, человек прославленный и старший меня по возрасту, я все‑таки, будучи много его моложе, в короткое время заработал гораздо больше ста пятидесяти мин, да притом в одном только совсем маленьком местечке, Инике[493]
, больше двадцати мин. Прибыв с этими деньгами домой, я отдал их отцу, так что и он, и все остальные граждане удивлялись и были поражены. Я думаю, что заработал, пожалуй, больше денег, чем любые два других софиста, вместе взятые.
283
Сократ.
Ты, Гиппий, приводишь прекрасное и важное доказательство мудрости и своей собственной, и вообще нынешних людей, – насколько же они отличаются ею от древних! Велико было, по твоим словам, невежество людей, живших прежде. С Анаксагором произошло, говорят, обратное тому, что случается с вами: ему достались по наследству большие деньги, а он по беззаботности все потерял – вот каким неразумным мудрецом он был! Да и об остальных живших в старину рассказывали подобные же вещи.
b
Итак, мне кажется, ты приводишь прекрасное доказательство мудрости нынешних людей по сравнению с прежними. Многие согласны в том, что мудрец должен быть прежде всего мудрым для себя самого[494]
. Определяется же это так: мудр тот, кто заработал больше денег.
Но об этом достаточно. Скажи мне вот что: ты‑то сам в каком государстве из тех, куда заезжаешь, заработал больше денег? Видно, в Лакедемоне[495]
, где бываешь чаще всего?
Гиппий.
Нет, Сократ, клянусь Зевсом!
Сократ.
Да что ты? Значит, в Лакедемоне меньше всего?
c
Гиппий.
Я там вообще никогда ничего не получал.
Сократ.
Странные вещи говоришь ты, Гиппий, удивительные! Скажи мне: разве не в состоянии твоя мудрость делать более добродетельными тех, кто следует и учится ей?
Гиппий.
И даже очень.
Сократ.
Значит, сыновей иникян ты был в состоянии сделать лучшими, а сыновей спартиатов нет?
Гиппий.
Далеко до этого.
Сократ.
Тогда, стало быть, сицилийцы стремятся стать лучшими, а лакедемоняне – нет?
d
Гиппий.
И лакедемоняне очень стремятся, Сократ.
Сократ.
Может быть, они избегали общения с тобой из‑за недостатка денег?
Гиппий.
Нет, конечно, денег у них достаточно.
Сократ.
Какая же причина, что, хотя у них есть и желание, и деньги, а ты мог помочь им в самом важном, они отпустили тебя не нагруженным деньгами? Ведь невероятно же, чтобы лакедемоняне могли воспитывать своих детей лучше, чем это можешь ты? Или это так и ты с этим согласен?
e
Гиппий.
Никоим образом.
Сократ.
Быть может, ты не сумел убедить молодых людей в Лакедемоне, что через общение с тобой они преуспеют в добродетели больше, чем если будут общаться со своими? Или ты не мог убедить отцов этих молодых людей, что, если только они пекутся о своих сыновьях, им следует скорее поручать их тебе, чем самим о них заботиться? Ведь не из зависти же отцы мешали своим детям стать как можно лучше?
Гиппий.
Не думаю, чтобы из зависти.
Сократ.
Лакедемон, конечно, имеет хорошие законы?
Гиппий.
Еще бы!
284
Сократ.
А в государствах с хорошим законодательством выше всего ценится добродетель?
Гиппий.
Конечно.
Сократ.
Ты же умеешь прекраснее всех людей преподавать ее другим.
Гиппий.
Именно прекраснее всех, Сократ!
Сократ.
Ну а тот, кто прекраснее всех умеет преподавать искусство верховой езды, не в Фессалии[496]
ли он будет пользоваться почетом больше, чем где бы то ни было в Элладе, и не там ли получит больше всего денег[497]
, равно как и во всяком другом месте, где ревностно занимаются этим?
Гиппий
Вероятно.
b
Сократ.
А тот, кто может преподать драгоценнейшие знания, ведущие к добродетели, разве не в Лакедемоне будет пользоваться наибольшим почетом? Разве не там заработает он больше всего денег, если пожелает, равно как и в любом эллинском городе из тех, что управляются хорошими законами? Неужели ты думаешь, друг мой, что это будет скорее в Сицилии, в Инике? Поверим ли мы этому, Гиппий? Но если прикажешь, придется поверить.
Гиппий.
Все дело, Сократ, в том, что изменять законы и воспитывать сыновей вопреки установившимся обычаям несогласно у лакедемонян с заветами отцов.
c
Сократ.
Что ты говоришь! У лакедемонян несогласно с заветами отцов поступать правильно, а надо ошибаться?
Гиппий.
Этого, Сократ, я бы не сказал.
Сократ.
Но разве они не поступали бы правильно, если бы воспитывали молодежь лучше, а не хуже?
Гиппий.
Правильно, но у них несогласно с законами давать чужеземное воспитание. Знай твердо: если бы кто другой когда‑либо получал от них деньги за воспитание, то и я получил бы их, и гораздо больше всех; по крайней мере они бывают рады и слушать меня, и хвалить, но, повторяю, нет у них такого закона.
d
Сократ.
Как ты скажешь, Гиппий, вред ли или польза для государства закон?
Гиппий.
Устанавливается закон, я думаю, ради пользы; иногда же он приносит и вред, когда его плохо установили[498]
.
Сократ.
Так что же? Разве те, кто устанавливает закон, не устанавливает его как наибольшее благо для государства? И без этого разве можно жить по закону?
Гиппий.
Ты говоришь правду.
Сократ.
Итак, когда те, кто пытается устанавливать законы, погрешают против блага, они погрешают против того, что законно, и против закона. Что ты скажешь на это?
e
Гиппий.
Говоря строго, Сократ, это так; однако обычно люди этого так не называют.
Сократ.
Какие люди, Гиппий? Знающие или незнающие?
Гиппий.
Большинство.
Сократ.
А знает ли это большинство истину?
Гиппий.
Нет, конечно.
Сократ.
Но ведь люди знающие считают более полезное поистине более законным для всех людей, чем то, что менее полезно; или ты с этим не согласен?
Гиппий.
Я согласен, что это действительно так.
Сократ.
А не бывает ли это на самом деле и не происходит ли это так, как считают знающие люди?
Гиппий.
Разумеется.
285
Сократ.
Но ведь для лакедемонян, как ты говоришь, на самом деле полезнее получать воспитание, которое можешь дать ты, хотя оно и чужеземное, нежели воспитание, принятое у них в стране.
Гиппий.
И верно говорю.
Сократ.
Что более полезное более законно, ведь ты и это утверждаешь, Гиппий?
Гиппий.
Я же сказал.
Сократ.
Итак, по твоим словам, для сыновей лакедемонян воспитание, даваемое Гиппием, более законно, а воспитание, даваемое их отцами, – менее, если только эти сыновья действительно получат от тебя больше пользы.
b
Гиппий.
Конечно, они получат пользу, Сократ
Сократ.
Следовательно, лакедемоняне поступают вопреки закону, когда не платят тебе денег и не поручают тебе своих сыновей?
Гиппий.
С этим я согласен; мне кажется, ты говоришь в мою пользу, и мне вовсе не приходится возражать.
Сократ.
Итак, друг мой, мы находим, что лакедемоняне нарушают законы, причем нарушают их в самом существенном, хотя и кажутся очень законопослушными. Но ради богов, Гиппий, что же именно они рады бывают слушать и за что тебя хвалят? Очевидно, за то, что ты лучше всего знаешь, – за науку о звездах и о небесных явлениях?[499]
c
Гиппий.
Нисколько; такой науки они и вовсе не выносят.
Сократ.
А о геометрии они рады бывают слушать?
Гиппий.
Никоим образом, потому что и считать‑то, собственно говоря, многие из них не умеют.
Сократ.
Значит, они далеки от того, чтобы слушать твои речи о вычислениях?
Гиппий.
Очень далеки, клянусь Зевсом.
Сократ.
Но уж конечно, они рады бывают слушать о том, что ты умеешь разбирать точнее всех: о значении букв и слогов, ритмов и гармоний?
d
Гиппий.
Каких там гармоний и букв, мой добрейший?!
Сократ.
Но о чем же они тогда слушают с удовольствием и за что тебя хвалят? Скажи мне сам, так как я не догадываюсь.
Гиппий.
О родословной[500]
героев и людей, Сократ, о заселении колоний, о том, как в старину основывались города, – одним словом,
e
они с особенным удовольствием слушают все рассказы о далеком прошлом, так что из‑за в них я и сам вынужден был очень тщательно все это изучить.
Сократ.
Да, Гиппий, клянусь Зевсом, счастлив ты, что лакедемонянам не доставляет радости, если кто может перечислить им наших архонтов[501]
, начиная с Солона, не то тебе стоило бы немало труда выучить все это.
Гиппий.
Почему, Сократ? Стоит мне услышать подряд пятьдесят имен, и я их тотчас же запоминаю.
Сократ.
Это правда, а я‑то и не сообразил, что ты владеешь искусством запоминания[502]
; теперь я понимаю:
286
лакедемонянам потому и следует встречать тебя с радостью, что ты знаешь многое; они и обращаются к тебе, как дети к старухам, чтобы послушать занимательные рассказы.
Гиппий.
И в самом деле, Сократ, клянусь Зевсом, недавно я там имел успех, когда разбирал вопрос о прекрасных занятиях, которым должен предаваться молодой человек. У меня, надо сказать, есть превосходно составленная речь об этом; она хороша во всех отношениях, а особенно своим способом выражения. Вступление и начало моей речи такое: «Когда взята была Троя, – говорится в речи, –
b
Неоптолем спросил Нестора[503]
, какие занятия приносят юноше наилучшую славу». После этого говорит Нестор и излагает ему великое множество прекраснейших правил. С этой речью я выступил в Лакедемоне, да и здесь предполагаю выступить послезавтра, в школе Фидострата, равно как и со многими другими речами, которые стоит послушать; меня просил об этом Евдик[504]
, сын Апеманта. Но ты и сам должен быть при этом, и других привести, которые сумели бы, выслушав речь, ее оценить.
c
Сократ.
Так и будет, Гиппий, если богу угодно! А теперь ответь мне кратко вот что – ты как раз вовремя напомнил мне: надо тебе сказать, любезнейший, что недавно, когда я в каком‑то разговоре одно порицал как безобразное, а другое хвалил как прекрасное, некий человек поставил меня в трудное положение тем, что задал мне, и весьма дерзко, примерно такой вопрос:
d
«Откуда тебе знать, Сократ, – сказал он, – чту именно прекрасно и чту безобразно? Давай‑ка посмотрим, можешь ли ты сказать, чту такое прекрасное?» И я, по своей простоте, стал недоумевать и не мог ответить ему как следует; а уходя после беседы с ним, я сердился на себя, бранил себя и грозился, что в первый же раз, когда повстречаюсь с кем‑нибудь из вас, мудрецов, я расспрошу его, выучусь, старательно запомню, а потом снова пойду к тому, кто мне задал тот вопрос, и с ним расквитаюсь. Теперь же, говорю я, ты пришел вовремя и должен научить меня как следует, что. же это такое – само прекрасное?
e
Постарайся в своем ответе сказать мне это как можно точнее, чтобы я, если меня изобличат во второй раз, снова не вызвал смеха. Ведь ты‑то это определенно знаешь, и, разумеется, это лишь малая доля твоих многочисленных знаний.
Гиппий.
Конечно, малая, Сократ, клянусь Зевсом, можно сказать, ничтожная.
Сократ.
Значит, я легко научусь, и никто меня больше не изобличит.
Гиппий.
Разумеется, никто, ведь иначе я оказался бы ничтожным невеждой.
287
Сократ.
Клянусь Герой, хорошо сказано, Гиппий, лишь бы нам одолеть того человека! Но не помешать бы тебе, если я стану подражать ему и возражать на твои ответы, чтобы ты поточнее научил меня. Я ведь довольно опытен в том, что касается возражений. Поэтому, если тебе все равно, я буду тебе возражать, чтобы получше выучиться.
b
Гиппий.
Ну что ж, возражай! Ведь, как я только что сказал, вопрос этот незначительный, я мог бы научить тебя отвечать на вопросы гораздо более трудные, так что ни один человек не был бы в состоянии тебя изобличить.
Сократ.
Ах, хорошо ты говоришь! Прекрасное – Но давай, раз ты сам велишь, я стану, это не отдельные совсем как тот человек, задавать тебе вопросы. Дело в том, что если бы ты и не формы жизни произнес перед ним ту речь, о которой говоришь, – речь о прекрасных занятиях, то он, выслушав тебя, лишь только ты кончишь говорить, спросил бы прежде всего о самум прекрасном – такая уж у него привычка –
c
и сказал бы так: «Элидский гость, не справедливостью ли справедливы справедливые люди?» Отвечай же, Гиппий, как если бы он спрашивал тебя.
Гиппий.
Я отвечу, что справедливостью.
Сократ.
«Итак, справедливость что‑то собой представляет?»
Гиппий.
Конечно.
Сократ.
«А не мудростью ли мудры мудрецы, и не в силу ли блага бывает благим все благое?»
Гиппий.
Как же иначе?
Сократ.
«И все это в силу чего‑то существует? Ведь не есть же это ничто». Гиппий. Конечно, это есть нечто.
Сократ.
«Так не будет ли и все прекрасное прекрасным благодаря прекрасному?»
d
Гиппий.
Да, благодаря прекрасному.
Сократ.
«И это прекрасное есть нечто?»
Гиппий.
Нечто. Чем же ему и быть?
Сократ.
«Так ответь мне, чужеземец, – скажет он, – что же такое это прекрасное?»
Гиппий.
Значит, Сократ, тот, кто задает этот вопрос, желает узнать, чту прекрасно?
Сократ.
Мне кажется, нет; он хочет узнать, что такое прекрасное, Гиппий.
Гиппий.
А чем одно отличается от другого?
Сократ.
Гиппий.
Разумеется, ничем.
Сократ.
Ну что же, наверно, тебе виднее. Однако смотри, дорогой мой: он ведь тебя спрашивает не о том, чту прекрасно, а о том, что такое прекрасное.
e
Гиппий.
Понимаю, любезный, и отвечу ему, что такое прекрасное, и уж ему меня не опровергнуть. Знай твердо, Сократ, если уж надо говорить правду: прекрасное – это прекрасная девушка.
Сократ.
Прекрасный и славный ответ, Гиппий, клянусь собакой! Не правда ли, если я так отвечу, я дам ответ на вопрос, и ответ правильный, и уж меня тогда не опровергнуть?
288
Гиппий.
Да как же тебя опровергнуть, Сократ, когда все так думают, и все, кто это услышит, засвидетельствуют, что ты прав.
Сократ.
Пусть так, хорошо! Но, Гиппий, дай‑ка я снова повторю себе, что ты сказал. Тот человек спросит меня приблизительно так: «Ну, Сократ, отвечай мне: все, что ты называешь прекрасным, будет прекрасным если существует прекрасное само по себе?» Я же скажу: «Если прекрасная девушка – это прекрасно, тогда она и есть то, благодаря чему прекрасное будет прекрасно».
b
Гиппий.
Так ты думаешь, он еще будет пытаться тебя опровергнуть, утверждая, что то, о чем ты говоришь, не прекрасно? Разве он не будет смешон, если сделает такую попытку?
Сократ.
Что он сделает попытку, в этом я уверен, странный ты человек! А будет ли он смешон, сделав эту попытку, покажет будущее. Я хочу только заметить, что он на это скажет.
Гиппий.
Говори же.
Сократ.
«Хорош же ты, Сократ! – скажет он. – Ну а разве прекрасная кобылица, которую сам бог похвалил в своем изречении[505]
, не есть прекрасное?» Что мы на это скажем, Гиппий?
c
Не то ли, что и кобылица есть прекрасное, – я разумею прекрасную кобылицу? Как же нам дерзнуть отрицать, что прекрасное есть прекрасное?
Гиппий.
Ты верно говоришь, Сократ, ибо правильно сказал об этом бог; ведь кобылицы у нас бывают прекраснейшие.
Сократ.
«Пусть так, – скажет он, – ну а что такое прекрасная лира? Разве не прекрасное?» Подтвердим ли мы это, Гиппий?
Гиппий.
Да.
Сократ.
После тот человек скажет (я в этом почти уверен и заключаю из того, как он обычно поступает): «Дорогой мой, а что же такое прекрасный горшок? Разве не прекрасное?»
d
Гиппий.
Да что это за человек, Сократ? Как невоспитанно и дерзко произносить столь низменные слова в таком серьезном деле!
Сократ.
Такой уж он человек, Гиппий, не изящный, а грубоватый, и ни о чем другом не заботится, а только об истине. Но все‑таки надо ему ответить, и я заранее заявляю: если горшок вылеплен хорошим гончаром, если он гладок, кругл и хорошо обожжен, как некоторые горшки с двумя ручками из тех прекрасных во всех отношениях горшков, что обычно вмещают шесть кружек, –
e
если спрашивают о таком горшке, надо признать, что он прекрасен. Как можно не назвать прекрасным то, что прекрасно?
Гиппий.
Никак нельзя, Сократ.
Сократ.
«Так не есть ли, – скажет он, – и прекрасный горшок – прекрасное? Отвечай!»
Гиппий.
Так оно, я думаю, и есть, Сократ. Прекрасен и этот сосуд, если он хорошо сработан, но в целом все это недостойно считаться прекрасным по сравнению с кобылицей, девушкой и со всем остальным прекрасным.
289
Сократ.
Пусть будет так. Я понимаю, Гиппий, что возражать тому, кто задает подобные вопросы, следует так: «Друг, разве тебе неизвестно хорошее изречение Гераклита: „Из обезьян прекраснейшая безобразна, если сравнить ее с человеческим родом“»[506]
?» И прекраснейший горшок безобразен, если сравнить его с девичьим родом, как говорит Гиппий мудрый. Не так ли, Гиппий?
Гиппий.
Конечно, Сократ, ты правильно ответил.
b
Сократ.
Слушай дальше. После этого, я хорошо знаю, тот человек скажет: «Как же так, Сократ? Если станут сравнивать девичий род с родом богов, не случится ли с первым того же, что случилось с горшками, когда их стали сравнивать с девушками? Не покажется ли прекраснейшая девушка безобразной? Не утверждает ли того же самого и Гераклит, на которого ты ссылаешься, когда он говорит: „Из людей мудрейший по сравнению с богом покажется обезьяной, и по мудрости, и по красоте, и по всему остальному“»[507]
?» Ведь мы признаем, Гиппий, что самая прекрасная девушка безобразна по сравнению с родом богов.
Гиппий.
Кто стал бы этому противоречить, Сократ!
c
Сократ.
А если мы признаем это, тот человек засмеется и скажет: «Ты помнишь, Сократ, о чем я тебя спрашивал?» «Помню, – отвечу я, – о том, что такое прекрасное само по себе». «Но ты, – скажет он, – на вопрос о прекрасном приводишь в ответ нечто такое, что, как ты сам говоришь, прекрасно ничуть не больше, чем безобразно». «Похоже на то», – скажу я. Что же еще посоветуешь ты мне отвечать, друг мой?
Гиппий.
Именно это. Ведь он справедливо скажет, что по сравнению с богами род людской не прекрасен.
Сократ.
«Спроси я тебя с самого начала, – скажет он, – чту и прекрасно и безобразно одновременно, разве неправилен был бы твой ответ, если бы ты ответил мне то же, что и теперь?
d
Не кажется ли тебе, что, как только прекрасное само по себе, благодаря которому все остальное украшается и представляется прекрасным, – как только эта идея[508]
присоединяется к какому‑либо предмету, тот становится прекрасной девушкой, кобылицей либо лирой?»
Гиппий.
Ну, Сократ, если он это ищет – что такое то прекрасное, благодаря которому украшается все остальное и от соединения с чем представляется прекрасным, – тогда ответить ему очень легко.
e
Значит, этот человек совсем прост и ничего не смыслит в прекрасных сокровищах. Ведь если ты ответишь ему, что прекрасное, о котором он спрашивает, не что иное, как золото, он попадет в тупик и не будет пытаться тебя опровергнуть. А ведь все мы знаем, что если к чему присоединится золото, то даже то, что раньше казалось безобразным, украшенное золотом, представится прекрасным.
Сократ.
Ты, Гиппий, не знаешь, как этот человек упорен и как он ничему не верит на слово.
290
Гиппий.
Почему же это, Сократ? Необходимо, чтобы он принимал то, что говорится правильно, иначе он будет смешон.
Сократ.
А такой ответ, дорогой мой, он не только не примет, но станет сам смеяться надо мной и скажет. «Ах ты, слепец! Неужто ты Фидия[509]
считаешь плохим мастером?» И я, думается мне, скажу: «Нет, нисколько».
Гиппий.
И правильно скажешь, Сократ.
Сократ.
Конечно, правильно. Но тогда он, после того как я соглашусь, что Фидий – хороший мастер, скажет: «Значит, ты думаешь, что Фидий, не знал того прекрасного, о котором ты говоришь?»
b
Я же отвечу. «Почему?» «Да потому, – скажет он, – что глаза Афины, а также и остальные части лица, и ноги, и руки он изготовил не из золота, а из слоновой кости, тогда как все это, если бы было сделано из золота, должно было казаться всего прекраснее. Ясно, что он сделал такую ошибку по своему невежеству, так как не знал, что золото и есть то самое, что делает прекрасным все, к чему бы оно ни присоединилось». Что нам ответить ему на такие слова, Гиппий?
c
Гиппий.
Ответить вовсе не трудно. Мы скажем, что с Фидий поступил правильно, потому что, по‑моему, и то, что сделано из слоновой кости, прекрасно.
Сократ.
«Чего же ради, – спросит тот человек, – не изготовил он из слоновой кости также и зрачки глаз, а сделал их из камня, выбрав камень, по возможности похожий на слоновую кость? Или и прекрасный камень – прекрасное?» Ответим ли мы на это утвердительно, Гиппий?
Гиппий.
Да, конечно, когда камень подходит.
d
Сократ.
«А когда не подходит, это нечто безобразное?» Соглашаться мне или нет?
Гиппий.
Соглашайся для тех случаев, когда камень не подходит.
Сократ.
«Как же так, – скажет он, – о ты, мудрец, разве слоновая кость и золото не заставляют вещи казаться прекрасными только тогда, когда они подходят, а в противном случае – безобразными?» Будем ли мы отрицать это или признаем, что его слова правильны?
Гиппий.
Мы признаем, что каждую вещь делает прекрасной то, что для каждой вещи подходит.
Сократ.
«Ну а если, – скажет он, – тот самый прекрасный горшок, о котором мы только что говорили, наполнить и варить в нем прекрасную кашу, какой уполовник к нему больше подойдет: из золота или из смоковницы?»
Гиппий.
О Геракл![510]
О каком человеке ты говоришь, Сократ? Скажи ты мне, кто он такой?
e
Сократ.
Ты не узнал бы его, если бы я назвал его имя.
Гиппий.
Но я и так уже вижу, что это какой‑то невежда.
Сократ.
Он очень надоедлив, Гиппий, но все‑таки, что ж мы ответим? Который из двух уполовников больше подходит к горшку и к каше? Не очевидно ли, что из смоковницы? Ведь он придает каше приятный запах, а вместе с тем, друг мой, он не разобьет горшка, не вывалит каши, не потушит огня и не оставит без знатного кушанья тех, кто собирается угощаться.
291
А золотой уполовник наделал бы нам бед, так что, мне кажется, нам надо ответить, что уполовник из смоковницы подходит больше, чем золотой, если только ты не скажешь иначе.
Гиппий.
Подходит‑то он, пожалуй, больше, Сократ, но только я не стал бы разговаривать с человеком, задающим такие вопросы.
Сократ.
И правильно, друг мой. Действительно, тебе, прекрасно одетому, прекрасно обутому, прославленному своей мудростью среди всех эллинов, пожалуй, не подобает забивать себе голову подобными выражениями. А мне совсем не противно общение с этим человеком.
b
Поэтому поучи меня и ради меня отвечай. «Ведь раз смоковничный уполовник подходит больше, чем золотой, – скажет тот человек, – не будет ли он и прекраснее, если ты соглашаешься, Сократ, что подходящее прекраснее, чем неподходящее?» Согласимся ли мы, Гиппий, что смоковничный уполовник прекраснее золотого?
Гиппий.
Хочешь, я скажу тебе, Сократ, как тебе нужно определить прекрасное, чтобы избавить себя от излишних разговоров?
c
Сократ.
Конечно, хочу, но только не ранее чем ты мне скажешь, который из обоих только что названных уполовников я должен в своем ответе признать подходящим и более прекрасным.
Гиппий.
Если хочешь, отвечай ему, что сделанный из смоковницы.
Сократ.
А теперь говори то, что ты только что собирался сказать. Ведь если я утверждаю, что прекрасное – это золото, то при таком ответе, по‑моему, золото оказывается нисколько не прекраснее смоковничного бревна. Что же ты скажешь теперь о прекрасном?
d
Гиппий.
Сейчас скажу. Мне кажется, ты добиваешься, чтобы тебе назвали такое прекрасное, которое нигде никогда никому не покажется безобразным.
Сократ.
Конечно, Гиппий, ты это теперь прекрасно постиг.
Гиппий.
Слушай же и знай: если кто‑нибудь найдет, что возразить на это, я скажу, что я ничего не смыслю.
Сократ.
Ради богов, говори же как можно скорее!
Гиппий.
Итак, я утверждаю, что всегда и везде прекраснее всего для каждого мужа быть богатым, здоровым, пользоваться почетом у эллинов, а достигнув старости и устроив своим родителям, когда они умрут, прекрасные похороны, быть прекрасно и пышно погребенным своими детьми.
e
Сократ.
Ну и ну, Гиппий! Как изумительно, величественно и достойно тебя это сказано! Клянусь Герой[511]
, я в восхищении, что ты по мере сил благосклонно мне помогаешь. Но ведь тому‑то человеку мы не угодим, и теперь он посмеется над нами как следует, так и знай.
292
Гиппий.
Плохим смехом посмеется, Сократ! Если ему нечего сказать на это, а он все же смеется, то он над собой смеется и станет предметом насмешек для других.
Сократ.
Может быть, это и так, а может быть, при таком ответе он, как я предвижу, не только надо мной посмеется.
Гиппий.
Что же еще?
Сократ.
А то, что, если у него окажется палка, он, если только я не спасусь от него бегством, постарается хорошенько меня хватить.
Гиппий.
Что ты говоришь! Что он, этот человек, – твой господин? И если он сделает это, разве не привлекут его к суду и не приговорят к наказанию?
b
Разве нет у вас в государстве законов? Разве оно позволяет гражданам бить друг друга без всякого на то права?
Сократ.
Нет, никоим образом.
Гиппий.
Тогда, значит, он понесет наказание за то, что ударил тебя без всякого права.
Сократ.
Нет, Гиппий, если я так отвечу, он будет прав, так мне думается.
Гиппий.
Ну и я того же мнения, Сократ, раз ты сам так думаешь.
Сократ.
Сказать ли тебе, почему я сам считаю, что буду бит справедливо, если дам такой ответ? Или и ты начнешь меня бить, не разобравши, в чем дело? А может быть, выслушаешь меня?
c
Гиппий.
Странно было бы, Сократ, если бы я не стал слушать. Но что же ты скажешь?
Сократ.
Я буду говорить тебе точно так же, как говорил только что, подражая тому человеку: не стоит обращать к тебе сказанные им мне слова, суровые и необычные. Знай же твердо, он заявит следующее: «Скажи, Сократ, неужели ты думаешь, что не по праву получил палкой, ты, который, спев столь громкий дифирамб, так безвкусно и грубо отклонился от заданного вопроса?» «Каким образом?» – спрошу я. «Каким? – ответит он. – Или ты не в состоянии вспомнить, что
d
я спрашивал о прекрасном самом по себе, которое все, к чему бы оно ни присоединилось, делает прекрасным – и камень, и дерево, и человека, и бога, и любое деяние, любое знание. Ведь я тебя спрашиваю, друг, что такое красота сама по себе, и при этом ничуть не больше могу добиться толку, чем если бы ты был камнем, мельничным жерновом – без ушей и без мозга». А если бы я, испугавшись, сказал ему на это (ты ведь не рассердишься, Гиппий?):
e
«Но ведь Гиппий говорит, что прекрасное есть именно это, хотя я и спрашивал его, как ты меня, что есть прекрасное для всех и всегда», – что бы ты тогда сказал? Не рассердился бы ты в этом случае?
Гиппий.
Я хорошо знаю, Сократ, что то, о чем я говорил, прекрасно для всех и всем будет таким казаться.
Сократ.
«И будет прекрасным? – возразит он. – Ведь прекрасное прекрасно всегда».
Гиппий.
Конечно.
Сократ.
«Значит, оно и было прекрасным?» – спросит он.
Гиппий.
И было.
Сократ.
«Не сказал ли, – молвит он, – элидскии гость, что и для Ахилла прекрасно быть погребенным позже, чем его предки, и для его деда Эака[512]
, и для остальных, кто произошел от богов, и для самих богов?»
293
Гиппий.
Что такое?! Брось ты все это! И произносить‑то вслух негоже вопросы, которые задает этот человек!
Сократ
Как так? А не будет ли уж совсем невежливо на вопрос другого отвечать, что это так и есть?
Гиппий.
Возможно.
Сократ.
«Ведь, пожалуй будешь тем, кто утверждает, что для всех и всегда прекрасно прекрасного быть погребенным своими детьми, не есть родителей предать погребению. Или прекрасное Геракл[513]
, и все те, кого мы только что называли?»
Гиппий.
Но ведь я не говорил, что это прекрасно для богов!
b
Сократ.
«И не для героев, по‑видимому»,
Гиппий.
Не для тех, кто были детьми богов.
Сократ.
«А для тех, которые ими не были?»
Гиппий.
Для этих, конечно, прекрасно.
Сократ.
«Итак, если тебе верить, оказывается, что из героев для Тантала, Дардана, Зета все это ужасно, нечестиво, безобразно, а для Пелопа[514]
и для остальных, рожденных так же, как он, это прекрасно».
Гиппий.
Мне так кажется.
Сократ.
«Следовательно, – скажет он, – ты признаешь то, что перед этим не считал правильным, а именно что иногда и для некоторых предать погребению своих предков, а затем быть погребенными своими с потомками – безобразно.
c
Более того, видимо, невозможно, чтобы это случалось со всеми и одновременно было прекрасным. Выходит, со всем этим произошло то же, что и с прежним – с девушкой и с горшком, и, что смешнее всего, для одних это оказывается прекрасным, для других – нет. И сегодня еще, Сократ, – скажет он, – ты не в состоянии ответить на вопрос, что такое прекрасное». Этими и другими словами будет он справедливо меня бранить, получив от меня подобный ответ.
d
Вот приблизительно так он со мной большей частью и разговаривает, Гиппий. А иной раз, как будто сжалившись над моей неопытностью и невежеством, сам предлагает мне вопросы – например, чем именно мне кажется прекрасное, или же выспрашивает меня о другом, о чем придется и о чем зайдет речь.
Гиппий.
Как так, Сократ?
Сократ
Я разъясню тебе. «Чудак ты, Сократ, – говорит он, – перестань давать подобные ответы так, как ты это делаешь: слишком уж они простоваты и их легко опровергнуть.
e
Лучше рассмотри, не кажется ли тебе, что прекрасное есть нечто, чего мы только что коснулись в одном ответе, когда утверждали, будто золото прекрасно, когда оно к чему‑либо подходит, а когда не подходит, оно не прекрасно; так же обстоит и со всем остальным, чему присуще это [свойство]. Рассмотри подходящее само по себе и его природу: не окажется ли прекрасное подходящим?» И вот я обычно соглашаюсь с этим: ведь мне нечего возразить. А тебе не кажется ли именно подходящее прекрасным?
Гиппий.
Конечно, Сократ.
Сократ.
Рассмотрим же это, чтобы не обмануться.
Гиппий.
Да, это следует рассмотреть.
294
Сократ.
Итак, взгляни: утверждаем ли мы, что подходящее – это то, что своим появлением заставляет казаться прекрасной любую вещь, которой оно присуще, или же то, что заставляет ее быть прекрасной? Или это ни то ни другое?
Гиппий.
Мне думается, то, что заставляет казаться прекрасным, все равно как если человек, надев идущее ему платье или обувь, кажется прекраснее, даже когда у него смешная наружность.
Сократ.
Но если подходящее заставляет все казаться прекраснее, чем оно есть на самом деле, тогда подходящее – это какой‑то обман относительно прекрасного, и это, пожалуй, не то, что мы ищем, Гиппий?
b
Ведь мы исследовали то, чем прекрасны все прекрасные предметы, подобно тому как все великое велико своим превосходством; благодаря этому превосходству все бывает великим, и если даже оно не кажется таким, но таково на деле, оно неизбежно будет великим. Точно так же мы говорим о том, что такое прекрасное, благодаря которому прекрасно все, кажется ли оно таковым или нет. Пожалуй, это не подходящее; ведь последнее, как ты сказал, заставляет предметы казаться прекраснее, чем они есть на самом деле, и не позволяет видеть их такими, каковы они есть.
c
Нужно попробовать показать, что же делает предметы, как я только что заметил, прекрасными, кажутся они таковыми или нет. Вот что мы исследуем, коль хотим найти прекрасное.
Гиппий.
Но, Сократ, подходящее своим присутствием заставляет предметы и быть, и казаться прекрасными.
Сократ.
Итак, невозможно, чтобы действительно прекрасное не казалось прекрасным, по крайней мере если присутствует то, что заставляет его таким казаться.
Гиппий.
Невозможно.
Сократ.
Признаем ли мы, Гиппий, что все действительно прекрасные установления и занятия и считаются прекрасными и всегда всем таковыми кажутся?
d
Или же совсем наоборот, их не узнаю
т, что и вызывает сильные раздоры и борьбу как в частной жизни между отдельными людьми, так и между государствами в жизни общественной?
Гиппий.
cкорее именно так, Сократ, их не узнают.
Сократ.
Но этого не было бы, если бы им присуще было казаться прекрасными. А это было бы лишь в том случае, если бы подходящее не только было прекрасным, но и заставляло предметы казаться такими. Таким образом, подходящее, если только оно есть то, что заставляет быть прекрасным, будет, пожалуй, тем прекрасным, которое мы ищем, но не тем, что заставляет казаться прекрасным. Если же, с другой стороны, подходящее есть то, что заставляет казаться прекрасным,
e
оно, пожалуй, не будет тем прекрасным, которое мы ищем. Ведь оно заставляет быть прекрасным, а одному и тому же, пожалуй, не дано заставлять одновременно и казаться и быть прекрасным или чем бы то ни было иным. Итак, давай выбирать, представляется ли нам подходящее тем, что заставляет казаться прекрасным, или тем, что заставляет им быть.
Гиппий.
По‑моему, тем, что заставляет казаться, Сократ.
Сократ.
Эге, Гиппий! Значит, познание того, что такое прекрасное, ускользнуло от нас, раз подходящее оказалось чем‑то другим, а не прекрасным.
Гиппий.
Да, Сократ, клянусь Зевсом, и, по‑моему, ускользнуло как‑то нелепо.
295
Сократ.
Во всяком случае, друг мой, давай его больше не отпускать. У меня еще теплится надежда, что мы выясним, что же такое прекрасное.
Гиппий.
Конечно, Сократ; да и нетрудно найти это. Я по крайней мере хорошо знаю, что если бы я недолго поразмыслил наедине с самим собой, то сказал бы тебе это точнее точного.
Сократ.
Не говори так самоуверенно, Гиппий! Ты видишь, сколько хлопот нам уже доставило прекрасное; как бы оно, разгневавшись, не убежало от нас еще дальше.
b
Впрочем, я говорю пустяки; ты‑то, я думаю, легко найдешь его, когда окажешься один. Но ради богов, разыщи его при мне или, если хочешь, давай его искать вместе, как делали только что; и, если мы найдем его, это будет отлично, если же нет, я, думается мне, покорюсь своей судьбе, ты же легко отыщешь его, оставшись один. А если мы найдем его теперь, не беспокойся, я не буду надоедать тебе расспросами о том, что ты разыщешь самостоятельно.
c
Сейчас же посмотри снова, чем тебе кажется прекрасное. Я говорю, что оно… только ты Наблюдай за мной повнимательнее, как бы мне не сказать чего‑нибудь несуразного… пусть у нас будет прекрасным то, что пригодно. Сказал же я это вот почему: прекрасны, говорим мы, не те глаза, что кажутся неспособными видеть, но те, что способны видеть и пригодны для зрения. Не так ли?
Гиппий.
Да.
Сократ.
Не правда ли, и все тело в целом[515]
мы в таком же смысле называем прекрасным, одно – для бега, другое – для борьбы; и все живые существа мы называем прекрасными: и коня, и петуха, и перепела;
d
так же как и всякую утварь и средства передвижения: сухопутные и морские, торговые суда и триеры; и все инструменты, как музыкальные, так и те, что служат в других искусствах, а если угодно, и занятия и обычаи – почти все это мы называем прекрасным таким же образом. В каждом из этих предметов мы отмечаем, как он явился на свет, как сделан, как составлен,
e
и называем прекрасным то, что пригодно, смотря по тому, как оно пригодно и в каком отношении, для чего и когда; то же, что во всех этих отношениях непригодно, мы называем безобразным. Не думаешь ли и ты так же, Гиппий?
Гиппий.
Да, думаю.
Сократ.
Так, значит, мы правильно теперь говорим, что пригодное скорее можно назвать прекрасным, чем все иное?
Гиппий.
Конечно, правильно, Сократ.
Сократ.
Не правда ли, то, что может выполнить какую‑нибудь работу, для нее и пригодно, то же, что не может, непригодно.
Гиппий.
Конечно.
Сократ.
Итак, мощь есть нечто прекрасное, а немощь – безобразное?
296
Гиппий.
Вот именно. Все, Сократ, подтверждает, что это так, а в особенности государственные дела: ведь в государственных делах и в своем собственном городе быть мощным прекраснее всего, а бессильным – всего безобразнее.
Сократ.
Хорошо сказано! Но ради богов, Гиппий, разве и мудрость не поэтому прекраснее всего, а невежество всего безобразнее?
Гиппий.
А ты как думаешь, Сократ?
Сократ.
Погоди, мой милый; меня страх берет – что это мы опять говорим?
b
Гиппий.
Чего же ты боишься, Сократ? Теперь‑то уж твое рассуждение превосходно.
Сократ.
Хотел бы я, чтобы это было так; но рассмотри со мной вместе вот что: разве кто может делать то, чего он не умеет, да и вообще не способен выполнить?
Гиппий.
Никоим образом; как же он сделал бы то, на что не способен?
Сократ.
Значит, те, кто ошибается и невольно совершает дурные дела, никогда не стали бы делать этого, если бы не были на это способны?
Гиппий.
Это ясно.
c
Сократ.
Но ведь сильные могут делать свое дело с благодаря силе? Ведь не благодаря же бессилию?
Гиппий.
Нет, конечно.
Сократ.
Ну а как ты скажешь: все делающие что‑либо могут делать то, что они делают?
Гиппий.
Да.
Сократ.
Но все люди, начиная с детства, делают гораздо больше дурного, чем хорошего, и невольно ошибаются.
Гиппий.
Это так.
Сократ.
И что же? Такую силу и такую пользу – то, что пригодно для свершения дурного, – мы и их назовем прекрасными или же ни в коем случае?
d
Гиппий
По‑моему, ни в коем случае, Сократ.
Сократ.
Следовательно, Гиппий, прекрасное, видимо, не то, что обладает силой и нам пригодно.
Гиппий.
Но, Сократ, я говорю о тех случаях, когда что‑то способно к добру и пригодно для этой цели.
Сократ
Значит, наше предположение, будто то, что обладает мощью, и то, что пригодно, тем самым прекрасно, отпадает. А душа наша, Гиппий, хотела сказать вот что: прекрасное есть и пригодное, и способное сделать нечто для блага.
e
Гиппий.
Кажется, так.
Сократ.
Но ведь это и есть полезное[516]
. Не правда ли?
Гиппий.
Конечно.
Сократ.
Таким образом, и прекрасные тела, и прекрасные установления, и мудрость, и все, о чем мы только что говорили, прекрасно потому, что оно полезно.
Гиппий.
Это очевидно.
Сократ.
Итак, нам кажется, что прекрасное есть полезное, Гиппий.
Гиппий.
Безусловно, Сократ.
Сократ.
Но ведь полезное это то, что творит благо.
Гиппий.
Вот именно.
Сократ.
А то, что творит, есть не что иное, как причина, не так ли?
Гиппий.
Так.
297
Сократ.
Значит, прекрасное есть причина блага[517]
.
Гиппий.
Вот именно.
Сократ.
Но, Гиппий, ведь причина, с одной стороны, и причина причины, с другой – это разные вещи; причина не могла бы быть причиной причины. Рассмотри это так: не оказалась ли причина чем‑то созидающим?
Гиппий.
Конечно.
Сократ.
Не правда ли, созидающее творит то, что возникает, а не то, что созидает?
Гиппий.
Это так.
Сократ.
Значит, возникающее – это одно, а созидающее – другое?
Гиппий.
Да.
b
Сократ.
Следовательно, причина не есть причина причины, но лишь причина того, чту от нее возникает?
Гиппий.
Конечно.
Сократ.
Итак, если прекрасное есть причина блага, то благо возникает благодаря прекрасному. И мы, думается, усердно стремимся к разумному и ко всему остальному прекрасному потому, что производимое им действие и его детище, благо, достойны такого стремления; из того, что мы нашли, видно, что прекрасное выступает как бы в образе отца блага.
Гиппий.
Конечно, так. Ты прекрасно говоришь, Сократ.
Сократ.
А не прекрасно ли сказано мною и то, что ни отец не есть сын, ни сын не есть отец?
c
Гиппий.
Разумеется, прекрасно.
Сократ.
И как причина не есть то, что возникает, так и возникающее не есть причина.
Гиппий
Ты прав.
Сократ.
Клянусь Зевсом, милейший, но ведь тогда ни прекрасное не есть благо, ни благо не есть прекрасное. Или это тебе кажется возможным после сказанного раньше?
Гиппий.
Нет, клянусь Зевсом, мне так не кажется.
Сократ.
Но удовлетворит ли нас, если мы захотим сказать, что прекрасное не есть благо и благо не есть прекрасное?
Гиппий.
Нет, клянусь Зевсом, это меня вовсе не удовлетворяет.
d
Сократ.
Клянусь Зевсом, Гиппий, и меня это наименее удовлетворяет из сказанного.
Гиппий.
Да, это так.
Сократ.
Значит, неверно нам представлялось, будто прекраснее всего наше положение, что полезное, пригодное и способное к созиданию блага и есть прекрасное. Нет, такое допущение, если только это возможно, еще смешнее прежних, когда мы думали, что прекрасное – это девушка и все прочее, что мы перечислили раньше.
Гиппий.
Кажется, что так.
Сократ.
Уж и не знаю, куда мне деваться, Гиппий, и не нахожу выхода; а у тебя есть что сказать?
e
Гиппий.
Нет, по крайней мере сейчас; но, как я недавно сказал, если я это обдумаю, то уверен, что найду.
Сократ.
Кажется, жажда знать не позволит мне дождаться, пока ты соберешься; и вот, мне думается, что теперь‑то уж я нашел выход. Смотри‑ка: если бы мы назвали прекрасным то, что заставляет нас радоваться, – допустим, не все удовольствия, а то, что радует нас через слух и зрение, – как бы мы тогда стали спорить?
298
Дело в том, Гиппий, что и красивые люди, и пестрые украшения, и картины, и изваяния радуют наш взор, если они прекрасны. И прекрасные звуки, и все мусичекие искусства, речи, рассказы производят то же самое действие, так что, если мы ответим тому дерзкому человеку: «Почтеннейший, прекрасное – это приятное для слуха и зрения»[518]
, – не думаешь ли ты, что так мы обуздаем его дерзость?
b
Гиппий.
И правда, кажется, теперь хорошо сказано, что такое прекрасное, Сократ.
Сократ.
А скажем ли мы о прекрасных занятиях и законах, Гиппий, что они прекрасны потому, что приятны для слуха и зрения, или же это вещи иного чуда?
Гиппий.
Это, Сократ, может быть, и ускользнет от того человека.
Сократ.
Клянусь собакой, Гиппий, это не ускользнет от того, кого я больше всего постыдился бы, если бы стал болтать вздор и делать вид, будто говорю дело, когда на самом деле болтаю пустяки.
Гиппий.
Кто же это такой?[519]
c
Сократ.
Сократ, сын Софрониска, который, пожалуй, не позволит мне с легкостью говорить об этих еще не исследованных предметах или делать вид, что я знаю то, чего я не знаю.
Гиппий.
Но мне и самому после твоих слов кажется, что с законами обстоит как‑то по‑иному.
Сократ.
Не торопись, Гиппий: выходит, мы попали в вопросе о прекрасном в такой же тупик, как и раньше, а между тем думаем, что нашли хороший выход.
Гиппий.
В каком смысле ты это говоришь, Сократ?
d
Сократ.
Я скажу тебе, как мне это представляется, если, конечно, я говорю дело. Ведь, пожалуй, все, что относится к законам и занятиям, не лежит за пределами тех ощущений, которые мы получаем благодаря слуху и зрению. Так давай сохраним это положение – «приятное благодаря этим чувствам есть прекрасное» – и не будем выдвигать вперед вопрос о законах. Если бы спросил нас тот, о ком я говорю, или кто другой: «Почему же, Гиппий и Сократ, вы выделили из приятного приятное, получаемое тем путем, который вы называете прекрасным,
e
между тем как приятное, связанное со всеми прочими ощущениями – от пищи, питья, любовных утех и так далее, – вы не называете прекрасным? Или это все неприятно, и вы утверждаете, что в этом вообще нет удовольствия? Ни в чем ином, кроме зрения и слуха?» Что мы на это скажем, Гиппий?
Гиппий.
Разумеется, мы скажем, Сократ, что и во всем другом есть величайшее удовольствие.
Сократ.
«Почему же, – скажет он, – раз все это удовольствия нисколько не меньшие, чем те, вы отнимаете у них это имя и лишаете свойства быть прекрасными?»
299
«Потому, – ответим мы, – что решительно всякий осмеет нас, если мы станем утверждать, что есть – не приятно, а прекрасно и обонять приятное – не приятно, а прекрасно; что же касается любовных утех, то все стали бы нам возражать, что хотя они и очень приятны, но, если кто им предается, делать это надо так, чтобы никто не видел, ведь видеть это очень стыдно». На эти наши слова, Гиппий, он, пожалуй, скажет: «Понимаю и я, что вы давно уже стыдитесь назвать эти удовольствия прекрасными, потому что это неугодно людям;
b
но я‑то ведь не о том спрашивал, чту кажется прекрасным большинству, а о том, чту прекрасно на самом деле». Тогда, я думаю, мы ответим в соответствии с нашим предположением: «Мы говорим, что именно эта часть приятного – приятное для зрения и слуха – прекрасна». Годятся тебе эти соображения, Гиппий, или надо привести еще что‑нибудь?
Гиппий.
На то, что было сказано, Сократ, надо ответить именно так.
c
Сократ.
«Прекрасно говорите, – возразит он. Не правда ли, если приятное для зрения и слуха есть с прекрасное, очевидно, иное приятное не будет прекрасным?» Согласимся ли мы с этим?
Гиппий.
Да.
Сократ.
«Но разве, – скажет он, – приятное для зрения есть приятное и для зрения и для слуха или приятное для слуха – то же самое, что и приятное для зрения?» «Никоим образом, – скажем мы, – то, что приятно для того или другого, не будет таковым для обоих вместе (ведь об этом ты, по‑видимому, говоришь), но мы сказали, что и каждое из них есть прекрасное само по себе, и оба они вместе». Не так ли мы ответим?
d
Гиппий.
Конечно.
Сократ.
«А разве, – спросит он, – какое бы то ни было приятное отличается от любого другого приятного тем, что оно есть приятное? Я спрашиваю не о том, больше или меньше какое‑нибудь удовольствие, сильнее оно или слабее, но спрашиваю, отличается ли какое‑нибудь удовольствие от других именно тем, что одно есть удовольствие, а другое – нет». Нам кажется, это не так. Верно я отвечаю?
Гиппий.
Видимо, верно.
Сократ.
«Значит, – скажет он, – вы отобрали эти удовольствия из всех остальных по какой‑то иной причине, а не в силу того, что они удовольствия.
e
Вы усмотрели и в том и в другом нечто отличное от других удовольствий и, приняв это во внимание, утверждаете, что они прекрасны. Ведь не потому прекрасно удовольствие, получаемое через зрение, что оно получается через зрение: если бы это служило причиной, по которой такое удовольствие прекрасно, никогда не было бы прекрасным другое удовольствие, получаемое через слух, ибо оно не есть удовольствие зрительное». Скажем ли мы, что он прав?
Гиппий.
Скажем.
300
Сократ.
«С другой стороны, и удовольствие, получаемое через слух, бывает прекрасным не потому, что оно слуховое. В таком случае зрительному удовольствию никогда бы не быть прекрасным, ведь оно не есть удовольствие слуха». Скажем ли мы, Гиппий, что человек, утверждающий такие вещи, говорит правду?
Гиппий.
Да, он говорит правду.
Сократ.
«Но разумеется, оба удовольствия прекрасны, как вы утверждаете». Ведь мы это утверждаем?
Гиппий.
Утверждаем.
Сократ.
«Значит, они имеют нечто тождественное, что заставляет их быть прекрасными, то общее, что присуще им обоим вместе и каждому из них в отдельности;
b
ведь иначе они не были бы прекрасны, и оба вместе, и каждое из них». Отвечай мне так, как ты ответил бы тому человеку.
Гиппий.
Я отвечаю: по‑моему, все обстоит так, как ты говоришь.
Сократ.
Но если оба этих удовольствия обладают указанным свойством, каждое же из них в отдельности им не обладает, то они, пожалуй, не могут быть прекрасными вследствие этого свойства.
Гиппий.
Да как же это может быть, Сократ, чтобы ни одна из двух вещей не имела какого‑то свойства, а затем чтобы это самое свойство, которого ни одна из них не имеет, оказалось в обеих?:
c
Сократ.
Тебе кажется, что этого не может быть?
Гиппий.
Я, должно быть, не очень искушен в природе таких вещей, а также в такого вот рода рассуждениях.
Сократ.
Успокойся, Гиппий! Мне, наверное, только кажется, будто я вижу, что дело может происходить так, как тебе это представляется невозможным, на самом же деле я ничего не вижу.
Гиппий.
Не «наверное», Сократ, а совершенно очевидно, что ты смотришь в сторону.
Сократ.
А ведь много такого возникает перед моим мысленным взором; однако я этому не доверяю, потому что тебе,
d
человеку, из всех современников заработавшему больше всего денег за свою мудрость, так не видится, а только мне, который никогда ничего не заработал. И мне приходит на ум, друг мой, не шутишь ли ты со мною и не обманываешь ли меня нарочно, до того ясным многое представляется.
Гиппий.
Никто, Сократ, не узнает лучше тебя, шучу ли я или нет, если ты попробуешь рассказать о том, что пред тобой возникает. Ведь тогда станет очевидным, что ты говорить вздор. Ты никогда не найдешь такого общего для нас с тобой свойства, которого не имел бы я или ты.
e
Сократ.
Как ты сказал, Гиппий? Может быть, ты и дело говоришь, только я не понимаю; но выслушай более точно, что я хочу сказать: мне представляется, что то, что не свойственно мне и чем не можем быть ни я, ни ты, то может быть свойственно обоим нам вместе; с другой стороны, тем, что свойственно нам обоим, каждый из нас может и не быть.
Гиппий.
Похоже, Сократ, что ты рассказываешь чудеса еще большие, чем ты рассказывал немного раньше. Смотри же: если мы оба справедливы, разве не справедлив и каждый из нас в отдельности? Или, если каждый из нас несправедлив, не таковы ли мы и оба вместе? И если мы оба вместе здоровы, не здоров ли и каждый из нас?
301
Или, если каждый из нас болен, кто ранен, получил удар или испытывает какое бы то ни было состояние, разве не испытываем того же самого мы оба вместе? Далее, если бы оказалось, что мы оба вместе золотые, серебряные, сделанные из слоновой кости, или же, если угодно, что мы оба благородны, мудры, пользуемся почетом, что мы старцы, юноши или все, что тебе угодно из того, чем могут быть люди, – разве не было бы в высшей степени неизбежно, чтобы я каждый из нас в отдельности был таким же?
b
Сократ.
Конечно.
Гиппий.
Дело в том, Сократ, что ты не рассматриваешь вещи в целом; так же поступают и те, с кем ты имеешь обыкновение рассуждать; вы прекрасное и каждую сущую вещь исследуете, расчленяя их в своих рассуждениях. Потому‑то и скрыты от вас столь великие и цельные по своей природе телесные сущности[520]
. И теперь это оказалось скрытым от тебя до такой степени, что ты считаешь, будто существует нечто, состояние или сущность, что имеет отношение к двум вещам, вместе взятым,
c
но не к каждой из них в отдельности, или же, наоборот, к каждой из них в отдельности, но не к обеим, вместе взятым. Вот как вы неразумны, неосмотрительны, просты, безрассудны!
Сократ.
Таково уж наше положение, Гиппий, – не как хочется, а как можется[521]
, говорит в таких случаях пословица. Зато ты помогаешь нам всегда своими указаниями. Вот и теперь: обнаружить ли мне перед тобой еще больше, как просты мы были до получения твоих указаний, рассказав тебе, как мы обо всем этом рассуждали, или лучше об этом не говорить?
d
Гиппий.
Мне говорить, Сократ, – человеку, который все это знает? Ведь я знаю всех любителей рассуждений, что это за люди. Впрочем, если тебе это приятно, говори.
Сократ.
Разумеется, приятно. Дело в следующем, дорогой мой: прежде чем ты сказал все это, мы были настолько бестолковы, что представляли себе, будто и я, и ты, каждый из нас – это один человек, а оба вместе мы, конечно, не можем быть тем, что каждый из нас есть в отдельности, ведь мы – это не один, а двое; вот до чего мы были просты.
e
Теперь же ты научил нас, что, если мы вместе составляем двойку, необходимо, чтобы и каждый из нас был двойкой, если же каждый из нас один, необходимо, чтобы и оба вместе были одним: в противном случае, по мнению Гиппия, не может быть сохранено целостное основание бытия. И чем бывают оба вместе, тем должен быть и каждый из них, и оба вместе – тем, чем бывает каждый. Вот я сижу здесь, убежденный тобою. Но только раньше, Гиппий, напомни мне: я и ты – будем ли мы одним, или же и ты – два, и я – два?
Гиппий.
Что такое ты говоришь, Сократ?
Сократ.
То именно, что я говорю; я боюсь высказаться ясно перед тобой, потому что ты сердишься на меня, когда тебе кажется, будто ты сказал нечто значительное.
302
Все‑таки скажи мне еще: не есть ли каждый из нас один и не свойственно ли ему именно то, что он есть один?
Гиппий.
Конечно.
Сократ.
Итак, если каждый из нас один, то, пожалуй, он будет также нечетным; или ты не считаешь единицу нечетным числом?
Гиппий.
Считаю.
Сократ.
Значит, и оба вместе мы нечет, хотя нас и двое?
Гиппий.
Не может этого быть, Сократ.
Сократ.
Тогда мы оба вместе чет. Не так ли?
Гиппий.
Конечно.
Сократ.
Но ведь из‑за того, что мы оба вместе – чет, не будет же четом и каждый из нас?
Гиппий.
Нет, конечно.
b
Сократ.
Значит, совершенно нет необходимости, как ты только что говорил, чтобы каждый в отдельности был тем же, что оба вместе, и оба вместе – тем же, что каждый в отдельности?
Гиппий.
Для подобных вещей – нет, а для таких, о которых я говорил прежде, – да.
Сократ.
Довольно, Гиппий! Достаточно и того, если одно оказывается одним, а другое – другим. Ведь и я говорил – если ты помнишь, откуда пошел у нас этот разговор, –
c
что удовольствия, получаемые через зрение и слух, прекрасны не тем, что оказывается свойственным каждому из них, а обоим – нет или обоим свойственно, а каждому порознь – нет, но тем, что свойственно обоим вместе и каждому порознь, так как ты признал эти удовольствия прекрасными – и оба вместе, и каждое в отдельности. Поэтому‑то я и думал, что если только оба они прекрасны, то они должны быть прекрасны благодаря причастной обоим им сущности, а не той, которая отсутствует в одном из двух случаев; и теперь еще я так думаю. Но повтори как бы с самого начала: если и зрительное, и слуховое удовольствия
d
прекрасны и оба вместе, и каждое в отдельности, не будет ли то, что делает их прекрасными, причастно также им обоим вместе и каждому из них в отдельности?
Гиппий.
Конечно.
Сократ.
Потому ли они прекрасны, что и каждое из них, и оба они вместе – удовольствие? Или же по этой причине и все остальные удовольствия должны были бы быть прекрасными ничуть не меньше? Ведь, если ты помнишь, выяснилось, что они точно так же называются удовольствиями.
Гиппий.
Помню.
e
Сократ.
С другой стороны, мы говорили, что эти удовольствия мы получаем через зрение и слух и оттого они прекрасны.
Гиппий.
Это было сказано.
Сократ.
Смотри же, правду ли я говорю? Говорилось ведь, насколько я помню, что прекрасно именно это приятное, не всякое приятное, но приятное благодаря зрению и слуху.
Гиппий.
Да.
Сократ.
Не так ли обстоит дело, что это свойство присуще обоим [удовольствиям] вместе, а каждому из них в отдельности не присуще? Ведь, как уже говорилось раньше, каждое из них порознь не бывает [приятным] благодаря обоим [чувствам] вместе; оба они вместе [приятны] благодаря обоим [чувствам], а каждое в отдельности – нет. Так ведь?
Гиппий.
Так.
Сократ.
Значит, каждое из этих двух удовольствий прекрасно не тем, что не присуще каждому из них порознь (ведь то и другое каждому из них не присуще); таким образом, в соответствии с нашим предположением
303
можно назвать прекрасными оба этих удовольствия вместе, но нельзя назвать так каждое из них в отдельности. Разве не обязательно сказать именно так?
Гиппий.
Видимо, да.
Сократ.
Станем ли мы утверждать, что оба вместе они прекрасны, а каждое порознь – нет?
Гиппий.
Что ж нам мешает?
Сократ.
Мешает, мой друг, по‑моему, следующее: у нас было, с одной стороны, нечто, присущее каждому предмету таким образом, что коль скоро оно присуще обоим вместе, то оно присуще и каждому порознь, и коль скоро каждому порознь, то оно присуще и обоим вместе, – все то, что ты перечислил. Не так ли?
Гиппий.
Да.
Сократ.
Ну а то, что я перечислил, нет; а в это входило и «каждое в отдельности», и «оба вместе». Так ли это?
Гиппий.
Так.
b
Сократ.
К чему же, Гиппий, относится, по‑твоему, прекрасное? К тому ли, о чем ты говоришь: коль скоро силен я и ты тоже, то сильны и мы оба, и коль скоро я справедлив и ты тоже, то справедливы мы оба вместе, а если мы оба вместе, то и каждый из нас в отдельности? Точно так же коль скоро я прекрасен и ты тоже, то прекрасны также мы оба, а если мы оба прекрасны, то прекрасен и каждый из нас порознь. И что же мешает, чтобы из двух величин, составляющих вместе четное число, каждая в отдельности была бы то нечетной, то четной или опять‑таки чтобы две величины, каждая из которых неопределенна, взятые вместе, давали бы то определенную, то неопределенную величину и так далее во множестве других случаев, которые, как я сказал, возникают передо мною?
c
К какого же рода вещам ты причисляешь прекрасное? Или ты об этом того же мнения, что и я? Ведь мне кажется совершенно бессмысленным, чтобы мы оба вместе были прекрасны, а каждый из нас в отдельности – нет или чтобы каждый из нас в отдельности был прекрасным, а мы оба вместе – нет и так далее. Решаешь ли ты так же, как я, или иначе?
Гиппий.
Точно так же, Сократ.
Сократ.
И хорошо поступаешь, Гиппий, чтобы нам наконец избавиться от дальнейших исследований. Ведь если прекрасное принадлежит к этому роду,
d
то приятное благодаря зрению и слуху уже не может быть прекрасным. Дело в том, что зрение и слух заставляют быть прекрасным то и другое, но не каждое в отдельности. А ведь это оказалось невозможным, Гиппий, как мы с тобой уже согласились.
Гиппий.
Правда, согласились.
Сократ.
Итак, невозможно, чтобы приятное благодаря зрению и слуху было прекрасным, раз оно, становясь прекрасным, создает нечто невозможное.
Гиппий.
Это так.
Сократ.
«Начинайте все сызнова, – скажет тот человек, – так как вы в этом ошиблись. Чем же, по вашему мнению, будет прекрасное, свойственное обоим этим удовольствиям,
e
раз вы почтили их перед всеми остальными и назвали прекрасными?» Мне кажется, Гиппий, необходимо сказать, что это самые безобидные и лучшие из всех удовольствий, и оба они вместе, и каждое из них порознь. Или ты можешь назвать что‑нибудь другое, чем они отличаются от остальных?
Гиппий.
Никоим образом, ведь они действительно самые лучшие.
Сократ.
«Итак, – скажет он, – вот что такое, по вашим словам, прекрасное: это – полезное удовольствие». Кажется, так, скажу я; ну а ты?
Гиппий.
И я тоже.
Сократ.
«Но не полезно ли то, что создает благо? – скажет он. А создающее и создания, как только что выяснилось, – это вещи разные.
304
И не возвращается ли ваше рассуждение к сказанному прежде? Ведь ни благо не может быть прекрасным, ни прекрасное – благом, если только каждое из них есть нечто иное». Несомненно так, скажем мы, Гиппий, если только в нас есть здравый смысл. Ведь недопустимо не соглашаться с тем, кто говорит правильно.
Гиппий.
Но что же это такое, по‑твоему, Сократ, все вместе взятое? Какая‑то шелуха и обрывки речей, как я сейчас только говорил, разорванные на мелкие части. Прекрасно и ценно нечто иное:
b
уметь выступить с хорошей, красивой речью в суде, совете или перед иными властями, к которым ты ее держишь; убедить слушателей и удалиться с наградой, не ничтожнейшей, но величайшей – спасти самого себя, свои деньги, друзей. Вот чего следует держаться, распростившись со всеми этими словесными безделками, чтобы не показаться слишком уж глупыми, если станем заниматься, как сейчас, пустословием и болтовней.
Сократ.
Милый Гиппий, ты счастлив, потому что знаешь, чем следует заниматься человеку, и занимаешься определения этим как дулжно – ты сам говоришь.
c
Мною же как будто владеет какая‑то роковая сила, так как я вечно блуждаю и не нахожу выхода; а стоит мне обнаружить свое безвыходное положение перед вами, мудрыми людьми, я слышу от вас оскорбления всякий раз, как его обнаружу. Вы всегда говорите то же, что говоришь теперь ты, – будто я хлопочу о глупых, мелких и ничего не стоящих вещах. Когда же, переубежденный вами, я говорю то же, что и вы, – что всего лучше уметь, выступив в суде или в ином собрании с хорошей, красивой речью, довести ее до конца, –
d
я выслушиваю много дурного от здешних людей, а особенно от этого человека, который постоянно обличает. Дело в том, что он чрезвычайно близок мне по рождению и живет в одном доме со мной. И вот, как только я прихожу к себе домой и он слышит, как я начинаю рассуждать о таких вещах, он спрашивает, не стыдно ли мне отваживаться на рассуждение о прекрасных занятиях, когда меня ясно изобличили, что я не знаю о прекрасном даже того, что оно собой представляет. «Как же ты будешь знать, – говорит он, – с прекрасной речью выступает кто‑нибудь или нет,
e
и так же в любом другом деле, раз ты не знаешь самогу прекрасного? И если ты таков, неужели ты думаешь, что тебе лучше жить, чем быть мертвым?» И вот, говорю я, мне приходится выслушивать брань и колкости и от вас, и от того человека. Но быть может, и нужно терпеть. А может быть, как ни странно, я получу от этого пользу. Итак, мне кажется, Гиппий, что я получил пользу от твоей беседы с ним: ведь, кажется мне, я узнал, что значит пословица «прекрасное – трудно»[522]
.
Перевод А. В. Болдырева.
В кн.: Платон. Собр. соч. в 4‑х томах. Том 1. М.: «Мысль», 1990
XV. ПРОТАГОР
Сократ и его друг
309
Друг.
Откуда ты, Сократ? Впрочем, и так ясно: с охоты за красотою Алкивиада! А мне, когда я видел его недавно, он показался уже мужчиной – хоть и прекрасным, но все же мужчиной: ведь, между нами говоря, Сократ, у него уже и борода пробивается.
Сократ.
Так что же из этого? Разве ты не согласен с Гомером, который сказал, что самая приятная пора юности – это когда показывается первый пушок над губой, – то самое, что теперь у Алкивиада?[523]
b
Друг.
Как же теперь твои дела? От него ты идешь? И как расположен к тебе юноша?
Сократ.
Хорошо, по‑моему, особенно сегодня; он немало говорил нынче в мою пользу и очень мне помог. От него я сейчас и иду. Но хочу сказать тебе невероятную вещь: в его присутствии я не обращал на него внимания, а частенько и просто забывал про него.
Друг.
Какая же это такая огромная преграда могла стать между вами? Неужто ты нашел в нашем городе кого‑нибудь красивее, чем он?
c
Сократ.
И намного красивее.
Друг.
Что ты говоришь? Здешнего или чужого?
Сократ.
Чужого.
Друг.
Откуда он?
Сократ.
Абдерит[524]
.
Друг.
И до того красив, по‑твоему, этот чужеземец, что он тебе показался даже прекраснее сына Клиния?[525]
Сократ.
А почему бы, дорогой друг, тому, кто мудрее, не казаться и более прекрасным?[526]
Друг.
Так, значит, ты пришел к нам сюда, Сократ, после встречи с каким‑то мудрецом?
d
Сократ.
С самым что ни на есть мудрейшим из нынешних, если и ты полагаешь, что всех мудрее теперь Протагор.
Друг.
Что ты говоришь? Протагор у нас здесь?
Сократ.
Да уж третий день.
Друг.
И ты только что беседовал с ним?
310
Сократ.
Вволю наговорился и наслушался
Друг.
Так что же ты не расскажешь нам об этой беседе, если ничто тебе не мешает? Садись‑ка вот тут, вели мальчику встать и дать тебе место.
Сократ.
Расскажу с большой охотой и еще буду благодарен, если вы меня выслушаете.
Друг.
Да и мы тебе, если расскажешь.
Сократ.
Так пусть благодарность будет обоюдной[527]
. Итак, слушайте:
b
Минувшей ночью, еще до рассвета, Гиппократ[528]
, сын Аполлодора, брат Фасона, вдруг стал стучать изо всех сил ко мне в дверь палкой и, когда ему отворили, ворвался в дом и громким голосом спросил:
– Сократ, проснулся ты или спишь?
А я, узнав его голос, сказал:
– Это Гиппократ. Уж не принес ли какую‑нибудь новость?
– Принес, – отвечал он, – но только хорошую.
– Ладно, коли так. Но какая же это новость, ради которой ты явился в такую рань?
c
Тут Гиппократ, подойдя поближе, говорит:
– Протагор приехал.
– Позавчера еще, – сказал я, – а ты только теперь узнал?
– Клянусь богами, только вчера вечером. – И с этими словами, ощупавши кровать, Гиппократ сел у меня в ногах. – Да, только вчера, очень поздно, когда я пришел из Энои[529]
. Ведь слуга мой, Сатир[530]
, сбежал от меня. Я было хотел сказать тебе, что собираюсь в погоню за ним, да почему‑то забыл.
d
А как пришел я к себе, мы поужинали и уже собрались на покои, но вдруг брат говорит мне, что приехал Протагор. Я хотел тотчас же к тебе идти, но потом показалось мне, что слишком уж поздний час ночи; а лишь только выспался после такой усталости, как сейчас же встал и пошел сюда.
Я, зная его мужество и пылкость, сказал:
– Да что тебе в этом, уж не обижает ли тебя чем‑нибудь Протагор?
А он, улыбнувшись, ответил:
– Да, Сократ, клянусь богами, тем, что он сам мудр, а меня мудрым не делает.
– Но клянусь Зевсом, если дать ему денег и уговорить его, он и тебя сделает мудрым.
– Да, если бы за этим стало дело, – сказал Гиппократ, – так Зевс и все боги свидетели – ничего бы я не оставил ни себе, ни друзьям.
e
Но из‑за того‑то я теперь к тебе и пришел, чтобы ты поговорил с ним обо мне. Я ведь и моложе, и притом никогда не видал Протагора и не слыхал его, потому что был еще ребенком, когда он в первый раз приезжал[531]
сюда. А ведь все, Сократ, расхваливают этого человека и говорят, что он величайший мастер речи. Ну отчего бы нам не пойти к нему, чтобы застать его еще дома? Он остановился, как я слышал, у Каллия, сына Гиппоника[532]
. Так идем же!
311
А я сказал:
– Пойдем, только не сразу, дорогой мой, – рано еще; встанем, выйдем во двор, погуляем и поговорим, пока не рассветет, а тогда и пойдем. Протагор большею частью проводит время дома, так что не бойся, мы скорее всего его застанем.
С этими словами мы поднялись и стали прохаживаться по двору. Чтобы испытать выдержку Гиппократа, я, посмотрев на него пристально, спросил:
b
– Скажи мне, Гиппократ, вот ты теперь собираешься идти к Протагору, внести ему деньги в уплату за себя, а, собственно говоря, для чего он тебе нужен, кем ты хочешь стать? Скажем, надумал бы ты идти к своему тезке, Гиппократу Косскому[533]
, одному из Асклепиадов, чтобы внести ему деньги в уплату за себя, и кто‑нибудь тебя спросил бы: скажи мне, Гиппократ, ты вот хочешь заплатить тому Гиппократу, но кто он, по‑твоему, такой? Что бы ты отвечал?
c
– Сказал бы, что он врач.
– А ты кем хочешь сделаться?
– Врачом.
– А если бы ты собирался отправиться к Поликлету аргосцу или Фидию афинянину[534]
, чтобы внести им за себя плату, а кто‑нибудь тебя спросил, почему ты решил заплатить им столько денег, что бы ты отвечал?
– Сказал бы, потому, что они ваятели.
– Значит, сам ты хочешь стать кем?
– Ясно, что ваятелем.
–
d
Допустим, – сказал я. – А вот теперь мы с тобой отправляемся к Протагору и готовы отсчитать ему деньги в уплату за тебя, если достанет нашего имущества на то, чтобы уговорить его, а нет, то займем еще и у друзей. Так вот, если бы, видя такую нашу настойчивость, кто‑нибудь спросил нас: «Скажите мне, Сократ и Гиппократ, кем считаете вы Протагора и за что хотите платить ему деньги», – что бы мы ему отвечали?
e
Как называют Протагора, когда говорят о нем, в подобно тому как Фидия называют ваятелем, а Гомера – поэтом? Что в этом роде слышим мы относительно Протагора?
– Софистом[535]
называют этого человека, Сократ.
– Так мы идем платить ему деньги, потому что он софист?
– Конечно.
312
– А если бы спросили тебя еще и вот о чем: сам‑то ты кем намерен стать, раз идешь к Протагору?
Гиппократ покраснел, – уже немного рассвело, так что это можно было разглядеть.
– Если сообразоваться с прежде сказанным, – отвечал он, – то ясно, что я собираюсь стать софистом.
– А тебе, – сказал я, – не стыдно было бы, клянусь богами, появиться среди эллинов в виде софиста?
– Клянусь Зевсом, стыдно, Сократ, если говорить то, что я думаю.
b
– Но пожалуй, Гиппократ, ты полагаешь, что у Протагора тебе придется учиться иначе, подобно тому как учился ты у учителя грамоты, игры на кифаре или гимнастики? Ведь каждому из этих предметов ты учился не как будущему своему мастерству, а лишь ради своего образования, как это подобает частному лицу и свободному человеку[536]
.
– Конечно, – сказал Гиппократ, – мне кажется, что Протагорово обучение скорее такого рода.
– Так сам‑то ты знаешь, что собираешься делать, или тебе это неясно? – спросил я.
– О чем это ты?
c
– Ты намерен предоставить попечение о твоей душе софисту, как ты говоришь; но, право, я бы очень удивился, если бы ты знал, что такое софист. А раз тебе это неизвестно, то ты не знаешь и того, кому ты вверяешь свою душу и для чего – для хорошего или дурного.
– Я думаю, что знаю, – сказал Гиппократ.
– Так скажи, что такое софист, по‑твоему?
– Я полагаю, что, по смыслу этого слова, он – знаток в мудрых вещах.
d
– Да ведь это можно сказать и про живописцев, и про строителей: они тоже знатоки в мудрых вещах; но если бы кто‑нибудь спросил у нас, в каких именно мудрых вещах знатоки живописцы, мы бы сказали, что в создании изображений; и в других случаях ответили бы так же. А вот если бы кто спросил, чем мудр софист, что бы мы ответили? В каком деле он наставник?
– А что если бы мы так определили его, Сократ: это тот, кто наставляет других в искусстве красноречия?
– Может быть, – говорю я, – мы и верно бы сказали, однако недостаточно, потому что этот наш ответ требует дальнейшего вопроса: если софист делает людей искусными в речах, то о чем эти речи? Кифарист, например, делает человека искусным в суждениях о том, чему он его научил, – то есть об игре на кифаре. Не так ли?
– Да.
e
– Допустим. Ну, а софист, в каких речах он делает искусным? Не ясно ли, что в речах о том, в чем он и сам сведущ?
– Похоже на то.
– А в чем же софист и сам сведущ, и ученика делает сведущим?
– Клянусь Зевсом, не знаю, что тебе ответить.
313
На это я сказал:
– Как же так? Знаешь, какой опасности ты собираешься подвергнуть свою душу? Ведь когда тебе бывало нужно вверить кому‑нибудь свое тело и было неизвестно, пойдет ли это на пользу или во вред, ты и сам немало раздумывал, вверять его или не вверять, и друзей и домашних призывал на совет и обсуждал это дело целыми днями. А когда речь зашла о душе, которую ты ведь ставишь выше, чем
b
тело[537]
, потому что от того, будет она лучше или хуже, зависит, хорошо или дурно пойдут все твои дела, ты ни с отцом, ни с братом и ни с кем из нас, твоих друзей, не советовался, вверять ли тебе или не вверять свою душу этому пришлому чужеземцу. Лишь вчера ввечеру, по твоим словам, услыхав о нем, ты уже сегодня идешь спозаранку, не поразмыслив и не посоветовавшись о том, нужно ли вверять ему себя или нет, и сразу готов потратить и собственные деньги, и деньги друзей, как будто ты уже дознался, что тебе нужно непременно сойтись с Протагором, которого, как
c
ты говоришь, ты и не знаешь и не разговаривал с ним никогда. Ты называешь его софистом, а что такое софист, оказывается, совсем не ведаешь, хоть и собираешься вверить себя ему.
Гиппократ, выслушав, сказал:
– Так оно и выходит, Сократ, как ты говоришь.
– А что, Гиппократ, не будет ли наш софист чем‑то вроде торговца или разносчика тех припасов, которыми питается душа? По‑моему, во всяком случае, он таков.
– Но чем же питается душа, Сократ?
– Знаниями, разумеется, – сказал я. – Только бы, друг мой, не надул нас софист, выхваляя то, что продает, как те купцы или разносчики, что торгуют телесною пищей.
d
Потому что и сами они не знают, что в развозимых ими товарах полезно, а что вредно для тела, но расхваливают все ради продажи, и покупающие у них этого не знают, разве случится кто‑нибудь сведущий в гимнастике или врач. Так же и те, что развозят знания по городам и продают их оптом и в розницу всем желающим, хоть они и выхваляют все, чем торгуют, но, может быть, друг мой, из них некоторые и не знают толком,
e
хорошо ли то, что они продают, или плохо для души; и точно так же не знают и покупающие у них, разве лишь случится кто‑нибудь сведущий во врачевании души. Так вот, если ты знаешь, что здесь полезно, а что – нет, тогда тебе не опасно приобретать знания и у Протагора, и у кого бы то ни было другого; если же нет, то смотри, друг мои, как бы
314
не проиграть самого для тебя дорогого. Ведь гораздо больше риска в приобретении знании, чем в покупке съестного. Съестное‑то и напитки, купив их у торговца или разносчика, ты можешь унести в сосудах, и, прежде чем принять в свое тело в виде еды и питья, их можно хранить дома и посоветоваться со знающим человеком, что следует есть или пить и чего не следует, а также сколько и в какое время.
b
При такой покупке риск не велик. Знания же нельзя унести в сосуде, а поневоле придется, уплатив цену, принять их в собственную душу и, научившись чему‑нибудь, уйти либо с ущербом для себя, либо с пользой. Это мы и рассмотрим, причем вместе с теми, кто нас постарше, потому что мы еще молоды, чтобы разобраться в таком деле. А теперь пойдем, как мы собирались, и послушаем того человека;
c
послушавши же его, и с другими побеседуем: Протагор ведь там не один, с ним и Гиппий Элидский, и, думаю, Продик Кеосский[538]
, да и много еще других мудрецов.
Порешив так, мы отправились; когда же мы очутились у дверей, то приостановились, беседуя о том, что пришло нам в голову дорогой. Чтобы не бросать этот разговор и покончить с ним, прежде чем войти, мы так и беседовали, стоя у дверей, пока не согласились друг с другом. И видимо, привратник – какой‑то евнух – подслушивал нас, а ему, должно быть, из‑за множества софистов опротивели посетители этого дома. Когда мы постучали в дверь, он, отворивши и увидев нас, воскликнул:
d
– Опять софисты какие‑то! Ему некогда! – И сейчас же, обеими руками схватившись за дверь, в сердцах захлопнул ее изо всей силы.
Мы опять постучали, а он в ответ из‑за запертой двери крикнул:
– Эй, вы! Не слышали, что ли: ему некогда.
e
– Но, любезный, – говорю я, – не к Каллию мы пришли, да и не софисты мы. Успокойся: мы пришли потому, что хотим видеть Протагора. Доложи о нас!
Человек насилу отворил нам дверь. Когда мы вошли, то застали Протагора прохаживающимся в портике, а с ним прохаживались по одну сторону Каллий, сын Гиппоника, его
315
единоутробный брат Парал, сын Перикла, и Хармид, сын Главкона, а по другую сторону – второй сын Перикла, Ксантипп, далее Филлипид, сын Филомела, и Антимер мендеец[539]
, самый знаменитый из учеников Протагора, обучавшийся, чтобы стать софистом по ремеслу. Те же, что за ними следовали позади, прислушиваясь к разговору, большею частью были, видимо, чужеземцы – из тех, кого Протагор увлекает за собою
b
из каждого города, где бы он ни бывал, завораживая их своим голосом, подобно Орфею, а они идут на его голос, завороженные; были и некоторые из местных жителей в этом хоре. Глядя на этот хор, я особенно восхищался, как они остерегались, чтобы ни в коем случае не оказаться впереди Протагора: всякий раз, когда тот со своими собеседниками поворачивал, эти слушатели стройно и чинно расступались и, смыкая круг, великолепным рядом выстраивались позади него.
c
Потом «оного мужа узрел я»[540]
, как говорит Гомер, Гиппия Элидского, сидевшего в противоположном портике на кресле. Вкруг него сидели на скамейках Эриксимах, сын Акумена, Федр мирринусиец, Андреи, сын Андротиона[541]
, еще несколько чужеземцев, его сограждан, и другие. По‑видимому, они расспрашивали Гиппия о природе и разных астрономических, небесных явлениях, а он, сидя в кресле, с каждым из них разбирал и обсуждал их вопросы.
d
«Также и Тантала, да, и его я тоже увидел»[542]
, ведь и Продик Кеосский прибыл сюда; он занимал какое‑то помещение, которое прежде служило Гиппонику кладовою, теперь же, за множеством постояльцев, Каллий очистил его и сделал пристанищем для гостей. Продик был еще в постели, укрытый какими‑то овчинами и покрывалами, а на одной из соседних с ним кроватей расположился керамеец Павсаний, а с
e
Павсанием – совсем еще мальчик, безупречный, как я полагаю, по своим природным задаткам, а на вид очень красивый. Кажется, я расслышал, что имя ему Агафон[543]
, и я бы не удивился, если бы оказалось, что он любимец Павсания. Кроме этого мальчика были тут и оба Адиманта – сын Кепида и сын Левколофида[544]
, и некоторые другие тоже были там, а о чем они разговаривали, этого я не мог издали разобрать, хоть и жаждал слышать
316
Продика, считая его человеком премудрым и даже божественным; но из‑за того что голос его низок, только гул раздавался по комнате, а слов его уловить нельзя было.
Чуть только мы вошли, как вслед за нами – красавец Алкивиад, как ты его называешь (да и я вслед за тобою), и Критий, сын Каллесхра[545]
. Войдя, мы еще немного помедлили, а осмотревшись кругом, подошли к Протагору, и я сказал:
b
– К тебе, Протагор, мы пришли, я и вот он, Гиппократ.
– Как же вам угодно, – сказал он, – разговаривать со мною: наедине или при других?
– Для нас, – отвечал я, – тут нет разницы, а тебе самому будет видно, когда выслушаешь, ради чего мы пришли.
– Ради чего же, – спросил Протагор, – вы пришли?
– Этот вот юноша – Гиппократ, здешний житель, сын Аполлодора, из славного и состоятельного дома; да и по своим природным задаткам он не уступит, мне кажется, любому из своих сверстников.
c
По‑моему, он стремится стать человеком выдающимся в нашем городе, а это, как он полагает, всего скорее осуществится, если он сблизится с тобою. Вот ты и решай: надо ли, по‑твоему, разговаривать с нами об этом наедине или при других.
– Ты правильно делаешь, Сократ, что соблюдаешь осторожность, говоря со мной об этом, – сказал Протагор. – Чужеземцу, который, приезжая в большие города, убеждает там лучших из юношей, чтобы они, забросив всех – и родных и чужих, и старших и младших, –
d
проводили время с ним, чтобы благодаря этому стать лучше, нужно быть осторожным в таком деле, потому что из‑за этого возникает немало зависти, неприязни и всяких наветов.
Хотя я и утверждаю, что софистическое искусство очень древнее, однако мужи, владевшие им в стародавние времена, опасаясь враждебности, которую оно вызывало, всячески скрывали его: одним служила прикрытием поэзия, как Гомеру, Гесиоду и Симониду, другим – таинства и прорицания, как ученикам Орфея и Мусея, а некоторым, я знаю, даже гимнастика, как, например, Икку тарентинцу и одному из первых софистов нашего времени, селимбрийцу Геродику, уроженцу Мегар;
e
музыку же сделал прикрытием ваш Агафокл, великий софист, и Пифоклид Кеосский[546]
, и многие другие. Все они, как я говорю, опасаясь зависти, прикрывались этими искусствами.
317
Я же со всеми ними в этом не схож, ибо думаю, что они вовсе не достигли желаемой цели и не укрылись от тех, кто имеет в городах власть, а только от них и применяются эти прикрытия. Толпа ведь, попросту говоря, ничего не понимает, и что те затянут, тому и подпевает. А пускаться в бегство, не имея сил убежать, – это значит только изобличить самого себя:
b
глупо даже пытаться, у людей это непременно вызовет еще большую неприязнь, так как они подумают, что такой человек помимо всего еще и коварен.
Вот я и пошел противоположным путем: признаю, что я софист и воспитываю людей, и думаю, что эта предосторожность лучше той: признаваться лучше, чем запираться. Я принял еще и другие предосторожности, так что – в добрый час молвить![547]
– хоть я и признаю себя софистом, ничего ужасного со мной с не случилось.
c
А занимаюсь я этим делом уже много лет, да и всех‑то моих лет уже очень много: нет ни одного из вас, кому я по возрасту не годился бы в отцы. Итак, мне гораздо приятнее, чтобы вы, если чего хотите, говорили об этом перед всеми присутствующими.
А я подметил, что он хотел показать себя и Продику, и Гиппию и порисоваться перед ними, – дескать, мы пришли к нему как поклонники[548]
, и говорю ему:
d
– А что, не позвать ли нам Продика и Гиппия и тех, кто с ними, чтобы они слышали нас?
– Конечно, – сказал Протагор.
– Хотите, – сказал Каллий, – устроим общее обсуждение, чтобы вы могли беседовать сидя?
Это всем показалось дельным, и мы, радуясь, что послушаем мудрых людей, сами взялись за скамьи и кровати и расставили их около Гиппия, так как там уже и прежде стояли скамьи.
e
В это время пришли Критий и Алкивиад, ведя Продика, которого они подняли с постели, и всех тех, кто был с Продиком.
Когда мы все уселись, Протагор начал:
– Теперь, Сократ, повтори в их присутствии то, что ты сейчас говорил мне об этом юноше.
318
– Я начну, Протагор, с того же, что и тогда, – с того, ради чего я пришел. Вот Гиппократ – он н у индивидуумов жаждет проводить с тобою время; и он говорит, что хотел бы узнать, какая для него будет из общения с тобой польза. Вот и все.
– Юноша, – подхватил Протагор, – вот какая польза будет тебе от общения со мной: в тот же день, как со мной сойдешься, ты уйдешь домой, ставши лучше, и завтра то же самое; и каждый день будешь ты получать что‑нибудь, от чего станешь еще совершеннее.
b
Я, услыхав это, сказал:
– В том, Протагор, нет ничего удивительного: вероятно, и ты – хоть ты и пожилой человек и такой мудрец – тоже стал бы лучше, если бы тебя кто‑нибудь научил тому, что тебе не довелось раньше знать. Но дело не в этом. Положим, тот же самый Гиппократ вдруг переменил решение и пожелал познакомиться с тем юношей, который недавно сюда переселился, с гераклейцем Зевксиппом[549]
, и, придя к нему, как вот теперь
c
к тебе, услышал от него то же самое, что и от тебя, – что, общаясь с ним, Гиппократ каждый день будет становиться лучше и совершеннее; так вот, если бы он его спросил: «В чем, по‑твоему, я буду лучше и совершеннее?» – Зевксипп ответил бы ему, что в живописи. И если бы, сойдясь с фиванцем Орфагором[550]
и услышав от него то же самое, что от тебя, Гиппократ спросил его, в каком отношении будет он каждый день становиться лучше, общаясь с ним, тот ответил бы, что в игре на флейте. Так вот и ты ответь юноше и мне на мой вопрос: Гиппократ, сойдясь с Протагором, в тот самый день, как сойдется, уйдет от него, сделавшись лучше, и каждый следующий день будет становиться в чем‑то еще совершеннее, но в чем же именно, Протагор?
d
Протагор, услышав это от меня, сказал:
– Ты, Сократ, прекрасно спрашиваешь, а тем, кто хорошо спрашивает, мне и отвечать приятно. Когда Гиппократ придет ко мне, я не сделаю с ним того, что сделал бы кто‑нибудь другой из софистов: ведь те просто терзают юношей, так как против воли заставляют их, убежавших от упражнений в науках, заниматься этими упражнениями, уча их вычислениям, астрономии, геометрии, музыке (тут Протагор взглянул на Гиппия), а тот, кто приходит ко мне, научится только тому, для чего пришел.
e
Наука же эта – смышленость в домашних делах, уменье наилучшим образом управлять своим домом, а также в делах общественных: благодаря ей можно стать всех сильнее и в поступках, и в речах, касающихся государства.
319
– Верно ли я понимаю твои слова? – спросил я. – Мне кажется, ты имеешь в виду искусство государственного управления и обещаешь делать людей хорошими гражданами.
– Об этом как раз я и объявляю во всеуслышание, Сократ.
– Прекрасным же владеешь ты искусством, если только владеешь: ведь в разговоре с тобой я не должен говорить того, что не думаю. Я полагал, Протагор, что этому искусству нельзя научиться, но, раз ты говоришь, что можно, не знаю, как не верить.
b
Однако я вправе сказать, почему я считаю, что этому искусству нельзя научиться и что люди не могут передать его людям.
Я, как и прочие эллины, признаю афинян мудрыми. И вот я вижу, что когда соберемся мы в Народном собрании, то, если городу нужно что‑нибудь делать по части строений, мы призываем в советники по делам строительства зодчих, если же по корабельной части, то корабельщиков, и так во всем том, чему, по мнению афинян, можно учиться и учить;
c
если же станет им советовать кто‑нибудь другой, кого они не считают мастером, то, будь он хоть красавец, богач и знатного рода, его совета все‑таки не слушают, но поднимают смех и шум, пока либо он сам не оставит своих попыток говорить и не отступится, ошеломленный, либо стража не стащит и не вытолкает его вон по приказу пританов. Значит, в делах, которые, как они считают, зависят от мастерства, афиняне поступают таким образом.
d
Когда же надобно совещаться о чем‑нибудь касающемся управления городом, тут всякий, вставши, подает совет, будь то плотник, медник, сапожник, купец, судовладелец, богатый, бедняк, благородный, безродный, и никто его не укоряет из‑за того, что он не получил никаких знаний и, не имея учителя, решается все же выступать со своим советом, потому что, понятно, афиняне считают, что ничему такому обучить нельзя.
e
И не только в общественной жизни города, но и в частной у нас мудрейшие и лучшие из граждан не в состоянии передать другим ту самую добродетель[551]
, которой владеют сами. Взять хоть Перикла, отца этих вот юношей: во всем, что зависело от учителей, он дал им прекрасное и тонкое воспитание, а в чем сам он мудр, в том ни сам их не воспитал, ни
320
другим того не поручил, и бродят они тут вокруг, словно пасутся на воле, – не набредут ли невзначай на добродетель. Если угодно, еще пример: тот же самый человек, Перикл, будучи опекуном Клиния, младшего брата вот этого Алкивиада, и опасаясь, чтобы не развратил его Алкивиад, разлучил их и отдал Клиния на воспитание в дом Арифрона[552]
, но не прошло и шести месяцев, как тот вернул его обратно, не зная, что с ним делать. Да и
b
множество других людей могу тебе назвать, которые, будучи сами хороши, никого не сумели сделать лучше – ни из своих домашних, ни из чужих. Так вот, Протагор, глядя на это, я и не верю, чтобы можно было научить добродетели; однако, слыша твои слова, я уступаю и думаю, что ты говоришь дело: я полагаю, у тебя большой опыт, ты многому научился, а кое‑что и сам открыл. Так что, если ты состоянии яснее нам показать, что добродетели можно научиться, не скрывай этого и покажи.
c
– Скрывать, Сократ, я не буду, – сказал Протагор. – Но как мне вам это показать: с помощью ли мифа, какие рассказывают старики молодым, или же с помощью рассуждения?
Многие из присутствовавших отвечали, что, как ему хочется, так пусть и излагает.
– Тогда, мне кажется, – решил он, – приятнее будет рассказать вам миф.
d
Было некогда время, когда боги‑то были, а смертных родов еще не было. Когда же и для них пришло предназначенное время рождения, стали боги ваять их в глубине Земли из смеси земли и огня, добавив еще и того, что соединяется с огнем и землею[553]
. Когда же вознамерились боги вывести их на свет, то приказали Прометею и Эпиметею[554]
украсить их и распределить способности, подобающие каждому роду. Эпиметей выпросил у Прометея позволение самому заняться этим распределением. «А когда распределю, – сказал он, – тогда ты посмотришь». Уговорив его, он стал распределять:
e
при этом одним он дал силу без быстроты, других же, более слабых, наделил быстротою; одних он вооружил, другим же, сделав их безоружными, измыслил какое‑нибудь иное средство во спасение: кого из них он облек малым ростом, тем уделил птичий полет или возможность жить под землею,
321
а кого сотворил рослыми, тех тем самым и спас; и так, распределяя все остальное, он всех уравнивал. Все это он измыслил из осторожности, чтобы не исчез ни один род. После же того как он дал им различные средства избегнуть взаимного истребления, придумал он им и защиту против Зевсовых времен года: он одел их густыми волосами и толстыми шкурами, способными защитить и от зимней стужи, и от зноя и служить каждому, когда он уползет
b
в свое логово, собственной самородной подстилкой; он обул одних копытами, других же – когтями и толстой кожей, в которой нет крови. Потом для разных родов изобрел он разную пищу: для одних – злаки, для других – древесные плоды, для третьих – коренья, некоторым же позволил питаться, пожирая других животных. При этом он сделал так, что они размножаются меньше, те же, которых они уничтожают, очень плодовиты, что и спасает их род.
c
Но был Эпиметей не очень‑то мудр, и не заметил он, что полностью израсходовал все способности, а род человеческий еще ничем не украсил, и стал он недоумевать, что теперь делать. Пока он так недоумевал, приходит Прометей, чтобы проверить распределение, и видит, что все прочие животные заботливо всем снабжены, человек же наг и не обут, без ложа и без оружия, а уже наступил предназначенный день, когда следовало и человеку выйти на свет из Земли;
d
и вот в сомнении, какое бы найти средство помочь человеку, крадет Прометей премудрое искусство Гефеста и Афины[555]
вместе с огнем, потому что без огня никто не мог бы им владеть или пользоваться. В том и состоит дар Прометея человеку. Так люди овладели уменьем поддерживать свое существование, но им еще не хватало уменья жить обществом – этим владел Зевс, – а войти в обитель Зевса, в его верхний град,
e
Прометею было нельзя, да и страшна была стража Зевса[556]
. Прометею удалось проникнуть украдкой только в общую мастерскую Гефеста и Афины, где они предавались своим искусным занятиям. Украв у Гефеста уменье обращаться с огнем, а у Афины – ее уменье, Прометей дал их человеку для его благополучия, самого же Прометея после постигло из‑за Эпиметея возмездие за кражу, как говорят сказания.
322
С тех пор как человек стал причастен божественному уделу, только он один из всех живых существ благодаря своему родству с богом начал признавать богов и принялся воздвигать им алтари и кумиры; затем вскоре стал членораздельно говорить и искусно давать всему названия, а также изобрел жилища, одежду, обувь, постели и добыл пропитание из почвы. Устроившись таким образом, люди сначала жили разбросано, городов еще не было, они погибали от
b
зверей, так как были во всем их слабее, и одного мастерства обработки, хоть оно и хорошо помогало им в добывании пищи, было мало для борьбы со зверями: ведь люди еще не обладали искусством жить обществом, часть которого составляет военное дело. И вот они стали стремиться жить вместе и строить города для своей безопасности. Но чуть они собирались вместе, как сейчас же начинали обижать друг друга, потому что не было у них уменья жить сообща; и снова приходилось им расселяться и гибнуть.
c
Тогда Зевс, испугавшись, как бы не погиб весь наш род, посылает Гермеса[557]
ввести среди людей стыд и правду, чтобы они служили украшением городов и дружественной связью.
Вот и спрашивает Гермес Зевса, каким же образом дать людям правду и стыд. «Так ли их распределить, как распределены искусства? А распределены они вот как: одного, владеющего искусством врачевания, хватает на многих не сведущих в нем; то же и со всеми прочими мастерами. Значит, правду и стыд мне таким же образом установить среди людей или же уделить их всем?»
d
«Всем, – сказал Зевс, – пусть все будут к ним причастны; не бывать государствам, если только немногие будут этим владеть, как владеют обычно искусствами. И закон положи от меня, чтобы всякого, кто не может быть причастным стыду и правде, убивать как язву общества».
e
Так‑то, Сократ, и вышло по этой причине, что афиняне, как и все остальные люди, когда речь заходит о плотничьем уменье или о каком‑нибудь другом мастерстве, думают, что лишь немногим пристало участвовать в совете, и, если кто не принадлежит к этим немногим и подаст совет, его не слушают, как ты сам говоришь – и правильно делают, замечу я;
323
когда же они приступают к совещанию по части гражданской добродетели, где все дело в справедливости и рассудительности, тут они слушают, как и следует, совета всякого человека, так как всякому подобает быть причастным к этой добродетели, а иначе не бывать государствам. Вот в чем, Сократ, здесь причина.
А чтобы ты не думал, будто я тебя обманываю, вот тебе еще доказательство того, что все люди в сущности считают всякого человека причастным к справедливости и прочим гражданским доблестям. Ведь насчет других качеств дело обстоит так, как ты говоришь: если кто скажет про себя, что он хороший флейтист, или припишет себе другое какое‑нибудь мастерство,
b
какого у него нет, то его либо поднимают на смех, либо сердятся, и даже домашние приходят и увещевают его как помешанного. Когда же дело касается справедливости и прочих гражданских добродетелей, тут даже если человек, известный своей несправедливостью, вдруг станет сам о себе говорить всенародно правду, то такую правдивость, которую в другом случае признавали рассудительностью, все сочтут безумием: ведь считается, что каждый, каков бы он ни был на самом деле, должен
c
провозглашать себя справедливым, а кто не прикидывается справедливым, тот не в своем уме. Поэтому необходимо с всякому так или иначе быть причастным справедливости, в противном случае ему не место среди людей.
Вот я и говорю: раз считается, что всякий человек причастен к этой добродетели, значит, можно всякого признавать советчиком, когда о ней идет речь. А еще я попытаюсь тебе доказать, что добродетель эта не считается врожденной и возникающей самопроизвольно, но что ей научаются, и если кто достиг ее, так только прилежанием.
d
Никто ведь не сердится, не увещевает, не поучает и не наказывает тех, кто имеет недостатки, считающиеся врожденными или возникшими по воле случая, с тем чтобы они от них избавились, напротив, этих людей жалеют. Кто, например, будет настолько неразумен, что решится так поступить с некрасивыми, малорослыми или бессильными? Ведь все знают, я полагаю, что подобные вещи – красота и то, что ей противоположно, – достаются людям от природы и по случаю[558]
;
e
но если у кого нет тех добрых свойств, в которые, как считают, приобретаются старанием, упражнением и обучением, зато есть противоположные им недостатки, это влечет за собою гнев, наказания и увещевания.
324
К таким недостаткам относятся несправедливость, нечестие и вообще все противоположное гражданской доблести: здесь‑то уже, понятно, всякий сердится на другого и вразумляет его, потому что эту добродетель можно приобрести старанием и обучением.
Если ты пожелаешь, Сократ, вдуматься, в чем смысл наказания преступников, то увидишь, что люди считают добродетель делом наживным. Никто ведь не наказывает преступников, имея в виду лишь уже
b
совершенное беззаконие: такое бессмысленное мучительство было бы зверством. Кто старается наказывать со смыслом, тот казнит не за прошлое беззаконие – ведь не превратит же он совершенное в несовершившееся, – но во имя будущего, чтобы снова не совершил преступления ни этот человек, ни другой, глядя на это наказание. Кто держится подобного образа мыслей, тот признает, что добродетель можно
c
воспитать: ведь он карает ради предотвращения зла. Такого мнения держатся все, кто наказывает, и в частном быту, и в общественном. Афиняне же, твои сограждане, наказывают и карают тех, кого признают преступниками, ничуть не меньше, чем все прочие люди, так что, согласно нашему рассуждению, и афиняне принадлежат к числу тех, кто признает, что добродетель – дело наживное и ее можно воспитать.
Итак, Сократ, мне кажется, я достаточно ясно показал тебе, что твои сограждане не без основания выслушивают советы по общественным вопросам и от медника, и от сапожника и считают добродетель тем, чту можно подготовить и привить воспитанием.
d
Еще остается у тебя одно недоумение: ты не возьмешь в толк, как это хорошие люди научают своих сыновей всему, что зависит от учителей, и в этом делают их мудрыми, но не могут добиться, чтобы их сыновья хоть кого‑нибудь превзошли в добродетели, которой они отличаются сами. По этому поводу, Сократ, я уже не миф тебе расскажу, а приведу разумное основание.
e
Подумай вот о чем: существует ли нечто единое, в чем необходимо участвовать всем гражданам, если только быть государству? Именно этим, а не чем иным разрешается твое недоумение.
325
Если только существует это единое и если это не плотницкое, не кузнечное и не гончарное ремесло, но справедливость, рассудительность и благочестие – одним словом, то, что я называю человеческой добродетелью, и если это есть то, чему все должны быть причастны, и всякий человек, что бы он ни желал изучить или сделать, должен все делать лишь в соответствии с этим единым[559]
, а не вопреки ему, и того, кто к нему непричастен, надо учить и наказывать – будь то ребенок, мужчина или женщина, – пока тот, кого наказывают, не исправится, и если, наконец, он, несмотря на наказания и поучения, не слушается и его надо как неизлечимого изгонять из городов или убивать, – если так обстоит дело по самой природе,
b
а между тем хорошие люди учат своих сыновей всему, только не этому, суди сам, как чудно все получается у хороших людей! Мы доказали, что они считают возможным обучать этой добродетели и в домашнем быту, и в общественном. Но если возможно учить добродетели и развивать ее, неужели эти люди начнут учить своих сыновей лишь тем вещам, неведение которых не карается смертной казнью, между тем как их
c
детям, если они не научены добродетели и не воспитаны в ней, угрожает смерть, с изгнание и, кроме того, потеря имущества – словом, полное разорение дома? Неужто же они не станут учить их этому со всей возможной заботливостью? Надо полагать, что станут, Сократ.
Пока родители живы, они с малолетства учат и вразумляют своих детей и делают это до самой своей смерти. Чуть только ребенок начинает понимать слова, и кормилица, и мать, и наставник, и отец бьются а над тем, чтобы
d
он стал как можно лучше, уча его и показывая ему при всяком деле и слове, чту справедливо, а чту несправедливо, чту прекрасно, а чту гадко, чту благочестиво, а чту нечестиво, чту можно делать, а чего нельзя. И хорошо, если ребенок добровольно слушается; если же нет, то его, словно кривое, согнувшееся деревцо, выпрямляют угрозами и побоями.
А потом, когда посылают детей к учителям, велят учителю гораздо больше заботиться о благонравии детей, чем о грамоте и игре на кифаре.
e
Учители об этом и заботятся; когда дети усвоили буквы и могут понимать написанное, как до той поры понимали с голоса, они ставят перед ними творения хороших поэтов, чтобы те их читали, и заставляют детей заучивать их, –
326
а там много наставлений и поучительных рассказов, содержащих похвалы и прославления древних доблестных мужей, – и ребенок, соревнуясь, подражает этим мужам и стремится на них походить.
И кифаристы, со своей стороны, заботятся об их рассудительности[560]
и о том, чтобы молодежь не бесчинствовала; к тому же, когда те научатся играть на кифаре, они учат их творениям хороших поэтов‑песнотворцев, согласуя слова с
b
ладом кифары, и заставляют души мальчиков свыкаться с гармонией и ритмом, чтобы они стали более чуткими, соразмерными, гармоничными, чтобы были пригодны для речей и для деятельности: ведь вся жизнь человеческая нуждается в ритме и гармонии.
Кроме того, посылают мальчиков к учителю гимнастики, чтобы крепость тела содействовала правильному мышлению и не приходилось бы из‑за телесных недостатков робеть на войне и в прочих делах.
c
Так поступают особенно те, у кого больше возможностей, а больше возможностей у тех, кто богаче. Их сыновья, начав ходить к учителям с самого раннего возраста, позже всех перестают учиться. После того как. они перестают ходить к учителям, государство в свою очередь заставляет их изучать законы и жить сообразно с предписаниями этих законов, чтобы не действовать произвольно и наудачу.
d
Подобно тому как учители грамоты сперва намечают грифелем буквы и лишь тогда дают писчую дощечку детям, еще не искусным в письме, заставляя их обводить эти буквы, точно так же и государство, начертав законы – изобретение славных древних законодателей, – сообразно им заставляет и повелевать, и повиноваться. А преступающего законы государство наказывает, и название этому наказанию и у вас, и во многих других местах – исправление, потому что возмездие исправляет.
e
И при таком‑то и частном, и общественном попечении о добродетели ты все же удивляешься, Сократ, и недоумеваешь, можно ли ей обучить! Не этому надо удивляться, а скорее уж тому, если бы оказалось, что ей нельзя обучить.
Почему же многие сыновья доблестных отцов все‑таки выходят плохими? Узнай в свою очередь и это. Ничего здесь нет удивительного, коли я верно сейчас говорил, что в этом деле
327
– в добродетели – не должно быть невежд или же иначе не быть государству; если в самом деле так оно и есть, как я говорю, – а оно уж, наверное, обстоит не иначе, – то поразмысли об этом, взяв для примера другое какое угодно занятие или науку. Допустим, государство не могло бы существовать, если бы все мы – каждый, насколько может, – не были бы флейтистами; и допустим, что любого, кто нехорошо играет, всякий стал бы учить и бранить от своего лица и от лица народа; и положим, что в этом деле никто не стал бы завидовать другим
b
(подобно тому как теперь никто не завидует справедливости других, их послушанию законам) и не делал бы секрета из своего мастерства, как поступают обычно теперь различные мастера (ведь нам, я думаю, полезна взаимная справедливость и добродетель, вот почему всякий усердно толкует другому о справедливом и законном и дает наставления), – так вот, если бы и в игре на флейте у нас была полная готовность усердно и без зависти учить друг друга, думаешь ли ты, Сократ, что и тогда сыновья хороших флейтистов становились бы хорошими флейтистами скорее, чем сыновья плохих?
c
Думаю, что нет: кто от природы оказался бы очень способен к игре на флейте, тот бы с летами и прославился, чей бы он ни был сын, а кто не способен – остался бы в безвестности: часто от хорошего флейтиста происходил бы плохой, а от плохого – хороший, однако все они были бы сносными флейтистами по сравнению с неучами, с теми, кто ничего не смыслит в игре на флейте.
d
Примени это и здесь: если какой‑нибудь человек представляется тебе самым несправедливым среди тех, кто воспитан меж людьми в повиновении законам, он все‑таки справедлив и даже мастер в вопросах законности, если судить о нем по сравнению с людьми, у которых нет ни воспитания, ни судилищ, ни законов, ни особой необходимости во всяком деле заботиться о добродетели – например с какими‑нибудь дикарями вроде тех, что в прошлом году поэт Ферекрат вывел на Ленеях[561]
.
e
Наверно, очутившись среди таких людей, и ты, подобно человеконенавистникам в его хоре, рад был бы встретить хоть Еврибата или Фринонда[562]
и рыдал бы, тоскуя по испорченности здешних жителей. Ты избалован, Сократ, потому что здесь все учат добродетели кто во что горазд, и ты никем не доволен: точно так же если бы ты стал искать учителя эллинского языка,
328
то, верно, не нашлось бы ни одного; я думаю, что если бы ты стал искать, кто бы у нас мог обучить сыновей ремесленников тому самому ремеслу, которое они переняли от своего отца в той мере, в какой владели им отец и его товарищи по ремеслу, – словом, искать того, кто мог бы их еще поучить, – я думаю, нелегко было бы отыскать им учителя; зато, будь они вовсе не сведущи, это было бы очень легко.
b
То же самое, когда дело касается добродетели и всего прочего. Но если кто хоть немного лучше нас умеет вести людей вперед по пути добродетели, нужно и тем быть довольным. Думаю, что и я из таких и что более прочих людей могу быть полезен другим и помочь им стать достойными людьми; этим я заслуживаю взимаемой мною платы и даже еще большей по усмотрению моих учеников. Поэтому оплату я взимаю вот каким образом: кто у меня обучается, тот, если хочет, платит, сколько я назначу;
c
если же он не согласен, пусть пойдет в храм, заверит там клятвенно, сколько, по его мнению, стоят мои уроки, и столько мне и внесет.
Итак, Сократ, сказал он, я изложил тебе и миф, и доказательство того, что можно научить добродетели; таково же мнение и афинян, и нет ничего удивительного, если у хороших отцов бывают негодные сыновья, а у негодных – хорошие: вот, например, сыновья Поликлета, сверстники Парала и нашего Ксантиппа, ничего не стоят по сравнению со своим отцом; то же самое и сыновья некоторых других мастеров. Но не надо а их в этом винить – они еще не безнадежны, ведь они молоды.
d
Произнеся напоказ нам такую длинную речь, Протагор замолк, а я, уже давно им завороженный, все смотрел на него, словно он сейчас еще что‑то скажет, и боялся это пропустить. Когда же я заметил, что он в самом деле кончил, я кое‑как насилу очнулся и, взглянув на Гиппократа, сказал:
– Как мне благодарить тебя, сын Аполлодора, что ты уговорил меня даже прийти сюда? Нет для меня ничего дороже возможности услышать то, что я услышал от Протагора.
e
Прежде я считал, что хорошие люди становятся хорошими не от человеческого попечения. А теперь я убедился в обратном. Разве только одна мелочь мешает мне, но ясно, что Протагор и ее без труда разъяснит, после того как разъяснил уже столь многое. Правда, если кто начнет беседу об этом же самом предмете с кем‑нибудь из тех, кто умеет говорить перед народом,
329
он, пожалуй, услышит речи, достойные Перикла или любого другого из мастеров красноречия, но стоит ему обратиться к ним с вопросом, они, словно книги, бывают не в состоянии вслух ни ответить, ни сами спросить; а когда кто‑нибудь переспросит хоть какую‑то мелочь из того, что они сказали, они отзываются, словно медные сосуды, которые, если по ним ударить, издают долгий протяжный звук, пока кто‑нибудь не ухватится за них руками. Вот так и бывает с ораторами: даже когда их спрашивают о мелочах, они растягивают свою речь, как долгий пробег[563]
.
b
А вот Протагор хоть и умеет, само собой ясно, говорить длинные и прекрасные речи, однако умеет и кратко отвечать на вопросы, а задавая вопросы сам, выжидать и выслушивать ответ; это дано лишь немногим.
Сейчас, Протагор, мне недостает одной мелочи, но я получу все, если только ты мне ответишь вот что: ты говоришь, что добродетели можно учить, а уж кому‑кому, а тебе‑то я верю.
c
Но одному я удивлялся во время твоей речи, и вот это пустое местечко в моей душе ты и заполни. Ты ведь говорил, что деве послал людям справедливость и стыд, и потом много раз упоминались в твоей речи справедливость, рассудительность, благочестие и прочее в том же роде так, словно это вообще нечто единое, то есть одна добродетель. Так вот это самое ты мне и растолкуй в точных выражениях: есть ли добродетель нечто единое, а справедливость, рассудительность и благочестие – ее части, или же все то, что я сейчас назвал, – только обозначения того же самого единого. Вот что еще я жажду узнать.
d
– Да ведь на это легко ответить, Сократ, – сказал Протагор. – Добродетель едина, а то, о чем ты спрашиваешь, – ее части.
– В таком ли смысле части, – спросил я, – как вот части лица – рот, нос, глаза, уши или же как части золота, которые ничем не отличаются друг от друга и от целого, кроме как большею либо меньшею величиною?
e
– Кажется мне, Сократ, что в первом смысле как части лица относятся ко всему лицу.
– А имеют ли люди эти части добродетели – один одну, другой другую, или же тот, кто обладает одной, непременно имеет и все?
– Никоим образом, – сказал Протагор, – потому что ведь многие бывают мужественны, а между тем они несправедливы, и опять‑таки другие справедливы, но не мудры.
330
– Так, значит, – сказал я, – и мудрость, и мужество – это части добродетели?
– Совершенно несомненно, – ответил он, – притом мудрость – величайшая из частей.
– И каждая из них есть нечто особое?
– Да
– И назначение каждая из них имеет свое собственное, как и части лица? Ведь глаза не то, что уши, я назначение у них не то же самое; и из остальных частей ни одна не похожа на другую ни по своему назначению, ни по всему остальному;
b
не так же ли разнятся и части добродетели – как сами себе, так и по своему назначению? Разве не ясно, что это так, если действительно они сходны с тем, что мы привели в пример?
– Да, это так, Сократ, – согласился Протагор.
А я на это:
– Значит, ни одна из частей добродетели не совпадает с остальными – с знанием, справедливостью, мужеством, рассудительностью или благочестием?
– Не совпадает, – подтвердил Протагор.
c
– Так давай, – сказал я, – посмотрим сообща, какова каждая из этих частей. Сперва вот что: справедливость есть нечто или это ничто? Мне кажется, она – нечто, а тебе как?
– И мне тоже, – сказал Протагор.
– Ну а если бы кто спросил нас с тобою: «Скажите‑ка мне, Протагор и Сократ, то, что вы сейчас назвали справедливостью, само по себе справедливо или несправедливо?» – я бы ответил ему, что оно справедливо; а ты бы как решил – так же, как я, или иначе?
– Так же, – сказал Протагор.
– «Справедливость», следовательно, означает то же, что «быть справедливым» – так отвечал бы я спрашивающему; не так ли и ты бы ответил?
d
– Да.
– А если бы он затем спросил нас: «Не утверждаете ли вы, что существует и благочестие?» – мы бы ответили, думаю я, утвердительно.
– Да, – сказал Протагор.
– «Значит, вы утверждаете, что и оно есть нечто?» Утвердительно мы бы ответили на это или нет?
Протагор сказал, что утвердительно.
– «А какой природы, по‑вашему, это нечто: то же это, что быть нечестивым, или то же, что быть благочестивым?» Я‑то вознегодовал бы на такой вопрос и ответил бы:
e
«Тише ты, человече! Что еще может быть благочестивым, если не благочестиво само благочестие?» А ты как? Не то же самое ты отвечал бы?
– Конечно, то же.
– А если бы затем спрашивающий нас сказал: «А как же вы только что говорили? Или я вас неверно расслышал? Мне казалось, – вы уверяли, что части добродетели находятся в таком отношении между собою, что ни одна из них не похожа на другую». Я бы ему на это сказал: «В общем ты верно расслышал, но если ты полагаешь, будто и я это говорил, так ты ослышался, ведь то были ответы его, Протагора, а я только спрашивал».
331
Если бы он спросил: «Правду ли говорит Сократ? Ты, Протагор, считаешь, что ни одна из частей добродетели не походит на другую? Твое это утверждение?» – что бы ты ему на это ответил?
– Поневоле бы с ним согласился, Сократ, – сказал Протагор.
– А что же, Протагор, мы, подтвердив это, ответили бы ему, если бы он нас снова спросил: «Следовательно, благочестие – это не то же самое, что быть справедливым,
b
и справедливость – не то же самое, что быть благочестивым, напротив, это означает не быть благочестивым? А благочестие значит «не быть справедливым», следовательно, «быть несправедливым», справедливость же значит «быть нечестивым»?» Что ему на это ответить?! Я‑то сам за себя ответил бы, что и справедливость благочестива, и благочестие справедливо. Да и за тебя, если ты мне позволишь, я ответил бы точно так же – что справедливость и благочестие либо одно и то же, либо они весьма подобны друг другу: справедливость как ничто другое бывает подобна благочестию, а благочестие – справедливости. Смотри же, запрещаешь ли ты мне ему так ответить, или ты и с этим согласен.
c
– Мне кажется, Сократ, – сказал Протагор, – нельзя так просто допустить, что справедливость совпадает с благочестием и благочестие – со справедливостью; я думаю, здесь есть некоторое различие. Впрочем, это неважно. Если тебе угодно, пусть будет у нас и справедливость благочестивою, и благочестие справедливым.
– Ну уж нет, – сказал я, – мне вовсе нет нужды разбираться в этих «если тебе угодно» или «если ты так думаешь». Давай просто говорить: «я думаю» и «ты думаешь». Я говорю в том смысле, что, если отбросить всякое «если», можно лучше всего разобраться в нашем вопросе.
d
– Однако, – сказал Протагор, – справедливость в чем‑то подобна благочестию. Ведь все подобно всему в каком‑нибудь отношении. Даже белое в чем‑то подобно черному, твердое – мягкому и так все остальные вещи, по‑видимому, совершенно противоположные друг другу. И то, чему мы тогда приписывали различное назначение, утверждая, что одно из них не таково, как другое (я имею в виду части лица), – и эти части в каком‑то отношении подобны одна другой и чем‑то одна на другую походят.
e
Так что таким способом и на этих примерах ты мог бы доказать, если бы захотел, что все подобно одно другому. Но мы не вправе называть вещи подобными, если имеется лишь частичное подобие, или называть их неподобными, если есть только частичное несходство, пусть даже сходство их будет очень незначительным.
Я удивился и сказал Протагору:
– Разве, по‑твоему, справедливость и благочестие находятся в таком отношении друг к другу, что в них имеется лишь незначительное сходство?
332
– Не совсем так, – отвечал Протагор, – однако и не так, как ты, видимо, думаешь.
– Ладно, – сказал я, – раз ты в этом, как мне кажется, затрудняешься, оставим это и рассмотрим другое твое высказывание. Называешь ли ты что‑нибудь безрассудством?
– Да, называю.
– Не полная ли ему противоположность – мудрость?
– По‑моему, так.
– Когда люди действуют правильно и с пользой, тогда они в своих действиях обнаруживают рассудительность или, может быть, наоборот?
– Нет, в этом сказывается их рассудительность.
b
– Они поступают рассудительно благодаря рассудительности?
– Несомненно.
– А те, кто действует неправильно, поступают безрассудно и в этих своих действиях не обнаруживают рассудительности?
– Мне тоже так кажется.
– Значит, безрассудные поступки противоречат рассудительности?
– Да
– Безрассудные поступки совершаются по безрассудству, а рассудительные – благодаря рассудительности?
– Согласен.
– Стало быть, если что совершается с силой, это будет исполнено силы, а бессильное действие – это слабость?
– Видимо, так.
– И если действуют быстро, то это быстрый поступок, а если медленно – медленный?
– Да
c
– И если что совершается одинаковым образом, то, значит, совершается по одной и той же причине, а противоположным образом – то по противоположным причинам?
Протагор согласился.
– Скажи‑ка мне, пожалуйста, – продолжал я, – бывает ли что‑нибудь прекрасным?
Протагор допустил, что бывает.
– Существует ли иная его противоположность, кроме безобразного?
– Нет.
– Дальше: бывает ли что‑нибудь хорошим?
– Бывает.
– Существует ли иная его противоположность, кроме плохого?
– Нет
– Пойдем еще дальше. Бывает ли звук высоким?
– Да.
– Но ему нет ведь другой противоположности, кроме низкого звука?
– Нет.
– Не значит ли это, – сказал я, – что каждой вещи противоположно только одно, а не многое?
Протагор согласился.
d
– Так давай же, – сказал я, – подведем итог тому, в чем мы согласились. Согласны мы, что одному противоположно только одно, и не больше?
– Да.
– Мы согласны, что совершаемое противоположным образом совершается по противоположной причине?
– Да.
– А согласны мы, что все безрассудные поступки противоположны рассудительным?
– Да.
– И что рассудительные поступки совершаются благодаря рассудительности, а безрассудные – по безрассудству?
Протагор допустил и это.
e
– И если что противоположно по образу действия, то оно противоположно и по своей причине?
– Да.
– Делается же кое‑что рассудительно, а кое‑что и безрассудно?
– Да.
– То есть противоположным образом?
– Конечно.
– Значит, на противоположных основаниях?
– Да.
– Следовательно, безрассудство противоположно рассудительности?
– Очевидно.
– А помнишь, ведь раньше‑то мы согласились, что безрассудство противоположно мудрости?
333
Протагор подтвердил.
– И что одно бывает противоположно только одному?
– Да, я это утверждаю.
– От какого же из двух утверждений нам отказаться, Протагор? От того ли, что одному противоположно только одно, или от того, которое гласило, что мудрость есть нечто иное, чем рассудительность, между тем как и то и другое – части добродетели, хотя и разные; они не похожи друг на друга, и назначение их различно, все равно как частей лица. Так от чего же мы откажемся? Ведь оба этих утверждения, вместе взятые, звучат не слишком складно – они не ладят и не соглашаются между собою.
b
Да и как им ладить, если необходимо, чтобы одному было противоположно только одно, и не больше, а вот оказывается, что одному только безрассудству противоположны и мудрость, и рассудительность. Так ли, Протагор, или нет?
Протагор согласился, хотя и очень неохотно.
– Так не получится ли, что рассудительность и мудрость – одно и то же? Ведь и раньше у нас оказалось, что справедливость и благочестие – почти то же самое. Но не будем унывать, Протагор, а давай разберемся и в остальном. Ведь ты не думаешь, что человек, творящий неправду, поступая так, поступает согласно рассудку?
c
– Стыдно было бы мне, Сократ, – сказал Протагор, – признать это, хотя многие люди это и утверждают.
– Ну так к ним обращать мне мою речь или к тебе?
– Если тебе угодно, сперва разбери это утверждение многих.
– Лишь бы только ты мне отвечал, а твое ли это мнение или нет, мне неважно. Для меня самое главное – исследование вопроса, хотя может случиться, что при этом мы исследуем и того, кто спрашивает, то есть меня самого, и того, кто отвечает.
d
Протагор сперва стал было ломаться перед нами, ссылаясь на то, что вопрос труден, однако потом согласился отвечать.
– Так изволь, – сказал я, – отвечать мне с самого начала. Полагаешь ли ты, что некоторые, хоть и творят неправду, все же не лишены здравого смысла?
– Пусть будет так.
– А обладать здравым смыслом – значит, по‑твоему, хорошо соображать?
Протагор подтвердил.
– А хорошо соображать – это значит отдавать себе отчет в том, что творишь неправду?
– Пусть будет так.
– Бывает ли это в том случае, когда дела у творящих неправду идут хорошо или когда дурно?
– Когда хорошо.
– Считаешь ли ты, что существует благо?
– Считаю.
– А не то ли есть благо, что полезно людям?
e
– Клянусь Зевсом, – сказал Протагор, – я лично называю благо благом, даже если оно и не полезно людям.
Мне показалось, что Протагор уже раздражен, взволнован и изготовился к ответам, словно к бою. Когда я заметил такое его состояние, то с осторожностью тихо спросил:
334
– О том ли ты говоришь, Протагор, чту никому из за людей не полезно, или о том, что вообще бесполезно? И подобные вещи ты называешь благом?
– Ничуть, – сказал Протагор, – но я знаю много таких вещей – и кушаний, и напитков, и снадобий, и еще тысячу предметов, – из которых одни бесполезны людям, другие полезны. А кое‑что из того, что людям ни полезно, ни вредно, полезно лошадям, другое полезно только быкам, третье – собакам, четвертое – ни тем ни другим, зато полезно деревьям.
b
Да и там одна, и та же вещь для корней хороша, а для ветвей плоха, как, например, навоз: для всех растений, если обложить им корни, он хорош, а попробуй накидать его на побеги и молодые отростки – и он все погубит; оливковое масло для всех растений вещь самая вредная, да а волосам животных оно величайший враг, а для волос человека, да и для всего тела оно целебно. Благо до такой степени разнообразно и многовидно, что и тут
c
одна и та же вещь при наружном употреблении есть благо для человека, а при внутреннем – величайшее зло[564]
; потому‑то все врачи и отговаривают больных от употребления оливкового масла в пищу – разве только в самом малом количестве, какого довольно, чтобы заглушить неприятный для обоняния запах кушаний и приправ.
Когда Протагор это произнес, присутствующие зашумели: как хорошо он говорит! А я сказал:
– Протагор! Я, на беду, человек, забывчивый и, когда со мною говорят пространно, забываю, о чем речь. Вот случись мне быть тугим на ухо,
d
ты бы ведь счел нужным, собираясь со мной разговаривать, громче произносить слова, чем когда говоришь с другими, так и теперь, имея дело с человеком забывчивым – ты расчленяй для меня ответы и делай их покороче, чтобы я мог за тобой следить.
– Но как же прикажешь мне отвечать тебе кратко? Короче, чем нужно?
– Никоим образом, – сказал я.
– Значит, так, как нужно?
e
– Да.
– А насколько кратко я буду тебе отвечать: насколько мне кажется нужным или насколько тебе?
– Я слышал, – сказал я, – что ты и сам умеешь и другого можешь научить говорить об одном и том же по желанию либо так длинно, что речи твоей нет и конца,
335
либо так коротко, что никто не превзойдет тебя в краткости. Если хочешь со мною беседовать, применяй второй способ – немногословие.
– Сократ! – сказал Протагор. – Я уже со многими людьми состязался в речах, но если бы я поступал так, как ты требуешь, и беседовал бы так, как мне прикажет противник, я никого не превзошел бы столь явно, и имени Протагора не было бы меж эллинами.
b
А я – ведь я понял, что ему самому не понравились его прежние ответы и что по доброй воле он не станет беседовать, если ему придется отвечать на вопросы, – решил, что это уж не мое дело присутствовать при его беседах, и сказал:
– Но ведь и я не настаиваю, Протагор, на том, чтобы наша беседа шла вопреки твоим правилам. Если бы ты захотел вести беседу так, чтобы я мог за тобою следить, тогда я стал бы ее поддерживать. Про тебя говорят, да и сам ты утверждаешь, что ты способен беседовать и пространно, и кратко
c
– ведь ты мудрец, – я же в этих длинных речах бессилен, хотя желал бы и к ним быть способным. Но ты силен и в том и в другом и должен бы нам уступить, чтобы наша беседа продолжилась. Однако ты не хочешь, а у меня есть кое‑какие дела, и я не могу оставаться, пока ты растягиваешь свои длинные речи. Я должен отсюда уйти и ухожу, хотя, пожалуй, не без удовольствия выслушал бы тебя.
d
С этими словами я встал, как бы уходя. Но только что я встал, Каллий схватил меня за руку своею правой рукой, а левой ухватился за этот мой плащ[565]
и сказал:
– Не пустим тебя, Сократ! Если ты уйдешь, не та уж у нас будет беседа. Прошу тебя, останься с нами, для меня нет ничего приятнее, чем слушать твою беседу с Протагором: сделай нам всем удовольствие.
И я сказал, хоть уже было встал, чтоб уйти:
e
– Сын Гиппоника, ты всегда был мне приятен своею любовью к мудрости; я и теперь хвалю тебя и люблю, так что хотел бы сделать тебе удовольствие, если бы ты просил у меня возможного. Но сейчас это все равно что просить меня следовать вдогонку за Крисоном гимерейцем[566]
, бегуном в расцвете сил, или состязаться с кем‑нибудь из участников большого пробега, а то и с гонцами и не отставать от них.
336
Я бы тебе сказал, что сам к себе предъявляю еще гораздо более высокие требования и хотел бы поспевать за ними в беге, да только не могу. Но если уж вам непременно хочется видеть, как я бегу нога в ногу с Крисоном, то ты проси его приноровляться ко мне, потому что я‑то скоро бежать не могу, а он медленно может. Точно так же, если ты желаешь слушать меня и Протагора, проси его, чтобы он и теперь отвечал мне так же кратко и прямо на вопросы, как сначала.
b
Если же он не хочет, чту это будет за беседа? Я по крайней мере полагал, что взаимное общение в беседе – это одно, а публичное выступление – совсем другое.
– Но видишь ли, Сократ, – сказал Каллий, – кажется, Протагор прав, считая, что ему разрешается разговаривать, как он хочет, а тебе – как ты хочешь.
Тут вмешался Алкивиад:
– Нехорошо ты говоришь, Каллий; Сократ ведь признается, что не умеет вести длинные речи и уступает в этом Протагору, что же касается ведения беседы и умения задавать вопросы и отвечать на них,
c
то я бы удивился, если бы он в этом хоть кому‑нибудь уступил. Если бы и Протагор признал, что он слабее Сократа в уменье вести беседу, Сократу этого было бы довольно. Но раз Протагор этого не признает, пусть он беседует, спрашивая и отвечая, а не произносит в ответ на каждый вопрос длиннейшую речь, отрекаясь от своих утверждений,
d
не желая их обосновывать и так распространяясь, что большинство слушателей забывает даже, в чем состоял вопрос. Впрочем, за Сократа я ручаюсь: он‑то не забудет, это он шутя говорит, будто забывчив. Итак, мне кажется, Сократ прав: нужно, чтобы каждый показал, к чему он склонен.
После Алкивиада, сколько помнится, взял слово Критий.
e
– Продик и Гиппий! Каллий, мне кажется, на стороне Протагора, Алкивиад же всегда стремится настоять на своем. Нам не следует ни к кому примыкать – ни к Сократу, ни к Протагору, но сообща просить обоих, чтобы они не прерывали беседу на середине.
337
На эти слова отвечал Продик:
– Прекрасно, по‑моему, говоришь ты, Критий: тем, кому случается присутствовать при таких обсуждениях, нужно быть для обоих собеседников общими, а не безразличными слушателями – ведь это не одно и то же. Слушать следует их сообща, но оценивать по‑разному: более мудрого надо ценить больше, а неумелого – меньше. Я тоже, Протагор и Сократ, прошу вас уступить друг другу: можно спорить о таких вопросах, но не ссориться.
b
Спорят ведь и друзья, которые хорошо относятся друг к другу, а ссорятся противники и враги. Так‑то и вышла бы у нас великолепная беседа, и вы, собеседники, заслужили бы от нас, слушателей, величайшее одобрение, но не восхваление: одобрение возникает в душах слушателей искренне, без лицемерия, словесное же восхваление часто бывает лживым и противоречит подлинному мнению людей;
c
с другой стороны, и мы, слушатели, получили бы, таким образом, величайшую радость, но не наслаждение: радоваться ведь свойственно познающему что‑нибудь и приобщающемуся к разуму с помощью мысли, наслаждаться же – тому, кто что‑нибудь ест или испытывает другое телесное удовольствие[567]
.
Эти слова Продика были приняты многими с величайшим одобрением. После Продика выступил Гиппий‑мудрец:
– Мужи, собравшиеся здесь! – сказал он. – Я считаю, что вы все тут родственники, свойственники и сограждане – по природе, а не по закону[568]
:
d
ведь подобное родственно подобному по природе, закон же тиран над людьми – принуждает ко многому, что противно природе. Так стыдно было бы нам, ведающим природу вещей, мудрейшим из эллинов, именно поэтому сошедшимся теперь здесь, в этом средоточии эллинской мудрости, в величайшем и благополучнейшем доме этого города,
e
– стыдно было бы нам не высказать ничего достойного такой чести, но спорить друг с другом подобно самым никчемным людям. Так вот я прошу вас и советую вам, Протагор и Сократ, чтобы вы, приняв нас в посредники, сошлись под нашим руководством на середине пути.
338
Тебе, Сократ, не надо, если это неприятно Протагору, стремиться к такому виду беседы, который ограничен чрезмерной краткостью: отпусти и ослабь поводья речей, дабы они явились перед нами в великолепном и благообразном обличье. Протагору же в свою очередь не надо натягивать все канаты и пускаться с попутным ветром в открытое море слов, потеряв из виду землю. Обоим вам надо держаться какой‑то середины. Так вы и сделайте. Послушайтесь меня: выберите себе судью, распорядителя и председателя, который наблюдал бы за соразмерностью ваших речей.
b
Это понравилось присутствующим, и последовало всеобщее одобрение; Каллий заявил, что не отпустит меня, и все стали просить выбрать распорядителя. Тут я сказал, что стыдно было бы выбирать третейского судью для речей: если выбранный будет хуже нас, тогда не дело, чтобы худший руководил лучшими; если же он одинаков с нами, это будет тоже неправильно, потому что одинаковый одинаково с нами будет и действовать, так что незачем и выбирать.
c
Быть может, вы выберете лучшего, чем мы? По правде‑то, я думаю, невозможно вам выбрать кого‑нибудь мудрее вот его, Протагора. Если же выберете вы нисколько не лучшего, а только объявите его таким, то снова выйдет обидно для Протагора, что ему, словно человеку никчемному, выбираете вы наставника. Что касается меня, то мне все равно. Но вот как прошу вас сделать, чтобы наше общение и беседа состоялись, как вы этого желаете:
d
если Протагор не хочет отвечать, пусть он спрашивает, а я буду отвечать и вместе с тем попытаюсь ему показать, как, по моему мнению, это следует делать. Когда же я отвечу на все вопросы, которые ему угодно будет задать, пусть он обещает мне отвечать подобным же образом. Если же он не расположен будет отвечать именно на заданный ему вопрос, тогда и я, и вы будем сообща его просить (как вы просили меня) не портить беседы. Ради этого вовсе не требуется особого руководителя – вы будете руководить сообща.
e
Все решили, что так и следует сделать. А Протагор, несмотря на то что ему очень не хотелось, все‑таки вынужден был согласиться задавать вопросы и, после того как он их довольно задаст, снова приводить для них основания, отвечая кратко и понемногу.
Протагор начал спрашивать так:
– Думаю я, Сократ, что для человека в совершенстве образованного очень важно знать толк в стихах: это значит понимать сказанное поэтами, судить, что правильно в их творениях, а что нет,
339
и уметь разобрать это и дать объяснение, если кто спросит. Так вот и теперь вопрос будет о том самом, о чем мы только что говорили, – о добродетели, но мы перенесем его в область поэзии; только в этом одном и будет разница. Итак, Симонид говорит где‑то, обращаясь к Скопасу[569]
, сыну Креонта фессалийца, что
b
Трудно поистине стать человеком хорошим (αγαθος),
Руки, и ноги, и ум чтобы стройными были,
Весь же он не имел никакого изъяна.
Ты знаешь эту песню или привести тебе ее всю?
А я в ответ:
– Не нужно, я знаю эту песню, да и немало я с ней повозился.
– Хорошо, – сказал Протагор. – Так как тебе кажется: удачно это сказано и правильно или нет?
– Вполне правильно.
– Что же, по‑твоему, хорошо, когда поэт сам себе противоречит?
– Нет, нехорошо.
c
– Присмотрись внимательнее.
– Да я, дорогой мой, уже достаточно смотрел.
– Значит, ты знаешь, что дальше в той же песне он говорит:
Вовсе неладным сдается мне слово Питтака,
Хоть его рек и мудрец: «добрым (εσθλος) быть нелегко».
Замечаешь, что тот же самый поэт говорит и это, и то, что раньше?
– Знаю.
– Как тебе кажется, это и то – в согласии между собой?
– Мне‑то кажется именно так, – отвечал я, но признаюсь, я побаивался в то же время, не скажет ли Протагор еще что‑нибудь. – Ну, а по‑твоему, это не так?
d
– Как может казаться согласным с самим собою тот, кто высказал оба этих суждения, кто сперва сам признал, что поистине трудно человеку стать хорошим, а немного спустя в том же стихотворении забывает это и порицает Питтака[570]
, утверждающего так же, как он, что человеку трудно быть хорошим. Симонид отказывается принять утверждение Питтака, который говорит то же самое, что и он. Раз он порицает того, кто говорит одно с ним, ясно, что он и себя самого порицает, так что либо первое, либо второе его утверждение неверно.
e
Эти слова Протагора вызвали у многих слушателей громкую похвалу. А у меня сперва, когда он это произнес, а прочие зашумели, закружилась голова и потемнело в глазах, точно ударил меня здоровенный кулачный боец; потом я, – по правде говоря, чтобы выиграть время и обдумать, что, собственно, утверждает поэт, – обращаюсь к Продику и взываю к нему:
304
– Продик! Ведь Симонид – твой земляк; ты обязан помогать ему. Я, кажется, призываю тебя так, как, по словам Гомера, Скамандр, теснимый Ахиллом, призывал Симоэнта, говоря: Брат мой, воздвигнися! Мужа сего совокупно с тобою
Мощь обуздаем[571]
.
Вот и я тебя призываю, дабы Протагор не разнес нам Симонида. Чтобы вызволить Симонида, требуется твое уменье, посредством которого ты различаешь слова «хотеть» и «желать» (что не одно и то же)
b
и которое помогло тебе сегодня сказать так много прекрасного. А теперь посмотри, не кажется ли тебе то же, что и мне. Я ведь не думаю, чтобы Симонид противоречил сам себе. Ты, Продик, выскажи сперва свое мнение вот о чем: считаешь ли ты, что «стать» и «быть» – одно и то же, или это не одно и то же?
– Клянусь Зевсом, не одно и то же, – сказал Продик.
– Не выразил ли в первых стихах сам Симонид мнение, что трудно человеку поистине стать хорошим?
c
– Ты прав, – сказал Продик.
– А Питтака он порицает не за такое же высказывание, как думает Протагор, а за другое. Ведь Питтак сказал, что трудно не «стать добрым», а «быть» им, а это, Протагор, не одно и то же[572]
, как подтверждает и Продик. Поскольку «быть» и «стать» не одно в то же, Симонид не противоречит сам себе. И может быть, Продик сказал бы – и вместе с ним многие другие, – что, согласно Гесиоду, хотя и трудно стать хорошим, –
d
Ведь добродетель от нас отделили бессмертные боги
Тягостным потом,
но, если кто достигнет вершины,
Легкой и ровною станет дорога, тяжкая прежде[573]
, –
дорога приобретения добродетели.
Продик, выслушав это, похвалил меня, Протагор же сказал:
– В твоей поправке, Сократ, еще больше погрешностей, чем в том, чту ты хочешь ею исправить.
e
– Плохо, как видно, мое дело, Протагор, и я – как потешный лекарь: врачуя, только усугубляю болезнь.
– Да, так оно и есть.
– Но почему же, однако?
– Велико было бы невежество поэта, если бы он объявил таким пустяком приобретение добродетели – дело самое трудное, как признается всеми людьми.
А я сказал:
341
– Клянусь Зевсом, кстати случился Продик при наших рассуждениях. Мудрость Продика, Протагор, есть, пожалуй, нечто издревле божественное, пошла ли она от Симонида или от еще более древних времен. А ты, опытный во многом другом, в ней оказываешься неопытным, не то что я, у меня именно в ней есть опыт, так как я ученик вот этого Продика[574]
. Мне кажется, ты сейчас не понимаешь, что слово «трудно» Симонид, возможно, берет не в том значении, в каком берешь его ты. Это вроде того, как по поводу слова «страшный» тот же самый Продик делает мне внушение всякий раз, когда я, хваля тебя (или кого другого), говорю, например: «Протагор – человек страшно мудрый».
b
Тут Продик спрашивает меня обычно, не стыдно ли мне называть хорошее страшным. Потому что страшное, говорит он, это дурное. Никто ведь не говорит: «страшное богатство», «страшное перемирие», «страшное здоровье», но говорят о страшной болезни, войне, бедности, так как страшное – это зло. Так вот, может быть, и под словом «трудно» кеосцы и Симонид тоже подразумевают либо зло, либо что‑нибудь другое, тебе непонятное. Поэтому спросим Продика – ведь о языке Симонида[575]
надо спрашивать именно его: что же разумел Симонид под «трудным», Продик?
c
– Зло.
– За это, Продик, и порицает Симонид Питтака, который сказал, что «трудно быть добрым». Это все равно как услышать от Питтака, что «дурно быть добрым».
– А что же еще, – сказал Продик, – как не это, разумел, по‑твоему, Симонид, браня Питтака? Тот не умел правильно различать слова, как лесбосец, воспитанный на варварском наречии.
d
– Слышишь, Протагор, что говорит Продик: можешь ты что‑нибудь на это возразить?
– Ну, это далеко не так, Продик, – сказал Протагор, – я отлично знаю, что Симонид трудным называл, как и все мы, не дурное, а то, чту не легко и дается лишь после больших усилий.
– Да ведь и я думаю, Протагор, что Симонид так понимает, да и Продику это известно; он шутит и, по‑видимому, хочет убедиться, способен ли ты отстоять свое мнение. А что Симонид не считает «трудное» «дурным», тому сильное доказательство в изречении, которое прямо затем следует: ведь он говорит, что
e
богу лишь одному дан этот дар.
А ведь если бы он считал, что «дурно быть хорошим», то не стал бы говорить, что одному лишь богу это дано, не стал бы ему одному уделять этот дар; тогда Продику пришлось бы признать, что Симонид какой‑то наглец, а вовсе не кеосец[576]
. Но каков, по‑моему, смысл этой песни Симонида, я охотно тебе скажу, если ты хочешь проверить, хорошо ли я, как ты выражаешься, разбираюсь в поэзии. А хочешь, я, наоборот, послушаю тебя.
342
Протагор на эти мои слова молвил:
– Пожалуйста, скажи, Сократ, сам.
Продик и Гиппий тоже очень настаивали, да и все остальные.
– Так я попытаюсь, – сказал я, – изложить вам мое понимание этой песни. Раньше и больше всего философия у эллинов была распространена на Крите и в Лакедемоне[577]
,
b
и самое большое на Земле число софистов было там же; но критяне и лаконцы подобно тем софистам, о которых говорил Протагор, отрицают это и делают вид, будто они невежественны, чтобы не обнаружилось, что они превосходят мудростью всех эллинов; они хотят, чтобы их считали самыми лучшими воинами и мужественными людьми, думая, что, если узнают, в чем именно их превосходство, все станут упражняться в том же, то есть в мудрости. Теперь же, скрывши настоящее, они обманули тех, кто подражает лаконцам в других государствах, уродуя подобно им уши[578]
,
c
обматывая руки ремнями, усердствуя в гимнастике и нося короткие плащи, как будто именно благодаря этому лаконцы властвуют над эллинами. А когда лаконцам надоедает тайно общаться со своими софистами и они хотят это делать открыто, они изгоняют чужеземцев – как подражающих им, так и всех остальных – и тогда свободно общаются с софистами втайне от чужих.
d
Они, как и критяне, не позволяют своим юношам отправляться в другие земли, чтобы те не разучились тому, чему они учат их сами. И в этих двух государствах не только мужчины гордятся воспитанием, но и женщины.
А что я говорю правду и лаконцы действительно отлично воспитаны в философии и искусстве слова, это вы можете узнать вот из чего:
e
если бы кто захотел сблизиться с самым никчемным из лаконцев, то на первый взгляд нашел бы его довольно слабым в речах но вдруг, в любом месте речи, метнет он, словно могучий стрелок, какое‑нибудь точное изречение, краткое и сжатое, и собеседник кажется перед ним малым ребенком. Вот поэтому‑то кое‑кто из нынешних, да и из древних догадались, что подражать лаконцам – это значит гораздо более любить мудрость, чем телесные упражнения; они поняли, что уменье произносить такие изречения свойственно человеку в совершенстве образованному.
343
К таким людям принадлежали и Фалес Милетский, и Питтак Митиленский, и Биант из Приены, и наш Солон, и Клеобул Линдский, и Мисон Хенейскии, а седьмым между ними считается лаконец Хилон[579]
. Все они были ревнителями, любителями и последователями лаконского воспитания; и всякий может усвоить их мудрость, раз она такова, что выражена каждым из них в кратких и достопамятных изречениях.
b
Сойдясь вместе, они посвятили их как начаток мудрости Аполлону, в его храме, в Дельфах, написавши то, что все прославляют: «Познай самого себя» и «Ничего сверх меры».
Но ради чего я это говорю? А ради того, что таков был у древних способ философствовать: лаконское немногословие[580]
. Между некоторыми лаконцами имело хождение и это восхваляемое мудрецами изречение Питтака: «Трудно быть добрым (εσθλος)».
c
Симонид, честолюбиво стремившийся к мудрости, понял, что, сокрушив это изречение, словно знаменитого атлета, и превзойдя его, он и сам прославится среди современников. Вот по такому‑то побуждению – стремясь принизить это изречение – сочинил он, как мне кажется, всю эту песню.
Рассмотрим же все сообща, правду ли я говорю. Ведь прямо с начала песни обнаружилась бы нелепость, если бы, желая сказать, что трудно стать хорошим, он в конце подставил бы частицу ведь
(μεν).
d
Она была бы вставлена без малейшего разумного основания, если только мы не предположим, что Симонид как бы спорит против изречения Питтака: Питтак утверждает, что «трудно быть хорошим»; противореча этому, Симонид говорит: «Нет, Питтак, трудно и стать‑то хорошим», – поистине трудно
, а не поистине хорошим
. Не в том смысле говорит он об истине, будто одни о бывают поистине хорошими, а другие хотя и хорошими, но не поистине, ведь это было бы явно простовато и не по‑симонидовски. Надо полагать, что в песне слово «поистине» переставлено[581]
, причем подразумевается изречение Питтака, как если бы это сам Питтак говорил, а Симонид ему отвечал.
344
«Трудно, о люди, – говорит Питтак, – быть хорошим
», а Симонид отвечает: «Неправду ты говоришь, Питтак: не быть, а и стать
человеком хорошим, руки, и ноги, и ум чтобы стройными были, весь же он не имел никакого изъяна, поистине трудно». Таким образом, и частица ведь
окажется вставленною со смыслом, и слово «поистине» правильно станет на самом конце. И последующее все подтверждает, что именно так было сказано.
b
Много бы нашлось, и в любых местах этой песни, такого, на чем можно было бы показать, как она хорошо сочинена; она ведь отличается и изяществом, и тщательностью отделки. Но долго было бы разбирать ее всю таким образом; возьмем лишь ее общий смысл и убедимся, что главным намерением Симонида на протяжении всей песни было опровергнуть изречение Питтака.
Продолжение у Симонида звучит так, будто он высказывает следующее утверждение: «Стать
– то хорошим человеком поистине
трудно, однако все же возможно, хотя бы на некоторое время,
c
но, ставши таким, пребывать в этом состоянии, то есть быть, как ты, Питтак, говоришь, хорошим человеком, – это уж невозможно и не свойственно человеку, и разве лишь бог один владеет таким преимуществом»: Нет возможности зла избежать человеку
В тяжкой беде, злобной, необоримой.
Кого подавляет необоримая беда, например, при управлении кораблем? Ясно, что незаурядного человека, заурядный человек и без того всегда подавлен. Не лежачего мог бы свалить кто‑нибудь, а того, кто стоит – чтобы он упал: ведь не того же, кто уже лежит.
d
Точно так же необоримая беда может подавить того, кто борется, но не того, кто никогда не был способен к борьбе. Налетевшая буря может побороть кормчего, внезапное ненастье – земледельца. То же самое и с врачом. Хорошему человеку возможно стать
дурным, как засвидетельствовано и другим поэтом, сказавшим: Но и доблестный муж то дурным, то хорошим бывает[582]
.
e
А дурному человеку невозможно становиться
дурным: он неизбежно всегда будет
таким; между тем тому, кто борется, кто мудр и хорош, если его подавит необоримая беда, «нет возможности зла избежать [не быть дурным]». Ты, Питтак, утверждаешь, что трудно быть хорошим, на самом же деле трудно становиться
таким, хотя это и возможно, но быть
хорошим – невозможно: Добрый поступок свершая, всякий будет хорошим,
Зло свершая, будет дурным.
345
Что значит, например, «хорошо поступать» при овладении чтением и письмом? Что делает человека хорошим в этом деле? Ясно, что изучение чтения и письма. А какие хорошие поступки создают хорошего врача? Ясно, что изучение того, как лечить больных. «Зло свершая, будет дурным»: значит, кто бы мог стать дурным врачом? Ясно, что тот, кто, во‑первых, уже врач, а затем еще и хороший врач, он‑то и мог бы стать дурным врачом; а мы, невежды в искусстве врачевания, не стали бы, как бы дурно мы ни действовали, ни врачами, ни плотниками и ничем в этом роде;
b
а кто, поступая дурно, не станет врачом, ясное дело, тот не станет и дурным врачом. Таким же образом и хороший человек становится иногда дурным – от времени ли, от напряжения, от болезни или по какой‑нибудь несчастной случайности; это самое и есть единственное дурное дело – лишиться знания, а дурной человек не может стать когда‑либо дурным, раз он всегда дурен: чтобы стать дурным, он должен сперва стать хорошим.
c
Значит, и это место песни подтверждает, что быть
человеку хорошим, то есть постоянно хорошим, невозможно, стать
же хорошим можно; но тот же самый человек способен стать и дурным, а всего дольше и всех более хороши те, которых любят боги.
Все это сказано против Питтака, а дальше в песне это еще яснее. Ведь Симонид говорит:
Жизнь, что судьба мне дала, потому я не трачу впустую
Ради надежды тщетной найти средь людей совершенство:
Сколько б ни было нас, плодами сытых земными,
Нет человека такого; а если б нашел я – сказал бы.
d
С такой же силой Симонид выступает против изречения Питтака на протяжении всей своей песни: Всех и хвалю и люблю я также охотно
,
Злого кто не свершил.
А с судьбой не воюют и боги.
И это сказано против того же самого изречения. Симонид не был до такой степени необразован, чтобы заявлять, что он хвалит тех, кто с охотою не делает ничего дурного, как будто бывают такие, что охотно, делают дурное.
e
Я по крайней мере думаю: никто из мудрых людей не считает, что какой‑нибудь человек может охотно заблуждаться или охотно творить постыдные и злые дела; они хорошо знают, что все делающие постыдное и злое делают это невольно. И Симонид не объявляет себя хвалителем тех, кто будто бы добровольно не делает дурного, он к себе самому относит это слово «охотно».
346
Он полагает, что достойный человек часто принуждает себя относиться к кому‑нибудь дружелюбно и хвалить его, как это нередко случается, например, когда дело идет о заслуживающих осуждения отце, матери, отечестве или о чем‑нибудь еще в этом роде. Плохие‑то люди, когда с теми что‑нибудь такое случится, смотрят на это чуть ли не с удовольствием, они все замечают за ними и порицают и винят за негодность родителей или отечество; чтобы другие не обвиняли их самих и не бранили за нерадение, они даже усугубляют порицания и к своей вынужденной враждебности прибавляют еще и добровольную. Между тем хорошие люди, напротив, многое прячут в себе и принуждают себя к похвалам,
b
если же гневаются за обиду на родителей или отечество, то сами себя унимают и мирятся с этим, заставляя себя относиться к ним дружелюбно и даже хвалить их, потому что это – свое. Я думаю, что и Симонид нередко считал нужным – не по своей воле, а по необходимости – хвалить и прославлять тирана или ему подобных. Об этом он и Питтаку говорит: мол, я тебя порицаю не потому, что склонен к порицанию,
c
Мне довольно того, чтобы не был дурным он [человек],
Вовсе негодным, но знал бы правду и пользу
Города, здравый ум бы имел – такого не осужу я.
Я не любитель корить: глупцов ведь бесчисленно племя –
так что, если кому доставляет удовольствие порицать, тот может делать это досыта.
Все прекрасно, в чем примеси нету дурного.
d
Это Симонид говорит не в том смысле, что, к примеру, все бело, к чему не примешалось черное, – это было бы совсем смешно, – а в том смысле, что он и среднее принимает без порицания. «И не ищу я, – говорит он, – средь людей совершенства: сколько б ни было нас, плодами сытых земными, нет человека такого; а если б нашел я – сказал бы
. Так что за это я никого не буду хвалить, а довольно с меня того, чтобы человек был средним и ничего плохого не делал, вот тогда всех и люблю и хвалю я
». Здесь поэт и наречие употребляет митиленское,
e
как бы обращая именно к Питтаку эти слова: «Всех и хвалю и люблю я также охотно
(тут произносящему надо отделить слово «охотно» от дальнейшего), злого кто не свершил
, а бывает, что я и поневоле хвалю и люблю кого‑нибудь.
347
И тебя, Питтак, если бы ты сказал нечто хоть в какой‑то мере подобающее и верное, я бы не порицал. Теперь же, так как ты, высказав явную ложь, и притом об очень важном предмете, считаешь, будто сказал правду, я тебя порицаю».
Вот, Продик и Протагор, какой, мне кажется, смысл вложил Симонид в эту песню.
А Гиппий сказал на это:
b
– Хотя, мне кажется, и ты, Сократ, хорошо разобрал эту песню, есть, однако, и у меня хорошо составленная речь на этот предмет, и я произнесу вам ее, если хотите.
Но Алкивиад молвил:
– Да, Гиппий, только после; а теперь должны выполнить свой уговор Протагор и Сократ; если Протагор еще хочет задавать вопросы, пусть отвечает Сократ, а если, напротив, он хочет отвечать Сократу, пусть тот спрашивает.
А я сказал:
– Я предоставляю Протагору выбрать, что ему приятнее. Если ему угодно, прекратим говорить о песнях и стихотворениях, а вот то, о чем я тебя, Протагор, вначале спрашивал, я с удовольствием довел бы до конца, обсуждая это вместе с тобой.
c
Потому что, мне кажется, разговоры о поэзии всего более похожи на пирушки невзыскательных людей с улицы. Они ведь не способны по своей необразованности общаться за вином друг с другом своими силами, с помощью собственного голоса и своей собственной речи, и потому ценят флейтисток[583]
, дорого оплачивая заемный голос флейт, и общаются друг с другом с помощью их голосов.
d
Но где за вином сойдутся люди достойные и образованные, там не увидишь ни флейтисток, ни танцовщиц, ни арфисток, – там общаются, довольствуясь самими собой, без этих пустяков и ребячеств, беседуя собственным голосом, по очереди говоря и слушая, и все это благопристойно, даже если и очень много пили они вина.
e
И собрания, подобные нашему, когда сходятся такие люди, какими признает себя большинство из нас, ничуть не нуждаются в чужом голосе, ни даже в поэтах, которых к тому же невозможно спросить, что они, собственно, разумеют. Люди из толпы ссылаются на них в своих речах, но одни утверждают, что поэт хотел сказать одно, а другие – совсем другое. Так они рассуждают о предмете, который не в состоянии разъяснить. Люди же образованные отказываются от таких бесед и общаются друг с другом собственными силами,
348
своими, а не чужими словами испытывают друг друга и подвергаются испытанию. Подобным людям, кажется мне, должны больше подражать и мы с тобою и, отложивши поэтов в сторону, сами собственными нашими силами вести беседу друг с другом, проверяя истину, да и себя самих. Если ты хочешь продолжить вопросы, я готов тебе отвечать, а если хочешь, отвечай мне ты, чтобы закончить то, что мы прервали на середине.
b
Так и в этом роде я говорил, но Протагор ничем не обнаружил своего выбора.
Тогда Алкивиад сказал, взглянув на Каллия:
– Как, по‑твоему, Каллий, Протагор и теперь хорошо поступает, не желая объявить, будет ли отвечать или нет? По‑моему, совсем нехорошо. Пусть он или продолжает беседу, или скажет, что не хочет беседовать, чтобы и мы это знали; тогда и Сократ, и всякий желающий станут беседовать с кем‑нибудь другим.
c
Протагор, пристыженный, как мне показалось, словами Алкивиада и просьбами Каллия и почти всех присутствующих, наконец согласился беседовать и велел, чтобы его спрашивали, а он будет отвечать.
Вот я и сказал:
– Не думай, Протагор, чтобы, разговаривая с тобой, имел я какое‑нибудь иное намерение, кроме одного: рассмотреть то, что каждый раз вызывает у меня недоумение. Я полагаю, что полон смысла стих Гомера:
d
Ежели двое идут, то придумать старается каждый, –
потому что все мы, люди, вместе как‑то способнее ко всякому делу, слову и мысли. «Один же, хотя бы и мыслил»[584]
, сейчас же озирается в поисках, кому бы сообщить свою мысль и у кого бы найти ей поддержку. Я тоже из‑за этого охотнее беседую с тобой, чем с любым другим, полагая, что ты всех лучше можешь исследовать как вообще все то, что надлежит исследовать порядочному человеку, так особенно и вопрос о добродетели.
e
Кто же другой, как не ты? Ведь ты не только считаешь себя человеком безукоризненным и действительно являешься достойным, но думаешь, что можешь сделать хорошими и других, не в пример некоторым иным людям, которые сами по себе порядочны, однако не способны сделать других такими же. И ты до такой степени уверен в себе, что, в то время как другие скрывают это свое уменье, открыто возвестил о нем перед всеми эллинами и, назвав себя софистом, объявил себя наставником образованности и добродетели
349
и первым признал себя достойным взимать за это плату. Так как же не привлечь тебя к рассмотрению этого вопроса, не спрашивать тебя и не советоваться с тобою? Никак без этого невозможно.
Вот и теперь я очень хочу, чтобы ты мне снова напомнил кое‑что из того, о чем я сперва спрашивал[585]
, а кое‑что мы бы рассмотрели вместе. Вопрос, по‑моему, состоял в следующем:
b
мудрость, рассудительность, мужество, справедливость, благочестие – пять ли это обозначений одной и той же вещи, или, напротив, под каждым из этих обозначений кроется некая особая сущность и вещь, имеющая свое особое свойство, так что они не совпадают друг с другом? Ты сказал, что это не обозначения одного и того же, но каждое из этих обозначений принадлежит особой вещи,
c
однако они все‑таки части добродетели – не так, как части золота, похожие друг на друга и на то целое, которое они составляют, а как части лица: они не похожи ни на то целое, которое составляют, ни друг на друга и имеют каждая свое особое свойство. Если ты об этом думаешь еще и теперь, как тогда, скажи; если же как‑нибудь иначе, дай этому определение. Я вовсе не поставлю тебе в вину, если ты теперь будешь утверждать иное: для меня не будет ничего удивительного, если окажется, что тогда ты говорил так, чтобы меня испытать.
d
– Но я, – отвечал Протагор, – повторяю тебе, Сократ, что все это – части добродетели и четыре из них действительно близки между собой, мужество же сильно отличается от них всех. А что я прав, ты поймешь вот из чего: можно найти много людей самых несправедливых, нечестивых, необузданных и невежественных, а вместе с тем чрезвычайно мужественных.
e
– Постой, – сказал я, – твое утверждение стоит рассмотреть. Называешь ли ты мужественных смелыми или как‑нибудь иначе?
– Да, они отваживаются на то, к чему большинство боится и приступиться, – сказал Протагор.
– Пусть так. А добродетель ты признаешь чем‑то прекрасным и предлагаешь себя именно как учителя этого прекрасного?
– Самого что ни на есть прекрасного, если только я не сошел с ума.
– Что же, в ней кое‑что безобразно, а кое‑что прекрасно или все целиком прекрасно?
– Целиком прекрасно, насколько возможно.
350
– Ну а известно ли тебе, кто смело погружается в водоемы?
– Разумеется, водолазы.
– Потому ли, что они люди умелые, или по другой причине?
– Потому, что умеют.
– А кто смел в конной схватке – всадники или пешие?
– Всадники.
– А с легкими щитами кто смелее: пельтасты[586]
или прочие воины?
– Пельтасты. И во всем остальном это так, если ты того доискиваешься: сведущие смелее несведущих и даже смелее, чем сами были до того, как обучились.
b
– А видел ли ты таких, кто вовсе не сведущ ни в чем этом, однако ж бывает смел в любом деле?
– Да, видел, и притом даже чересчур смелых.
– Значит, эти смельчаки мужественны?
– Такое мужество было бы, однако, безобразным, потому что это люди исступленные.
– А разве ты не назвал смелых мужественными?
– Я это утверждаю и сейчас.
c
– И все же эти смельчаки оказываются не мужественными, а исступленными? А немного раньше было сказано, что всего смелее самые сведущие, а раз они самые смелые – они и наиболее мужественные. На этом основании вышло бы, что мужество – это знание?
– Ты неверно припоминаешь, Сократ, что я говорил и отвечал тебе. Ты спросил меня, смелы ли мужественные; я признал, что это так. Но ты не спрашивал, мужественны ли смелые; если бы ты тогда задал такой вопрос, я сказал бы, что не все.
d
Ты ничуть не доказал, будто я говорил тогда неправильно, что мужественные не смелы. Далее ты указываешь, что люди умелые смелее неумелых и смелее, чем были сами до обученья, и отсюда ты выводишь, что мужество и знание – одно и то же. Применяя такой способ, ты мог бы вывести, что и крепость тела – это тоже знание. Ведь сперва по этому твоему способу ты задал бы мне вопрос: сильны ли крепкие люди? Я сказал бы, что да.
e
Затем ты спросил бы: сильнее ли опытные в борьбе, нежели не умеющие бороться, и нежели были они сами до того, как научились? Я ответил бы, что да. После того как я это признал, ты мог бы, пользуясь точно такими же доводами, сказать, что, согласно моему утверждению, знание есть телесная крепость. Между тем я ни здесь, ни вообще нигде не признаю, будто сильные люди – крепки. Зато крепкие – сильны, это ведь не одно и то же – сила и крепость:
351
первое, то есть сила, возникает и от знания, и от неистовства и страсти, крепость же – от природы и правильного питания тела. Точно так же и в том случае: смелость и мужество – не одно и то же, поэтому мужественные бывают смелыми, однако не все смелые мужественны, ведь смелость возникает у людей и от мастерства, и от страсти и неистовства, как и сила, мужество же – от природы и воспитания души.
b
– Считаешь ли ты, Протагор, что одним людям живется хорошо, а другим плохо? – сказал я.
– Да, считаю.
– Хорошо ли, по‑твоему, живется человеку, если жизнь его полна огорчений и страданий?
– Конечно, нет.
– А если он окончил жизнь, прожив ее приятно, не кажется ли тебе, что, таким образом, он хорошо ее прожил?
– Разумеется.
c
– Значит, жить приятно – благо, а жить неприятно – зло[587]
.
– Да, если человек живет, наслаждаясь прекрасным.
– Что же дальше, Протагор? Называешь ли и ты вслед за большинством некоторые удовольствия злом, а некоторые страдания благом? Я вот что хочу сказать: разве все приятное не благо только потому, что оно приятно, а не потому, что может повлечь за собой другие последствия? И то же самое с тягостным: ты думаешь, будто оно не зло только потому, что оно тягостно?
d
– Не знаю, Сократ, должен ли и я ответить так же просто, как ты спрашиваешь: все вообще приятное хорошо, а все тягостное – плохо. Мне кажется, что не только для ответа сейчас, но и для дальнейшей моей жизни надежнее мне сказать, что бывают и такие удовольствия, которые не хороши, и в свою очередь такие тяготы, которые не плохи, но бывает и наоборот. Третий же случай – ни то ни другое, ни зло ни добро.
e
– Не называешь ли ты приятным то, что причастно удовольствию или его доставляет?
– Совершенно верно.
– Так вот об этом я и говорю: поскольку удовольствия приятны, не есть ли они что‑то нехорошее? Я имею в виду, не есть ли что‑то нехорошее удовольствие само по себе?
– Давай, Сократ, рассмотрим и этот вопрос так, как ты всегда требуешь, и, если наше исследование будет признано основательным и окажется, что приятное и хорошее – это одно и то же, допустим это; если же нет, будем это оспаривать.
– Хочешь ли ты дать направление исследованию, или мне его вести?
– Право вести его принадлежит тебе – ведь ты зачинщик этого обсуждения.
352
– Не станет ли дело для нас яснее на примере? Если кому надо определить по наружному виду человека, здоров ли тот, или еще зачем‑то осмотреть его тело, но видит он только лицо и кисти рук, то он говорит: «Ну‑ка, открой и покажи мне грудь и спину, чтобы я мог лучше все рассмотреть». Того же и я желаю для нашего рассмотрения. Увидев из твоих слов, как ты относишься к хорошему и приятному, я хотел бы сказать примерно так:
b
«Ну‑ка, Протагор, открой мне вот какую свою мысль: как относишься ты к знанию? Думаешь ли ты об этом так же, как большинство людей, или иначе? Большинство считает, что знание не обладает силой и не может руководить и начальствовать, потому‑то о нем и не размышляет. Несмотря на то что человеку нередко присуще знание, они полагают, что не знание им управляет, а что‑либо другое: иногда страсть, иногда удовольствие, иногда скорбь, иной раз любовь, а чаще – страх.
c
О знании они думают прямо как о невольнике: каждый тащит его в свою сторону[588]
. Таково ли примерно и твое мнение о знании, или ты полагаешь, что знание прекрасно и способно управлять человеком, так что того, кто познал хорошее и плохое, ничто уже не заставит поступать иначе, чем велит знание, и разум достаточно силен, чтобы помочь человеку?»
d
– Кажется, – сказал Протагор, – дело обстоит так, как ты говоришь, и притом кому другому, а уж мне‑то стыдно было бы не ставить мудрость и знание превыше всех человеческих дел.
– Прекрасны твои слова и истинны, – сказал я, – но знаешь, люди большею частью нас с тобою не слушают и утверждают, будто многие, зная, что лучше всего, не хотят так поступать, хотя бы у них и была к тому возможность, а поступают иначе; и, скольких я ни спрашивал, что же этому причиной, все утверждают, что делают так потому, что уступают силе удовольствия или страдания или чему‑нибудь из того, о чем я сейчас говорил.
e
– Да ведь я думаю, Сократ, что и многое другое люди утверждают неправильно.
– Так давай вместе с тобой попытаемся убедить людей и разъяснить им, что же с ними происходит, когда они, по их словам, уступают удовольствиям и не поступают наилучшим образом, хотя и знают, чту такое высшее благо.
353
Может быть, если мы им скажем: «Люди, вы не правы, вы обманываетесь», – они нам ответят: «А если, Протагор и Сократ, дело тут не в том, что мы уступаем удовольствиям, то в чем же оно и что об этом думаете вы – скажите нам».
– К чему, Сократ, нам обязательно рассматривать мнение людской толпы, говорящей что попало?
b
– Думаю, что это как‑то поможет нам понять отношение мужества к прочим частям добродетели. Если ты согласен соблюдать принятое нами только что условие – чтобы я руководил, – следуй за мной в том направлении, на котором, по‑моему, всего лучше выяснится дело; а не хочешь, так я, пожалуй, оставлю это.
– Нет, – сказал Протагор, – ты правильно говоришь; продолжай, как начал.
c
– Итак, если бы они снова спросили нас: «Что же, по‑вашему, есть то, о чем мы говорили, будто это – уступка удовольствиям», – я бы отвечал им: «Слушайте же, вот мы с Протагором попробуем вам это растолковать. Ведь вы, люди, разумеете под этим только одно: нередко бывает, что пища, питье и любовные утехи, будучи приятными, заставляют и тех, кто знает, что это дурно, все‑таки им предаваться». Они сказали бы, что это так. А мы с тобой разве не спросили бы их снова:
d
«А что же тут, по‑вашему, дурного? То, что в первый миг получаешь удовольствие и каждое из этих действий приятно, или же то, что в будущем они ведут к болезням и бедности и приносят с собой еще многое в этом роде? Или даже в том случае, если удовольствия ничем не грозят впоследствии и только приятны, они все‑таки дурны именно потому, что заставляют того, кто их познает, наслаждаться чем попало?»
e
Так неужели же мы подумаем, Протагор, будто они е не ответят, что не из‑за минутного действия самого удовольствия дурны эти состояния, а из‑за их последствий, то есть болезней и прочего?
– Думаю, – сказал Протагор, – что большинство ответит так.
– «Но то, что вызывает болезни, вызывает в свою очередь страдания, и то, что ведет к бедности, также ведет к страданиям». С этим они согласились бы, я полагаю.
Протагор подтвердил.
– «Так разве вам не кажется, люди, что эти удовольствия, как и утверждаем мы с Протагором, дурны только тем, что они заканчиваются страданиями и лишают нас других удовольствий?» Ведь они согласились бы?
354
– Да, и мы уже оба признали, что это так.
– А если бы мы снова задали им вопрос, но уже противоположный: «Вы, люди, считающие страдания чем‑то хорошим, не имеете ли вы в виду такие вещи, как телесные упражнения, военные походы, лечебные прижигания, разрезы, прием лекарств и голодание, – все то, что хотя и хорошо, однако мучительно?» Подтвердили бы они это?
Протагор согласился.
b
– «Так потому ли вы это называете благом, что в настоящем оно вызывает резкую боль и страдания, или потому, что в последующее время оно принесет здоровье, крепость тела, пользу для государства, владычество над другими и обогащение?» Они подтвердили бы второе, я думаю.
Протагор согласился.
– «И все это не потому разве благо, что кончается удовольствием, прекращением и предотвращением страданий? Или вы могли бы указать другое какое‑нибудь следствие помимо удовольствия и страдания, из‑за которого вы называете что‑либо благом?» Они, я думаю, не смогли бы.
c
– И мне так кажется, – сказал Протагор.
– «Так не гоняетесь ли вы за удовольствием, как за благом, и не избегаете ли страдания, как зла?»
Протагор подтвердил.
– «Значит, злом вы считаете страдание, а благом – удовольствие, так как вы только тогда называете приятное злом, когда оно лишает вас больших удовольствий, чем те, что в нем заключаются, или готовит страдания более сильные, чем удовольствия;
d
потому что если бы вы по какой‑либо другой причине и имея в виду какое‑нибудь иное следствие называли приятное само по себе злом, то вы могли бы и нам это сказать, однако вы не сможете».
– И мне кажется, что не смогут, – сказал Протагор.
– «Опять‑таки, если говорить о страдании самом по себе, разве мы придем к чему‑нибудь иному? Вы ведь тогда называете страдание само по себе благом, когда оно либо устраняет бульшие страдания, чем те, что в нем заключены, либо подготавливает удовольствия бульшие, чем эти страдания. Если вы, называя страдания благом, имели бы в виду какое‑то иное следствие, чем то, о котором я говорю, то вам было бы чту сказать. Но сказать‑то вам нечего!»
e
– Ты прав, – молвил Протагор.
– И опять‑таки, – сказал я, – если бы вы, люди, меня спросили: «Чего же ради ты об этом так много говоришь, рассматривая это с разных сторон?» «Извините уж меня, – ответил бы я, – во‑первых, ведь совсем нелегко показать, что именно вы называете уступкой удовольствиям; а затем как раз в этом состоят все доказательства. Но еще и теперь у в вас есть возможность отступиться,
355
если вы можете каким‑либо образом утверждать, что благо – нечто иное, нежели удовольствие, и зло – нечто иное, нежели страдание. Или для вас достаточно прожить свою жизнь приятно и без скорбей? Если этого вам достаточно и вы можете утверждать, что благо или зло нечто иное и ведет к иным следствиям, то слушайте дальше. Я заявляю вам: если это так, то смешно ваше утвержденное, будто нередко человек, зная, что зло есть зло, и имея возможность его не совершать,
b
все‑таки совершает его, влекомый и сбитый с толку удовольствиями, и будто он, ведая благо, не хочет творить его, пересиленный мимолетными удовольствиями.
А что это смешно, будет вполне ясно, если мы не станем употреблять всевозможные названия – «приятное», «тягостное», «благо», «зло», но так как дело сводится к двум вещам, то и будем обозначать их двумя названиями – «благом» и «злом», а уже во вторую очередь – «приятным» и «тягостным».
c
Условившись таким образом, мы скажем: «Человек, зная, что зло есть зло, все‑таки его совершает». А если кто нас спросит: «Почему же?» – мы ответим: «Потому что он побежден». «Чем?» – спросят нас. А к нам уже нельзя сказать, что удовольствием, потому ч что вместо удовольствия мы приняли другое название – «благо». Но, отвечая, мы все‑таки скажем, что он был побежден… «Да чем же?» – спросят. «Благом, клянусь Зевсом!» – скажем мы». И если случится, что вопросы задавал человек надменный, он рассмеется и скажет:
d
«Право, смешное это дело: вы говорите, будто о тот, кто делает зло, зная, что это зло и что не следует ему этого делать, побежден благом! Каким же благом? – спросит он. – Таким, которое хоть и побеждает в вас зло, однако неравноценно ему, или же таким, которое равноценно?» Ясно, что мы скажем в ответ: таким благом, которое неравноценно, потому что иначе не ошибся бы тот, про кого мы говорим, что он г побежден удовольствиями.
«В каком же отношении, – пожалуй, зададут нам вопрос, – благо бывает неравноценно злу или зло неравноценно благу:
e
в том, что одно из них больше, а другое меньше, или в том, что одного и из них много, а другого мало? Или еще в каком‑нибудь?» И нечего нам будет сказать, пришлось бы подтвердить все это. «Значит, ясно, – скажут нам, – что „быть побежденным“ у вас означает вместо меньшего блага брать большее зло». Вот как здесь обстоит дело.
Теперь переменим обозначения того же самого, взяв слова «приятное» и «тягостное», и скажем, что человек делает тягостное (тогда мы говорили «зло», теперь же скажем так), зная, что оно тягостно, но при этом он побежден удовольствиями,
356
понятно, такими, которым не дулжно побеждать. Да и как можно сравнить и оценить удовольствия и страдания, как не по большей или меньшей их величине? Ведь они бывают больше или меньше друг друга, обильнее или скуднее, сильнее или слабее. Потому что, если бы кто сказал: «Однако, Сократ, большая разница между приятным сейчас и тем, что в будущем будет то ли приятным, то ли тягостным», – я бы отвечал: «Неужели здесь разница не в том же самом – не в удовольствии и страдании, а в чем‑нибудь еще? Ведь другое какое‑либо различие невозможно.
b
Ты, как человек, умеющий хорошо взвешивать, сложи все приятное и сложи все тягостное, как ближайшее, так и отдаленное, и, положив на весы, скажи, чего больше? Если же ты сравниваешь между собою разные удовольствия, избирай для себя всегда более значительное и обильное, а сравнивая разные страдания – незначительное и небольшое. Когда же ты сравниваешь удовольствие со страданием, если приятное перевешивает тягостное, – ближайшее ли перевешивает отдаленное или наоборот, – нужно совершать то, что содержит в себе приятное;
c
если же, наоборот, тягостное перевесит приятное, его не следует совершать. Разве иначе обстоит дело, люди?» – сказал бы я им. Знаю, что они не могли бы мне возразить.
С этим согласился и Протагор.
– «Раз все это так, – скажу я далее, – то ответьте мне вот на что: одно и то же по величине кажется вам на вид вблизи больше, а вдали меньше, не так ли?» Они подтвердят. «И точно так же по толщине и численности? И звуки, одинаково сильные, вблизи сильнее, а вдали слабее?»
d
Они подтвердили бы. «Так если наше благополучие заключается в том, чтобы и создавать, и получать большее, а мелочей избегать и не создавать, то что полезнее нам в жизни: искусство измерять или влияние видимости? Последняя разве не вводила бы нас в заблуждение, не заставляла бы нередко одно и то же ставить то выше, то ниже, ошибаться и в наших действиях, и при выборе большого и малого? Искусство измерять лишило бы значения эту видимость
e
и, выяснив истину, давало бы покой душе, пребывающей в этой истине, и оберегало бы жизнь». Так разве не согласились бы с нами люди, что искусство измерять благотворно, или они указали бы на какое‑нибудь другое искусство?
– Нет, именно на искусство измерять, – подтвердил Протагор.
– «А если бы благополучие нашей жизни зависело от правильного выбора между четным и нечетным[589]
– от того, что один раз правильно будет выбрать большее, а другой – меньшее независимо от того, больше оно само по себе или по сравнению с чем‑нибудь другим, вблизи ли оно находится или вдали, – то что сберегло бы нам жизнь?
357
Не знание ли? И не искусство ли определять, чту больше, чту меньше? А так как дело идет о нечетных и четных числах, то это не что иное, как арифметика». Согласились ли бы с нами люди или нет?
Протагор решил, что согласились бы.
– «Пусть так, люди! Раз у нас выходит, что благополучие нашей жизни зависит от правильного выбора между удовольствием и страданием, между великим и незначительным,
b
бульшим и меньшим, далеким и близким, то не выступает ли тут на первое место измерение[590]
, поскольку оно рассматривает, чту больше, чту меньше, а чту между собою равно?»
– Да, это неизбежно.
– А раз здесь есть измерение, то неизбежно будет также искусство и знание.
– С этим все согласятся, – сказал Протагор.
– «Каково это искусство и знание, мы рассмотрим в другой раз. А теперь хватит: ведь для доказательства, которое мы с Протагором должны вам представить, чтобы ответить на ваш вопрос,
c
достаточно признать, что тут во всяком случае речь идет о знании. Помните, о чем вы спрашивали? Мы с ним согласились, что нет ничего сильнее знания, оно всегда и во всем пересиливает и удовольствия, и все прочее; по вашим же словам, удовольствие нередко одолевает и знающего человека; и после того как мы с вами не согласились, вы спросили нас: «А если, Протагор и Сократ, дело тут не в том, что мы уступаем удовольствиям, то в чем же оно и что об этом думаете вы? Скажите нам».
d
Если бы мы тогда вам прямо сказали, что дело тут в неведении, вы бы над нами посмеялись; теперь же, если вы станете смеяться над нами, вы посмеетесь лишь над собой. Вы ведь сами согласились, что те, кто ошибается в выборе между удовольствием и страданием, то есть между благом и злом, ошибаются по недостатку знания, и не только знания вообще, но, как вы еще раньше согласились, знания измерительного искусства.
e
А ошибочное действие без знания, вы сами понимаете, совершается по неведению, так что уступка удовольствию есть не что иное, как величайшее неведение. Вот Протагор и заявляет, что он излечивает от него; то же самое и Продик, и Гиппий. Вы же, полагая, что тут нечто другое, чем просто неведение, и сами не идете, и детей своих не шлете к учителям этого дела, вот к этим софистам, – как будто этому нельзя научить; заботясь о деньгах и не отдавая их таким учителям, вы плохо поступаете и как частные лица, и как граждане».
358
Вот что ответили бы мы людям. К вам же, Гиппий и Продик, я обращаюсь теперь вместе с Протагором (пусть это обсуждение будет у нас общим): как, по‑вашему, прав я или заблуждаюсь?
Все нашли, что сказанное совершенно верно.
– Значит, вы соглашаетесь, – спросил я, – что приятное есть благо, а тягостное – зло? Различение наименований, которое делает Продик, я прошу тут оставить в стороне. Назовешь ли ты это «приятным», «милым» или «желанным» –
b
ты ведь любишь, добрейший мой Продик, давать всевозможные названия и откуда только их ни берешь, – отвечай мне именно в этом смысле на мой вопрос.
Продик со смехом согласился, а также все остальные.
– Так что же, друзья мои, дальше? Все действия, направленные на то, чтобы жить беспечально и приятно, разве не прекрасны? А осуществление прекрасного разве не благо и польза?
Все согласились.
c
– Раз приятное есть благо, то никто – если он знает или предполагает, что нечто иное, и притом выполнимое, лучше, чем то, что он совершает, – не станет делать того же, что раньше, коль скоро возможно нечто лучшее. Быть ниже самого себя – это не что иное, как невежество, а быть выше самого себя – не что иное, как мудрость.
Все согласились с этим.
– Так как же? Значит, вы считаете невежеством иметь ложное мнение и обманываться, когда дело идет об очень важных предметах?
И с этим все согласились.
– А разве не так обстоит дело, – сказал я, – что никто не стремится добровольно к злу или к тому, что он считает злом?
d
По‑видимому, не в природе человека по собственной воле идти вместо блага на то, что считаешь злом; когда же люди вынуждены выбирать из двух зол, никто, очевидно, не выберет большего, если есть возможность выбрать меньшее.
Со всем этим мы все согласились.
– Далее, – сказал я, – ведь есть нечто такое, что вы называете боязнью и страхом? Разве не то же самое, что и я? (Это к тебе относится, Продик.) Я имею в виду некое ожидание зла, как бы вы его ни называли: страхом или боязнью.
Протагор и Гиппий согласились, что это и боязнь, и страх, Продик же отвечал, что это боязнь, но не страх.
e
– Это, Продик, неважно, – сказал я, – а вот что важно: если верно сказанное раньше, то захочет ли кто‑нибудь из людей пойти на то, чего он боится, когда он волен выбрать то, что не страшно? Или это невозможно на основании того, в чем мы согласились? Ведь нами признано, что человек считает злом то, чего он боится, а того, что считается злом, никто и не делает и принимает добровольно.
359
И с этим все согласились.
– Раз все это, – сказал я, – положено у нас в основу, Продик и Гиппий, то пусть Протагор защищает перед нами правильность своих прежних ответов – но не самых первых: тогда ведь он утверждал, что из пяти частей добродетели ни одна не подобна другой, но каждая имеет свое собственное значение. Я сейчас говорю не об этом, а о том, что он высказал позже, когда стал утверждать, что четыре из них довольно близки друг другу,
b
а одна – именно мужество – очень сильно отличается от других, в чем я будто бы могу убедиться посредством следующего доказательства: «Ты встретишь, Сократ, людей, чрезвычайно нечестивых, несправедливых, необузданных и невежественных, однако же очень мужественных, из чего ты убедишься, что мужество очень сильно отличается от других частей добродетели».
Я и тогда очень удивился этому ответу, а еще больше после того, как мы с вами все разобрали. Вот я его и спросил: считает ли он мужественных смелыми? А он ответил: «Да, и отважными». Помнишь, Протагор, такой свой ответ?
c
Протагор подтвердил.
– Так скажи нам, на что отваживаются мужественные: на то же, на что и робкие?
– Нет.
– Значит, на другое?
– Да.
– Не идут ли робкие на то, что безопасно, а мужественные – на то, что страшно?
– Люди говорят, что так, Сократ.
d
– Ты прав, – сказал я, – но не об этом я спрашиваю. Как, по‑твоему, на что с отвагою идут мужественные: на то ли страшное, что они считают страшным, или на то, что таковым не считают?
– Но первое невозможно, как было доказано только что в твоих рассуждениях.
– И в этом ты прав. Так что, если это правильно было доказано, никто не идет на то, что считает страшным, ведь мы нашли, что быть ниже самого себя – это невежество.
Протагор согласился.
e
– С другой стороны, когда люди осмеливаются на что‑нибудь, то идут все – и робкие, и мужественные, и, таким образом, и робкие, и мужественные идут на одно и то же.
– Но все‑таки, Сократ, совершенно противоположно то, на что идут робкие, и то, на что идут мужественные. Вот хоть на войну – одни желают идти, а другие не желают.
– Идти на войну – это прекрасно или безобразно?
– Прекрасно.
– А ведь если прекрасно, то и хорошо, по прежнему нашему условию: мы ведь согласились, что все прекрасные действия хороши.
– Ты прав, таково и мое всегдашнее мнение.
360
– И правильно. Но кто же из них, как ты утверждаешь, не хочет идти на войну, хотя это прекрасно и хорошо?
– Робкие.
– А ведь если это прекрасно и хорошо, то оно и приятно?
– С этим мы были согласны.
– Так, значит, люди робкие сознательно не хотят идти на то, что прекраснее, лучше и приятнее?
– Но если бы мы и с этим согласились, мы нарушили бы все то, в чем мы раньше были согласны.
– А что же мужественный человек? Не идет ли он на то, что прекраснее, лучше и приятнее?
– Необходимо это признать.
b
– Значит, вообще говоря, мужественные проявляют не дурной страх, когда боятся, и не дурную отвагу, когда отваживаются?
– Это правда.
– Если же то и другое не безобразно (постыдно), значит, прекрасно?
– Да.
– А если прекрасно, то и хорошо?
– Да.
– А робкие, и смельчаки, и неистовые, напротив, проявляют дурной страх, когда боятся, и дурную отвагу, когда отваживаются?
Протагор согласился.
– И отваживаются они на постыдное и плохое только по незнанию и невежеству?
– Так оно и есть.
c
– Ну а то, почему робкие бывают робки, называешь ты робостью или мужеством?
– Робостью, конечно.
– А не выяснили ли мы, что робких делает робкими неведение того, что страшно?
– Вполне выяснили.
– Значит, из‑за этого невйдения они и робки? Протагор согласился.
– А ведь, по твоему признанию, то, в силу чего они робки, есть робость?
Протагор подтвердил.
– Так именно невйдение того, чту страшно и чту не страшно, есть робость? Протагор кивнул.
d
– Но ведь мужество противоположно робости.
– Да.
– А понимание того, чту страшно, а чту не страшно, противоположно невйдению всего этого?
Здесь Протагор опять кивнул.
– Стало быть, неведение этого – робость.
Тут Протагор кивнул весьма неохотно.
– Значит, понимание того, чту страшно и чту страшно, и есть мужество[591]
в противоположность невйдению этого.
Тут Протагор уже не захотел кивать в знак согласия и замолчал. Я же сказал:
– Что же, Протагор, ты и не подтверждаешь, и не отрицаешь того, что я говорю?
– Ты заканчивай сам, – сказал Протагор.
e
– Я спрошу у тебя только еще об одном, – сказал я – Кажется ли тебе по‑прежнему, что бывают люди хотя и очень невежественные, но в то же время в высшей степени мужественные?
– Кажется мне, Сократ, – сказал Протагор, что ты упорно настаиваешь на том, чтобы я отвечал; так и быть, сделаю тебе приятное и скажу, что на основании прежде признанного мне это кажется невозможным.
– Да ведь я спрашиваю обо всем этом, – сказал я, – только ради того, чтобы рассмотреть, как обстоит дело с добродетелью и что это такое – добродетель.
361
Я знаю, если это будет раскрыто, тогда лучше всего выяснится и то, о чем каждый из нас держал стол длинную речь: я – когда утверждал, что добродетели нельзя научиться, ты же – когда утверждал, что можно. И мне кажется, что недавний вывод наших рассуждений, словно живой человек, обвиняет и высмеивает нас, и, если бы он владел речью, он бы сказал:
«Чудаки вы, Сократ и Протагор! Ты утверждавший прежде, что добродетели нельзя научиться, теперь вопреки себе усердствуешь, пытаясь доказать, что все есть знание:
b
и справедливость, и рассудительность, и мужество. Но таким путем легче всего обнаружится, что добродетели можно научиться. Ведь если бы добродетель была не знанием, а чем‑нибудь иным, как пытался утверждать Протагор, тогда она, ясно не поддавалась бы изучению; теперь же, если обнаружится, что вся она –знание (на чем ты так настаиваешь Сократ), странным было бы, если бы ей нельзя было обучаться. С другой стороны, Протагор, видимо полагавший, что ей можно обучиться,
c
теперь, видимо, настаивает на противоположном: она, по его мнению, оказывается чем угодно, только не знанием, а следовательно, менее всего поддается изучению».
Меня же, Протагор, когда я вижу, как все тут перевернуто вверх дном, охватывает сильное желание все это выяснить, и хотелось бы мне, после того как мы это разберем, разобраться и в том, что такое добродетель, и снова рассмотреть, можно ей научить или нет.
d
Только бы не сбивал нас то и дело и не вводил в заблуждение при этом тот самый Эпиметей, который обошел нас, по твоим словам, уже при распределении даров. Мне в этом мифе больше понравился Прометей, чем Эпиметей. И всеми этими вопросами я занимаюсь, пользуясь помощью Прометея[592]
, и всю свою жизнь стараюсь не быть опрометчивым; так что, если тебе будет угодно, я, как и говорил об этом в самом начале, с величайшим удовольствием разберу это вместе с тобою.
Протагор ответил так:
– Я одобряю, Сократ, и твое рвение, и ход твоих рассуждений. Да и я, думается мне, не такой уж дурной человек, а зависти у меня меньше, чем у кого бы то ни было.
e
Я многим говорил о тебе, что из тех, с кем я встречаюсь, я всего более восхищаюсь тобой, особенно между твоими сверстниками. Я даже утверждаю, что не удивился бы, если бы и ты стал одним из людей, прославленных мудростью. О наших вопросах мы поговорим в другой раз, когда тебе будет угодно, а теперь пора обратиться к иным делам.
362
– Так и поступим, раз ты этого мнения, – сказал я. – Ведь и мне давно пора идти, куда я собирался. Я оставался здесь только в угоду красавцу Каллию[593]
.
Сказав и выслушав это, мы разошлись.
Перевод Вл. С. Соловьева.
В кн.: Платон. Собр. соч. в 4‑х томах. Том 1. М.: «Мысль», 1990
XVI. ГОРГИЙ
Калликл, Сократ, Херефонт, Горгий, Пол
447
Калликл.
На войну и на битву, как уверяют, долгие сборы, Сократ!
Сократ.
А что, разве мы, так сказать, опоздали к празднику?
Калликл.
Да еще к какому изысканному празднику! Только что Горгий так блеснул перед нами своим искусством!
Сократ.
Всему виною, Калликл, наш Херефонт: из‑за него мы замешкались на рынке.
b
Херефонт.
Не беда, Сократ, я же все и поправлю[594]
. Ведь Горгий мне приятель, и он покажет нам свое искусство, если угодно, сейчас же, а хочешь – в другой раз.
Калликл.
Как, Херефонт? Сократ желает послушать Горгия?
Херефонт.
Для того‑то мы и здесь.
Калликл.
Если так, то приходите, когда надумаете, ко мне домой: Горгий остановился у меня, и вы его услышите.
c
Сократ.
Отлично, Калликл. Но не согласится ли он побеседовать с нами? Я хотел бы расспросить этого человека, в чем суть его искусства и чему именно обещает он научить. А остальное – образцы искусства – пусть покажет в другой раз, как ты и предлагаешь.
Калликл.
Нет ничего лучше, как спросить его самого, Сократ. То, о чем ты говоришь, было одним из условий его выступления: он предлагал всем собравшимся задавать ему вопросы, какие кто пожелает, и обещал ответить на все подряд.
Сократ.
Прекрасно! Херефонт, спроси его!
d
Херефонт.
Что спросить?
Сократ.
Кто он такой.
Херефонт.
Что ты имеешь в виду?
Сократ.
Ну, вот если бы он оказался мастеровым, который шьет обувь, то, наверно, ответил бы тебе, что он сапожник. Разве ты не понимаешь, о чем я говорю?
Херефонт.
Понимаю и сейчас спрошу. Скажи мне, Горгий, правильно говорит Калликл, что ты обещаешь ответить на любой вопрос?
448
Горгий.
Правильно, Херефонт. Как раз это я только что и обещал, и я утверждаю, что ни разу за много лет никто не задал мне вопроса, который бы меня озадачил.
Херефонт.
Тогда, конечно, ты легко ответишь мне, Горгий.
Горгий.
Можешь испытать меня. Херефонт.
Пол.
Клянусь Зевсом, Херефонт, испытывай, пожалуйста, меня! Горгий, мне кажется, сильно утомился: ведь он сейчас держал такую длинную речь.
Херефонт.
Что ты, Пол? Ты думаешь ответить лучше Горгия?
Пол.
Какая тебе разница? Лишь бы ты остался доволен.
b
Херефонт.
И правда, никакой. Ну, если желаешь, отвечай ты.
Пол.
Спрашивай.
Херефонт.
Да, так вот мой вопрос. Допустим, Горгий был бы сведущ в том же искусстве, что его брат Геродик[595]
, – как бы нам тогда следовало его называть? Так же, как брата, верно?
Пол.
Совершенно верно.
Херефонт.
Значит, если бы мы сказали, что он врач, мы бы не ошиблись?
Пол.
Нет.
Херефонт.
А если бы он был опытен в искусстве Аристофонта, сына Аглаофонта, или его брата[596]
, как бы мы тогда его называли?
Пол.
Ясное дело – живописцем.
c
Херефонт.
Так в каком же искусстве сведущ Горгий и как нам его называть, чтобы не ошибиться?
Пол.
Милый мой Херефонт, люди владеют многими искусствами, искусно открытыми в опыте. Ты опытен – и дни твои направляет искусство, неопытен – и они катятся по прихоти случая[597]
. Меж всеми этими искусствами разные люди избирают разное в разных целях, но лучшие избирают лучшее. К лучшим принадлежит и наш Горгий, который причастен самому прекрасному из искусств.
d
Сократ.
Я вижу, Горгий, что Пол прекрасно подготовлен к словесным стычкам. Но слова, которое дал Херефонту, он не держит.
Горгий.
В чем же именно, Сократ?
Сократ.
Мне кажется, он вовсе не ответил на вопрос.
Горгий.
Тогда спрашивай его ты, если хочешь.
Сократ.
Не хочу – я надеюсь, ты согласишься отвечать сам. Мне было бы гораздо приятнее спрашивать тебя, потому что, как ни мало говорил Пол, а уже ясно, что он больше искушен в так называемой риторике, чем в уменье вести беседу.
Пол.
С чего ты это взял, Сократ?
e
Сократ.
А с того, Пол, что Херефонт спрашивал тебя, в каком искусстве сведущ Горгий, ты же принялся восхвалять это искусство, как будто кто‑то его поносит, но что это за искусство, так и не ответил.
Пол.
Разве я не сказал, что оно самое прекрасное из всех?
Сократ.
Да, сказал, но никто не спрашивал, каково искусство Горгия, – спрашивали, чту за искусство и как нужно Горгия называть. На все прежнее, что предлагал тебе Херефонт, ты отвечал хорошо и кратко –
449
вот так и теперь объясни, что это за искусство и каким именем мы должны называть Горгия. А еще лучше, Горгий, скажи нам сам, в каком искусстве ты сведущ и как, стало быть, нам тебя называть.
Горгий.
В ораторском искусстве, Сократ.
Сократ.
Значит, называть тебя надо «оратором»?
Горгий.
И хорошим, Сократ, если желаешь называть меня тем именем, каким, как говорится у Гомера, «я хвалюсь»[598]
.
Сократ.
Да, да, желаю.
Горгий.
Тогда зови.
Сократ.
А скажем ли мы, что ты и другого способен сделать оратором?
b
Горгий.
Это я и предлагаю – и не только здесь, но повсюду.
Сократ.
Не согласился ли бы ты, Горгий, продолжать беседу так же, как мы ведем ее теперь, чередуя вопросы с ответами, а эти долгие речи, какие начал было Пол, оставить до другого раза? Только будь верен своему обещанию и, пожалуйста, отвечай кратко.
c
Горгий.
Бывает, Сократ, когда пространные ответы неизбежны. Тем не менее я постараюсь быть как можно более кратким, потому что этим я также горжусь: никому не превзойти меня в краткости выражений.
Сократ.
Это‑то нам и нужно, Горгий! Покажи мне свою немногословность, а многословие покажешь в другой раз.
Горгий.
Хорошо, и ты признаешь, что никогда не слыхал никого, кто был бы скупее на слова.
d
Сократ.
Стало быть, начнем. Ты говоришь, что ты и сам сведущ в красноречии, и берешься другого сделать оратором. Но в чем же, собственно, состоит это искусство? Вот ткачество, например, состоит в изготовлении плащей. Так я говорю?
Горгий.
Да.
Сократ.
А музыка – в сочинении напевов?
Горгий.
Да.
Сократ.
Клянусь Герой, Горгий, я восхищен твоими ответами: ты отвечаешь как нельзя короче!
Горгий.
Да, Сократ, я полагаю, это выходит у меня совсем недурно.
Сократ.
Ты прав. Теперь, пожалуйста, ответь мне так же точно насчет красноречия: это опытность в чем?
e
Горгий.
В речах.
Сократ.
В каких именно, Горгий? Не в тех ли, что указывают больным образ жизни, которого надо держаться, чтобы выздороветь?
Горгий.
Нет.
Сократ.
Значит, красноречие заключено не во всяких речах?
Горгий.
Конечно, нет.
Сократ.
Но оно дает уменье говорить.
Горгий.
Да.
Сократ.
И значит, размышлять о том, о чем говоришь?
Горгий.
Как же иначе!
450
Сократ.
А искусство врачевания, которое мы сейчас только упоминали, не выучивает ли оно размышлять и говорить о больных?
Горгий.
Несомненно.
Сократ.
Значит, по всей вероятности, врачевание – это тоже опытность в речах.
Горгий.
Да.
Сократ.
В речах о болезнях?
Горгий.
Бесспорно.
Сократ.
Но ведь и гимнастика занимается речами – о хорошем или же дурном состоянии тела, не правда ли?
Горгий.
Истинная правда.
b
Сократ.
И остальные искусства, Горгий, совершенно так же: каждое из них занято речами о вещах, составляющих предмет этого искусства.
Горгий.
Кажется, так.
Сократ.
Почему же тогда ты не зовешь «красноречиями» остальные искусства, которые тоже заняты речами, раз ты обозначаешь словом «красноречие» искусство, занятое речами?
Горгий.
Потому, Сократ, что в остальных искусствах почти вся опытность относится к ручному труду и другой подобной деятельности, а в красноречии ничего похожего на ручной труд нет, но вся его деятельность и вся сущность заключены в речах.
c
Вот почему я утверждаю, что красноречие – это искусство, состоящее в речах, и утверждаю правильно, на мой взгляд.
Сократ.
Ты думаешь, теперь я понял, что ты разумеешь под словом «красноречие»? Впрочем, сейчас разгляжу яснее. Отвечай мне: мы признаем, что существуют искусства, верно?
Горгий.
Верно.
Сократ.
Все искусства, по‑моему, можно разделить так: одни главное место отводят работе и в речах нуждаются мало, а иные из них и вовсе не нуждаются – они могут исполнять свое дело даже в полном молчании, как, например, живопись, ваяние и многие другие.
d
Ты, наверно, об этих искусствах говоришь, что красноречие не имеет к ним никакого отношения? Или же нет?
Горгий.
Ты прекрасно меня понимаешь, Сократ.
Сократ.
А другие искусства достигают всего с помощью слова, в деле же, можно сказать, нисколько не нуждаются либо очень мало, как, например, арифметика, искусство счета, геометрия, даже игра в шашки[599]
и многие иные, среди которых одни пользуются словом и делом почти в равной мере, в некоторых же – и этих больше – слово перевешивает и вся решительно их сила и вся суть обнаруживаются в слове. К ним, наверно, ты и относишь красноречие.
e
Горгий.
Ты прав.
Сократ.
Но я думаю, ни одно из перечисленных мною искусств ты не станешь звать красноречием, хоть и сам сказал, что всякое искусство, сила которого обнаруживается в слове, есть красноречие, и, стало быть, если бы кто пожелал придраться к твоим словам, то мог бы и возразить: «Значит, арифметику, Горгий, ты объявляешь красноречием?» Но я думаю, ты не объявишь красноречием ни арифметику, ни геометрию.
451
Горгий.
И верно думаешь, Сократ. Так оно и есть.
Сократ.
Тогда, пожалуйста, если уж ты начал мне отвечать, говори до конца. Раз красноречие оказывается одним из тех искусств, которые преимущественно пользуются словом, и раз оказывается, что существуют и другие искусства подобного рода, попробуй определить: на что должна быть направлена скрывающаяся в речах сила, чтобы искусство было красноречием? Если бы кто спросил меня о любом из искусств, которые мы сейчас называли, например: «Сократ, что такое искусство арифметики?» –
b
я бы ответил вслед за тобою, что это одно из искусств, обнаруживающих свою силу в слове. А если бы дальше спросили: «На что направлена эта сила?» – я бы сказал, что на познание четных и нечетных чисел, какова бы ни была их величина. Если спросили бы: «А искусством счета ты что называешь?» – я бы сказал, что и оно из тех искусств, которые всего достигают словом. И если бы еще спросили: «На что же оно направлено?» – я ответил бы наподобие тех, кто предлагает новые законы в Народном собрании,
c
что во всем прочем[600]
искусство счета одинаково с арифметикой: ведь оно обращено на то же самое, на четные и нечетные числа, отличается же лишь тем, что и в четном, и в нечетном старается установить величину саму по себе и в ее отношении к другим величинам. И если бы кто стал спрашивать про астрономию, а я бы сказал, что и она всего достигает словом, а меня бы спросили: «Но речи астрономии на что направлены, Сократ?» – я ответил бы, что на движение звезд. Солнца, Луны и на то, в каком отношении друг к другу находятся их скорости.
d
Горгий.
Это был бы верный ответ, Сократ.
Сократ.
Ну, теперь твой черед, Горгий. Значит, красноречие принадлежит к тем искусствам, которые все совершают и всего достигают словом. Не так ли?
Горгий.
Так.
Сократ.
А на что оно направлено? Что это за предмет, на который направлены речи, принадлежащие этому искусству?
Горгий.
Это самое великое, Сократ, и самое прекрасное из всех человеческих дел.
Сократ.
Ах, Горгий, ты снова отвечаешь уклончиво и недостаточно ясно. Тебе, наверно, приходилось слышать на пирушках, как поют круговую застольную песню[601]
, перечисляя так:
e
всего лучше здоровье, потом – красота, потом, по слову поэта, сочинившего песню, «честно нажитое богатство».
Горгий.
Да, приходилось. Но к чему ты клонишь?
Сократ.
А к тому, что против тебя тотчас же выступят создатели благ, которые прославил сочинитель песни, а именно врач, учитель гимнастики и делец, и первым станет говорить врач.
452
«Сократ, – скажет он, – Горгий обманывает тебя: не его искусство направлено на величайшее для людей благо, а мое». И если бы я тогда спросил его: «А сам‑то ты кто? Почему ведешь такие речи?» – он бы, верно, ответил: «Я врач». – «Как же тебя понимать? Так, что плод твоего искусства есть величайшее благо?» – «А как же иначе, Сократ, – возразил бы он, верно, – ведь это – здоровье! Есть ли у людей благо дороже здоровья?»
b
После врача заговорит учитель гимнастики: «Я бы тоже удивился, Сократ, если бы Горгий доказал тебе, что своим искусством он творит большее благо, чем я – своим». И его я спросил бы: «Кто ты таков, мой любезный, и какое твое занятие?» – «Я учитель гимнастики, – сказал бы он, – а мое занятие – делать людей красивыми и сильными телом». После учителя в разговор вступил бы делец, полный, как мне кажется, пренебрежения ко всем подряд:
c
«Смотри, Сократ, найдешь ли ты у Горгия или еще у кого угодно благо большее, чем богатство». И я бы ему сказал: «Выходит, что ты создатель богатства?» – «Да». – «А твое звание?» – «Я делец». – «Так что же, – скажем мы, – ты думаешь, что величайшее для людей благо – это богатство?» – «Ну, разумеется!» – скажет он. «Но вот Горгий утверждает, что его искусство по сравнению с твоим – источник большего блага», – возразили бы мы.
d
Тут он, конечно, в ответ: «А что это за благо? Пусть Горгий объяснит». Так считай, Горгий, что тебя спрашивают не только они, но и я, и объясни, что ты имеешь в виду, говоря о величайшем для людей благе и называя себя его создателем.
Горгий.
То, что поистине составляет величайшее благо и дает людям как свободу, так равно и власть над другими людьми, каждому в своем городе.
Сократ.
Что же это, наконец?
e
Горгий.
Способность убеждать словом и судей в суде, и советников в Совете, и народ в Народном собрании, да и во всяком ином собрании граждан. Владея такою силой, ты и врача будешь держать в рабстве, и учителя гимнастики, а что до нашего дельца, окажется, что он не для себя наживает деньги, а для другого – для тебя, владеющего словом и уменьем убеждать толпу.
453
Сократ.
Вот сейчас ты, Горгий, по‑моему, ближе всего показал, что ты понимаешь под красноречием, какого рода это искусство; если я не ошибаюсь, ты утверждаешь, что оно – мастер убеждения: в этом вся его суть и вся забота. Или ты можешь сказать, что красноречие способно на что‑то большее, чем вселять убеждение в души слушателей?
Горгий.
Нет, нет, Сократ, напротив, по‑моему, ты определил вполне достаточно: как раз в этом его суть.
b
Сократ.
Тогда слушай, Горгий. Я убежден – не скрою от тебя, – что если есть на свете люди, которые ведут беседы, желая понять до конца, о чем идет речь, то я один из их числа. Полагаю, и ты тоже.
Горгий.
Что ж из того, Сократ?
Сократ.
Сейчас объясню. Ты говоришь об убеждении, которое создается красноречием, но что это за убеждение и каких вещей оно касается, – не скрою от тебя, – мне недостаточно ясно. Правда, мне кажется, я догадываюсь, о чем ты говоришь и что имеешь в виду, и все же я спрошу тебя, как ты понимаешь это убеждение, порождаемое красноречием, и к чему оно применимо.
c
Чего ради, однако, спрашивать тебя, а не высказаться самому, раз уж я и так догадываюсь? Не ради тебя, но ради нашего рассуждения: пусть оно идет так, чтобы его предмет сделался для нас как можно более ясным. Впрочем, смотри, не сочтешь ли ты неуместными мои расспросы. Если бы, например, я спросил у тебя, чту за живописец Зевксид[602]
, а ты бы ответил, что он пишет картины, разве не к месту спросил бы я дальше, какие он пишет картины и где?
Горгий.
Очень даже к месту.
d
Сократ.
Потому, конечно, что существуют другие живописцы, которые пишут много других картин?
Горгий.
Да.
Сократ.
Но если бы, кроме Зевксида, никто другой не писал, твой ответ был бы правильный?
Горгий.
Как же иначе!
Сократ.
Теперь скажи мне и насчет красноречия. Кажется ли тебе, что убеждение создается одним красноречием или же и другими искусствами тоже? Я объясню свой вопрос. Если кто учит чему‑нибудь, убеждает он в том, чему учит, или нет?
Горгий.
Разумеется, Сократ, убеждает лучше всякого другого!
e
Сократ.
Тогда вернемся к тем искусствам, о которых мы недавно говорили. Искусство арифметики не учит ли нас свойствам числа? И человек, сведущий в этом искусстве, – так же точно?
Горгий.
Непременно.
Сократ.
А значит, и убеждает?
Горгий.
Да.
Сократ.
Стало быть, мастером убеждения оказывается и это искусство тоже?
Горгий.
По‑видимому.
Сократ.
Значит, если нас спросят: «Какого убеждения и на что оно направлено?» – мы, вероятно, ответим:
454
«Поучающего, что такое четные и нечетные числа и каковы их свойства». Значит, и остальные искусства, о которых говорилось раньше, все до одного, мы назовем мастерами убеждения и покажем, чту это за убеждение и на что направлено. Ты согласен?
Горгий.
Да.
Сократ.
Стало быть, красноречие не единственный мастер убеждения.
Горгий.
Да, верно.
Сократ.
Но если оно не одно производит такое действие, а другие искусства тоже, мы могли бы теперь точно так же, как раньше насчет живописца, задать своему собеседнику справедливый вопрос:
b
красноречие – это искусство убеждения, но какого убеждения и на что оно направлено? Или же такой вопрос кажется тебе неуместным?
Горгий.
Нет, отчего же.
Сократ.
Тогда отвечай, Горгий, раз и ты того же мнения.
Горгий.
Я говорю о таком убеждении, Сократ, которое действует в судах и других сборищах (как я только сейчас сказал), а его предмет – справедливое и несправедливое[603]
.
Сократ.
Я, конечно, догадывался, Горгий, что именно о таком убеждении ты говоришь и что именно так оно направлено. Но я хотел предупредить тебя, чтобы ты не удивлялся, когда немного спустя я снова спрошу тебя о том, что, казалось бы, совершенно ясно, а я все‑таки спрошу:
c
ведь, повторяю еще раз, я задаю вопросы ради последовательного развития нашей беседы, не к твоей невыгоде, а из опасения, как бы у нас не вошло в привычку перебивать друг друга и забегать вперед. Я хочу, чтобы ты довел свое рассуждение до конца, как сам найдешь нужным, по собственному замыслу.
Горгий.
По‑моему, прекрасное намерение, Сократ.
Сократ.
Тогда давай рассмотрим еще вот что. Знакомо ли тебе слово «узнать»?
d
Горгий.
Знакомо.
Сократ.
Ну, что ж, а «поверить»?
Горгий.
Конечно.
Сократ.
Кажется ли тебе, что это одно и то же – «узнать» и «поверить», «знание» и «вера»[604]
– или же что они как‑то отличны?
Горгий.
Я думаю, Сократ, что отличны.
Сократ.
Правильно думаешь, и вот тебе доказательство. Если бы тебя спросили: «Бывает ли, Горгий, вера истинной и ложной?» – ты бы, я полагаю, ответил, что бывает.
Горгий.
Да.
Сократ.
Ну, а знание? Может оно быть истинным и ложным?
Горгий.
Никоим образом!
Сократ.
Стало быть, ясно, что это не одно и то же.
e
Горгий.
Ты прав.
Сократ.
А между тем убеждением обладают и узнавшие, и поверившие.
Горгий.
Правильно.
Сократ.
Может быть, тогда установим два вида убеждения: одно – сообщающее веру без знания, другое – дающее знание?
Горгий.
Прекрасно.
Сократ.
Какое же убеждение создается красноречием в судах и других сборищах о делах справедливых и несправедливых? То, из которого возникает вера без знания или из которого знание?
455
Горгий.
Ясно, Сократ, что из которого вера.
Сократ.
Значит, красноречие – это мастер убеждения, внушающего веру в справедливое и несправедливое, а не поучающего, что справедливо, а что нет.
Горгий.
Так оно и есть.
Сократ.
Значит, оратор в судах и других сборищах не поучает, что справедливо, а что нет, но лишь внушает веру, и только. Ну, конечно, ведь толпа не могла бы постигнуть столь важные вещи за такое малое время.
b
Горгий.
Да, конечно.
Сократ.
Давай же поглядим внимательно, что мы, собственно, понимаем под красноречием: ведь я и сам еще не могу толком разобраться в своих мыслях. Когда граждане соберутся, чтобы выбрать врача, или корабельного мастера, или еще какого‑нибудь мастера, станет ли тогда оратор подавать советы? Разумеется, не станет, потому что в каждом таком случае надо выбирать самого сведущего в деле человека. И так же точно, когда нужно соорудить стены, или пристани, или корабельные верфи, требуется совет не ораторов, а строителей.
c
А когда совещаются, кого выбрать в стратеги – для встречи ли с неприятелем в открытом бою, для захвата ли крепости, – опять советы подают не ораторы, а люди сведущие в военном искусстве. Что ты на это скажешь, Горгий? Раз ты и себя объявляешь оратором, и других берешься выучить красноречию, кого же еще, как не тебя, расспрашивать о свойствах твоего искусства? И прими в расчет, что я хлопочу теперь и о твоей личной выгоде.
d
Может, кто‑нибудь из тех, кто здесь собрался, хочет поступить к тебе в ученики – нескольких я уже замечаю, а пожалуй, и довольно многих, – но, может быть, они не решаются обратиться к тебе с вопросом. Так считай, что вместе со мною тебя спрашивают и они: «Какую пользу, Горгий, мы извлечем из твоих уроков? Насчет чего сможем мы подавать советы государству? Только ли насчет справедливого и несправедливого или же и насчет того, о чем сейчас говорил Сократ?» Постарайся им ответить.
e
Горгий.
Да, я постараюсь, Сократ, открыть тебе доподлинно всю силу красноречия. Тем более что ты сам навел меня на правильный путь. Ты, бесспорно, знаешь, что и эти верфи, о которых была речь, и афинские стены, и пристани сооружены по совету Фемистокла и отчасти Перикла[605]
, а совсем не знатоков строительного дела.
Сократ.
Верно, Горгий, про Фемистокла ходят такие рассказы, а Перикла я слышал и сам, когда он советовал нам сложить внутренние стены.
456
Горгий.
И когда случаются выборы, – одни из тех, о которых ты сейчас только говорил, Сократ, – ты, конечно, видишь, что советы подают ораторы и в спорах побеждают их мнения.
Сократ.
Это меня и изумляет, Горгий, и потому я снова спрашиваю, что за сила в красноречии. Какая‑то божественно великая сила чудится мне, когда я о нем размышляю.
Горгий.
Если бы ты знал все до конца, Сократ! Ведь оно собрало и держит в своих руках, можно сказать, силы всех [искусств]! Сейчас я приведу тебе очень убедительное доказательство.
b
Мне часто случалось вместе с братом и другими врачами посещать больных, которые либо не хотели пить лекарство, либо никак не давались врачу делать разрез или прижигание, и вот врач оказывался бессилен их убедить, а я убеждал, и не иным каким искусством, а одним только красноречием. Далее, я утверждаю, что если бы в какой угодно город прибыли оратор и врач и если бы в Народном собрании или в любом ином собрании зашел спор, кого из двоих выбрать врачом, то на врача никто бы и смотреть не стал, а выбрали бы того, кто владеет словом, – стоило бы ему только пожелать.
c
И в состязании с любым другим знатоком своего дела оратор тоже одержал бы верх, потому что успешнее, чем любой другой, убедил бы собравшихся выбрать его и потому что не существует предмета, о котором оратор не сказал бы перед толпою убедительнее, чем любой из знатоков своего дела. Вот какова сила моего искусства и его возможности.
Но к красноречию, Сократ, надо относиться так же, как ко всякому прочему средству состязания. Ведь
d
и другие средства состязания не обязательно обращать против всех людей подряд по той лишь причине, что ты выучился кулачному бою, борьбе[606]
, обращению с оружием, став сильнее и друзей, и врагов, – не обязательно по этой причине бить друзей, увечить их и убивать. Так же точно, если кто будет долго ходить в пелестру[607]
и закалится телом и станет опытным кулачным бойцом, а потом поколотит отца и мать или кого еще из родичей или друзей, не нужно, клянусь Зевсом,
e
по этой причине преследовать ненавистью и отправлять в изгнание учителей гимнастики и всех тех, кто учит владеть оружием. Ведь они передали свое уменье ученикам, чтобы те пользовались им по справедливости – против врагов и преступников, для защиты, а не для нападения; те же пользуются своей
457
силою и своим искусством неправильно – употребляют их во зло. Стало быть, учителей нельзя называть негодяями, а искусство винить и называть негодным по этой причине; негодяи, по‑моему, те, кто им злоупотребляет.
То же рассуждение применимо и к красноречию. Оратор способен выступать против любого противника и по любому поводу так, что убедит толпу скорее всякого другого; короче говоря, он достигнет всего, чего ни пожелает.
b
Но вовсе не следует по этой причине отнимать славу ни у врача (хотя оратор и мог бы это сделать), ни у остальных знатоков своего дела. Нет, и красноречием надлежит пользоваться по справедливости, так же как искусством состязания. Если же кто‑нибудь, став оратором, затем злоупотребит своим искусством и своей силой, то не учителя надо преследовать ненавистью и изгонять из города:
c
ведь он передал свое умение другому для справедливого пользования, а тот употребил его с обратным умыслом. Стало быть и ненависти, и изгнания, и казни по справедливости заслуживает злоумышленник, а не его учитель.
Сократ.
Я полагаю, Горгий, ты, как и я, достаточно опытен в беседах, и вот что тебе случалось, конечно, замечать. Если двое начнут что‑нибудь обсуждать, то нечасто бывает, чтобы, высказав свое суждение и усвоив чужое, они пришли к согласному определению и на том завершили разговор, но обычно они разойдутся во взглядах, и один скажет другому, что тот выражается неверно или неясно, и вот уже оба разгневаны и каждый убежден, будто другой в своих речах руководится лишь недоброжелательством и упорством,
d
а о предмете исследования не думает вовсе. Иные в конце концов расстаются самым отвратительным образом, осыпав друг друга бранью и обменявшись такими оскорблениями, что даже присутствующим становится досадно, но только на себя самих: зачем вызвались слушать подобных людей?
К чему, однако ж, эти слова? Видишь ли, мне кажется, ты теперь говоришь о красноречии не вполне сообразно и созвучно тому, как говорил сначала. И вот я боюсь тебя опровергать – боюсь, как бы ты не решил, что я стараюсь просто‑напросто переспорить тебя,
458
а не выяснить существо дела. Если ты принадлежишь к той же породе людей, что и я, тогда я охотно продолжу свои расспросы, если же нет, я бы предпочел на этом закончить.
Что же это за люди, к которым я принадлежу? Они охотно выслушивают опровержения, если что‑нибудь скажут неверно, и охотно опровергают другого, если тот что скажет неверно, и притом второе доставляет им не больше удовольствия, чем первое.
b
В самом деле, первое я считаю большим благом, настолько же большим, насколько лучше самому избавиться от величайшего зла, чем избавить другого. Но по‑моему, нет для человека зла опаснее, чем ложное мнение[608]
о том, что стало предметом нынешней нашей беседы.
Ну вот, если и ты причисляешь себя к таким людям, продолжим наш разговор. Если же тебе кажется, что его лучше прекратить, давай прекратим и оставим все как есть.
Горгий.
Нет, Сократ, ведь я и сам именно такой, как ты сейчас изобразил. Но пожалуй, надо и о присутствующих подумать. Я долго выступал перед ними еще до того, как пришли вы, и теперь, пожалуй,
c
мы затянем дело надолго, если продолжим наш разговор. Так что надо нам и о них позаботиться – как бы кого не задержать, если у них есть еще дела.
Херефонт.
Разве вы сами, Горгий и Сократ, не слышите громких похвал этих людей, которые хотят узнать, что вы скажете дальше? Мне по крайней мере было бы очень досадно, если бы случилась надобность настолько важная, чтобы оторвать меня от такой беседы и таких собеседников ради неотложного дела!
d
Калликл.
Да, Херефонт, клянусь богами, я тоже был свидетелем достаточно многих бесед, но едва ли хоть раз испытывал столько удовольствия, сколько теперь. По мне, говорите хоть весь день – сделайте одолжение!
Сократ.
Ну, что ж, Калликл, с моей стороны препятствий нет, если только Горгий согласен.
Горгий.
Для меня теперь было бы позором не согласиться, Сократ, после того как я сам вызвался отвечать на любые вопросы, какие кто ни задаст. Раз присутствующие не возражают, продолжай разговор и спрашивай что хочешь.
e
Сократ.
Тогда выслушай, Горгий, что в твоих утверждениях меня изумляет. Возможно, впрочем, что говоришь ты верно, да я неверно понимаю. Ты утверждаешь, что способен сделать оратором всякого, кто пожелает у тебя учиться?
Горгий.
Да.
Сократ.
Но конечно, так, что в любом деле он приобретет доверие толпы не наставлением, а убеждением?
459
Горгий.
Совершенно верно.
Сократ.
Ты утверждал только сейчас, что и в делах, касающихся здоровья, оратор приобретет больше доверия, чем врач.
Горгий.
Да, у толпы.
Сократ.
Но «у толпы» – это, конечно, значит у невежд? Потому что у знатоков едва ли он найдет больше доверия, нежели врач.
Горгий.
Ты прав.
Сократ.
Если он встретит большее доверие, чем врач, это, значит, – большее, чем знаток своего дела?
Горгий.
Разумеется.
Сократ.
Не будучи при этом врачом, так?
Горгий.
Да.
b
Сократ.
А не‑врач, понятно, не знает того, что знает врач.
Горгий.
Очевидно.
Сократ.
Стало быть, невежда найдет среди невежд больше доверия, чем знаток: ведь оратор найдет больше доверия, чем врач. Так выходит или как‑нибудь по‑иному?
Горгий.
Выходит так – в этом случае.
Сократ.
Но и в остальных случаях перед любым иным искусством оратор и ораторское искусство пользуются таким же преимуществом. Знать существо дела красноречию нет никакой нужды, надо только отыскать какое‑то средство убеждения, чтобы казаться невеждам большим знатоком, чем истинные знатоки.
c
Горгий.
Не правда ли, Сократ, какое замечательное удобство: из всех искусств изучаешь одно только это и, однако ж, нисколько не уступаешь мастерам любого дела!
Сократ.
Уступает ли оратор прочим мастерам, ничему иному не учась, или же не уступает, мы рассмотрим вскоре, если того потребует наше рассуждение. А сперва давай посмотрим:
d
что, в справедливом и несправедливом, безобразном и прекрасном, добром и злом оратор так же несведущ, как в здоровье и в предметах остальных искусств, то есть существа дела не знает – что такое добро и что зло, прекрасное или безобразное, справедливое или несправедливое, – но и тут владеет средством убеждения и потому, сам невежда, кажется другим невеждам большим знатоком, чем настоящий знаток?
e
Или это знать ему необходимо, и кто намерен учиться красноречию, должен приходить к тебе, уже заранее обладая знаниями? А нет, так ты, учитель красноречия, ничему из этих вещей новичка, конечно, не выучишь – твое дело ведь другое! – но устроишь так, что, не зная, толпе он будет казаться знающим, будет казаться добрым, не заключая в себе добра? Или же ты вообще не сможешь выучить его красноречию, если он заранее не будет знать истины обо всем этом?
460
Или все обстоит как‑то по‑иному, Горгий? Ради Зевса, открой же нам, наконец, как ты только что обещал, что за сила у красноречия!
Горгий.
Я так полагаю, Сократ, что если [ученик] всего этого не знает, он выучится от меня и этому.
Сократ.
Прекрасно! Задержимся на этом. Если ты готовишь кого‑либо в ораторы, ему необходимо узнать, что такое справедливое и несправедливое, либо заранее, либо впоследствии, выучив с твоих слов.
Горгий.
Конечно.
Сократ.
Двинемся дальше. Тот, кто изучил строительное искусство, – строитель или нет?
b
Горгий.
Строитель.
Сократ.
А музыку – музыкант?
Горгий.
Да.
Сократ.
А искусство врачевания – врач? И с остальными искусствами точно так же: изучи любое из них – и станешь таков, каким тебя сделает приобретенное знание?
Горгий.
Конечно.
Сократ.
Значит, таким же точно образом, кто изучил, что такое справедливость, – справедлив?
Горгий.
Вне всякого сомнения!
Сократ.
А справедливый, видимо, поступает справедливо?
Горгий.
Да.
c
Сократ.
Значит, человеку, изучившему красноречие, необходимо быть справедливым, а справедливому – стремиться лишь к справедливым поступкам.
Горгий.
По‑видимому.
Сократ.
Стало быть, справедливый человек никогда не захочет совершить несправедливость?
Горгий.
Никогда.
Сократ.
А человеку, изучившему красноречие, необходимо – на том же основании – быть справедливым.
Горгий.
Да.
Сократ.
Стало быть, оратор никогда не пожелает совершить несправедливость.
d
Горгий.
Кажется, нет.
Сократ.
Ты помнишь, что говорил немного раньше, – что не следует ни винить, ни карать изгнанием учителей гимнастики, если кулачный боец не по справедливости пользуется своим умением биться на кулаках? И равным образом, если оратор пользуется своим красноречием не по справедливости, следует винить и карать изгнанием не его наставника, а самого нарушителя справедливости, который дурно воспользовался своим искусством. Было это сказано или не было?
Горгий.
Было.
e
Сократ.
А теперь обнаруживается, что этот самый человек, изучивший красноречие, вообще не способен совершить несправедливость. Верно?
Горгий.
Кажется, верно.
Сократ.
В начале нашей беседы, Горгий, мы говорили, что красноречие применяется к рассуждениям о справедливом и несправедливом, а не о четных и нечетных числах. Так?
Горгий.
Да.
Сократ.
Слушая тебя тогда, я решил, что красноречие ни при каких условиях не может быть чем‑то несправедливым, раз оно постоянно ведет речи о справедливости. Когда же ты немного спустя сказал, что оратор способен воспользоваться своим красноречием и вопреки справедливости,
461
я изумился, решив, что эти утверждения звучат несогласно друг с другом, и потому‑то предложил тебе: если выслушать опровержение для тебя – прибыль, как и для меня, разговор стоит продолжать, если же нет – лучше его оставить. Но, продолжая наше исследование, мы, как сам видишь, снова должны допустить, что человек, сведущий в красноречии, не способен ни пользоваться своим искусством вопреки справедливости, ни стремиться к несправедливым поступкам.
b
Каково же истинное положение дел… клянусь собакой, Горгий, долгая требуется беседа, чтобы выяснить это как следует.
Пол.
Да что ты, Сократ! Неужели ты так и судишь о красноречии, как теперь говоришь? Горгий постеснялся не согласиться с тобою в том, что человек, искушенный в красноречии, и справедливое знает, и прекрасное, и доброе, и, если приходит ученик, всего этого не знающий, так он сам его научит, и отсюда в рассуждении возникло какое‑то противоречие, –
c
а ты и радуешься, запутав собеседника своими вопросами, и воображаешь, будто хоть кто‑нибудь согласится, что он и сам не знает справедливости и другого научить не сможет? Но это очень невежливо – так направлять разговор!
Сократ.
Милейший мой Пол! Для того‑то как раз и обзаводимся мы друзьями и детьми, чтобы, когда, состарившись, начнем ошибаться, вы, молодые, были бы рядом и поправляли бы неверные наши речи и поступки.
d
Вот и теперь, если мы с Горгием в чем‑то ошиблись, ведя свои речи, – ты рядом, ты нас и поправь (это твой долг!), а я, раз тебе кажется, будто кое в чем мы согласились неверно, охотно возьму назад любое свое суждение – при одном‑единственном условии.
Пол.
Что за условие?
Сократ.
Чтобы ты унял свою страсть к многословию, которой уже предался было вначале.
Пол.
Как? Мне нельзя будет говорить сколько вздумается?
e
Сократ.
Да, тебе очень не посчастливилось бы, мой дорогой, если бы, прибыв в Афины, где принята самая широкая в Греции свобода речи[609]
, ты оказался бы один в целом городе лишен этого права. Но взгляни и с другой стороны: ты пустишься в долгие речи, не захочешь отвечать на вопросы – и не мне ли уже тогда очень не посчастливится, раз нельзя будет уйти и не слушать тебя?
462
Итак, если тебя сколько‑нибудь занимает беседа, которая шла до сих пор, и ты хочешь направить ее на верный путь, то, повторяю, поставь под сомнение, что найдешь нужным, в свою очередь спрашивай, в свою отвечай, как мы с Горгием, возражай и выслушивай возражения. Ведь ты, конечно, считаешь, что знаний у тебя не меньше, чем у Горгия, верно?
Пол.
Верно.
Сократ.
Стало быть, и ты предлагаешь, чтобы тебя спрашивали, кто о чем вздумает, потому что знаешь. как отвечать?
Пол.
Несомненно.
b
Сократ.
Тогда выбирай сам, что тебе больше нравится, – спрашивать или отвечать.
Пол.
Хорошо, так и сделаем. Ответь мне, Сократ, если Горгий, по‑твоему, зашел в тупик, что скажешь о красноречии ты сам?
Сократ.
Ты спрашиваешь, что это за искусство, на мой взгляд?
Пол.
Да.
Сократ.
Сказать тебе правду, Пол, по‑моему, это вообще не искусство.
Пол.
Но что же такое, по‑твоему, красноречие?
Сократ.
Вещь, которую ты, как тебе представляется, возвысил до искусства в своем сочинении: я недавно его прочел.
Пол.
Ну, так что же это все‑таки?
Сократ.
Какая‑то сноровка, мне думается.
c
Пол.
Значит, по‑твоему, красноречие – это сноровка?
Сократ.
Да, с твоего разрешения.
Пол.
Сноровка в чем?
Сократ.
В том, чтобы доставлять радость и удовольствие.
Пол.
Значит, красноречие кажется тебе прекрасным потому, что оно способно доставлять людям удовольствие?
Сократ.
Постой‑ка, Пол. Разве ты уже узнал от меня, что именно я понимаю под красноречием, чтобы задавать новый вопрос: прекрасно ли оно, на мой взгляд, или не прекрасно?
d
Пол.
А разве я не узнал, что под красноречием ты понимаешь своего рода сноровку?
Сократ.
Не хочешь ли, раз уже ты так ценишь радость, доставить небольшую радость и мне?
Пол.
Охотно.
Сократ.
Тогда спроси меня, что представляет собою, на мой взгляд, поваренное искусство.
Пол.
Пожалуйста: что это за искусство – поваренное?
Сократ.
Оно вообще не искусство, Пол.
Пол.
А что же? Ответь.
Сократ.
Отвечаю: своего рода сноровка.
e
Пол.
В чем? Отвечай.
Сократ.
Отвечаю: в том, чтобы доставлять радость и удовольствие, Пол.
Пол.
Значит, поваренное искусство – то же, что красноречие?
Сократ.
Никоим образом, но это разные части одного занятия.
Пол.
Какого такого занятия?
Сократ.
Я боюсь, как бы правда не прозвучала слишком грубо, и не решаюсь говорить из‑за Горгия: он может подумать, будто я поднимаю на смех его занятие. Я не уверен, что красноречие, которым занимается Горгий,
463
совпадает с тем, какое я имею в виду (ведь до сих пор из нашей беседы его взгляд на красноречие так и не выяснился), но то, что я называю красноречием, – это часть дела, которое прекрасным никак не назовешь.
Горгий.
Какого, Сократ? Не стесняйся меня, скажи.
Сократ.
Ну, что ж, Горгий, по‑моему, это занятие, чуждое искусству, но требующее души догадливой, дерзкой и наделенной природным даром обращения с людьми.
b
Суть этого занятия я зову угодничеством. Оно складывается из многих частей, поваренное искусство – одна из них. Впрочем, искусством оно только кажется; по‑моему, это не искусство, но навык и сноровка. Частями того же занятия я считаю и красноречие, и украшение тела, и софистику – всего четыре части соответственно четырем различным предметам.
c
Теперь, если Пол желает спрашивать, пусть спрашивает. Ведь он еще не узнал, какую часть угодничества составляет, на мой взгляд, красноречие, – на такой вопрос я еще не отвечал, но Пол этого не заметил и спрашивает дальше, считаю ли я красноречие прекрасным. А я не стану отвечать ему, каким считаю красноречие, прекрасным или же безобразным, раньше чем не отвечу на вопрос, что оно такое! Это было бы не по справедливости, Пол. Но если ты все же хочешь узнать, какую, на мой взгляд, часть угодничества составляет красноречие, спрашивай.
d
Пол.
Вот я и спрашиваю: ответь мне, какую часть?
Сократ.
Поймешь ли ты мой ответ? Красноречие, по моему мнению, – это призрак одной из частей государственного искусства.
Пол.
И дальше что? Прекрасным ты его считаешь или безобразным?
Сократ.
Безобразным. Всякое зло я зову безобразным. Приходится отвечать тебе так, как если бы ты уже сообразил, что я имею в виду.
Горгий.
Клянусь Зевсом, Сократ, даже я не понимаю, что ты имеешь в виду!
e
Сократ.
Ничего удивительного, Горгий: я ведь еще не объяснил свою мысль. Но Пол у нас молодой и шустрый – настоящий жеребенок![610]
Горгий.
Да оставь ты его и растолкуй лучше мне, что это значит: красноречие – призрак одной из частей государственного искусства?
Сократ.
Да, я попытаюсь объяснить, чем представляется мне красноречие. А если запутаюсь – вот тебе Пол: он меня уличит. Ты, вероятно, различаешь душу и тело?
Горгий.
Ну, еще бы!
464
Сократ.
Стало быть, и душе, и телу, по‑твоему, свойственно состояние благополучия?
Горгий.
Да.
Сократ.
Но бывает и мнимое благополучие, а не подлинное? Я хочу сказать вот что: многим мнится, что они здоровы телом, и едва ли кто с легкостью определит, что они нездоровы, кроме врача пли учителя гимнастики.
Горгий.
Ты прав.
Сократ.
В таком состоянии, утверждаю я, может находиться не только тело, но и душа: оно придает телу и душе видимость благополучия, которого в них на самом деле нет.
b
Горгий.
Верно.
Сократ.
Так, а теперь, если смогу, я выскажу тебе свое мнение более отчетливо.
Раз существуют два предмета, значит, и искусства тоже два. То, которое относится к душе, я зову государственным, то, которое к телу, не могу обозначить тебе сразу же одним словом, и, хоть оно одно, это искусство попечения о теле, я различаю в нем две части: гимнастику и врачебное искусство. В государственном искусстве первой из этих частей соответствует искусство законодателя, второй – искусство судьи.
c
Внутри каждой пары оба искусства связаны меж собою – врачевание с гимнастикой и законодательство с правосудием, потому что оба направлены на один и тот же предмет, но вместе с тем и отличны друг от друга.
Итак, их четыре, и все постоянно пекутся о высшем благе, одни – для тела, другие – для души, а угодничество, проведав об этом – не узнав, говорю я, а только догадавшись! – разделяет само себя на четверти,
d
укрывается за каждым из четырех искусств и прикидывается тем искусством, за которым укрылось, но о высшем благе нисколько не думает, а охотится за безрассудством, приманивая его всякий раз самым желанным наслаждением, и до такой степени его одурачивает, что уже кажется преисполненным высочайших достоинств.
e
За врачебным искусством укрылось поварское дело и прикидывается, будто знает лучшие для тела кушанья, так что если бы пришлось повару и врачу спорить, кто из них двоих знает толк в полезных и вредных кушаньях, а спор бы их решали дети или столь же безрассудные взрослые, то врач умер бы с голоду.
465
Вот что я называю угодничеством, и считаю его безобразным, Пол, – это я к тебе обращаюсь, – потому что оно устремлено к приятному, а не к высшему благу. Искусством я его не признаю – это всего лишь сноровка, – ибо, предлагая свои советы, оно не в силах разумно определить природу того, что само же предлагает, а значит, не может и назвать причину каждого из своих [действий]. Но неразумное дело я не могу называть искусством. Если у тебя есть что возразить по этому поводу, я готов защищаться.
b
За врачеванием, повторяю, прячется поварское угодничество, за гимнастикой, таким же точно образом, – украшение тела: занятие зловредное, лживое, низкое, неблагородное, оно вводит в обман линиями, красками, гладкостью кожи, нарядами и заставляет гнаться за чужой красотой, забывая о собственной, которую дает гимнастика.
Чтобы быть покороче, я хочу воспользоваться языком геометрии, и ты, я надеюсь, сможешь за мною уследить: как украшение тела относится к гимнастике, так софистика относится к искусству законодателя,
c
и как поварское дело – к врачеванию, так красноречие – к правосудию. Я уже говорил, что по природе меж ними существует различие, но вместе с тем они и близки друг другу, и потому софисты и ораторы толпятся в полном замешательстве вокруг одного и того же и сами не знают толком, в чем их занятие, и остальные люди не знают. И действительно, если бы не душа владычествовала над телом,
d
а само оно над собою, и если бы не душою различали и отделяли поварское дело от врачевания, но тело судило бы само, пользуясь лишь меркою собственных радостей, то было бы в точности по слову Анаксагора[611]
, друг мой Пол (ты ведь знаком с его учением): все вещи смешались бы воедино – и то, что относится к врачеванию, к здоровью, к поварскому делу стало бы меж собою неразличимо.
e
Что я понимаю под красноречием, ты теперь слышал: это как бы поварское дело для души.
Вероятно, мое поведение странно: тебе я не позволил вести пространные речи, а сам затянул речь вон как надолго. Но право же, я заслуживаю извинения. Если бы я был краток, ты бы меня не понял и не смог бы использовать ответ, который я тебе дал, но попросил бы новых разъяснений. Ведь и я, если ты отвечаешь, а я не могу применить к беседе твои слова, тоже прошу:
466
«Продолжай, будь добр, свое рассуждение», – а если могу – другая просьба: «Разреши, я его использую». Это только справедливо. Вот и теперь, если можешь воспользоваться моим ответом, то воспользуйся.
Пол.
Так что же ты утверждаешь? Красноречие – это, по‑твоему, угодничество?
Сократ.
Нет, я сказал: только часть угодничества. Но что это, Пол? В твоем возрасте – и уж такая слабая память? Что ж с тобой дальше будет?
b
Пол.
Стало быть, по‑твоему, хорошие ораторы мало что значат в своих городах, раз они всего лишь льстивые угодники?
Сократ.
Ты задаешь мне вопрос или переходишь к какому‑нибудь новому рассуждению?
Пол.
Задаю вопрос.
Сократ.
По‑моему, они вообще ничего не значат.
Пол.
Как не значат? Разве они не всесильны в своих городах?
Сократ.
Нет, если силой ты называешь что‑то благое для ее обладателя.
Пол.
Да, называю.
c
Сократ.
Тогда, по‑моему, ораторы обладают самой ничтожною силою в своих городах.
Пол.
Как так? Разве они словно тираны, не убивают, кого захотят, не отнимают имущество, не изгоняют из города, кого сочтут нужным?
Сократ.
Клянусь собакой, Пол, я спотыкаюсь на каждом твоем слове: то ли ты сам все это говоришь, высказываешь собственное суждение, то ли меня спрашиваешь?
Пол.
Нет, я спрашиваю тебя.
Сократ.
Хорошо, мой друг. Но ты задаешь мне два вопроса сразу.
Пол.
Почему два?
d
Сократ.
Не сказал ли ты только что примерно так: «Разве ораторы, точно тираны, не убивают, кого захотят, не отнимают имущество, не отправляют в изгнание, кого сочтут нужным?»
Пол.
Да, сказал.
Сократ.
Вот я и говорю тебе, что это два разных вопроса, и отвечу на оба. Я утверждаю, Пол, что и ораторы, и тираны обладают в своих городах силою самою незначительной – повторяю тебе это еще раз. Ибо делают они, можно сказать, совсем не то, что хотят, – они делают то, что сочтут наилучшим.
e
Пол.
А разве это не то же самое, что обладать большой силою?
Сократ.
Нет. Так по крайней мере утверждает Пол.
Пол.
Я утверждаю? Я утверждаю как раз обратное!
Сократ.
Клянусь… нет, именно это, если ты не отказываешься от своих слов, что большая сила – благо для того, кто ею обладает.
Пол.
Никак не отказываюсь!
Сократ.
Стало быть, благо, по‑твоему, – это если кто ума не имеет, а действует так, как ему покажется наилучшим? И это ты зовешь большою силой?
467
Пол.
Нет.
Сократ.
Тогда ты, наверное, сейчас опровергнешь меня и докажешь, что ораторы – люди разумные и что красноречие – искусство, а не угодничество? А если не опровергнешь, стало быть, ни ораторы, которые делают в своих городах, что им вздумается, ни тираны никаким таким благом владеть не будут. Ведь ты утверждаешь, что сила – благо, а действовать без разума, как вздумается, – это, и по‑твоему, зло. Так или нет?
Пол.
Так.
Сократ.
Каким же тогда образом ораторы или тираны – большая сила в своих городах, если Пол не заставил Сократа признать, что они делают все, что хотят?
b
Пол.
Нет, вы послушайте…
Сократ.
Я утверждаю: они делают не то, что хотят. Теперь опровергай меня.
Пол.
Не признал ли ты сейчас, что они поступают так, как считают наилучшим?
Сократ.
И снова признаю.
Пол.
Так не делают ли они того, что хотят?
Сократ.
Нет.
Пол.
Хоть и поступают так, как считают нужным?
Сократ.
Да.
Пол.
Ну, Сократ, ты несешь несусветный вздор!
c
Сократ.
Не бранись, Пол, бесценнейший мой, – я хочу обратиться к тебе в твоем вкусе – а лучше, если есть у тебя, что спросить, покажи, в чем я заблуждаюсь, если нет, давай буду спрашивать я.
Пол.
Спрашивай ты, чтобы мне, наконец, понять, что ты имеешь в виду.
Сократ.
Как тебе кажется, действуя, люди желают того, что делают, или же того, ради чего они что‑то делают? Вот, например, те, кому врачи дают лекарство, они, по‑твоему, желают именно того, что делают – пить отвратительное на вкус лекарство, или же другого
d
– быть здоровыми, ради чего и пьют? Пол. Ясно, что быть здоровыми. Сократ. Точно так же и мореходы или люди, занимающиеся любым иным прибыльным делом: не того они желают, что каждый из них делает, – и правда, кому охота плавать, терпеть опасности, обременять себя заботами? – а того, я думаю, ради чего пускаются в плавание: богатства. Ведь ради того, чтобы разбогатеть, пускаются они в плавание.
Пол.
Конечно.
Сократ.
И во всем остальном разве иначе? Если человек что‑нибудь делает ради какой‑то цели, ведь не того он хочет, что делает, а того, ради чего делает?
e
Пол.
Да.
Сократ.
Теперь скажи, есть ли среди всего существующего такая вещь, которая не была бы либо хорошею, либо дурною, либо промежуточною между благом и злом?
Пол.
Это совершенно невозможно, Сократ.
Сократ.
И конечно, благом ты называешь мудрость, здоровье, богатство и прочее тому подобное, а злом – все, что этому противоположно?
Пол.
Да.
Сократ.
А ни хорошим, ни дурным ты, стало быть, называешь то, что в иных случаях причастно благу, в иных злу, а в иных ни тому ни другому,
468
как, например: «сидеть», «ходить», «бегать», «плавать», или еще: «камни», «поленья» и прочее тому подобное? Не так ли? Или ты понимаешь что‑либо иное под тем, что ни хорошо, ни дурно?
Пол.
Нет, это самое.
Сократ.
И все промежуточное, что бы ни делалось, делается ради благого или же благое – ради промежуточного?
Пол.
Разумеется, промежуточное ради благого.
b
Сократ.
Стало быть, мы ищем благо и в ходьбе, когда ходим, полагая, что так для нас лучше, и, наоборот, в стоянии на месте, когда стоим, – все ради того же, ради блага? Или же не так?
Пол.
Так.
Сократ.
Значит, и убиваем, если случается кого убить, и отправляем в изгнание, и отнимаем имущество, полагая, что для нас лучше сделать это, чем не сделать?
Пол.
Разумеется.
Сократ.
Итак, все это люди делают ради блага?
Пол.
Берусь это утверждать.
Сократ.
А мы с тобою согласились вот на чем: если мы что делаем ради какой‑то цели, мы желаем не того, что делаем, а того, ради чего делаем.
c
Пол.
Совершенно верно.
Сократ.
Стало быть, ни уничтожать, ни изгонять из города, ни отнимать имущество мы не желаем просто так, ни с того ни с сего; лишь если это полезно, мы этого желаем, если же вредно – не желаем. Ведь мы желаем хорошего, как ты сам утверждаешь, того же, что ни хорошо, ни плохо, не желаем и плохого тоже не желаем. Не так ли? Правильно я говорю, Пол, или неправильно, как тебе кажется? Что же ты не отвечаешь?
Пол.
Правильно.
Сократ.
Значит, на этом мы с тобою согласились. Теперь, если кто убивает другого, или изгоняет из города, или лишает имущества, – будь он тиран или оратор, все равно,
d
– полагая, что так для него лучше, а на самом деле оказывается, что хуже, этот человек, конечно, делает то, что считает нужным? Или же нет?
Пол.
Да.
Сократ.
Но делает ли он то, чего желает, если все оказывается к худшему? Что же ты не отвечаешь?
Пол.
Нет, мне кажется, он не делает того, что желает.
Сократ.
Возможно ли тогда, чтобы такой человек владел большою силою в городе, если, по твоему же признанию, большая сила – это некое благо?
e
Пол.
Невозможно.
Сократ.
Выходит, я был прав, когда говорил, что бывают в городе люди, которые поступают, как считают нужным, но большой силой не владеют и делают совсем не то, чего хотят.
Пол.
Послушать тебя, Сократ, так ты ни за что бы не принял свободы делать в городе, что тебе вздумается, скорее наоборот, и не стал бы завидовать человеку, который убивает, кого сочтет нужным, или лишает имущества, или сажает в тюрьму!
Сократ.
По справедливости он действует или несправедливо?
469
Пол.
Да как бы ни действовал, разве не достоин он зависти в любом случае?
Сократ.
Не кощунствуй, Пол!
Пол.
То есть как?
Сократ.
А так, что не должно завидовать ни тем, кто не достоин зависти, ни тем, кто несчастен, но жалеть их.
Пол.
Что же, по‑твоему, это относится и к людям, о которых я говорю?
Сократ.
А как же иначе!
Пол.
Значит, тот, кто убивает, кого сочтет нужным, и убивает по справедливости, кажется тебе жалким несчастливцем!
Сократ.
Нет, но и зависти он не вызывает.
b
Пол.
Разве ты не назвал его только что несчастным?
Сократ.
Того, кто убивает не по справедливости, друг, не только несчастным, но вдобавок и жалким, а того, кто справедливо, – недостойным зависти.
Пол.
Кто убит несправедливо, – вот кто, поистине, и жалок, и несчастен!
Сократ.
Но в меньшей мере, Пол, чем его убийца, и менее того, кто умирает, неся справедливую кару.
Пол.
Это почему же, Сократ?
Сократ.
Потому, что худшее на свете зло – это творить несправедливость.
Пол.
В самом деле худшее? А терпеть несправедливость – не хуже?
Сократ.
Ни в коем случае!
c
Пол.
Значит, чем чинить несправедливость, ты хотел бы скорее ее терпеть?
Сократ.
Я не хотел бы ни того ни другого. Но если бы оказалось неизбежным либо творить несправедливость, либо переносить ее, я предпочел бы переносить.
Пол.
Значит, если бы тебе предложили власть тирана, ты бы ее не принял?
Сократ.
Нет, если под этой властью ты понимаешь то же, что я.
Пол.
Но я сейчас только говорил, что именно я понимаю: свободу делать в городе, что сочтешь нужным, – убивать, отправлять в изгнание – одним словом. поступать, как тебе вздумается.
d
Сократ.
Давай, мой милый, я приведу пример, а ты возразишь. Представь себе, что я бы спрятал под мышкой кинжал, явился на рыночную площадь в час, когда она полна народа, и сказал бы тебе так: «Пол, у меня только что появилась неслыханная власть и сила. Если я сочту нужным, чтобы кто‑то из этих вот людей, которых ты видишь перед собой, немедленно умер, тот, кого я выберу, умрет. И если я сочту нужным, чтобы кто‑то из них разбил себе голову, – paзобьет немедленно, или чтобы ему порвали плащ – порвут.
e
Вот как велика моя сила в нашем городе». Ты бы не поверил, а я показал бы тебе свой кинжал, и тогда ты, пожалуй, заметил бы мне: «Сократ, так‑то и любой всесилен: ведь подобным же образом может сгореть дотла и дом, какой ты ни выберешь, и афинские верфи, и триеры, и все торговые суда, государственные и частные». Но тогда уже не в том состоит великая сила, чтобы поступать, как сочтешь нужным. Что ты на это скажешь?
470
Пол.
Если так взглянуть, то конечно.
Сократ.
А тебе ясно, за что ты порицаешь такую силу?
Пол.
Еще бы!
Сократ.
За что же? Говори.
Пол.
Кто так поступает, непременно понесет наказание.
Сократ.
А нести наказание – это зло?
Пол.
Разумеется!
Сократ.
Смотри же еще раз, чудной ты человек, что у тебя получилось: если кто, действуя так, как считает нужным, действует себе на пользу, это благо, и в этом, по‑видимому, большая сила. А в противном случае это зло, и сила ничтожна.
b
А теперь разберем такой вопрос: не признали ли мы, что иногда лучше делать то, о чем мы недавно говорили, – убивать людей, отправлять их в изгнание, лишать имущества, – а иногда лучше не делать?
Пол.
Конечно.
Сократ.
Мне кажется, мы оба это признали – и ты, и я.
Пол.
Да.
Сократ.
В каких же случаях, по‑твоему, лучше делать? Определи точно.
Пол.
Нет, Сократ, на этот вопрос ответь сам.
c
Сократ.
Ну, если ты предпочитаешь послушать меня, то, по‑моему, если это делается по справедливости, это хорошо, а если вопреки справедливости – плохо.
Пол.
Как трудно возразить тебе, Сократ! Да тут и ребенок изобличит тебя в ошибке!
Сократ.
Я буду очень благодарен этому ребенку и тебе точно так же, если ты изобличишь меня и тем избавишь от вздорных мыслей. В одолжениях и услугах друзьям будь неутомим. Прошу тебя, возражай.
d
Пол.
Чтобы тебя опровергнуть, Сократ, нет никакой нужды обращаться к временам, давно минувшим. Событий вчерашнего и позавчерашнего дня вполне достаточно, чтобы обнаружить твое заблуждение и показать, как часто люди, творящие несправедливость, наслаждаются счастьем.
Сократ.
Каких же это событий?
Пол.
Тебе, конечно, известен Архелай[612]
, сын Пердикки, властитель Македонии?
Сократ.
Если и неизвестен, то я о нем слышал.
Пол.
Так он, по‑твоему, счастливый или несчастный?
e
Сократ.
Не знаю, Пол, ведь я никогда с ним не встречался.
Пол.
Что же, если б вы встретились, так ты бы узнал, а без этого, издали, тебе никак невдомек, что он счастлив?
Сократ.
Нет, клянусь Зевсом.
Пол.
Ясное дело, Сократ, ты и про Великого[613]
царя скажешь, что не знаешь, счастлив он или нет!
Сократ.
И скажу правду. Ведь я не знаю, ни как он воспитан и образован, ни насколько он справедлив.
Пол.
Что же, все счастие только в этом?
Сократ.
По моему мнению, да, Пол. Людей достойных и честных – и мужчин, и женщин – я зову счастливыми, несправедливых и дурных – несчастными.
471
Пол.
Значит, этот самый Архелай, по твоему разумению, несчастен?
Сократ.
Да, мой друг, если он несправедлив.
Пол.
Какое уж тут «справедлив»! Он не имел ни малейших прав на власть, которою ныне владеет, потому что родился от рабыни Алкета, брата Пердикки, и, рассуждая по справедливости, сам был Алкетовым рабом, а если бы пожелал соблюдать справедливость, то и поныне оставался бы в рабстве у Алкета, и был бы счастлив – по твоему разумению. Но вместо того он дошел до последних пределов несчастья, потому что учинил чудовищные несправедливости.
b
Начал он с того, что пригласил к себе господина своего и дядю, пообещав вернуть ему власть, которой того лишил Пердикка, и, напоив гостей допьяна – и самого Алкета, и сына его Александра, своего двоюродного брата и почти ровесника, – взвалил обоих на телегу, вывез среди ночи в поле и зарезал, а трупы исчезли бесследно. Совершив такую несправедливость, он даже не заметил, что стал несчастнейшим из людей, и никакого раскаяния не испытывал, а немного спустя не пожелал стать счастливым, потому что не воспитал в согласии со справедливостью своего брата, мальчика лет семи, законного сына Пердикки,
c
не передал ему власть, которая тому принадлежала по справедливости, но утопил ребенка в колодце, матери же его, Клеопатре, объявил, что тот гонялся за гусем, упал вводу и захлебнулся. И вот теперь, самый заклятый враг справедливости в Македонии, он, разумеется, и самый несчастный из македонян, а вовсе не самый счастливый, и, вероятно, в Афинах найдутся люди, и ты между ними первый, Сократ, которые предпочтут поменяться местами с кем угодно из македонян, только не с Архелаем!
d
Сократ.
Еще в начале нашего разговора, Пол, я похвалил тебя за хорошую, на мой взгляд, выучку в красноречии, но заметил, что искусство вести беседу ты оставил без должного внимания. Вот и теперь: это, стало быть, довод, которым меня мог бы изобличить и ребенок, и ты полагаешь, будто с его помощью надежно опроверг мое утверждение, что несправедливый не бывает счастлив? С чего бы это, добрейший мой? Наоборот, ни в одном слове я с тобой не согласен!
e
Пол.
Просто не хочешь согласиться, а думаешь так же, как я.
Сократ.
Милый мой, ты пытаешься опровергать меня по‑ораторски, по образцу тех, кто держит речи в судах. Ведь и там одна сторона считает, что одолела другую, если в подтверждение своих слов представила многих и вдобавок почтенных свидетелей, а противник – одного какого‑нибудь или же вовсе никого. Но для выяснения истины такое опровержение не дает ровно ничего:
472
бывает даже, что невинный становится жертвою лжесвидетельства многих и как будто бы не последних людей[614]
. Так и в нашем случае – чуть ли не все афиняне и чужеземцы поддержат тебя, если ты пожелаешь выставить против меня свидетелей, и скажут, что я неправ. В свидетели к тебе пойдет, если пожелаешь, Никий, сын Никерата, с братьями – это их треножники стоят один подле другого в святилище Диониса, – пойдет, если пожелаешь, Аристократ, сын Скеллия[615]
, чей прославленный дар красуется в святилище Аполлона Пифийского, пойдет весь дом Перикла или иной здешний род, какой пожелаешь выбрать.
b
Но я хоть и в одиночестве, а с тобою не соглашусь, потому что доводы твои нисколько меня не убеждают, а просто, выставив против меня толпу лжесвидетелей, ты стараешься вытеснить меня из моих владений – из истины. Я же, пока не представлю одного‑единственного свидетеля, подтверждающего мои слова, – тебя самого, считаю, что не достиг в нашей беседе почти никакого успеха. Но я считаю, что и ты ничего не достигнешь, если не получишь свидетельства от меня одного; всех же прочих свидетелей можешь спокойно отпустить.
c
Стало быть, вот какой существует способ опровержения, который признаешь ты и многие кроме тебя; но существует и другой, который признаю я. Давай их сравним и посмотрим, чем они друг от друга отличаются. Ведь то, о чем мы спорим, отнюдь не пустяк, скорее можно сказать, что это такой предмет, знание которого для человека прекраснее всего, а незнание всего позорнее: по существу речь идет о том, знать или не знать, какой человек счастлив, а какой нет.
d
Итак, скорее вернемся к предмету нашей беседы. Ты полагаешь, что человек несправедливый и преступный может быть счастлив, раз, по твоему мнению, Архелай счастлив, хотя и несправедлив. Так мы должны тебя понимать или как‑нибудь иначе?
Пол.
Именно так.
Сократ.
А я утверждаю, что не может. Это первое наше разногласие. Ну, хорошо, а когда придет возмездие и кара, несправедливый и тогда будет счастлив?
Пол.
Конечно, нет! Тогда он будет самым несчастным на свете.
Сократ.
Но если кара несправедливого не постигнет, он, по‑твоему, будет счастлив?
Пол.
Да.
473
Сократ.
А, по моему мнению, Пол, человек несправедливый и преступный несчастлив при всех обстоятельствах, но он особенно несчастлив, если уходит от возмездия и остается безнаказанным, и не так несчастлив, если понесет наказание и узнает возмездие богов и людей.
Пол.
Но это нелепость, Сократ!
Сократ.
Я постараюсь разубедить тебя, приятель, чтобы и ты разделил мое суждение; потому что ты мне друг, так я считаю. Стало быть, мы расходимся вот в чем (следи за мною внимательно): я утверждал раньше, что поступать несправедливо хуже, чем терпеть несправедливость.
Пол.
Именно так.
Сократ.
А ты – что хуже терпеть.
Пол.
Да.
b
Сократ.
И еще я говорил, что несправедливые несчастны, а ты это отверг.
Пол.
Да, клянусь Зевсом!
Сократ.
Таково твое суждение, Пол.
Пол.
И правильное суждение.
Сократ.
Может быть. Ты сказал, что несправедливые счастливы, если остаются безнаказанными.
Пол.
Совершенно верно.
Сократ.
А я утверждаю, что они самые несчастные и что те, кто понесет наказание, менее несчастны. Ты и это намерен опровергать?
Пол.
Ну, это опровергнуть еще потруднее прежнего, Сократ!
c
Сократ.
Нет, Пол, не труднее, а невозможно: истину вообще нельзя опровергнуть.
Пол.
Что ты говоришь?! Если человек замыслил несправедливость, например – стать тираном, а его схватят и, схвативши, растянут на дыбе, оскопят, выжгут глаза, истерзают всевозможными, самыми разнообразными и самыми мучительными пытками да еще заставят смотреть, как пытают его детей и жену, а в конце концов распнут или сожгут на медленном огне[616]
– в этом случае он будет счастливее, чем если бы ему удалось спастись и сделаться тираном и править городом до конца своих дней, поступая как вздумается, возбуждая зависть и слывя счастливцем и меж согражданами, и среди чужеземцев? Это ли, по‑твоему, невозможно опровергнуть?
d
Сократ.
Раньше ты взывал к свидетелям, почтеннейший Пол, а теперь запугиваешь меня, но опять‑таки не опровергаешь. Впрочем, напомни мне, пожалуйста, одну подробность. «Если несправедливо замыслит стать тираном» – так ты выразился?
Пол.
Так.
Сократ.
Тогда счастливее ни тот ни другой из них не будет – ни тот, кто захватит тираническую власть вопреки справедливости, ни тот, кто понесет наказание: из двух несчастных ни один не может называться «более счастливым».
e
Но более несчастным будет тот, кто спасется и станет тираном. Что это, Пол? Ты смеешься? Это, видно, еще один способ опровержения: если тебе что скажут, в ответ насмехаться, а не возражать?
Пол.
Не кажется ли тебе, Сократ, что ты уже полностью опровергнут, раз говоришь такое, чего ни один человек не скажет? Спроси любого из тех, кто здесь.
Сократ.
Пол, я к государственным людям не принадлежу, и, когда в прошлом году мне выпал жребий заседать в Совете и наша фила[617]
председательствовала, а мне досталось собирать голоса, я вызвал общий смех, потому что не знал, как это делается.
474
Вот и теперь, не заставляй меня собирать мнения присутствующих, но, если возражений посильнее прежних у тебя нет, тогда, как я уже тебе сказал недавно, уступи, соблюдая очередь, место мне и познакомься с возражением, которое мне кажется важным.
Что до меня, то, о чем бы я ни говорил, я могу выставить лишь одного свидетеля – собеседника, с которым веду разговор, а свидетельства большинства в расчет не принимаю, и о мнении могу справиться лишь у одного, со многими же не стану беседовать. Гляди теперь, готов ли ты в свою очередь подвергнуться испытанию, отвечая на мои вопросы.
b
По моему суждению, и я, и ты, и остальные люди – все мы считаем, что хуже творить несправедливость, чем ее терпеть[618]
, и оставаться безнаказанным, чем нести наказание.
Пол.
А по‑моему, ни я и никто из людей этого не считает. Ты‑то сам разве предпочел бы терпеть несправедливость, чем причинять ее другому?
Сократ.
Да, и ты тоже, и все остальные.
Пол.
Ничего подобного: ни я, ни ты и вообще никто!
c
Сократ.
Не хочешь ли ответить на вопрос?
Пол.
Очень хочу! Любопытно, что ты теперь станешь говорить.
Сократ.
Сейчас узнаешь, только для этого отвечай так, как если бы мы всё начали сначала. Как тебе кажется, Пол, что хуже – причинять несправедливость или терпеть?
Пол.
По‑моему, терпеть.
Сократ.
А безобразнее [постыднее] что? Причинять несправедливость или терпеть? Отвечай.
Пол.
Причинять несправедливость.
Сократ.
Но значит, и хуже, если постыднее?
Пол.
Никоим образом!
d
Сократ.
Понимаю. По‑видимому, прекрасное[619]
для тебя – не то же, что доброе, и дурное – не то же, что безобразное.
Пол.
Нет, конечно!
Сократ.
Тогда такой вопрос: все прекрасное, будь то тела, цвета, очертания, звуки, нравы, ты называешь в каждом отдельном случае прекрасным, ни на что не оглядываясь? Начнем, к примеру, с прекрасных тел, – ты ведь зовешь их прекрасными либо сообразно пользе, смотря по тому, на что каждое из них пригодно, либо сообразно некоему удовольствию, если тело доставляет радость, когда на него смотрят? Есть у тебя, что к этому прибавить насчет красоты тела?
e
Пол.
Нет.
Сократ.
Но и все прочее также – и очертания, и цвета ты называешь прекрасными в согласии либо с пользою, либо с удовольствием, либо с тем и другим вместе?
Пол.
Верно.
Сократ.
И звуки, и все, что относится к музыке, – тоже так?
Пол.
Да.
Сократ.
А в законах и нравах прекрасное обнаруживается иным каким‑либо образом или тем же самым – через полезное, либо приятное, либо то и другое вместе?
475
Пол.
Тем же самым, мне кажется.
Сократ.
И с красотою наук обстоит не иначе?
Пол.
Нет, именно так! Вот теперь ты даешь прекрасное определение, Сократ, определяя прекрасное через удовольствие и добро.
Сократ.
Значит, безобразное определим через противоположное – через страдание и зло?
Пол.
Обязательно!
Сократ.
Стало быть, если из двух прекрасных вещей одна более прекрасна, она прекраснее оттого, что превосходит другую либо тем, либо другим, либо тем и другим вместе – удовольствием, пользой или удовольствием и пользой одновременно?
Пол.
Конечно.
b
Сократ.
А если из двух безобразных вещей одна более безобразна, она окажется безобразнее потому, что превосходит другую страданием либо злом? Или это не обязательно?
Пол.
Обязательно.
Сократ.
Давай‑ка теперь вспомним, что говорилось недавно о несправедливости, которую терпишь или причиняешь сам. Не говорил ли ты, что терпеть несправедливость хуже, а причинять – безобразнее [постыднее]?
Пол.
Говорил.
Сократ.
Стало быть, если причинять несправедливость безобразнее, чем ее терпеть, то первое либо мучительнее и тогда безобразнее оттого, что превосходит второе страданием либо оно [превосходит] его злом, либо тем и другим. Это тоже обязательно или же нет?
Пол.
А как же иначе!
c
Сократ.
Разберем сперва, действительно ли первое превосходит второе страданием и больше ли страдают те, кто чинит несправедливость, чем те, кто ее переносит.
Пол.
Это уж ни в коем случае, Сократ!
Сократ.
Страданием, стало быть, первое не превосходит второе?
Пол.
Нет, конечно.
Сократ.
Значит, если не страданием, то и не злом и страданием вместе.
Пол.
Кажется, так.
Сократ.
Остается, значит, другое.
Пол.
Да.
Сократ.
То есть зло.
Пол.
Похоже, что так.
d
Сократ.
Но если причинять несправедливость – большее зло, чем переносить, значит, первое хуже второго.
Пол.
Очевидно, да.
Сократ.
Не согласился ли ты недавно с общим мнением, что творить несправедливость безобразнее, чем испытывать ее на себе?
Пол.
Согласился.
Сократ.
А теперь выяснилось, что [не только безобразнее, но] и хуже.
Пол.
Похоже, что так.
e
Сократ.
А большее зло и большее безобразие ты предпочел бы меньшему? Отвечай смело, Пол, не бойся – ты ничем себе не повредишь. Спокойно доверься разуму, словно врачу, и отвечай на мой вопрос «да» или «нет».
Пол.
Нет, не предпочел бы, Сократ.
Сократ.
А другой какой‑нибудь человек?
Пол.
Думаю, что нет, по крайней мере после такого рассуждения.
Сократ.
Стало быть, я верно говорил, что ни я, ни ты и вообще никто из людей не предпочел бы чинить несправедливость, чем терпеть, потому что чинить ее – хуже.
Пол.
Видимо, так.
476
Сократ.
Теперь ты убедился, Пол, сравнив два способа опровержения, что они нисколько друг с другом не схожи: с тобою соглашаются все, кроме меня, а мне достаточно, чтобы ты один со мною согласился и подал голос в мою пользу, тебя одного я зову в свидетели, остальные же мне вовсе не нужны.
Но об этом достаточно. Обратимся теперь ко второму нашему разногласию: самое ли большое зло для преступившего справедливость, если он понесет наказание (так считаешь ты), или еще большее зло – остаться безнаказанным (так я считаю). Давай начнем вот каким образом. Понести наказание и принять справедливую кару за преступление – одно и то же, как по‑твоему?
Пол.
По‑моему, да.
b
Сократ.
Будешь ли ты теперь отрицать, что справедливое всегда прекрасно, поскольку оно справедливо? Подумай как следует, прежде чем отвечать.
Пол.
Нет, Сократ, мне представляется, так оно и есть.
Сократ.
Теперь разбери вот что. Если кто совершает какое‑нибудь действие, обязательно ли должен существовать предмет, который на себе это действие испытывает?
Пол.
Мне кажется, да.
Сократ.
Испытывать же он будет то, что делает действующий, и такое именно действие, какое тот совершает? Я приведу тебе пример. Если кто наносит удары, они обязательно на что‑нибудь падают?
Пол.
Обязательно.
c
Сократ.
И если он наносит удары сильно или часто, так же точно воспринимает их и предмет, на который они падают?
Пол.
Да.
Сократ.
Стало быть, то, что испытывает предмет, на который падают удары, полностью соответствует действиям того, кто их наносит?
Пол.
Совершенно верно.
Сократ.
Значит, и если кто делает прижигание, обязательно существует тело, которое прижигают?
Пол.
Как же иначе!
Сократ.
И если прижигание сильное или болезненное, тело так и прижигается – сильно или болезненно?
Пол.
Совершенно верно.
Сократ.
Значит, и если кто делает разрез, – то же самое? Должно ведь существовать тело, которое режут.
Пол.
Да.
d
Сократ.
И если разрез длинный, или глубокий, или болезненный, тело получает такой именно разрез, какой наносит режущий?
Пол.
Видимо, так.
Сократ.
Теперь смотри, согласен ли ты с тем, о чем я сейчас говорил, в целом: всегда, какое действие совершается, такое же в точности и испытывается?
Пол.
Согласен.
Сократ.
Раз в этом мы с тобою согласились, скажи: нести кару – значит что‑то испытывать или же действовать?
Пол.
Непременно испытывать, Сократ.
Сократ.
Но испытывать под чьим‑то воздействием?
Пол.
А как же иначе? Под воздействием того, кто карает.
e
Сократ.
А кто карает по заслугам, карает справедливо?
Пол.
Да.
Сократ.
Справедливость он творит или несправедливость?
Пол.
Справедливость.
Сократ.
Значит, тот, кого карают, страдает по справедливости, неся свое наказание?
Пол.
Видимо, так.
Сократ.
Но мы, кажется, согласились с тобою, что все справедливое – прекрасно?
Пол.
Да, конечно.
Сократ.
Стало быть, один из них совершает прекрасное действие, а другой испытывает на себе – тот, кого наказывают.
477
Пол.
Да.
Сократ.
А раз прекрасное – значит, и благое? Ведь прекрасное либо приятно, либо полезно.
Пол.
Непременно.
Сократ.
Стало быть, наказание – благо для того, кто его несет?
Пол.
Похоже, что так.
Сократ.
И оно ему на пользу?
Пол.
Да.
Сократ.
Но одинаково ли мы понимаем эту пользу? Я имею в виду, что человек становится лучше душою, если его наказывают по справедливости.
Пол.
Естественно!
b
Сократ.
Значит, неся наказание, он избавляется от испорченности, омрачающей души?
Пол.
Да.
Сократ.
Так не от величайшего ли из зол он, избавляется? Рассуди сам. В делах имущественных усматриваешь ли ты для человека какое‑нибудь иное зло, кроме бедности?
Пол.
Нет, одну только бедность.
Сократ.
А в том, что касается тела? Ты, вероятно, назовешь злом слабость, болезнь, безобразие и прочее тому подобное?
Пол.
Разумеется.
Сократ.
А ты допускаешь, что и в душе может быть испорченность?
Пол.
Конечно, допускаю!
c
Сократ.
И зовешь ее несправедливостью, невежеством, трусостью[620]
и прочими подобными именами?
Пол.
Совершенно верно.
Сократ.
Стало быть, для трех этих вещей – имущества, тела и души – ты признал три вида испорченности: бедность, болезнь, несправедливость?
Пол.
Да.
Сократ.
Какая же из них самая безобразная? Верно, несправедливость и вообще испорченность души?
Пол.
Так оно и есть.
Сократ.
А раз самая безобразная, то и самая плохая?
Пол.
Как это, Сократ? Не понимаю.
Сократ.
А вот как. Самое безобразное всегда причиняет либо самое большое страдание, либо самый большой вред, либо, наконец, то и другое сразу, потому‑то оно и есть самое безобразное, как мы с тобою уже согласились раньше.
Пол.
Совершенно верно.
d
Сократ.
А не согласились ли мы сейчас только, что безобразнее всего несправедливость и вообще испорченность души?
Пол.
Согласились.
Сократ.
Стало быть, она либо мучительнее всего, и тогда потому самая безобразная, что превосходит [прочие виды испорченности] мукою, либо превосходит вредом, либо тем и другим вместе?
Пол.
Непременно.
Сократ.
А быть несправедливым, невоздержным, трусливым, невежественным – больнее, чем страдать от бедности или недуга?
Пол.
Мне кажется, нет, Сократ. По крайней мере из нашего рассуждения это не следует.
e
Сократ.
Стало быть, если среди всех испорченностей самая безобразная – это испорченность души, она безмерно, чудовищно превосходит остальные вредом и злом: ведь не болью же – боль ты исключил.
Пол.
Видимо, так.
Сократ.
Но то, что приносит самый большой вред, должно быть самым большим на свете злом.
Пол.
Да.
Сократ.
Стало быть, несправедливость, невоздержность и вообще всякая испорченность души – величайшее на свете зло?
Пол.
Видимо, так.
Сократ.
Теперь скажи, какое искусство избавляет от бедности? Не искусство ли наживы?
Пол.
Да.
Сократ.
А от болезни? Не врачебное ли искусство?
Пол.
Непременно.
478
Сократ.
Какое же – от испорченности и несправедливости? Если вопрос тебя затрудняет, поставим его так: куда и к кому приводим мы больных телом?
Пол.
К врачам, Сократ.
Сократ.
А несправедливых и невоздержных – куда?
Пол.
Ты хочешь сказать: к судьям?
Сократ.
Не для того ли, чтобы они понесли справедливое наказание?
Пол.
Да, для этого.
Сократ.
А те, кто их карает, не обращаются ли за советом к правосудию, если карают по заслугам?
Пол.
А как же иначе!
b
Сократ.
Значит, искусство наживы избавляет от бедности, врачебное искусство – от болезни, а правый суд – от невоздержности и несправедливости.
Пол.
Видимо, так.
Сократ.
Какая же среди этих вещей самая прекрасная?
Пол.
О чем ты говоришь?
Сократ.
Об искусстве наживы, врачевании и правосудии.
Пол.
Правосудие намного выше всего остального, Сократ.
Сократ.
Значит, опять‑таки, если оно всего прекраснее, то либо доставляет наибольшее удовольствие, либо наибольшую пользу, либо то и другое вместе?
Пол.
Да.
Сократ.
А лечиться – приятно, лечение приносит удовольствие?
Пол.
Мне кажется, нет.
Сократ.
Но уж во всяком случае оно полезно. Как по‑твоему?
c
Пол.
Да.
Сократ.
Ведь оно избавляет от большого зла – чтобы вернуть здоровье, стоит вытерпеть боль.
Пол.
Еще бы!
Сократ.
Но тогда ли человек счастливее всего телом, когда лечится, или когда вовсе не болеет?
Пол.
Ясно, что когда не болеет.
Сократ.
Да, счастье, видимо, не в том, чтобы избавиться от зла, а в том, чтобы вообще его не знать.
d
Пол.
Это верно.
Сократ.
Пойдем дальше. Если есть двое больных – телом или душою, все равно, – который из них несчастнее: тот, что лечится и избавляется от зла, или другой, который не лечится и все оставляет как было?
Пол.
По моему мнению, тот, что не лечится.
Сократ.
Не ясно ли нам, что наказание освобождает от величайшего зла – от испорченности?
Пол.
Ясно.
Сократ.
Возмездие вразумляет и делает более справедливым, оно владеет целебною силой против испорченности.
e
Пол.
Да.
Сократ.
Стало быть, самый счастливый тот, у кого душа вообще не затронута злом, раз уже выяснилось, что именно в этом самое большое зло.
Пол.
Бесспорно.
Сократ.
Вторым же, верно, будет тот, кто избавляется от зла.
Пол.
Похоже, что так.
Сократ.
А это такой человек, который выслушивает внушения, терпит брань и несет наказание.
Пол.
Да.
Сократ.
И стало быть, хуже всех живет тот, кто остается несправедливым и не избавляется [от этого зла].
479
Пол.
Видимо, так.
Сократ.
А это как раз тот человек, что творит величайшие преступления и величайшую несправедливость и, однако ж, успешно избегает и внушений, и возмездия, и заслуженной кары, как, по твоим словам, удается Архелаю, да и остальным тиранам тоже, и ораторам, и властителям. Так?
Пол.
Похоже, что да.
Сократ.
Но они, мой милейший, достигают примерно того же, чего достиг бы больной, если он одержим самыми злыми болезнями, но ответа за свои телесные изъяны перед врачами не держит –
b
не лечится, страшась, словно малый ребенок, боли, которую причиняют огонь и нож. Или ты думаешь по‑другому?
Пол.
Нет, я тоже так думаю.
Сократ.
Он, видимо, просто не знает, что такое здоровье и крепость тела. Но если не забывать, в чем мы с тобою нынче пришли к согласию, Пол, тогда, пожалуй, и с теми, кто уклоняется от наказания, дело обстоит примерно так же: боль, причиняемую наказанием, они видят, а к пользе слепы и даже не догадываются, насколько более жалкая доля –
c
постоянная связь с недужной душою, испорченной, несправедливой, нечестивой, чем с недужным телом, а потому и делают все, чтобы не держать ответа и не избавляться от самого страшного из зол: копят богатства, приобретают друзей, учатся говорить как можно убедительнее. И если то, в чем мы с тобою согласились, верно, Пол, ты понимаешь, что следует из нашего рассуждения? Или лучше сделаем вывод вместе?
Пол.
Что ж, раз ты уже все равно так решил.
Сократ.
Можно ли сделать вывод, что самое страшное зло – это быть несправедливым и поступать несправедливо?
d
Пол.
По‑видимому, да.
Сократ.
Избавление же от этого зла, как выяснилось, состоит в том, чтобы понести наказание?
Пол.
Пожалуй.
Сократ.
А безнаказанность укореняет зло?
Пол.
Да.
Сократ.
Значит, поступать несправедливо – второе по размеру зло, а совершить несправедливость и остаться безнаказанным – из всех зол самое великое и самое первое.
Пол.
Похоже, что так.
e
Сократ.
На чем же, друг мой, мы с тобою разошлись? Ты утверждал, что Архелай счастлив, хотя и совершает величайшие несправедливости, оставаясь при этом совершенно безнаказанным, я же говорил, что, наоборот, будь то Архелай или любой другой из людей, если он совершит несправедливость, а наказания не понесет, он самый несчастный человек на свете и что во всех случаях, кто чинит несправедливость, несчастнее того, кто ее терпит, и кто остается безнаказанным – несчастнее несущего свое наказание. Так я говорил?
Пол.
Да.
Сократ.
И теперь уж доказано, что говорил правильно?
Пол.
По‑видимому.
480
Сократ.
Вот и хорошо. Но раз это правильно, Пол, есть ли тогда большая польза от красноречия? Судя по тому, на чем мы нынче согласились, нужно, чтобы каждый всего больше остерегался, как бы самому не совершить какую‑нибудь несправедливость, зная, что это причинит ему достаточно много зла. Не так ли?
Пол.
Да, так.
Сократ.
А если все же совершит – он ли сам или кто‑нибудь из тех, кто ему дорог, – нужно по доброй воле идти скорее туда, где нас ждет наказание, – к судье, все равно как к врачу, нужно спешить,
b
чтобы болезнь несправедливости, застарев, не растлила душу окончательно и безнадежно. Можем ли мы решить по‑иному, Пол, если прежние наши слова сохраняют силу? Не единственный ли этот вывод, который будет звучать с ними в лад?
Пол.
Так как же мы решим, Сократ?
Сократ.
Стало быть, для того, чтобы оправдывать собственную несправедливость или несправедливость родителей, друзей, детей, отечества, красноречие нам совершенно ни к чему, Пол. Вот разве что кто‑нибудь обратится к нему с противоположными намерениями, –
c
чтобы обвинить прежде всего самого себя, а затем и любого из родичей и друзей, кто бы ни совершил несправедливость, и не скрывать [проступка], а выставлять на свет, – пусть провинившийся понесет наказание и выздоровеет; чтобы упорно убеждать и себя самого, и остальных не страшиться, но, крепко зажмурившись, сохранять мужество, – как в те мгновения, когда ложишься под нож или раскаленное железо врача, – и устремляться к благому и прекрасному, о боли же не думать вовсе;
d
и если проступок твой заслуживает плетей, пусть тебя бичуют, если оков – пусть заковывают, если денежной пени – плати, если изгнания – уходи в изгнание, если смерти – умирай, и сам будь первым своим обвинителем, и своим, и своих близких, и на это употребляй красноречие, чтобы преступления были до конца изобличены, а [виновные] избавились от величайшего зла – от несправедливости. Так мы рассудим, Пол, или не так?
e
Пол.
Мне, Сократ, это кажется нелепым, но с тем, что говорилось раньше, у тебя, по‑видимому, все согласуется.
Сократ.
Стало быть, либо и от прежнего необходимо отказаться, либо и это признать?
Пол.
Да, стало быть, так.
Сократ.
А с другой стороны, если надо поступить наоборот, – причинить кому‑то зло, врагу или кому‑нибудь еще, – главное, чтобы не в ответ на обиду, которую сам потерпел от врага (ведь этого следует остерегаться), но если твой враг несправедливо обидел другого человека, – нужно всеми средствами, и словом, и делом, добиваться, чтобы он остался безнаказанным и к судье не попал.
481
Если же все‑таки попадет, надо подстроить так, чтобы враг твой благополучно избегнул наказания, и если награбил много золота, ничего бы не возвратил, а несправедливо, нечестиво растратил на себя и на своих, а если совершил преступление, заслуживающее смертной казни, то чтобы не умер, лучше всего – никогда (пусть живет вечно, оставаясь негодяем!) или во всяком случае прожил как можно дольше, ни в чем не изменившись.
b
Вот для таких целей, Пол, красноречие, на мой взгляд, полезно, хотя для того, кто не собирается поступать несправедливо, польза от него, мне кажется, невелика, если, разумеется, вообще от него может быть какая‑то польза: по крайней мере до сих пор наша беседа ее не обнаружила.
Калликл.
Скажи мне, пожалуйста, Херефонт, это Сократ всерьез говорит или шутит?
Херефонт.
На мой взгляд, Калликл, очень даже всерьез. Но можно спросить его самого.
c
Калликл.
Да, клянусь богами, это я и хочу сделать! Скажи мне, Сократ, как нам считать – всерьез ты теперь говоришь или шутишь? Ведь если ты серьезен и все это правда, разве не оказалось бы, что человеческая наша жизнь перевернута вверх дном и что мы во всем поступаем не как надо, а наоборот?
Сократ.
Калликл, если б одно и то же состояние разные люди испытывали по‑разному – те так, другие этак, а иной и вовсе ни с кем не схоже, – было бы нелегко объяснить другому собственное ощущение.
d
Я говорю это, принявши в расчет, что мы с тобою в нынешнее время находимся в одинаковом состоянии – мы оба влюблены, и каждый – в двоих сразу: я – в Алкивиада, сына Клиния, и в философию, ты – в афинский демос и в [Демоса], сына Пирилампа[621]
.
И вот я вижу, хотя ты и замечательный человек, а всякий раз, что бы ни сказали твои любимцы, какое бы мнение ни выразили, ты не в силах им возражать, но бросаешься из одной крайности в другую. В Собрании, если ты что предложишь, а народ афинский окажется другого мнения,
e
ты мигом повертываешься вслед и предлагаешь, что желательно афинянам, и так же точно выходит у тебя с этим красивым юношей, сыном Пирилампа. Да, ты не можешь противиться ни замыслам, ни словам своих любимцев, и если бы кто стал удивляться твоим речам, которые ты всякий раз произносишь им в угоду, и сказал бы, что это странно, ты, вероятно, возразил бы ему – когда бы захотел открыть правду, – что если никто не помешает твоим любимцам и впредь вести такие речи, какие они ведут, то и ты никогда не изменишь своей привычке.
482
Вот и от меня тебе приходится слышать нечто подобное, пойми это, и, чем дивиться моим речам, заставь лучше умолкнуть мою любовь – философию[622]
. Да, потому что без умолку, дорогой друг, твердит она то, что ты теперь слышишь из моих уст, и она далеко не так ветрена, как моя другая любовь: сын Клиния сегодня говорит одно, завтра другое, а философия всегда одно и то же – то, чему ты теперь дивишься, хотя и слушаешь с самого начала.
b
А стало быть, повторяю еще раз, либо опровергни ее и докажи, что творить несправедливость, и вдобавок безнаказанно, не величайшее на свете зло, либо если ты оставишь это неопровергнутым, клянусь собакой, египетским богом, Калликл не согласится с Калликлом и всю жизнь будет петь не в лад с самим собою. А между тем, как мне представляется, милейший ты мой, пусть лучше лира у меня скверно настроена и звучит не в лад, пусть нестройно поет хор, который я снаряжу, пусть большинство людей со мной не соглашается и спорит, лишь бы только не вступить в разногласие и в спор с одним человеком – с собою самим.
c
Калликл.
Сократ, мне кажется, ты озорничаешь в речах, совсем как завзятый оратор. Вот и теперь ты так ораторствовал, и с Полом произошло то же самое, что, как он говорил, по твоей милости случилось с Горгием: когда ты спрашивал Горгия, что будет, если к нему придет человек, который хочет изучить красноречие, но что такое справедливость, не знает, – объяснит ли ему это Горгий, –
d
тот застыдился и, подчинившись людскому обычаю, отвечал, что да, потому что люди возмутились бы, если бы кто отвечал иначе; а, признав это, он потом оказался вынужден противоречить самому себе, а ты и радовался. Так что, мне кажется, Пол был прав, когда насмехался над тобою.
А теперь он на себе испытал то же самое, и за что я порицаю Пола, так это за то, что он согласился с тобою, будто чинить несправедливость постыднее, чем терпеть.
e
Уступив в этом, он в свою очередь оказался стреножен и взнуздан и умолк, застыдившись открыть то, что у него на уме. И ведь верно, Сократ, под предлогом поисков истины ты на самом деле утомляешь нам слух трескучими и давно избитыми словами о том, что прекрасно совсем не по природе, но только по установившемуся обычаю.
Большею частью они противоречат друг другу, природа и обычай[623]
, и потому, если кто стыдится и не решается говорить, что думает, тот неизбежно впадает в противоречие.
483
Ты это приметил и используешь, коварно играя словами: если с тобою говорят, имея в виду обычай, ты ставишь вопросы в согласии с природой, если собеседник рассуждает в согласии с природой, ты спрашиваешь, исходя из обычая. Так было и только что, когда вы говорили о несправедливости, которую причиняют и терпят, и Пол толковал о том, что более постыдно по обычаю, ты же упорно переносил его доводы с обычая на природу. По природе все, что хуже, то и постыднее, безобразнее, например – терпеть несправедливость,
b
но по установившемуся обычаю безобразнее поступать несправедливо. Ежели ты доподлинно муж, то не станешь терпеть страдание, переносить несправедливость – это дело раба[624]
, которому лучше умереть, чем жить, который терпит несправедливости и поношения потому, что не в силах защитить ни себя самого, ни того, кто ему дорог. Но по‑моему, законы как раз и устанавливают слабосильные[625]
, а их большинство. Ради себя и собственной выгоды устанавливают они законы, расточая и похвалы, и порицания.
c
Стараясь запугать более сильных, тех, кто способен над ними возвыситься, страшась этого возвышения, они утверждают, что быть выше остальных постыдно и несправедливо, что в этом как раз и состоит несправедливость – в стремлении подняться выше прочих. Сами же они по своей ничтожности охотно, я думаю, довольствовались бы долею, равною для всех.
d
Вот почему обычай объявляет несправедливым и постыдным стремление подняться над толпою, и это зовется у людей несправедливостью. Но сама природа, я думаю, провозглашает, что это справедливо – когда лучший выше худшего и сильный выше слабого. Что это так, видно во всем и повсюду и у животных, и у людей, – если взглянуть на города и народы в целом, – видно, что признак справедливости таков: сильный повелевает слабым и стоит выше слабого.
e
По какому праву Ксеркс двинулся походом на Грецию, а его отец – на скифов[626]
? (Таких примеров можно привести без числа!) Подобные люди, думаю я, действуют в согласии с самою природою права и – клянусь Зевсом! – в согласии с законом самой природы, хотя он может и не совпадать с тем законом, какой устанавливаем мы и по какому стараемся вылепить самых лучших и решительных среди нас. Мы берем их в детстве, словно львят, и приручаем заклинаньями и ворожбою, внушая,
484
что все должны быть равны и что именно это прекрасно и справедливо. Но если появится человек, достаточно одаренный природою, чтобы разбить и стряхнуть с себя все оковы, я уверен: он освободится, он втопчет в грязь наши писания, и волшебство, и чародейство, и все противные природе законы, и, воспрянув, явится перед нами владыкою, бывший наш раб, – вот тогда‑то и просияет справедливость природы[627]
!
b
Мне кажется, что и Пиндар[628]
высказывает те же мысли в песне, где говорит:
Закон надо всеми владыка,
Над смертными и бессмертными.
И дальше:
Творит насилье рукою могучею,
Прав он всегда.
В том мне свидетель Геракл: некупленных… когда…
c
Как‑то так у него говорится в этом стихотворении, – точно я не помню, – что, дескать, Герион коров и не продавал, и не дарил, а Геракл все‑таки их угнал, считая это природным своим правом, потому что и коровы, и прочее добро слабейшего и худшего должно принадлежать лучшему и сильнейшему.
Такова истина, Сократ, и ты в этом убедишься, если бросишь, наконец, философию и приступишь к делам поважнее. Да, разумеется, есть своя прелесть и у философии, если заниматься ею умеренно и в молодом возрасте; но стоит задержаться на ней дольше, чем следует, и она погибель для человека! Если даже ты очень даровит, но посвящаешь философии более зрелые свои годы,
d
ты неизбежно останешься без того опыта, какой нужен, чтобы стать человеком достойным и уважаемым. Ты останешься несведущ в законах своего города, в том, как вести с людьми деловые беседы – частные ли или государственного значения, безразлично, – в радостях и желаниях, одним словом, совершенно несведущ в человеческих нравах. И к чему бы ты тогда ни приступил, чем бы ни занялся – своим ли делом, пли государственным, ты будешь смешон, так же, вероятно, как будет смешон государственный муж, если вмешается в ваши философские рассуждения и беседы.
e
Тут выходит как раз по Эврипиду:
«Горд каждый тем бывает и к тому стремится,
День щедро тратя свой, забыв о времени.
В чем сам себя легко способен превзойти»[629]
.
485
И в чем он слаб, того избегает и то бранит, а иное хвалит – из добрых чувств к самому себе, полагая, что таким образом хвалит и себя.
Самое правильное, по‑моему, не чуждаться ни того, ни другого. Знакомство с философией прекрасно в той мере, в какой с ней знакомятся ради образования, и нет ничего постыдного, если философией занимается юноша. Но если он продолжает свои занятия и возмужав, это уже смешно, Сократ, и, глядя на таких философов, я испытываю то же чувство, что при виде взрослых людей, которые по‑детски лепечут или резвятся.
b
Когда я смотрю на ребенка, которому еще к лицу и лепетать, и резвиться, мне бывает приятно, я нахожу это прелестным и подобающим детскому возрасту свободного человека, когда же слышу маленького мальчика, говорящего вполне внятно и отчетливо, по‑моему, это отвратительно – мне это режет слух и кажется чем‑то рабским. Но когда слышишь, как лепечет взрослый, и видишь, как он по‑детски резвится, это кажется смехотворным, недостойным мужчины и заслуживающим кнута.
c
Совершенно так же отношусь я и к приверженцам философии. Видя увлечение ею у безусого юноши, я очень доволен, мне это представляется уместным, я считаю это признаком благородного образа мыслей; того же, кто совсем чужд философии, считаю человеком низменным, который сам никогда не найдет себя пригодным ни на что прекрасное и благородное. Но когда я вижу человека в летах, который все еще углублен в философию и не думает с ней расставаться, тут уже, Сократ, по‑моему, требуется кнут!
d
Как бы ни был, повторяю я, даровит такой человек, он наверняка теряет мужественность, держась вдали от середины города, его площадей и собраний, где прославляются мужи, по слову поэта[630]
; он прозябает до конца жизни в неизвестности, шепчась по углам с тремя или четырьмя мальчишками, и никогда не слетит с его губ свободное, громкое и дерзновенное слово.
e
Что до меня, Сократ, я отношусь к тебе вполне дружески; я бы даже сказал, что испытываю к тебе то же чувство, какое было у Эврипидова Зета – я его только что вспоминал – к Амфиону[631]
. И мне хочется сказать тебе примерно так, как Зет говорил брату: «Сократ, ты невнимателен к тому, что требует внимания; одаренный таким благородством души, ты ребячеством только прославил себя, ты в судейском совете не можешь разумного мненья подать, никогда не промолвишь ты веского слова, никогда не возвысишься дерзким замыслом над другим»[632]
. А между тем, друг Сократ (не сердись на меня, я говорю это только потому, что желаю тебе добра),
486
разве ты сам не видишь, как постыдно положение, в котором, на мой взгляд, находишься и ты, и все остальные безудержные философы? Ведь если бы сегодня тебя схватили – тебя или кого‑нибудь из таких же, как ты, – и бросили в тюрьму, обвиняя в преступлении, которого ты никогда не совершал, ты же знаешь – ты оказался бы совершенно беззащитен, голова у тебя пошла бы кругом, и ты бы так и застыл
b
с открытым ртом, не в силах ничего вымолвить, а потом предстал бы перед судом, лицом к лицу с обвинителем, отъявленным мерзавцем и негодяем, и умер бы, если бы тому вздумалось потребовать для тебя смертного приговора.
Но какая же в этом мудрость, Сократ, если, «приняв в ученье мужа даровитого, его искусство портит»[633]
, делает неспособным ни помочь самому себе, ни вызволить из самой страшной опасности себя или другого, мешает сопротивляться врагам,
c
которые грабят его до нитки, и обрекает на полное бесчестье в родном городе? Такого человека, прости меня за грубость, можно совершенно безнаказанно отхлестать по щекам.
Послушайся меня, дорогой мой Сократ, «прекрати свои изобличения, обратись к благозвучию дел», обратись к тому, что принесет тебе славу здравомыслия, «оставь другим уловки эти тонкие», – не знаю, как их называть, вздором или пустословием, – поверь, «они твой дом опустошат вконец»[634]
. Не с тех бери пример, кто копается в мелочах, опровергая друг друга, но с тех, кто владеет богатством, славою и многими иными благами.
d
Сократ.
Будь душа у меня золотая, Калликл, обрадовался бы я или нет, как по‑твоему, если б нашел один из тех камней, которыми берут пробу золота[635]
, – самый лучший среди таких камней, – а потом приложил бы к нему свою душу, и если бы он подтвердил, что душа ухожена хорошо, мог бы я знать это наверное и другого пробного камня уже не искать?
e
Калликл.
К чему ты клонишь, Сократ?
Сократ.
Сейчас объясню. Мне кажется, что такую именно счастливую находку я и сделал, встретившись с тобой.
Калликл.
Как это так?
487
Сократ.
Я знаю наверное, что если только ты подтвердишь мнения, какие высказывает моя душа, значит, это уже истинная правда. Я полагаю, чтобы надежно испытать душу в том, правильно она живет или нет, надо обладать тремя качествами – знанием, доброжелательством и прямотой, и ты обладаешь всеми тремя. Я часто встречаю людей, которые не могут меня испытывать по той причине, что не умны – в отличие от тебя.
b
Другие умны, но не хотят говорить правду, потому что равнодушны ко мне – в отличие от тебя. А эти двое чужеземцев, Горгий и Пол, оба умны, оба мои друзья, но им недостает прямоты, они стыдливы сверх меры. Разве это не ясно? Стыдливость их так велика, что сперва один, а потом другой, застыдившись, не стыдятся противоречить самим себе – и это на глазах у множества людей и в деле самом что ни на есть важном.
c
Ты обладаешь всем, чего недостает остальным. Ты достаточно образован, как, вероятно, подтвердило бы большинство афинян, и желаешь мне добра. Какие у меня доказательства? А вот какие. Я знаю, Калликл, что вы занимались философией вчетвером: ты, Тисандр из Афидны, Андрон, сын Андротиона, и Навсикид из Холарга[636]
. Однажды, как я слышал, вы держали совет, до каких пределов следует продолжать занятия философией, и, сколько мне известно, верх взяло мнение, что особой глубины и обстоятельности искать не надо,
d
наоборот – вы призывали друг друга к осторожности: как бы незаметно себе не повредить чрезмерною мудростью. И когда теперь я слышу, как ты даешь мне тот же совет, что самым близким своим друзьям, для меня это достаточное доказательство твоей искренности и доброго расположения. Что же касается умения говорить прямо, ничего не стыдясь, ты об этом объявил сам, да и речь, которую ты только что произнес, свидетельствует о том же.
e
Итак, ясно, что дело обстоит теперь следующим образом: с чем в моих рассуждениях ты согласишься, то уже будет испытано надежно нами обоими и в новой пробе нуждаться не будет. Вполне понятно: твое согласие не может быть вызвано ни недостатком мудрости, ни избытком стыдливости, и, уж конечно, ты не станешь меня обманывать – ведь ты мне друг, это твои собственные слова. Стало быть, действительно наше с тобою согласие будет вершиною истины.
Ты поставил мне в укор, Калликл, предмет моих разысканий, но допытываться, каким должен быть человек, и каким делом должно ему заниматься, и до каких пределов в старости и в молодые годы, – не самое ли это прекрасное из разысканий?
488
А если и в моем образе жизни не все верно, то, можешь не сомневаться, я заблуждаюсь не умышленно, но лишь по неведению. И раз уже ты взялся меня вразумлять, не отступайся, но как следует объясни мне, что это за занятие, которому я должен себя посвятить, и как мне им овладеть, и если нынче я с тобою соглашусь, а после ты уличишь меня в том, что я поступаю вопреки нашему с тобою согласию и уговору, считай меня полным тупицею и впредь уж никогда больше меня не вразумляй.
b
Но повтори мне, пожалуйста, еще раз. Как вы с Пиндаром понимаете природную справедливость? Это когда сильный грабит имущество слабого, лучший властвует над худшим и могущественный стоит выше немощного? Верно я запомнил, или же ты толкуешь справедливость как‑нибудь по‑иному?
Калликл.
Нет, именно так я говорил прежде, так говорю и теперь.
c
Сократ.
Но как ты полагаешь, «лучший» и «сильный» – это одно и то же? Видишь ли, я не сумел сразу уловить, что ты имеешь в виду: зовешь ли ты сильными более могущественных и должны ли немощные повиноваться могущественному (мне кажется, ты как раз на это намекал, когда говорил, что большие города нападают на малые в согласии с природною справедливостью, ибо они сильнее и могущественнее, – точно желал сказать, что сильное, могущественное и лучшее – это одно и то же), или же возможно быть лучшим, но слабым и немощным и, наоборот, сильным, но скверным?
d
Или слова «лучший» и «сильный» имеют одно значение? Вот это ты мне ясно определи: одно и то же сильное, лучшее и могущественное или не одно и то же?
Калликл.
Говорю тебе совершенно ясно: одно и то же.
Сократ.
Так, а большинство по природе сильнее одного? То самое большинство, которое издает законы против одного, как ты только что говорил.
Калликл.
Да, конечно.
Сократ.
Значит, установления большинства – это установления сильных.
e
Калликл.
Истинная правда.
Сократ.
Но стало быть, и лучших? Ведь сильные, по твоему разумению, – это лучшие, не так ли?
Калликл.
Да.
Сократ.
Стало быть, их установления прекрасны по природе, раз это установления сильных?
Калликл.
Да.
489
Сократ.
А разве большинство не держится того суждения (как ты сам недавно говорил), что справедливость – это равенство и что постыднее творить несправедливость, чем терпеть ее? Так или нет? Только будь осторожен, чтобы и тебе не попасться в силки стыдливости! Считает или не считает большинство, что справедливость – это равенство, а не превосходство и что постыднее творить несправедливость, чем ее терпеть? Прошу тебя, Калликл, не оставляй мой вопрос без ответа, потому что, если ты со мною согласишься, я впредь буду чувствовать себя уверенно, получив поддержку человека, способного распознать истину.
Калликл.
Да, большинство считает так.
Сократ.
Значит, не только по обычаю и закону творить несправедливость постыднее, чем терпеть, и справедливость – это соблюдение равенства, но и по природе тоже.
b
Выходит, пожалуй, что раньше ты говорил неверно и обвинял меня незаслуженно, утверждая, будто обычай противоположен природе и будто я хорошо это знаю и коварно использую, играя словами: если собеседник рассуждает в согласии с природой, я, дескать, все свожу на обычай, а если в согласии с обычаем – то на природу.
Калликл.
Никогда этому человеку не развязаться с пустословием! Скажи мне, Сократ, неужели не стыдно тебе в твои годы гоняться за словами и, если кто запутается в речи, полагать это счастливою находкой? Неужели ты действительно думаешь, что я делаю хоть какое‑то различие между сильными и лучшими?
c
Разве я тебе уже давно не сказал, что лучшее для меня – то же самое, что сильное? Или ты воображаешь, что, когда соберутся рабы и всякий прочий сброд, не годный ни на что, кроме как разве напрягать мышцы, – соберутся и что‑то там изрекут, – это будет законным установлением?
Сократ.
Прекрасно, премудрый мой Калликл! Это твое мнение?
Калликл.
Да, это, и никакое иное!
d
Сократ.
Но я, мой милый, и сам уже давно догадываюсь, что примерно ты понимаешь под словом «сильный», и если задаю вопрос за вопросом, так только потому, что очень хочу узнать это точно. Ведь, конечно же, ты не считаешь, что двое лучше одного или что твои рабы лучше тебя по той причине, что крепче телом. Давай начнем сначала и скажи мне, что такое лучшие, по‑твоему, раз это не то же, что более крепкие? И пожалуйста, чудак ты этакий, наставляй меня помягче, а не то как бы я от тебя не сбежал.
e
Калликл.
Насмехаешься, Сократ?
Сократ.
Нисколько, Калликл, клянусь Зетом, с помощью которого ты только что вдоволь насмеялся надо мною. Итак, скажи, кого все‑таки ты называешь лучшими?
Калликл.
Я лучшими называю самых достойных.
Сократ.
Теперь ты видишь, что сам играешь словами, а толком ничего не объясняешь? Не скажешь ли, под лучшими и сильными ты понимаешь самых разумных или кого‑нибудь еще?
490
Калликл.
Да, клянусь Зевсом, разумных, совершенно верно!
Сократ.
Значит, по твоему разумению, нередко один разумный сильнее многих тысяч безрассудных, и ему надлежит править, а им повиноваться, и властитель должен стоять выше своих подвластных. Вот что, мне кажется, ты имеешь в виду, – заметь, я не придираюсь к словам! – если один сильнее многих тысяч.
b
Калликл.
Да, именно это самое! Это я и считаю справедливым по природе – когда лучший и наиболее разумный властвует и возвышается над худшими.
Сократ.
Здесь давай задержимся. Что, собственно, ты теперь утверждаешь? Допустим, что нас собралось в одном месте много народу, вот как сейчас, еды и питья у нас вдосталь на всех, а люди самые разные, одни крепкие, другие слабые, и один из нас оказался бы врачом, а значит, особенно разумным в таких делах, но, как и следовало бы ожидать, по сравнению с одними был бы крепче, а с другими – слабее; не очевидно ли, что как самый разумный среди всех он будет и лучшим, и самым сильным в том деле, которое нам предстоит?
c
Калликл.
Вполне очевидно.
Сократ.
А должен ли он, по праву лучшего, получить из этой еды больше нашего, или же, по долгу властителя, пусть все поделит он, но в расходовании и употреблении пищи на собственные нужды пусть никакими преимуществами не пользуется, если только не хочет за это поплатиться? По сравнению с одними пусть получит больше, с другими – меньше, но если случайно окажется слабее всех, ему меньше всех и достанется, хотя он и самый лучший. Не так ли, мой дорогой?
Калликл.
Ты все про кушанья, про напитки, про врачей, про всякий вздор! А я не про это говорю.
d
Сократ.
Разве ты не говоришь, что самый разумный это и есть лучший? Так или нет? Калликл. Так. Сократ. А лучший разве не должен пользоваться преимуществами?
Калликл.
Да, но не в еде и питье!
Сократ.
Понимаю, тогда, видимо, в платье: и самый лучший ткач пусть носит самый просторный плащ, и разгуливает одетый богаче и красивее всех остальных?
Калликл.
При чем тут платье!
Сократ.
Ну, а что касается обуви, ясно, что и здесь преимуществом должен пользоваться самый разумный и самый лучший, и, стало быть, сапожник пусть расхаживает в самых громадных башмаках, и пусть их у него будет больше, чем у всех остальных.
e
Калликл.
Какие еще башмаки?! Ты все пустословишь!
Сократ.
Ну, если ты не это имеешь в виду, тогда, может быть, вот что: возьмем, к примеру, земледельца, разумного, дельного и честного хозяина земли, – видимо, он должен пользоваться преимуществом в семенах и засевать свое поле особенно густо?
Калликл.
Вечно ты твердишь одно и то же, Сократ!
Сократ.
Только добавь, Калликл: по одному и тому же поводу.
491
Калликл.
Клянусь богами, без умолку, без передышки ты толкуешь о поварах и лекарях, о башмачниках и сукновалах – как будто про них идет у нас беседа!
Сократ.
Тогда сам скажи, про кого. Каким преимуществом должен по справедливости обладать наиболее сильный и разумный? Или же ты и мне не дашь высказаться, и сам ничего не скажешь?
Калликл.
Да я только и делаю, что говорю! И прежде всего, когда я говорю о сильных, я имею в виду не сапожников и не поваров,
b
а тех, кто разумен в государственных делах – знает, как управлять государством, – и не только разумен, но и мужествен: что задумает, способен исполнить и не останавливается на полпути из‑за душевной расслабленности.
Сократ.
Вот видишь, дорогой Калликл, как несхожи наши с тобою взаимные обвинения? Ты коришь меня, что я постоянно твержу одно и то же, а я тебя – наоборот, что ты никогда не говоришь об одном и том же одинаково, но сперва определяешь лучших и сильных как самых крепких,
c
после – как самых разумных, а теперь предлагаешь еще третье определение: оказывается, что сильные и лучшие – это какие‑то самые мужественные. Но, милый мой, давай покончим с этим, скажи твердо, кого ты называешь лучшими и сильными и в чем они лучше и сильнее остальных?
d
Калликл.
Но я уже сказал – разумных в делах государства и мужественных. Им‑то и должна принадлежать власть в городе, и справедливость требует, чтобы они возвышались над остальными – властители над подвластными.
Сократ.
А сами над собою, друг, будут они властителями или подвластными?
Калликл.
О чем ты говоришь?
Сократ.
О том, насколько каждый из них будет властвовать над самим собою. Или же этого не нужно вовсе – властвовать над собою, нужно только над другими?
Калликл.
Как же ты ее понимаешь, власть над собой?
e
Сократ.
Очень просто, как все: это воздержность, умение владеть собою, быть хозяином своих наслаждений и желаний.
Калликл.
Ах ты, простак! Да ведь ты зовешь воздержными глупцов!
Сократ.
Как это? Всякий признает, что глупцы тут ни при чем.
Калликл.
Еще как при чем, Сократ! Может ли в самом деле быть счастлив человек, если он раб и кому‑то повинуется? Нет! Что такое прекрасное и справедливое по природе, я скажу тебе сейчас со всей откровенностью:
492
кто хочет прожить жизнь правильно, должен давать полнейшую волю своим желаниям, а не подавлять их, и как бы ни были они необузданны, должен найти в себе способность им служить (вот на что ему и мужество, и разум!), должен исполнять любое свое желание.
Но конечно, большинству это недоступно, и потому толпа поносит таких людей, стыдясь, скрывая свою немощь, и объявляет своеволие позором и, как я уже говорил раньше, старается поработить лучших по природе;
b
бессильная утолить собственную жажду наслаждений, она восхваляет воздержность и справедливость – потому, что не знает мужества. Но если кому выпало родиться сыном царя или с самого начала получить от природы достаточно силы, чтобы достигнуть власти – тирании или другого какого‑нибудь вида господства, что поистине может быть для такого человека постыднее и хуже, чем воздержность? Он может невозбранно и беспрепятственно наслаждаться всеми благами, а между тем сам ставит над собою владыку – законы, решения и поношения толпы!
c
И как не сделаться ему несчастным по милости этого «блага» – справедливости и воздержности, если он, властвуя в своем городе, не может оделять друзей щедрее, чем врагов?
Ты уверяешь, Сократ, что ищешь истину, – так вот тебе истина: роскошь, своеволие, свобода – в них и добродетель, и счастье (разумеется, если обстоятельства благоприятствуют), а все прочее, все ваши звонкие слова и противные природе условности, – вздор, ничтожный и никчемный!
d
Сократ.
Да, Калликл, ты нападаешь и отважно, и откровенно. То, что ты теперь высказываешь напрямик, думают и другие, но только держат про себя. И я прошу тебя – ни в коем случае не отступайся, чтобы действительно, по‑настоящему выяснилось, как нужно жить. Скажи мне: ты утверждаешь, что желания нельзя подавлять, если человек хочет быть таким, каким должен быть, что надо давать им полную волю и всячески, всеми средствами им угождать и что это как раз и есть добродетель?
Калликл.
Да, утверждаю.
e
Сократ.
Значит, тех, кто ни в чем не испытывает нужды, неправильно называют счастливыми?
Калликл.
В таком случае самыми счастливыми были бы камни и мертвецы.
Сократ.
Да, но и та жизнь, о которой ты говоришь, совсем не хороша. Я бы не изумился, если бы Эврипид оказался прав, говоря:
Кто скажет, кто решит, не смерть ли наша жизнь,
Не жизнь ли – смерть?[637]
493
Может быть, на самом деле мы мертвые? И правда, как‑то раз я слышал от одного мудрого человека, что теперь мы мертвы, и что тело – наша могила[638]
, и что та часть души, где заключены желания, легковерна и переменчива, и что некий хитроумный слагатель притч, вероятно сицилиец или италик, эту часть души, в своей доверчивости очень уж неразборчивую, играя созвучиями, назвал бочкой,
b
а людей, не просвещенных разумом, – непосвященными, а про ту часть души этих непосвященных, в которой живут желания, сказал, что она – дырявая бочка, намекая на ее разнузданность и ненадежность, а стало быть, и ненасытную алчность. В противоположность тебе, Калликл, он доказывает, что меж обитателями Аида – он имеет в виду незримый мир – самые несчастные они, непосвященные, и что они таскают в дырявую бочку воду другим дырявым сосудом – решетом.
c
Под решетом он понимает душу (так объяснял мне тот мудрец); душу тех, кто не просвещен разумом, он сравнил с решетом потому, что она дырява – не способна ничего удержать по неверности своей и забывчивости.
Вообще говоря, все это звучит несколько странно, но дает понять, о чем я толкую, надеясь по мере моих сил переубедить тебя, чтобы жизни ненасытной и невоздержной ты предпочел скромную, всегда довольствующуюся тем, что есть, и ничего не требующую.
d
Ну, как, убедил я тебя хоть немного, склоняешься ты к мысли, что скромные счастливее разнузданных? Или же тебя и тысячею таких притч нисколько не поколеблешь?
Калликл.
Вот это вернее, Сократ.
Сократ.
Тогда приведу тебе другое сравнение, хотя и того же толка. Погляди, не сходны ли, на твой взгляд, два эти образа жизни, воздержный и разнузданный, с двумя людьми, у каждого из которых помногу сосудов, и у одного сосуды были бы крепкие и полные – какой вином, какой медом, какой молоком и так дальше,
e
а сами бы жидкости были редкие, дорогие и раздобыть их стоило бы многих и тяжелых трудов. Допустим, однако, что этот человек уже наполнил свои сосуды, – теперь ему незачем ни доливать их, ни вообще как‑то об них тревожиться: никаких беспокойств они впредь не доставят. Другой, как и первый, тоже может раздобыть эти жидкости, хотя и с трудом, но сосуды у него дырявые и гнилые, так что он вынужден беспрерывно, днем и ночью, их наполнять, а если перестает, то терпит самые жестокие муки.
494
Вот они каковы, два эти образа жизни. Будешь ли ты и дальше утверждать, что жизнь невоздержного человека счастливее жизни скромного? Убеждает тебя сколько‑нибудь мое сравнение, что скромная жизнь лучше невоздержной, или не убеждает?
Калликл.
Не убеждает, Сократ. Тому, кто уже наполнил свои сосуды, не остается на свете никакой радости, это как раз тот случай, о котором я недавно говорил, – каменная получается жизнь, раз сосуды полны, и уж ничему не радуешься и ничем не мучишься. Нет, в том лишь и состоит радость жизни, чтобы подливать еще и еще!
b
Сократ.
Но чтобы все время подливать, надо, чтоб и утекало без перерыва, и, стало быть, дыры нужны побольше?
Калликл.
Конечно.
Сократ.
Стало быть, то, о чем ты говоришь, – это жизнь не трупа и не камня, а птички‑ржанки[639]
. Но объясни мне, чту примерно ты имеешь в виду: скажем, голод и утоление голода пищей?
Калликл.
Да.
Сократ.
Или жажду и утоленье жажды питьем?
c
Калликл.
Да, и все прочие желания, которые испытывает человек; если он может их исполнить и радуется этому, то он живет счастливо.
Сократ.
Прекрасно, мой любезнейший! Продолжай, как начал, да смотри не смущайся. Впрочем, похоже, что и мне нельзя смущаться. Так вот, прежде всего скажи мне, если кто страдает чесоткой и испытывает зуд, а чесаться может сколько угодно и на самом деле только и делает, что чешется, он живет счастливо?
d
Калликл.
Что за нелепость, Сократ! Можно подумать, что ты ораторствуешь перед толпою!
Сократ.
Как раз так, Калликл, я сбил с толку и привел в смущение Пола и Горгия, но ты, конечно, не собьешься и не смутишься – ты ведь человек мужественный. Отвечай же.
Калликл.
Хорошо. Я утверждаю, что и тот, кто чешется, ведет приятную жизнь.
Сократ.
А раз приятную, значит, и счастливую?
Калликл.
Совершенно верно.
e
Сократ.
Тогда ли только, если зудит в голове или… или можно дальше не спрашивать? Подумай, Калликл, что бы ты отвечал, если бы тебя стали спрашивать и про остальное, про все подряд? И в конце концов – про жизнь распутников, не чудовищна ли она, не постыдна ли, не жалка? Или ты отважишься утверждать, что и распутники счастливы, раз у них вдосталь того, что им нужно?
Калликл.
Неужели тебе не совестно, Сократ, сводить нашу беседу к таким низостям?
495
Сократ.
Разве я ее к этому привел, мой почтенный, а не тот, кто напрямик, без оговорок объявляет счастливцем всякого радующегося, чему бы тот ни радовался, и не делает различия меж удовольствиями, какие хороши, какие дурны? Впрочем, и теперь не поздно высказаться, считаешь ли ты приятное тем же самым, что благое, или среди приятных вещей есть иные, которые к благу не причислишь.
Калликл.
Я войду в противоречие с самим собой, если признаю, что они не одно и то же, стало быть – они одно и то же.
Сократ.
Ты нарушаешь, Калликл, прежний наш уговор и больше не годишься исследовать существо дела вместе со мною, если впредь станешь говорить вопреки собственному мнению.
b
Калликл.
Но и ты тоже, Сократ.
Сократ.
А разве я так поступаю? Тогда я тоже виноват, одинаково с тобою. Но вдумайся внимательно, мой дорогой, может быть, не всякая радость – то же, что благо? Ведь в противном случае неизбежны, по‑видимому, и все те постыдные выводы, на которые я только что намекнул, и еще многие другие.
Калликл.
Это ты так думаешь, Сократ.
Сократ.
И ты действительно на этом настаиваешь, Калликл?
Калликл.
Да, настаиваю.
Сократ.
Значит, мы приступим к обсуждению, исходя из того, что ты нисколько не шутишь?
c
Калликл.
Какие уж тут шутки!
Сократ.
Тогда, раз ты так решил, объясни мне, будь любезен: ты признаешь, что существует знание?
Калликл.
Признаю.
Сократ.
А не утверждал ли ты совсем недавно, что существует и мужество – наряду со знанием?
Калликл.
Да, утверждал.
Сократ.
Мужество – это не то, что знание, это две разные вещи, так ты полагал?
d
Калликл.
Да, совсем разные.
Сократ.
Пойдем далее. Удовольствие и знание – одно и то же или нет?
Калликл.
Нет, конечно, премудрый мой.
Сократ.
И мужество, разумеется, – не то же, что удовольствие?
Калликл.
Еще бы!
Сократ.
Давай же как следует это запомним: Калликл ахарнянин[640]
считает, что приятное и благое – одно и то же, а знание и мужество отличны и друг от друга, и каждое в отдельности от блага.
Калликл.
А Сократ из Алопеки в этом с нами не согласен. Или же согласен?
e
Сократ.
Не согласен. Я думаю, и Калликл будет не согласен, когда хорошенько всмотрится в самого себя. Скажи мне, люди благополучные и злополучные не противоположные ли испытывают состояния, как тебе кажется?
Калликл.
Противоположные.
Сократ.
А если эти состояния противоположны друг другу, значит, с ними все должно обстоять так же, как со здоровьем и болезнью, верно? В самом деле, человек не бывает и здоров, и болен сразу, и не бывает, чтобы он одновременно расставался и со здоровьем, и с болезнью.
Калликл.
Как это? Не понимаю.
496
Сократ.
Возьми для примера любую часть тела, какую вздумаешь. Допустим, у человека болят глаза, случилось воспаление.
Калликл.
Допустим.
Сократ.
Разумеется, в это время глаза у него не здоровы?
Калликл.
Разумеется, нет!
Сократ.
А когда он расстанется с воспалением, тогда что? Расстанется одновременно и со здоровьем своих глаз и в конце концов будет и без того, и без другого вместе?
Калликл.
Ничего похожего!
Сократ.
Да, удивительный, по‑моему, и нелепый получается вывод. Не правда ли?
b
Калликл.
Истинная правда.
Сократ.
На самом деле, мне кажется, человек поочередно приобретает и теряет то одно, то другое.
Калликл.
Согласен.
Сократ.
Не в таком ли точно отношении находятся сила и слабость?
Калликл.
Да.
Сократ.
Быстрота и медлительность?
Калликл.
Верно.
Сократ.
А также благо и счастье и противоположные им зло и несчастье – каждое приходит в свой черед и в свой черед уходит?
Калликл.
Вне всякого сомнения.
c
Сократ.
Значит, если мы отыщем такие вещи, которые человек и теряет, и удерживает в одно и то же время, ясно, что ни благом, ни злом они не будут. Согласимся мы на этом? Подумай получше, прежде чем ответить.
Калликл.
Я согласен с тобою целиком и полностью.
Сократ.
Теперь вернемся к тому, на чем мы сошлись раньше. Как ты понимаешь голод – он приятен или мучителен? Я имею в виду только голод, ничего больше.
Калликл.
Мучителен, по‑моему. Но есть, когда ты голоден, приятно.
d
Сократ.
Я тоже так думаю и понимаю тебя. Но сам по себе голод мучителен, верно?
Калликл.
Да.
Сократ.
И жажда, значит, тоже?
Калликл.
Совершенно верно.
Сократ.
Спрашивать дальше или ты и так согласишься, что мучительна всякая нужда и всякое желание?
Калликл.
Соглашусь. Можешь не спрашивать.
Сократ.
Хорошо. Значит, пить, когда испытываешь жажду, по‑твоему, приятно, не правда ли?
Калликл.
По‑моему, да.
Сократ.
Стало быть, в случае, о котором ты говоришь, «испытывать жажду» значит «страдать»?
e
Калликл.
Да.
Сократ.
А «пить» равнозначно избавлению от нужды и удовольствию?
Калликл.
Да.
Сократ.
Значит, когда человек пьет, он чувствует радость, – так ты понимаешь?
Калликл.
Именно так.
Сократ.
Хоть и испытывает жажду?
Калликл.
Да.
Сократ.
И стало быть, страдает?
Калликл.
Верно.
Сократ.
Видишь, что получается? Когда ты говоришь: «жаждущий пьет», ты утверждаешь, что страдающий радуется. Или же это происходит не вместе, то есть не в одно и то же время и не в одной и той же части души (либо тела, как тебе угодно: на мой взгляд, это безразлично)? Так или нет?
Калликл.
Так.
Сократ.
Но ведь ты говоришь, что человек благополучный не может быть в то же самое время и злополучным.
497
Калликл.
Говорю.
Сократ.
А что страдающий может радоваться, это ты признаешь.
Калликл.
Как будто бы да.
Сократ.
Стало быть, радоваться – не то же, что быть счастливым, а огорчаться – не то же, что несчастным, и, значит, удовольствие и благо – вещи разные.
Калликл.
Не понимаю я, что ты там мудришь, Сократ.
Сократ.
Понимаешь, Калликл, да только прикидываешься. Пойдем же далее.
Калликл.
К чему весь этот вздор?
b
Сократ.
К тому, чтобы ты убедился, как мудро ты меня поучаешь. Не одновременно ли с жаждою исчезает у каждого из нас и удовольствие от питья?
Калликл.
Я не понимаю, о чем ты говоришь.
Горгий.
Пожалуйста, Калликл, не надо так! Отвечай ради всех нас, чтобы довести беседу до конца.
Калликл.
Но Сократ себе верен, Горгий! Всегда одно и то же – спрашивает и разбирает всякие мелочи, пустяки[641]
!
Горгий.
А тебе что за разница? Совсем не твоя забота их оценивать. Пусть себе разбирает, что хочет.
c
Калликл.
Ладно, Сократ, задавай свои мелочные, пустячные вопросы, раз Горгий не против.
Сократ.
Счастливец ты, Калликл, что посвящен в Великие таинства прежде Малых[642]
: я‑то думал, это недозволено. Начнем с того, на чем ты остановился: не одновременно ли пропадает у каждого из нас жажда и удовольствие?
Калликл.
Одновременно.
Сократ.
А голод и остальные желания – тоже одновременно с удовольствием?
Калликл.
Да.
Сократ.
Стало быть, страдание и удовольствие исчезают одновременно?
d
Калликл.
Да.
Сократ.
Но благо и зло не исчезают одновременно, как ты признаешь. Или теперь ты этого уже не признаешь?
Калликл.
Нет, признаю. Но что с того?
Сократ.
А то, друг, что благо, оказывается, не совпадает с удовольствием, ни зло – со страданием. В самом деле, эти два прекращаются одновременно, а те нет, потому что они разной природы. Как же может удовольствие совпадать с благом или страдание – со злом?
e
А если хочешь, взгляни еще вот с какой стороны – я думаю, что и тут у тебя не будет согласия с самим собою. Суди сам: хороших ты зовешь хорошими не оттого ли, что в них есть что‑то от блага, так же как красивыми тех, в ком есть красота?
Калликл.
Несомненно.
Сократ.
Что же, хорошими ты называешь неразумных и трусливых? Нет, до сих пор по крайней мере ты считал хорошими мужественных и разумных. Или это не верно?
Калликл.
Совершенно верно!
Сократ.
Пойдем далее. Тебе случалось видеть, как неразумное дитя радуется?
Калликл.
Конечно.
Сократ.
А взрослого человека, неразумного, но радующегося никогда еще не случалось видеть?
Калликл.
Я думаю, случалось. Но что это значит?
Сократ.
Ничего. Ты делай свое – отвечай.
498
Калликл.
Видел и взрослого.
Сократ.
Что же, а разумного, который бы огорчался и радовался?
Калликл.
Тоже.
Сократ.
А кто больше радуется и огорчается – разумные или неразумные?
Калликл.
Я думаю, разница невелика.
Сократ.
Достаточно и этого. Случалось тебе видеть труса на войне?
Калликл.
Как же иначе!
Сократ.
И что же? Кто, по‑твоему, больше радуется, когда враг отступает, трусы или храбрые?
Калликл.
Мне кажется, и те и другие, но первые, может быть, больше. Или примерно одинаково.
b
Сократ.
Это все равно. Значит, трусы тоже радуются?
Калликл.
Еще как!
Сократ.
И неразумные, по‑видимому, тоже?
Калликл.
Да.
Сократ.
А когда враг наступает, одни трусы огорчаются или храбрые тоже?
Калликл.
И те, и другие.
Сократ.
Одинаково?
Калликл.
Пожалуй, трусы больше.
Сократ.
А когда враг отступает – они больше радуются?
Калликл.
Пожалуй.
c
Сократ.
Значит, огорчаются и радуются неразумные и разумные, трусливые и мужественные примерно одинаково, по твоим словам, и трусливые – даже больше, чем мужественные?
Калликл.
Согласен.
Сократ.
Но при этом разумные и мужественные хороши, а трусливые и неразумные – плохи?
Калликл.
Да.
Сократ.
Стало быть, и хорошие, и плохие радуются и огорчаются примерно одинаково?
Калликл.
Согласен.
Сократ.
Тогда не одинаково ли примерно хороши и плохи хорошие и плохие? Или даже плохие более хороши?
d
Калликл.
Клянусь Зевсом, я тебя не понимаю.
Сократ.
Не понимаешь, что хорошие, по твоим же словам, зовутся хорошими в силу присущего им блага, а плохие – плохими в силу присущего им зла и что удовольствия – это благо, а страдания – зло?
Калликл.
Нет, это я понимаю.
Сократ.
Значит, в тех, кто радуется, есть благо – удовольствие, – если они на самом деле радуются?
Калликл.
Как же иначе!
Сократ.
И значит, раз в них есть благо, они хороши, те, кто радуется?
Калликл.
Да.
Сократ.
Пойдем далее. В тех, кто огорчается, нет ли зла – страданий?
e
Калликл.
Есть.
Сократ.
Ты утверждаешь, что плохие плохи оттого, что им присуще зло. Или ты уже этого не утверждаешь?
Калликл.
Нет, утверждаю.
Сократ.
Значит, хорошие – это те, кто радуется, а плохие – кто огорчается?
Калликл.
Совершенно верно.
Сократ.
И кто больше – те более [хороши], кто меньше – менее, а кто одинаково – одинаково?
Калликл.
Да.
Сократ.
Ты, значит, утверждаешь, что разумные и неразумные, трусливые и мужественные радуются и огорчаются примерно одинаково или даже трусливые больше?
Калликл.
Да, верно.
499
Сократ.
Теперь сообрази вместе со мною, что следует из того, на чем мы согласились: ведь, как говорится, и дважды, и трижды прекрасно повторить прекрасное[643]
. Мы утверждаем, что хороший – это разумный и мужественный. Так?
Калликл.
Так.
Сократ.
А что плохой – это неразумный и трусливый?
Калликл.
Вот именно.
Сократ.
А с другой стороны, хороший – это тот, кто радуется?
Калликл.
Да.
Сократ.
А плохой – кто огорчается?
Калликл.
Непременно.
Сократ.
И огорчаются, и радуются хороший и плохой одинаково, а может быть, плохой даже больше?
Калликл.
Да.
b
Сократ.
Стало быть, плохой с хорошим оказываются одинаково плохи и одинаково хороши или плохой даже лучше? Не такое ли получается следствие (вместе со всеми прежними, конечно), если утверждать, что удовольствия и благо – одно и то же? Неизбежно получается, Калликл, как по‑твоему?
Калликл.
Я уже давно слушаю тебя, Сократ, и все поддакиваю, а сам думаю вот про что: если кто уступает тебе в чем‑нибудь хотя бы только шутя, ты все равно радуешься, как мальчишка. Будто ты не знаешь, что и я, и любой другой прекрасно отличаем лучшие удовольствия от худших!
c
Сократ.
Ай‑ай‑ай, Калликл, какой же ты коварный! Водишь меня за нос, как мальчика: то говоришь одно, то совсем другое. Вот уж не думал сначала, что ты нарочно станешь меня обманывать, раз ты мне друг! Но я вижу, что ошибся, придется, верно, по старинной пословице, сделать веселое лицо и брать, что дают[644]
. Сколько я понимаю, ты теперь утверждаешь, что бывают удовольствия хорошие, а бывают и плохие. Так?
d
Калликл.
Да.
Сократ.
Хорошие – это, наверное, полезные, а плохие – вредные?
Калликл.
Именно.
Сократ.
А полезные – это те, что приносят какое‑нибудь благо, плохие – те, что приносят зло?
Калликл.
Да.
Сократ.
Ты имеешь в виду примерно те же удовольствия, какие мы недавно называли, говоря о телесных [радостях] от еды и питья, – что одни из них приносят телу здоровье, или силу, или иное доброе свойство и что эти удовольствия хороши, а противоположные им плохи?
Калликл.
Совершенно верно.
e
Сократ.
Значит, и страдания точно так же – одни хороши, другие скверны?
Калликл.
Как же иначе!
Сократ.
И значит, полезные удовольствия и страдания нужно отыскивать, ловить?
Калликл.
Конечно.
Сократ.
А скверные не нужно?
Калликл.
Ясно, что нет.
Сократ.
Верно, потому что все должно делаться ради блага, как мы рассудили, если ты помнишь, – я и Пол. Не присоединишься ли и ты к нашему суждению, что у всех действий цель одна –
500
благо и что все прочее должно делаться ради блага, но не благо – ради чего‑то иного? Подаешь ли и ты свой голос вместе с нашими двумя?
Калликл.
Подаю.
Сократ.
Стало быть, благу следует подчинить все остальное, в том числе и удовольствия, но никак не благо – удовольствиям.
Калликл.
Конечно.
Сократ.
А всякому ли человеку по силам выбрать, какие из удовольствий хороши и какие плохи, или тут потребен в каждом случае сведущий человек?
Калликл.
Без этого не обойтись.
b
Сократ.
Давай еще припомним кое‑что из того, что я говорил Полу и Горгию. А говорил я, если ты не забыл, что бывают занятия, которые обращены только на удовольствия, и ни на что иное, и лучшего от худшего не различают, и другие занятия, ведающие, что такое благо и что зло. Среди тех, что направлены на удовольствия, я поместил поварское дело – простую сноровку, а не искусство, а среди тех, что на благо – искусство врачевания.
Заклинаю тебя богом дружбы[645]
, Калликл, не думай, что ты непременно должен надо мною подшучивать, не отвечай что придется вопреки собственному убеждению и мои слова, пожалуйста, не принимай в шутку.
c
Ведь ты видишь, беседа у нас идет о том, над чем и недалекий человек серьезно бы призадумался: как надо жить? Избрать ли путь, на который ты призываешь меня, и делать, как ты говоришь, дело достойное мужчины, – держать речи перед народом, совершенствоваться в красноречии и участвовать в управлении государством по вашему образцу, – или же посвятить жизнь философии? И в чем разница между этими двумя путями?
d
И пожалуй, всего лучше начать так же, как раньше, – с различия между ними, а установив различие и придя к согласию, что это действительно два разных образа жизни, рассмотреть, в чем именно они отличаются один от другого и какой из двух следует предпочесть. Но пожалуй, ты еще не совсем меня понимаешь.
Калликл.
Совсем не понимаю!
Сократ.
Сейчас скажу яснее. Как мы с тобою согласились, существует благо и существует удовольствие, и благо – не то, что удовольствие, и приобретается каждое из двух особыми заботами и трудами,
e
и гнаться за удовольствием – одно занятие, а за благом – другое… но сперва подтверди, согласились мы с тобой или нет. Подтверждаешь?
Калликл.
Да.
Сократ.
А то, что я говорил им обоим, – признайся, прав я был тогда, как тебе показалось? Говорил же я примерно так, что приготовление пищи считаю не искусством, а сноровкой в отличие от врачевания,
501
ибо врачевание постигло и природу того, что оно лечит, и причину собственных действий и может дать отчет в каждом своем шаге. А приготовление пищи, которое целиком направлено на удовольствие и ему одному служит, устремляется к своей цели вообще безо всякого искусства, безрассудно и безотчетно, не изучив ни природы удовольствия, ни причины, не делая, можно сказать, никаких различий, но просто‑напросто благодаря долгому опыту храня память о том, что случается обычно, – так только и доставляет оно удовольствия.
b
Прежде всего подумай, достаточно ли это убедительно, на твой взгляд, и не кажется ли тебе, что подобные занятия могут быть направлены и на душу и что одни из них – искусства и пекутся о высшем для души благе, а другие этим благом пренебрегают и, как и там, целиком обращены на услаждение души, вопросом же, какие из удовольствий лучше, какие хуже, не задаются, и нет у них иной цели, кроме как доставлять радость,
c
лучшими ли средствами или худшими – все равно. Мне, Калликл, кажется, что такие занятия существуют, и я зову их угодничеством перед телом или перед душою или перед чем‑то еще, раз человек служит одному удовольствию, совсем не различая меж лучшим и худшим. Присоединишься ли ты к нашему мнению или будешь возражать?
Калликл.
Нет, не буду, и соглашаюсь, чтобы твое рассуждение подвинулось вперед и чтобы угодить нашему Горгию.
d
Сократ.
Это верно лишь для одной души, а для двух и для многих – нет?
Калликл.
Нет, и для двух, и для многих – тоже.
Сократ.
Значит, возможно угождать и многим душам сразу, не заботясь о том, что для них всего лучше?
Калликл.
Думаю, что да.
Сократ.
Так можешь ли ты назвать занятия, которые на это обращены? Или, если хочешь, я буду спрашивать, а ты, когда решишь, что я называю верно, подтвердишь, когда неверно – ответишь «нет».
e
Сперва давай рассмотрим игру на флейте[646]
. Не кажется ли тебе, Калликл, что она как раз из числа таких занятий: ищет только нашего удовольствия, а больше ни о чем не заботится?
Калликл.
Да, кажется.
Сократ.
Стало быть, и все прочие занятия в том же роде – например, игра на кифаре во время состязаний?
Калликл.
Да.
Сократ.
А что скажешь про обучение хоров и сочинение дифирамбов? Ты не находишь, что и здесь то же самое? Может быть, по‑твоему, Кинесий, сын Мелета[647]
, старается сочинить что‑нибудь такое, от чего слушатели стали бы лучше, или он думает только о том, что понравится толпе, собравшейся в театре?
502
Калликл.
Ясное дело, Сократ, что так оно и есть, по крайней мере – с Кинесием.
Сократ.
А отец его, Мелет? Разве тебе казалось, что он поет под кифару ради высшего блага? Впрочем, сказать по правде, – и не ради высшего удовольствия тоже: его пение только терзало слух зрителям. Взгляни, однако, не кажется ли тебе, что вообще пение под кифару и сочинение дифирамбов придуманы ради удовольствия?
Калликл.
Да, верно.
b
Сократ.
А это почтенное и дивное занятие, сочинение трагедий, – оно о чем старается? К тому ли направлены все его старания и усилия, чтобы угождать зрителям, – как тебе кажется? – или же еще и к тому, чтобы с ними спорить, и если что зрителям и приятно, и угодно, но вредно, – этого не говорить, а если что тягостно, но полезно, – это и возглашать, и воспевать, не глядя, рады они или нет? Какое же из двух свойств обнаруживает, по‑твоему, занятие трагического поэта?
c
Калликл.
Ясное дело, Сократ, что больше оно гонится за удовольствием – за благоволением зрителей.
Сократ.
Но как раз подобные занятия, Калликл, мы только что назвали угодничеством.
Калликл.
Совершенно верно.
Сократ.
Теперь скажи, если отнять у поэзии в целом напев, ритм и размер, останется ли что, кроме слов?
Калликл.
Ровно ничего.
Сократ.
И слова эти, очевидно, обращены к большой толпе, к народу?
Калликл.
Да.
Сократ.
Выходит, что поэзия – своего рода ораторство?
d
Калликл.
Выходит, что так.
Сократ.
И к тому ж красноречивое ораторство. Или, по‑твоему, поэты в театрах не блещут красноречием?
Калликл.
Ты прав.
Сократ.
Ну вот, стало быть, мы обнаружили особый вид красноречия – для народа, который состоит из людей всякого разбора: из детей [и взрослых], женщин и мужчин, рабов и свободных[648]
. Особенно восхищаться мы этим красноречием не можем, потому что сами называем его льстивым угодничеством.
e
Калликл.
Совершенно верно.
Сократ.
Хорошо. А красноречие для народа – в Афинах и в других городах, – который состоит из свободных мужчин, – как о нем будем судить? Кажется ли тебе, что ораторы постоянно держат в уме высшее благо и стремятся, чтобы граждане, внимая их речам, сделались как можно лучше, или же и они гонятся за благоволением сограждан, и ради собственной выгоды пренебрегают общей, обращаясь с народом как с ребенком – только бы ему угодить! – и вовсе не задумываясь, станет ли он из‑за этого лучше или хуже?
503
Калликл.
Это вопрос не простой, не такой, как прежние. Есть ораторы, речи которых полны заботы о народе, а есть и такие, как ты говоришь.
Сократ.
Достаточно и того! Если и красноречие двойственно, то одна его часть должна быть самою угодливостью, постыдным заискиванием перед народом, а другая – прекрасным попечением о душах сограждан, – чтобы они стали как можно лучше, – бесстрашной защитой самого лучшего, нравится это слушателям или не нравится.
b
Но ведь такого красноречия ты никогда и не видел! Если же, напротив, ты можешь назвать подобного человека среди ораторов, скорее говори, чтобы и мне знать, кто это такой.
Калликл.
Но, клянусь Зевсом, среди нынешних ораторов я не могу назвать никого.
Сократ.
Ну, что ж, а среди старинных можешь? Такого, чьи речи заставили афинян сделаться лучше, чем в прежние времена, когда этот оратор еще не выступал перед ними? Я, например, не знаю, о ком ты говоришь.
c
Калликл.
Не знаешь? Ты не слыхал ни про Фемистокла, что он был замечательный человек, ни про Кимона, ни про Мильтиада, ни даже про Перикла[649]
, хотя уж он‑то умер совсем недавно и ты слышал его собственными ушами?
Сократ.
Верно, Калликл, но только тогда, ежели верны прежние твои утверждения об истинной добродетели, что она состоит в исполнении желаний, собственных и чужих. А если неверны, если, как мы вынуждены были согласиться после,
d
потворствовать надо лишь тем из желаний, которые, исполнившись, делают человека лучше, а которые хуже, тем не надо, и это – особое искусство, я не нахожу, можно ли утверждать, что хоть один из четверых отвечает нашим условиям.
Калликл.
Поищи хорошенько – найдешь.
Сократ.
Давай вот так же, не торопясь, разберем, соответствовал ли кто из них этим условиям. Речи достойного человека всегда направлены к высшему благу, он никогда не станет говорить наобум, но всегда держит в уме какой‑то образец[650]
, как и все остальные мастера:
e
стремясь выполнить свое дело, каждый из них выбирает нужные снасти не кое‑как, но чтобы вещь, над которою они трудятся, приобрела определенный вид. Взгляни, если хочешь, на живописцев, на строителей, на корабельных мастеров, на любого из прочих мастеров, кого ни выберешь: в каком порядке располагает каждый все части своей работы, подгоняя и прилаживая одну к другой, пока не возникнет целое – стройное и слаженное!
504
Подобно остальным мастерам и те, о которых мы говорили недавно, те, что заботятся о человеческом теле, – учители гимнастики и врачи – как бы налаживают тело и приводят его в порядок. Признаем мы, что это так или нет?
Калликл.
Пусть будет так.
Сократ.
Стало быть, слаженность и порядок делают дом пригодным, а неслаженность – непригодным?
Калликл.
Да.
b
Сократ.
И судно – тоже?
Калликл.
Да.
Сократ.
И то же самое мы скажем про наше тело?
Калликл.
Конечно.
Сократ.
А про душу? Неслаженность делает ее пригодной и здравой или же некая слаженность и порядок?
Калликл.
После всего, в чем мы согласились раньше, необходимо согласиться и в этом.
Сократ.
Как же они зовутся, эти телесные свойства, которые возникают из порядка и слаженности?
c
Калликл.
Вероятно, ты имеешь в виду здоровье и силу?
Сократ.
Верно. А то, что в душе возникает из порядка и слаженности? Постарайся догадаться и дать этому название.
Калликл.
А почему ты сам не скажешь, Сократ?
Сократ.
Что ж, если тебе больше так нравится, буду говорить я. Ты же подтверждай мои слова, если сочтешь их правильными, а если нет – опровергай и стой твердо. Мне кажется, что имя телесному порядку «здравость» и что из него возникает в теле здоровье и все прочие добрые качества. Так или нет?
d
Калликл.
Так.
Сократ.
А порядок и слаженность в душе надо называть «законностью» и «законом», через них становятся люди почтительны к законам и порядочны, а это и есть справедливость и воздержность. Верно или нет?
Калликл.
Верно.
Сократ.
Стало быть, вот что будет стоять перед глазами у того оратора, искусного и честного: какие бы речи он ни произносил, воздействуя на души, какие бы поступки ни совершал и что бы он ни дарил, что бы ни отнимал –
e
и даря, и отнимая, он постоянно будет озабочен тем, как поселить в душах сограждан справедливость и прогнать несправедливость, поселить воздержность, изгнать распущенность и вообще поселить все достоинства, а все пороки удалить. Согласен или нет?
Калликл.
Согласен.
Сократ.
И что пользы, Калликл, для больного и негодного тела в обильной и вкусной пище, в питье и прочем тому подобном, если лучше ему от этого не станет нисколько, а скорее, по справедливому рассуждению, станет хуже? Так?
505
Калликл.
Пусть будет так.
Сократ.
В самом деле, я не думаю, чтобы такому человеку стоило жить: раз тело его негодно для жизни, значит, и сама жизнь неизбежно будет негодной. Или, может, не так?
Калликл.
Так.
Сократ.
Вот и утолять свои желания врачи разрешают, как правило, только здоровому: есть вволю, когда проголодаешься, или пить, когда почувствуешь жажду, а больному, как говорится, на всякое желание – запрет. Согласен ты со мной?
b
Калликл.
Да.
Сократ.
А для души, мой любезнейший, не то же ли самое правило? Пока она испорчена – неразумна, необузданна, несправедлива, нечестива, – нужно удерживать ее от желаний и не разрешать ничего, кроме того, что сделает ее лучше. Да или нет?
Калликл.
Да.
Сократ.
Потому что так будет лучше для нее самой?
Калликл.
Конечно.
Сократ.
А удерживать от того, что она желает, не значит ли обуздывать ее и карать?
Калликл.
Да, значит.
c
Сократ.
Стало быть, обуздание для души лучше необузданности – вопреки тому, что ты недавно утверждал?
Калликл.
Я тебя не понимаю, Сократ. Спроси кого‑нибудь другого.
Сократ.
Что это за человек: не терпит помощи и услуг и не согласен подчиняться тому, о чем идет у нас разговор, – обузданию и каре!
Калликл.
Что бы ты ни говорил, мне это совершенно безразлично, я отвечал тебе только в угоду Горгию.
Сократ.
Будь по‑твоему. Но что же будем делать? Так и оборвем беседу на середине?
d
Калликл.
Решай сам.
Сократ.
Даже сказки и те, говорят, нельзя бросать посредине: надо обязательно посадить им голову на плечи, чтоб они не скитались безголовыми. Отвечай, стало быть, до конца, чтобы и наше рассуждение не осталось без головы.
Калликл.
Никак от тебя не отвяжешься, Сократ! Послушай‑ка меня – оставим этот разговор или толкуй еще с кем‑нибудь.
Сократ.
Ну, что ж, кто еще желает – только чтобы нам не бросать беседу незаконченной?
e
Калликл.
А сам ты не мог бы ее продолжить, либо ведя речь один, либо отвечая на свои же вопросы?
Сократ.
Чтобы со мною вышло, как у Эпихарма[651]
: раньше двое говорили, – я и один справлюсь? Но кажется, иного выхода нет. Так и поступим. И думаю, все мы наперебой должны стараться понять, что в наших рассуждениях правда и что ложь: выяснить это будет благом для всех.
506
Сейчас я расскажу, как, на мой взгляд, обстоит дело, и если кто из вас решит, что я соглашаюсь сам с собою вопреки истине, пусть остановит меня и возражает. Ведь в точности я и сам еще не знаю того, о чем говорю, я только ищу вместе с вами, и если кто, споря со мною, найдет верный довод, я первый с ним соглашусь. Но говорить я буду лишь в том случае, если вы считаете нужным довести наше рассуждение до конца. Если же не хотите, давайте оставим его и разойдемся.
b
Горгий.
Нет, Сократ, я думаю, что расходиться нам еще никак нельзя, пока ты не завершил рассуждение. Мне кажется, что и остальные того же мнения. Что до меня, так я очень хочу услышать, как ты сам закончишь начатое.
Сократ.
У меня, Горгий, тоже есть одно желание: я бы очень охотно продолжил наш разговор с Калликлом до тех пор, пока не вложил бы ему в уста слова Амфиона вместо речей Зета[652]
.
c
Но раз ты, Калликл, не склонен довести рассуждение до конца вместе со мною, так хотя бы слушай внимательно и возражай в том случае, если решишь, что я говорю неправильно. И если ты меня опровергнешь, я не стану на тебя сердиться, как ты на меня, наоборот – запишу тебя первым своим благодетелем[653]
.
Калликл.
Нет, говори сам, мой любезный, и сам заканчивай.
Сократ.
Тогда слушай, я повторю с начала. Удовольствие и благо – одно и то же? – Нет, не одно и то же, как мы согласились с Калликлом. – Надо ли стремиться к удовольствию ради блага или к благу ради удовольствия? – К удовольствию ради блага. –
d
Удовольствие – это то, что, появляясь, дает нам радость, а благо – то, что своим присутствием делает нас хорошими? – Совершенно верно. – Но хорошими становимся и мы, и все прочее, что бывает хорошим, через появление некоего достоинства? – По‑моему, это непременное условие, Калликл. – Но достоинство каждой вещи, будь то утварь, тело, душа или любое живое существо, возникает во всей своей красе не случайно, но через слаженность, через правила того искусства, которое ей присуще. Не так ли? – По‑моему, так. – Значит, достоинство каждой вещи – это слаженность и упорядоченность? – Я бы сказал, что да. – Значит, это какой‑то порядок, присущий каждой вещи и для каждой вещи особый, делает каждую вещь хорошей? – Думаю, что так. –
507
Значит, и душа, в которой есть порядок, лучше беспорядочной? – Непременно. – Но душа, в которой есть порядок, – это умеренная душа? – Иначе быть не может. – А умеренная – это воздержная? – Несомненно. – Значит, воздержную душу надо считать хорошей. Я ничего иного прибавить не могу, друг Калликл. Ты же, если можешь, прибавь.
Калликл.
Говори дальше, мой любезный.
Сократ.
Вот я и говорю, что если воздержная душа – это хорошая, тогда та, что наделена противоположным свойством, будет дурной. Я говорю о душе неразумной и невоздержной. – Совершенно верно. – А воздержный человек будет обходиться, как должно, и с богами, и с людьми:
b
ведь поступая не так, как должно, он окажется уже невоздержным. – Да, непременно так. – Но, конечно, обходиться, как должно, с людьми – значит соблюдать справедливость, а с богами – благочестие. А кто соблюдает справедливость и благочестие, тот непременно справедлив и благочестив. – Да. – И непременно мужествен вдобавок. Воздержный человек не станет ни гнаться за тем, что не должно, ни уклоняться от того, что должно, наоборот, и что‑то преследуя, и от чего‑то уклоняясь, он исполнит свой долг, коснется ли дело людей или вещей, удовольствий или огорчений, а если долг велит терпеть, будет стойко терпеть.
c
Стало быть, Калликл, воздержный человек – справедливый, мужественный и благочестивый, как мы с тобою выяснили, – непременно будет безупречно хорошим, а хороший всегда поступает хорошо и достойно, и, поступая так, он блажен и счастлив, меж тем как дурной, поступая скверно, несчастлив. Он‑то и составит противоположность воздержному, – тот самый разнузданный, которого ты восхвалял.
d
Вот как я полагаю, и, по‑моему, это верно. А если верно, тогда тот, кто желает быть счастливым, пусть приучает себя к воздержности, пусть стремится к ней, а от разнузданности каждому из нас надо бежать со всех ног, и больше всего надо стараться, чтобы вообще не было надобности терпеть наказания, если же все‑таки надобно – нам ли самим или кому из наших близких, будь то частное лицо или целый город, – следует принять возмездие и кару: иначе виновному не бывать счастливым.
e
Такою мне представляется цель, которую надо видеть перед собой в течение всей жизни, и ради нее не щадить сил – ни своих, ни своего города, – чтобы справедливость и воздержность стали спутницами каждого, кто ищет счастья; да, так надо поступать, а не давать волю необузданным желаниям, не торопиться их утолять, потому что это нескончаемое зло, это значит вести жизнь разбойника. Подобный человек не может быть мил ни другим людям, ни богу, потому что он не способен к общению, а если нет общения, нет и дружбы.
508
Мудрецы[654]
учат, Калликл, что небо и землю, богов и людей объединяют общение, дружба, порядочность, воздержность, справедливость, по этой причине они и зовут нашу Вселенную «порядком» ["космосом"], а не «беспорядком», друг мой, и не «бесчинством». Ты же, мне кажется, этого в расчет нисколько не принимаешь, несмотря на всю свою мудрость, ты не замечаешь, как много значит и меж богов, и меж людей равенство, – я имею в виду геометрическое равенство[655]
, – и думаешь, будто надо стремиться к превосходству над остальными. Это оттого, что ты пренебрегаешь геометрией.
b
Как бы там ни было, нужно либо опровергнуть этот наш довод, показав, что не справедливостью и не воздержностью счастлив счастливый и не своей испорченностью несчастлив несчастный, либо, если наш довод верен, рассмотреть, каковы его следствия. Следует же из него, Калликл, все прежнее, о чем ты спрашивал, не шутки ли я шучу, когда утверждаю, что надо выступать с обвинением и против самого себя, и против сына, и против друга, если совершена несправедливость, и что в этом случае полезно обращаться за помощью к красноречию.
c
Истиной оказывается и то, в чем Пол, по твоему мнению, согласился со мною из ложного стыда, – что чинить несправедливость хуже, чем терпеть, и насколько хуже, настолько же безобразнее [постыднее]. И если кто решил овладеть красноречием по‑настоящему, он должен быть человеком справедливым и сведущим в делах справедливости, – в этом со мною согласился Горгий, и, как считает Пол, тоже из ложного стыда.
d
Раз это так, давай поглядим, чем, собственно, ты меня коришь – правильно или нет, будто я не могу помочь ни себе самому, ни кому бы то ни было из друзей пли близких, не могу спасти никого даже в случае самой крайней опасности, но, словно лишенный прав, отдан на произвол любому встречному – пожелает ли он отхлестать меня, если вспомнить крепкое твое выражение, по щекам, пожелает ли отнять имущество, или изгнать из города, или, наконец, даже убить. Нет ничего позорнее такого положения – вот твое слово. А какое мое, слыхали уже не раз, но я повторю снова – это нисколько не помешает.
e
Я не согласен, Калликл, что самое позорное на свете – несправедливо терпеть пощечины, пли попасть в руки мучителей, или оказаться обворованным; нет, бить и мучить меня вопреки справедливости или красть мое имущество – вот что и позорнее, и хуже; грабить, продавать в рабство, вламываться в мой дом, словом, чинить любую несправедливость против меня или моего имущества – и позорнее, и хуже для того, кто ее чинит, чем для меня, потерпевшего.
509
Что дело обстоит именно так, как я утверждаю, уже выяснилось в ходе нашей беседы и скреплено – хотя это и прозвучит, пожалуй, чересчур резко, – железными, несокрушимыми доводами. Во всяком случае до сих пор они казались вполне надежными, и пока ты их не опровергнул – ты или кто другой, еще более пылкий, – любой, кто выскажет суждение, отличное от моего, не может быть прав. Что до меня, я все время твержу одно: как обстоит дело в точности, мне неизвестно, но до сих пор, как вот и нынче, я ни разу не встретил человека, который был бы в состоянии высказаться по‑иному, не попав при этом впросак.
b
Вот почему я полагаю, что я прав. Но если несправедливость – величайшее зло для того, кто ее чинит, и если существует зло еще большее – остаться безнаказанным, совершивши несправедливость, – в чем же тогда состоит помощь, которую должен оказать себе человек, чтобы на самом деле не попасть впросак? Не в том ли, чтобы отвратить от себя самую страшную беду? И если ты не в силах оказать такую помощь ни себе, ни своим друзьям и близким, это, вне всякого сомнения, величайший позор;
c
следом за ним идет бессилье против второго по размерам зла, потом – против третьего и так дальше. Каковы размеры зла, такова и слава, если можешь от него оборониться, таково и бесславие, если не можешь Разве не так, Калликл?
Калликл.
Так.
Сократ.
Стало быть, из двух [зол] большее, по нашему суждению, чинить несправедливость, а меньшее – терпеть. Что же нужно человеку для надежной защиты против обоих, так чтобы и не чинить несправедливость, и не терпеть ее?
d
Сила ему нужна или добрая воля? Я спрашиваю: если человек не желает подвергаться несправедливости, этого достаточно, или же нужна сила, чтобы избегнуть несправедливости?
Калликл.
Ясно, что нужна сила.
Сократ.
А как насчет того, кто чинит несправедливость? Если человек не захочет чинить несправедливость, он и в самом деле не станет, или же и для этого потребны какая‑то сила и искусство, которому надо выучиться и в нем усовершенствоваться, а иначе несправедливых поступков не минуешь?
e
Ответь мне, пожалуйста, Калликл, верно или нет, на твой взгляд, согласились раньше мы с Полом, когда вынуждены были признать, что никто не чинит несправедливости по доброй воле, но всякий, поступающий несправедливо, несправедлив поневоле?
Калликл.
Пусть будет так, Сократ, лишь бы ты довел до конца свое рассуждение.
Сократ.
Значит, по‑видимому, и для этого нужны какая‑то сила и искусство – для того чтобы воздерживаться от несправедливости.
510
Калликл.
Да.
Сократ.
Что же это за искусство, которым надо овладеть, чтобы не испытывать ее вообще или, на худой конец, в наименьшей степени? Посмотри, разделишь ли ты мое мнение. А мое мнение вот какое: нужно либо самому стоять у власти в городе или даже сделаться тираном, либо быть сторонником существующего в государстве порядка.
Калликл.
Видишь, Сократ, я всегда готов одобрить твои слова, если только ты говоришь дело! То, что ты сейчас сказал, по‑моему, совершенно правильно.
b
Сократ.
Тогда смотри, не одобришь ли и того, что я хочу сказать дальше. Мне кажется, что самая тесная дружба, как о том судят древние мудрецы, бывает у сходных меж собою людей[656]
. Тебе тоже так кажется?
Калликл.
Да.
Сократ.
Теперь допустим, что власть находится в руках тирана, свирепого и невежественного, а в том же городе живет человек намного лучше, – тиран, конечно, станет его бояться и никогда не сможет искренне с ним подружиться?
c
Калликл.
Конечно.
Сократ.
И так же точно – с человеком, который намного хуже его. Такого человека тиран будет презирать и никогда не станет искать его дружбы.
Калликл.
И это правда.
Сократ.
Остается лишь один друг, которым тиран будет дорожить, – одинакового с ним нрава и одинаковых вкусов, а потому и с полной охотою подчиняющийся своему властителю. Он будет большою силой в том городе, его никто не обидит безнаказанно. Не так ли?
d
Калликл.
Так.
Сократ.
И если бы кто из молодых в том же городе задался мыслью: «Каким образом мне войти в силу, чтобы ни от кого не терпеть обиды?» – ему, по‑видимому, надо следовать тою же дорогой: с молодых лет приучаться разделять все радости и печали государя, чтобы по возможности больше ему уподобиться. Не так ли?
Калликл.
Так.
e
Сократ.
Он‑то, значит, и достигнет своего – будет недосягаем для несправедливости и, как это у вас зовется, станет большою силой в городе.
Калликл.
Несомненно.
Сократ.
Но будет ли он свободен и от несправедливых поступков? Или об этом и думать нечего, раз он уподобится властителю, который сам несправедлив, и станет большою силою подле него? Да, все его старания – я совершенно уверен – будут направлены на то, чтобы оказаться способным причинить как можно больше несправедливости людям и, чиня несправедливость, уходить от наказания. Разве не так?
511
Калликл.
Пожалуй.
Сократ.
Значит, его постигнет величайшее зло – он развратится душою, подражая своему господину и войдя в силу.
Калликл.
Не пойму я, Сократ, как это ты ухитряешься вывернуть наизнанку любой довод! Разве тебе неизвестно, что этот человек, который подражает тирану, лишит и жизни, и имущества того, кто не подражает – стоит ему только захотеть?
b
Сократ.
Известно, дорогой мой Калликл, ведь я не глухой и слышу это часто не только от тебя, но и от Пола и чуть ли не от каждого из афинян. Но и ты меня послушай: лишить‑то он лишит, если захочет, однако ж негодяй останется негодяем, а его жертва – человеком достойным.
Калликл.
Так разве это не возмутительно?
c
Сократ.
Нет, по крайней мере для здравого ума, как показывает наше рассуждение. Или ты считаешь, что прежде всего надо заботиться о том, как бы прожить подольше и совершенствоваться в тех искусствах, которые всегда вызволят нас из опасности, например, как ты мне советуешь, в красноречии, спасающем человека в судах?
Калликл.
И, клянусь Зевсом, это правильный совет!
Сократ.
Скажи, мой любезный, а умение плавать – тоже дело важное, как по‑твоему?
Калликл.
По‑моему, нет, клянусь Зевсом!
d
Сократ.
Но ведь и оно спасает от смерти, когда попадаешь в такие обстоятельства, где потребно это уменье. А если оно кажется тебе слишком ничтожным, я назову другое, более значительное – мастерство кормчего, которое спасает от величайших опасностей не только наши души, но и наши тела, и наше имущество, совсем как красноречие. А между тем оно непритязательно и скромно, не важничает так, словно совершает что‑то необычайное, но, сослуживши нам ту же самую службу, что судебное красноречие, например, доставив нас целыми и невредимыми с Эгины сюда,
e
зарабатывает на этом, если не ошибаюсь, всего два обола, а если едешь очень издалека – из Египта или из Понта, за великое это благодеяние, сохранивши в целости, как я уже сказал, и хозяина, и его детей, и добро, и женщин, берет от силы две драхмы[657]
, когда судно причалит в гавани; а тот, кто владеет этим мастерством и кто исполнил все дело, сходит на сушу и скромно прогуливается по берегу, подле своего корабля. Вероятно, кормчий способен рассудить, что неизвестно, кому из спутников, которым он не дал погибнуть в волнах, принес он пользу, а кому вред.
512
Ведь он знает, что высадил их на берег совершенно такими же, какими принял на борт, – ничуть не лучше ни телом ни душою, – и потому говорит себе: нет, если кто, страдая тяжелыми и неисцелимыми телесными недугами, не потонул, так это его несчастье, что он не умер, и никакой пользы я ему не принес, но если кто скрывает множество неисцелимых недугов в душе,
b
которая драгоценнее тела, то разве стоит ему жить, разве пойдет ему на пользу спасение от морской пучины, от суда или от любой иной напасти – ведь негодяю лучше не жить, потому что жизнь его непременно будет и скверной, и несчастной.
Вот почему кормчий обычно не важничает и не бахвалится, хоть и спасает нас от смерти, и строитель военных машин – тоже, а между тем, мой почтенный, он не уступит не только кормчему, но и никому иному на свете, даже полководцу: целые города спасает он от гибели в иных случаях. Ты, конечно, не поставишь его в один ряд с судебным оратором?
c
Если бы, однако, он захотел, по вашему примеру, Калликл, произнести похвальное слово своему занятию, то засыпал бы вас словами, призывая сделаться строителями машин, утверждая, что это необходимо и что всякое другое занятие ничего не стоит: доводов ему хватит. И тем не менее ты презираешь его и его искусство, «строитель машин» для тебя что‑то вроде позорной клички, ты не захочешь отдать свою дочь за его сына и сам не возьмешь его дочь.
d
Но на каком же основании хвалишь ты собственное дело и по какому праву презираешь строителя машин и остальных, о ком я только что упоминал? Да, знаю, ты, верно, скажешь, что ты лучше их и произошел от лучших родителей. Но если «лучшее» – не то, что понимаю под ним я, если добродетель – в том, чтобы спасать себя и свое имущество, каков бы ты ни был сам, тогда смешно хулить и строителя машин, и врача, и все прочие искусства, созданные для спасения нашей жизни и нашего добра.
e
Но посмотри внимательно, мой милый, может быть, благородство и добро все же не в том, чтобы спасать и спасаться? Человеку истинно мужественному такие заботы не к лицу, не надо ему думать, как бы прожить подольше, не надо цепляться за жизнь, но, положившись в этом на божество и поверив женщинам, что от своей судьбы никому не уйти[658]
, надо искать способ провести дни и годы, которые ему предстоят, самым достойным образом;
513
пусть решит, следует ли приноровляться к государственному строю своего города, и если да, то ты, Калликл, должен сделаться очень похож на афинский народ, чтобы приобрести его благосклонность и большую силу в городе. Только разочти, любезный, будет ли нам от этого прок, и тебе и мне, и не случится ли с нами того же, что бывает, как говорят, с фессалийскими ведьмами[659]
, когда они сводят луну с неба: захват этой власти в городе может стоить нам самого дорогого на свете.
b
Если же ты полагаешь, что хоть кто‑нибудь в целом мире может выучить тебя искусству, которое даст тебе большую силу в городе, меж тем как ты отличен от всего общества, его правил и порядков, – в лучшую ли сторону или в худшую, все равно, – ты, по‑моему, заблуждаешься, Калликл. Да, потому что не подражать надо, а уродиться таким же, как они, если хочешь достигнуть подлинной дружбы с афинянами, – впрочем и с сыном Пирилампа[660]
тоже, клянусь Зевсом.
c
Вот если кто сделает тебя точь‑в‑точь таким же, как они, тот и исполнит твое желание – выведет тебя в государственные мужи и в ораторы. Ведь каждый радуется, когда слышит речи себе по нраву, а когда не по нраву – сердится. Или, может быть, ты хотел бы возразить, приятель? Что же именно, Калликл?
Калликл.
Не знаю, чем это объяснить, Сократ, но мне кажется, что ты прав. Впрочем, я – как все люди: до конца ты меня не убедил.
d
Сократ.
Это любовь к демосу, Калликл, засела у тебя в душе и борется со мною, но если мы разберем то же самое еще несколько раз и вдобавок более основательно, ты убедишься до конца. А пока вспомни, что мы различали два вида занятий, обращенных как на тело, так и на душу: одни служат удовольствию, другие – высшему благу, которое отнюдь не уступчиво, напротив – упорно отстаивает свое. Так мы как будто определяли?
e
Калликл.
Да, так.
Сократ.
И те, которые служат удовольствию, не что иное, как низков угодничество. Верно?
Калликл.
Пусть будет так, если хочешь.
Сократ.
А другие направлены на то, чтобы предмет их заботы, будь то тело или душа, сделался как можно лучше?
Калликл.
Да.
514
Сократ.
А если мы проявляем заботу о своем городе и согражданах, не должны ли мы стремиться к тому же – чтобы сделать сограждан как можно лучше? Ведь без этого, как мы установили раньше, любая иная услуга окажется не впрок, если образ мыслей тех, кому предстоит разбогатеть, или встать у власти, или вообще войти в силу, не будет честным и достойным. Согласен ты со мною?
Калликл.
Конечно, если это тебе приятно.
b
Сократ.
Теперь допустим, Калликл, что мы решили принять участие в общественных, государственных делах и приглашаем друг друга заняться строительством оборонительных стен, корабельных верфей, храмов – одним словом, чего‑то очень большого, – не надо ли нам испытать себя, выяснив прежде всего, знаем ли мы строительное искусство, и если знаем, то от кого выучились? Надо или нет?
Калликл.
Разумеется.
c
Сократ.
А во‑вторых, случалось ли нам когда‑нибудь строить частным образом, для кого‑то из друзей или для себя, и удались нам эти постройка или не удались? И если б мы обнаружим, что учители у нас были знаменитые и хорошие и что мы много и удачно строили сперва вместе с ними, а потом и одни, без них, лишь тогда было бы оправданным и разумным приступать к общественному делу. А если бы мы не могли ни назвать учителя, ни показать своих построек, или же, наоборот, показали бы много построек, и все никуда не годные, – было бы безумием браться за общественное дело и призывать к этому друг друга. Как мы рассудим – прав я или нет?
d
Калликл.
Совершенно прав.
Сократ.
И так же во всех прочих случаях, например, если бы мы захотели пойти на государственную службу и призывали друг друга заняться врачебным делом. Прежде чем решить, что мы для этого годны, мы, конечно, испытали бы один другого, ты – меня, а я – тебя. «Во имя богов, – спросил бы ты, – а у самого Сократа как здоровье? И случалось ли ему лечить и вылечивать других людей, рабов или свободных?» Вероятно, и я испытал бы тебя таким же самым образом.
e
И если бы мы обнаружили, что никто не сделался здоровее с нашею помощью, – никто из иноземцев и граждан, мужчин и женщин, – клянусь Зевсом, Калликл, положение оказалось бы поистине смехотворным: люди дошли бы до такого безрассудства, что, не испробовав свои силы частным образом (вначале не раз наудачу, а потом многократно с настоящим успехом), не утвердившись достаточно в своем искусстве, берясь за него подобно гончару, начинающему, как говорят, «учиться гончарному делу с бочонка»[661]
, – эти люди не только сами пытаются занять общественную должность, но и зовут других, таких же [невежд], как они сами! Разве это не безумие, как тебе кажется?
515
Калликл.
Мне кажется, что да.
Сократ.
А теперь, любезный мой, раз ты сам недавно принялся за государственные дела и раз стыдишь меня за то, что я к этим делам равнодушен, и зовешь последовать твоему примеру, не испытать ли нам друг друга? «Что, стал ли в прежние времена кто‑нибудь из афинян лучше благодаря Калликлу? Есть ли хоть один человек, иноземец или афинский гражданин, раб или свободный, безразлично, который прежде был бы дурным – несправедливым, распущенным и безрассудным, а Калликл превратил бы его в человека достойного?»
b
Скажи мне, Калликл, если кто задаст тебе такой вопрос, что ты ответишь? Кто стал лучше благодаря общению с тобою, кого ты назовешь? Отчего же ты молчишь – разве ты ничего не достиг в частной жизни, прежде чем взяться за общественное дело?
Калликл.
Ох, Сократ, какой же ты задиристый!
Сократ.
Да не из задирчивости я тебя спрашиваю, а потому, что действительно хочу понять твой взгляд – каким образом, по‑твоему, следует вести государственные дела у нас [в Афинах]. Была ли у тебя с самого начала какая‑нибудь иная цель, или ты заботишься только об одном – чтобы мы, твои сограждане, стали как можно лучше?
c
Разве мы уже не признали, и вдобавок не один раз, что именно этим должен заниматься государственный человек? Признали или нет? Отвечай! Ладно, я сам за тебя отвечу: да, признали. Но если в этом заключается служба, которою порядочный человек обязан своему городу, вспомни про тех мужей, что ты называл немного раньше, – про Перикла, Кимона, Мильтиада и Фемистокла, – и скажи, по‑прежнему ли ты считаешь их хорошими гражданами.
d
Калликл.
Да, по‑прежнему.
Сократ.
А раз хорошими, ясно, что каждый делал сограждан лучше, чем они были раньше. Так или нет?
Калликл.
Так.
Сократ.
Стало быть, когда Перикл впервые выступал перед народом, афиняне были хуже, нежели в тот день, когда он выступал перед ними в последний раз?
Калликл.
Возможно.
Сократ.
Нет, не «возможно», мой милый, а «непременно», как явствует из всего, в чем мы с тобою согласились, разумеется если он и вправду был хорошим гражданином.
e
Калликл.
Что ж с того?
Сократ.
Ничего. Но ответь мне, пожалуйста, еще вот на какой вопрос: как считается, афиняне благодаря Периклу стали лучше или же, наоборот, развратились по его вине? Я по крайней мере только и слышу, что Перикл, впервые установив и введя жалованье, превратил афинян в лодырей, трусов, пустомель и корыстолюбцев[662]
.
Калликл.
От кого ты это слышишь, Сократ? От молодцев уродующих наш слух[663]
!
Сократ.
Но вот что я уже не от других слышу, а знаю точно, и ты тоже знаешь, – что сперва Перикл пользовался доброю славой и афиняне не присуждали его ни к какому позорному наказанию, пока сами были хуже,
516
когда же заслугами Перикла сделались честны и благородны, – к концу его жизни, – то осудили его за воровство и чуть было смертного приговора не вынесли, считая его, видно, скверным гражданином.
Калликл.
Ну, и что же? Признать по этой причине Перикла дурным?
Сократ.
Ну, во всяком случае скотник, присматривающий за ослами, лошадьми или быками, оказался бы дурным при таких обстоятельствах, – если бы он принял животных смирными, и они не лягали бы его, и не бодались, и не кусались, а потом, под его присмотром, вдруг одичали.
b
Или же тебе не кажется дурным скотник, – кто бы он ни был и за каким бы скотом ни ходил, – у которого смирные животные дичают? Да или нет?
Калликл.
Да, да – только бы тебе угодить!
Сократ.
Тогда угоди мне еще раз и скажи: человек – тоже одно из живых существ?
Калликл.
Как же иначе!
Сократ.
Стало быть, Перикл присматривал за людьми?
Калликл.
Да.
Сократ.
Что ж получается? Не следовало ли им, как мы с тобою только что установили, сделаться под его присмотром справедливее, если он действительно хорош и искусен в государственном управлении?
c
Калликл.
Непременно.
Сократ.
Но справедливые смирны, как говорит Гомер[664]
. А ты что скажешь? Так же, как Гомер?
Калликл.
Да.
Сократ.
Но у Перикла они одичали и вдобавок накинулись на него самого, чего он уже никак не ожидал.
Калликл.
Ты хочешь, чтобы я согласился с тобою?
Сократ.
Да, если находишь, что я прав.
Калликл.
Будь по‑твоему.
Сократ.
А. если одичали, значит, сделались несправедливее и хуже?
d
Калликл.
Пусть будет так.
Сократ.
Выходит, стало быть, что Перикл не был искусен в государственном управлении.
Калликл.
Да, не был, если верить тебе.
Сократ.
Нет, клянусь Зевсом, и тебе тоже, раз ты не отказываешься от того, с чем раньше соглашался. А теперь поговорим о Кимоне. Разве те, кого он выхаживал, не подвергли его остракизму, чтобы десять лет не слышать его голоса[665]
? И с Фемистоклом[666]
поступили точно так же, приговорив его к изгнанию, верно? А Мильтиада[667]
, победителя при Марафоне, постановили сбросить в пропасть, и сбросили бы, если бы не вмешался притан.
e
Будь они, однако ж, все четверо, людьми дельными и достойными, как ты утверждаешь, никогда бы с ними не случилось ничего подобного. Так не бывает, чтобы хорошие колесничий сперва не падали с колесницы, а потом, когда выходят коней и сами станут опытнее, тогда бы вдруг начали падать. Не бывает так ни в управлении колесницей, ни в любом ином деле. Или ты другого мнения?
Калликл.
Нет.
517
Сократ.
Значит, по‑видимому, правильно мы говорили раньше, что не знаем ни одного человека в нашем городе, который оказался бы хорош и искусен в государственном управлении. А ты подтверждал, что в нынешние времена так оно и есть, но только не в минувшие, и выбрал для примера этих четверых. Выяснилось, однако ж, что они ничем не лучше нынешних и если были ораторами, то не владели ни истинным красноречием – в таком случае они не потерпели бы крушения, – ни даже льстивым.
b
Калликл.
А все же, Сократ, нынешним до них далеко, никто из нынешних не способен на такие дела, какие совершил любой из тех четверых.
Сократ.
Дорогой мой, если говорить о том, как они служили городу, я их тоже не хулю, напротив, мне кажется, они были расторопнее, чем нынешние служители, и лучше умели исполнить все желания нашего города. Но в том, чтобы не потакать желаниям, а давать им иное направление – когда убеждением, а когда и силой – таким образом, чтобы граждане становились лучше, – тут у прежних нет, можно сказать, ни малейшего преимущества.
c
А в этом одном и заключается долг хорошего гражданина! Что же до кораблей, оборонительных стен, судовых верфей и многого иного тому подобного, я с тобою согласен – прежние были ловчее нынешних.
Видишь ли, в течение всей нашей с тобою беседы происходит забавное недоразумение – мы все время топчемся на одном месте, оттого что не понимаем друг друга. Мне кажется, ты уже несколько раз согласился и признал, что забота о душе, как и о теле, бывает двух родов.
d
Одна – служанка, она может доставить телу пищу, если оно голодно, питье – если испытывает жажду, плащи, покрывала, обувь – если зябнет, и все остальное, какое бы желание ни возникло у нашего тела. (Я нарочно пользуюсь одними и теми же сравнениями, чтобы легче было меня понять.) А раз ты способен раздобыть эти вещи, раз ты трактирщик, или купец, или ремесленник – пекарь, повар, ткач, сапожник, кожевник, –
e
ничего удивительного, если сам ты, занимаясь своими делами, и другие, глядя па тебя, полагаете, будто ты как раз и ухаживаешь за телом. Так полагает любой, кому невдомек, что помимо всех этих занятий существуют еще гимнастическое и врачебное искусства, которые и составляют истинный уход за телом и которым принадлежит главенство над теми занятиями и право распоряжаться их плодами,
518
потому что они одни знают, какие из кушаний и напитков на пользу телу и какие во вред, а все остальные ничего в этом не смыслят. Вот почему прочие занятия мы считаем низменными, рабскими, недостойными свободного человека, а врачебное и гимнастическое искусства по справедливости признаем владыками над ними.
b
Когда я говорю, что то же самое верно и для души, ты, как мне кажется, меня понимаешь и соглашаешься, словно бы убедившись, что я говорю дело, но спустя немного вдруг заявляешь, что были честные и достойные граждане в Афинах, а когда я спрашиваю, кто же они, и ты называешь людей весьма сведущих, по твоему мнению, в государственных делах, это, мне кажется, звучит так же, как если бы я спрашивал про гимнастику – кто из мастеров ухода за телом хорош или был хорош в прежние времена, – а ты бы, нисколько не шутя, отвечал:
c
«Пекарь Теарион, Митек, тот, что написал книгу о сицилийской кухне, и трактирщик Сарамб[668]
, все – удивительные мастера ухаживать за телом: у одного дивный хлеб, у другого – приправы, у третьего – вино».
Пожалуй, ты рассердился бы, если бы я тебе на это сказал: «Милый мой, да ты совершенный невежда в гимнастике! Ты говоришь мне о прислужниках, которые исполняют наши желания, но понятия не имеют, какие из них прекрасны и благородны, и при случае раскормят людей до тучности и будут окружены за это похвалами,
d
но в конце концов сгонят с костей и то мясо, что было на них сначала. А эти в свою очередь – тоже по невежеству – не тех примут за виновников своих недугов и истощения, кто их потчевал, а тех, кто случится рядом и подаст какой‑нибудь совет, когда прежняя полнота, приобретенная в ущерб здоровью, долгое время спустя обернется болезнью; вот кого они будут и винить, и хулить, и даже расправятся с ними, если смогут, а тех, других, истинных виновников своих бедствий, будут прославлять».
e
Вот и теперь, Калликл, ты поступаешь в точности так же. Ты хвалишь людей, которые кормили афинян, доставляя им то, чего они желали. Говорят, будто они возвеличили наш город, а что из‑за них он раздулся в гнойную опухоль, этого не замечают. А между тем они, прежние, набили город гаванями, верфями, стенами, податными взносами и прочим вздором, забыв о воздержности и справедливости.
519
И когда, наконец, приступ бессилия все‑таки разразится, винить афиняне будут советчиков, которые в ту пору случатся рядом, а Фемистокла, Кимона, Перикла – виновников своих бедствий – будут хвалить. Потеряв вместе с новыми приобретениями и старое свое добро, они, может быть, напустятся на тебя, если ты не остережешься, и на моего друга Алкивиада, хоть вы и не настоящие виновники, а, самое большее, соучастники вины.
b
Обрати внимание, какая нелепость совершается и ныне, у пас на глазах, и, говорят, бывала раньше. Я вижу, что когда город обходится с кем‑нибудь из своих государственных мужей как с преступником, обвиняемые негодуют и сетуют на незаслуженную обиду. «Мы оказали городу столько благодеяний, а теперь несправедливо из‑за него гибнем!» – так они говорят. Но это ложь от начала до конца! Ни один глава государства не может погибнуть незаслуженно от руки того города, который он возглавляет.
c
Этих мнимых государственных мужей постигает примерно та же беда, что софистов. Софисты – учители мудрости – в остальном действительно мудры, но в одном случае поступают нелепо: они называют себя наставниками добродетели, но часто жалуются на учеников, которые их обижают, отказывая в вознаграждении и других знаках благодарности за науку и доброе обхождение.
d
Но это же верх бессмыслицы: могут ли люди, которые сделались честны и справедливы, избавившись с помощью учителя от несправедливости и обретя справедливость, все же совершать несправедливые поступки посредством той несправедливости, которой в них больше нет?! Ты согласен со мною, друг, что это нелепо?
Видишь, Калликл, не желая отвечать, ты, и правда, заставил меня произнести целую речь.
Калликл.
А без этого, не дожидаясь моих или еще чьих‑нибудь ответов, ты говорить не можешь?
e
Сократ.
Похоже, что могу. Как бы там ни было, а теперь я объясняюсь так пространно потому, что ты не хочешь отвечать. Но скажи мне, во имя бога дружбы[669]
, мой дорогой, тебе это не кажется бессмыслицей – утверждать, что ты сделал другого человека хорошим (он, дескать, благодаря этому воздействию и стал хорош и остается хорошим) и вместе с тем бранить его негодяем?
Калликл.
Да, кажется.
Сократ.
Но не такие ли речи слышишь ты от людей, которые утверждают, будто учат добродетели?
520
Калликл.
Да, слышу. Но стоит ли вообще говорить об этих ничтожных людишках?
Сократ.
А что скажешь о тех, кто утверждает, будто стоит во главе государства и старается сделать его как можно лучше, а потом, когда обстоятельства переменятся, обвиняет его во всех пороках? По‑твоему, они сколько‑нибудь отличаются от софистов? Нет, милый ты мой, между оратором и софистом разницы нет вовсе, а если и есть, то самая незаметная, как я уже говорил Полу.
b
А ты по невйдению одно считаешь чем‑то в высшей степени прекрасным – красноречие то есть, а другое презираешь. А на самом деле софистика прекраснее красноречия в такой же точно мере, в какой искусство законодателя прекраснее правосудия и гимнастика – искусства врачевания. Одни только ораторы и софисты, на мой взгляд, не могут бранить своих воспитанников, обвиняя их в неблагодарности, ибо тем самым они обвиняют и самих себя – в том, что не принесли пользы, которую обещали принести. Не правда ли?
c
Калликл.
Истинная правда.
Сократ.
Похоже, что и оказывать услуги безвозмездно могли бы тоже только они одни, если бы их обещания не были ложью. Если принимаешь любую иную услугу, например выучиваешься, упражняясь, быстро бегать и учитель не связывает тебя обещанием, не уговаривается о вознаграждении и не берет деньги сразу же, как только сообщит тебе легкость в беге. ты, может статься, и лишишь его своей благодарности: ведь, сколько я понимаю, причина несправедливых поступков – не медлительность, а несправедливость. Верно?
d
Калликл.
Да.
Сократ.
Но раз учитель истребляет эту причину – несправедливость, ему уже нечего опасаться несправедливого обращения со стороны ученика, наоборот, лишь такие услуги и можно оказывать, не уславливаясь о вознаграждении, если только ты действительно способен делать людей лучше. Не так ли?
Калликл.
Так.
Сократ.
Отсюда следует, по‑видимому, что в остальных случаях, например если речь идет о строительстве или еще каком‑нибудь мастерстве, брать деньги за своп советы нисколько не позорно.
e
Калликл.
По‑видимому, да.
Сократ.
А насчет того, о чем мы сейчас толкуем, – как жить самым достойным образом, как лучше всего управлять своим домом или своим городом, – насчет этого отказать в совете, если не рассчитываешь на плату, повсюду считается позорным. Верно?
Калликл.
Да.
Сократ.
Причина понятна: среди всех услуг одна лишь эта внушает желание ответить добром на добро, и нужно считать хорошим знаком, если сделавший это доброе дело затем получает доброе воздаяние, а если не получает – наоборот. Так или нет?
512
Калликл.
Так.
Сократ.
К какой же заботе о нашем городе ты меня призываешь, определи точно. Чтобы я боролся с афинянами, стараясь сделать их как можно лучше и здоровее, словно врач или словно прислужник, во всем им уступая? Скажи мне правду, Калликл. Ты начал так откровенно, говори же и до конца все, что думаешь, – это будет только справедливо. Отвечай мне честно и без страха.
b
Калликл.
Что ж, я скажу: надо прислуживать.
Сократ.
Выходит, мой благородный друг, ты призываешь меня льстить и угодничать?
Калликл.
Да, если тебе угодно называть мисийца мисийцем[670]
, Сократ. А в противном случае…
Сократ.
Не повторяй в который раз того же самого – что меня погубит любой, кому вздумается! Потому что я тебе снова отвечу: «Негодяй погубит достойного человека». И не говори, что у меня отнимут имущество, чтобы мне не возразить тебе снова:
c
«Пусть отнимут, а распорядиться отобранным не смогут, потому что как несправедливо отнимут, так и распорядятся несправедливо, а если несправедливо – значит, безобразно, а если безобразно – значит, плохо».
Калликл.
Как ты твердо, по‑видимому, убежден, Сократ, что ни одно из этих зол тебя не коснется, – словно бы живешь вдалеке отсюда и словно не можешь очутиться перед судом по доносу какого‑нибудь прямого негодяя и мерзавца!
d
Сократ.
Я был бы и в самом деле безумцем, Калликл, если бы сомневался, что в нашем городе каждого может постигнуть какая угодно участь. Но одно я знаю твердо: если я когда‑нибудь предстану перед судом и мне будет грозить одна из опасностей, о которых ты говоришь, обвинителем моим, и правда, будет негодяй – ведь ни один порядочный человек не привлечет невинного к суду, – и я не удивлюсь, услышав смертный приговор[671]
. Объяснить тебе, почему?
Калликл.
Конечно!
Сократ.
Мне думается, что я, в числе немногих афинян (чтобы не сказать – единственный), подлинно занимаюсь искусством государственного управления[672]
и, единственный среди нынешних граждан, применяю это искусство к жизни.
e
И раз я никогда не веду разговоров ради того, чтобы угодить собеседнику, но всегда, о чем бы ни говорил, ради высшего блага, – не ради особого удовольствия, – раз не хочу следовать твоему совету и прибегать к хитрым уловкам, мне невозможно будет защищаться в суде. Снова приходят мне на ум слова, которые я сказал Полу: судить меня будут так, как дети судили бы врача, которого обвинил перед ними повар. Подумай сам, как защищаться такому человеку перед таким судом, если обвинитель заявит:
522
«Дети, этот человек и вам самим причинил много зла, и портит самых младших, пуская в дело нож и раскаленное железо, изнуряет их, душит и лишает дара речи, назначая горькие‑прегорькие лекарства, морит голодом и томит жаждой – не то, что я, который закармливает вас всевозможными лакомствами!» Что, по‑твоему, мог бы ответить врач, застигнутый такою бедой? Ведь если бы он ответил правду: «Все это делалось ради вашего здоровья, дети», – представляешь себе, какой крик подняли бы эти судьи? Оглушительный!
Калликл.
Пожалуй.
Сократ.
Да, надо думать. Значит, и по‑твоему, ему было бы до крайности трудно собраться с мыслями и отвечать?
b
Калликл.
Разумеется.
Сократ.
В таком же самом положении, нисколько не сомневаюсь, очутился бы и я, если бы попал под суд. Я не смогу назвать ни одного удовольствия, которое бы я им доставил, а ведь именно в этом, на их взгляд, заключаются услуги и благодеяния, тогда как я не хвалю тех, кто их оказывает, и не завидую тем, кто их принимает. И если кто скажет про меня, что я порчу молодых, лишая их дара речи, или оскорбляю злословием старых в частных ли беседах или в собраниях, я не смогу ответить ни по правде, – что, дескать, все слова мои и поступки согласны со справедливостью и вашим желанием, граждане судьи, – ни каким‑либо иным образом. Да уж, видимо, какая бы участь ни выпала, а придется терпеть.
c
Калликл.
И по‑твоему, это прекрасно, Сократ, когда человек так беззащитен в своем городе и не в силах себе помочь?
Сократ.
Да, Калликл, если он располагает тем единственным средством защиты, которое ты за ним признал, и даже не один раз, – если он защитил себя тем, что никогда и ни в чем не был несправедлив, – ни перед людьми, ни перед богами, ни на словах, ни на деле;
d
и мы с тобою не раз согласились, что эта помощь – самая прекрасная, какую человек способен себе оказать. Вот если бы кто‑нибудь меня уличил, что я не могу доставить себе и другим такой помощи, мне было бы стыдно, где бы меня ни уличили – в большом ли собрании или в малом или даже с глазу на глаз, – и если бы умирать приходилось из‑за этого бессилия, я бы негодовал.
e
Но если бы причиною моей гибели оказалась неискушенность в льстивом красноречии, можешь быть уверен, я бы встретил смерть легко и спокойно. Ведь сама по себе смерть никого не страшит, – разве что человека совсем безрассудного и трусливого, – страшит несправедливость, потому что величайшее из всех зол – это когда душа приходит в Аид обремененной множеством несправедливых поступков. Если хочешь в этом убедиться, послушай, что я тебе расскажу.
523
Калликл.
Что ж, если со всем прочим ты уже покончил, рассказывай.
Сократ.
Тогда внемли, как говорится, прекрасному преданию[673]
, которое ты, вероятно, сочтешь сказкою, а я полагаю истиной, а потому и рассказывать буду так, как рассказывают про истинные события.
Гомер сообщает, что Зевс, Посейдон и Плутон[674]
поделили власть, которую приняли в наследство от отца. А при Кроне был закон, – он сохраняется у богов и до сего дня, – чтобы тот из людей, кто проживет жизнь в справедливости и благочестии, удалялся после смерти на Острова блаженных и там обитал, неизменно счастливый, вдали от всех зол,
b
а кто жил несправедливо и безбожно, чтобы уходил в место кары и возмездия, в темницу, которую называют Тартаром[675]
. Во времена Крона и в начале царства Зевса суд вершили живые над живыми, разбирая дело в тот самый день, когда подсудимому предстояло скончаться. Плохо выносились эти приговоры, и вот Плутон и правители с Островов блаженных пришли и пожаловались Зевсу, что и в Тартар, и на их Острова являются люди, которым там не место. А Зевс им отвечает: «Я прекращу это навечно! Сейчас, – говорит он, – приговоры выносят плохо, но отчего? Оттого, что подсудимых судят одетыми. Оттого, что их судят живыми.
c
И вот многие скверны душой, но одеты в красивое тело, в благородство происхождения, в богатство, и, когда открывается суд, вокруг них толпятся многочисленные свидетели, заверяя, что они жили в согласии со справедливостью. Судей это приводит в смущение, да вдобавок и они одеты – душа их заслонена глазами, ушами и вообще телом от головы до пят. Все это для них помеха – и собственные одежды, и одежды тех, кого они судят. Первым делом, – продолжает Зевс, – люди не должны больше знать дня своей смерти наперед, как теперь.
d
Это надо прекратить, и Прометею[676]
уже сказано, чтобы он лишил их дара предвидения. Затем надо, чтобы их судили совершенно нагими, а для этого пусть их судят после смерти. И судья пусть будет нагой и мертвый, и пусть одною лишь душою взирает на душу – только на душу! – умершего, который разом лишился всех родичей и оставил на земле все блестящее свое убранство, – лишь тогда суд будет справедлив.
524
Я знал это раньше вашего и потому уже назначил судьями собственных сыновей: двоих от Азии – Миноса и Радаманта, и одного от Европы – Эака[677]
. Когда они умрут, то будут вершить суд на лугу, у распутья, от которого уходят две дороги: одна – к Островам блаженных, другая – в Тартар. Умерших из Азии будет судить Радамант, из Европы – Эак, а Миносу я дам почетное право разрешать сомнения двух остальных, когда те не смогут решить сами, и приговор, каким путем следовать каждому из умерших, будет безупречно справедливым».
b
Вот рассказ, который я сам слышал [от других], Калликл, и я верю, что это правда. И вот примерно какой следует из него вывод. Смерть, на мой взгляд, не что иное, как разделение двух вещей – души и тела, и когда они таким образом разделятся, каждая сохраняет почти то же состояние, какое было при жизни человека. Тело сохраняет и природные свойства, и все следы лечения и недугов:
c
например, если кто при жизни был крупный – от природы ли, или от обильной пищи, или от того и другого вместе, – его тело и после смерти останется крупным, если тучный – останется тучным и так дальше. Если кто носил длинные волосы, они будут длинными и у трупа, а если был негодяем и его драли плетьми, и тело было мечено следами ударов – рубцами от бича или от ран, их можно увидеть и на трупе, эти метки.
d
И если человек при жизни сломал или вывернул руку или ногу, это заметно и на мертвом теле. Одним словом, все или почти все признаки, какие тело приобрело при жизни, заметны некоторое время и после смерти. То же самое, как мне кажется, происходит и с душою, Калликл. Когда душа освободится от тела и обнажится, делаются заметны все природные ее свойства и все следы, которые человек положил на душу каждым из своих занятий.
e
И вот умершие приходят к судье, те, что из Азии, – к Радаманту, и Радамант останавливает их и рассматривает душу каждого, не зная, кто перед ним, и часто, глядя на Великого царя, или иного какого‑нибудь царя, или властителя, обнаруживает, что нет здорового места в этой душе, что вся она иссечена бичом и покрыта рубцами от ложных клятв и несправедливых поступков, –
525
рубцами, которые всякий раз отпечатывало на ней поведение этого человека. – вся искривлена ложью и бахвальством, и нет в ней ничего прямого, потому что она никогда не знала истины. Он видит, что своеволие, роскошь, высокомерие и невоздержность в поступках наполнили душу беспорядком и безобразием, и, убедившись в этом, с позором отсылает ее прямо в темницу, где ее ожидают муки, которых она заслуживает.
b
Каждому, кто несет наказание, предстоит, если он наказан правильно, либо сделаться лучше и таким образом извлечь пользу для себя, либо стать примером для остальных, чтобы лучше сделались они, видя его муки и исполнившись страха. Кара от богов и от людей оказывается на благо тем, кто совершает проступки, которые можно искупить, но и здесь, и в Аиде они должны пройти через боль и страдания: иным способом невозможно очистить себя от несправедливости.
c
Кто же повинен в самых тяжелых и, по этой причине, неискупимых злодействах, те служат примером и предупреждением: сами они никакой пользы [из своего наказания] не извлекают (ведь они неисцелимы!), зато другие извлекают, видя величайшие, самые горькие и самые ужасные муки, которые вечно терпят за свои проступки злодеи – настоящие пугала, выставленные в подземной темнице на обозрение и в назидание всем вновь прибывающим.
d
Среди них, поверь мне, будет и Архелай, если Пол рассказывает правду, и любой другой схожий с ним тиран. Я думаю, что и вообще это главным образом бывшие тираны, цари, властители, правители городов: власть толкает их на самые тяжкие и самые нечестивые проступки. Свидетель тому – сам Гомер. Царей и властителей он изображает несущими в Аиде вечное наказание:
e
тут и Тантал, и Сисиф, и Титий[678]
. А Терсита[679]
и других мерзавцев из простого звания ни один поэт не изобразил в таком виде – неисправимым злодеем, в жестоких муках – потому, мне думается, что у Терсита не было сил [творить зло], вот он и оказался удачливее тех, у кого они были.
526
Да, Калликл, худшие преступники выходят из числа сильных и могущественных, но, разумеется, и среди них могут появиться достойные люди, и тогда они заслуживают особого восхищения. Ибо это трудно, Калликл, и потому особенно похвально – прожить всю жизнь справедливо, обладая полной свободою творить несправедливость. Таких людей немного, но они были и, я надеюсь, будут и впредь и здесь, и в иных краях, честные и достойные люди,
b
чья добродетель в том, чтобы справедливо вершить дело, которое им доверено; а один прославился больше остальных, и не только в Афинах, но повсюду среди греков – это Аристид, сын Лисимаха[680]
. И все же, дорогой мой друг, большинство властителей злы и порочны.
И вот, как я уже сказал, когда Радамант увидит перед собой такого умершего, он не знает о нем ничего, ни имени его, ни рода, лишь одно ему видно – что это негодяй; и Радамант отправляет его в Тартар, пометив, исцелимым или безнадежным кажется ему этот умерший.
c
Придя в Тартар, виновный терпит то, чего заслужил. Иной раз, однако ж, судья видит иную душу, которая жила благочестиво и в согласии с правдой, – душу простого гражданина или еще какого‑нибудь человека, но чаще всего, поверь мне, Калликл, это бывает душа философа, который всю свою жизнь занимался собственными делами, не мешаясь попусту в чужие. Радамант отдает ему дань восхищения и посылает на Острова блаженных. Так же судит и Эак, и оба держат в руке жезл. А Минос сидит один, надзирая над ними, и в руке у него золотой скипетр, как рассказывает у Гомера Одиссей, который его видел:
d
Скипетр в деснице держа золотой, там умерших судил он[681]
.
Меня эти рассказы убеждают, Калликл, и я озабочен тем, чтобы душа моя предстала перед судьею как можно более здравой. Равнодушный к тому, что ценит большинство людей, я ищу только истину и постараюсь действительно стать как можно лучше, чтобы так жить, а когда придет смерть, так умереть.
e
Я призываю [за собой] и всех прочих, насколько хватает сил, призываю и тебя, Калликл, – в ответ на твой призыв, – к этой жизни и к этому состязанию (в моих глазах оно выше всех состязаний на свете) и корю тебя за то, что ты не сумеешь защититься, когда настанет для тебя час суда и возмездия, о котором я только что говорил,
527
но, очутившись перед славным судьею, сыном Эгины, и ощутив на себе его руку, застынешь с открытым ртом, и голова у тебя пойдет кругом, точь‑в‑точь как у меня здесь, на земле, а возможно, и по щекам будешь бит с позором и вообще испытаешь всяческие унижения.
Но пожалуй, мой рассказ кажется тебе баснею вроде тех, что плетут старухи, и ты слушаешь его с презрением. В этом не было бы ничего удивительного, если бы наши разыскания привели к иным выводам, лучшим и более истинным.
b
Но теперь ты видишь сам, что хоть вас и трое и хотя мудрее вас – тебя, Пола и Горгия – нет никого в целой Греции, вы не в состоянии доказать, что надо жить какою‑то иной жизнью, чем эта, которая, надо надеяться, будет полезна для нас и в Аиде. Наоборот, как много было доводов, а все опрокинуты, и только один стоит твердо – что чинить несправедливость опаснее, чем терпеть, и что не казаться хорошим дулжно человеку, но быть хорошим и в частных делах, и в общественных, и это главная в жизни забота.
c
Если же кто‑нибудь по какой‑то причине сделается плохим, он должен понести наказание, и если первое благо – быть справедливым, то второе – становиться им, искупая вину наказанием. А всякого угодничества и лести – и самому себе, и другим людям, немногим или же многим, безразлично – дулжно остерегаться; и красноречие дулжно употреблять соответственно – дабы оно всегда служило справедливости, как, впрочем, и любое иное занятие.
d
Итак, поверь мне и следуй за мною к цели, достигнув которой ты будешь счастлив и при жизни, и после смерти, как показывает наша беседа. И пусть другие презирают тебя, считая глупцом, пусть оскорбляют, если вздумается, пусть даже бьют, клянусь Зевсом, – переноси спокойно и позор, и побои: с тобою ничего не случится дурного, если ты поистине достойный человек и предан добродетели.
А потом, когда мы оба достаточно в ней утвердимся, тогда лишь, если сочтем нужным, примемся за государственные дела или подадим свой совет в ином деле, какое бы нас ни привлекло.
e
Тогда мы будем советчики лучше, чем ныне, ибо стыдно по‑мальчишески хвастаться и важничать в том состоянии, в каком, по‑видимому, мы находимся ныне, когда без конца меняем свои суждения, и притом о вещах самых важных. Вот до какого невежества мы дошли!
Давай же изберем в наставники то суждение, которое открылось нам сегодня и которое показывает, что этот путь в жизни – наилучший: давай и жить, и умирать, утверждаясь в справедливости и во всякой иной добродетели. Последуем сами призыву этого наставника и позовем за собою других, но не станем прислушиваться к мнению, к которому склонился ты сам и склоняешь меня: оно ничего не стоит, Калликл.
Перевод С. П. Маркиша.
В кн.: Платон. Собр. соч. в 3‑х томах. Том 1. М.: «Мысль», 1968
XVII. МЕНОН
Менон, Сократ, раб Менона, Анит
70
Менон.
Что ты скажешь мне, Сократ: можно ли научиться добродетели? Или ей нельзя научиться и можно лишь достичь ее путем упражнения?[682]
А может быть, ее не дает ни обучение, ни упражнение и достается она человеку от природы либо еще как‑нибудь?
Сократ.
Прежде, Менон, фессалийцы славились среди греков и вызывали восхищение своим искусством верховой езды и богатством,
b
теперь же, по‑моему, они прославились еще мудростью, и не менее прочих ларисцы, земляки твоего друга Аристиппа[683]
. А обязаны вы этим Горгию: ведь он, явившись к вам в город, нашел множество поклонников своей мудрости – сперва среди Алевадов[684]
, из которых и твой поклонник Аристипп, а потом и среди прочих фессалийцев. И от него же пошел у вас обычай, кто бы вас о чем ни спрашивал, отвечать уверенно и высокомерно, как и положено знатокам;
c
ведь так же и сам Горгий позволял кому угодно из греков спрашивать о чем угодно и никого не оставлял без ответа. А здесь, милый мой Менон, все обстоит наоборот: на мудрость пошло оскудение, и, видно, из этих мест она перекочевала к вам.
71
Задай ты свой вопрос кому хочешь из здешних жителей, любой бы засмеялся и сказал: «Счастливым ты, видно, почитаешь меня, чужестранец, если думаешь, будто я знаю, можно ли выучиться добродетели, или же она достигается иным способом.
b
А я не только не знаю, можно ей выучиться или нельзя, но и вообще не ведаю, что такое добродетель». И со мной, Менон, точно так же: здесь я делю нужду моих сограждан и упрекаю себя в том, что вообще знать не знаю, что же такое добродетель. А если я этого не знаю, то откуда мне знать, как ее достичь? Разве, по‑твоему, возможно, вообще не зная, кто такой Менон, знать, красив ли он, богат ли, знатен ли или же совсем наоборот? По‑твоему, это возможно?
c
Менон.
Нет, конечно[685]
. Только вправду ли ты, Сократ, знать не знаешь, чту такое добродетель? Так нам и рассказать о тебе там, у себя дома?
Сократ.
И не только об этом расскажи, мой друг, но и о том, что я, кажется, нигде не встречал человека, который бы это знал.
Менон.
Как так? Разве ты не встречался с Горгием, когда он здесь был?
Сократ.
Конечно, встречался.
Менон.
Неужели же тебе показалось, что и он не знает?
Сократ.
У меня не очень хорошая память, Менон, так что теперь мне трудно сказать, чту мне тогда показалось. Может быть, он и знает, да и ты знаешь, чту он тогда говорил. Поэтому напомни мне его слова. Или, если хочешь, скажи своими: ведь ты думаешь так же, как он.
d
Менон.
Да, не иначе.
Сократ.
Ну и оставим его, тем более что его тут нет. Ты сам, Менон, ради всех богов скажи мне, что такое, по‑твоему, добродетель? Говори без утайки: ведь, к великому счастью, мои слова окажутся ложью, если обнаружится, что и ты это знаешь, и Горгий, а я сейчас утверждал, будто не встречал нигде человека, который бы это знал.
e
Менон.
Не так уж трудно сказать это, Сократ. Для начала возьмем, если хочешь, добродетель мужчины: легко понять, что его добродетель в том, чтобы справляться с государственными делами, благодетельствуя при этом друзьям, а врагам вредя и остерегаясь, чтобы самому от кого не испытать ущерба. А если хочешь взять добродетель женщины – и тут нетрудно рассудить, что она состоит в том, чтобы хорошо распоряжаться домом, блюдя все, что в нем есть, и оставаясь послушной мужу. Добродетель ребенка – и мальчика и девочки – совсем в другом; в другом и добродетель престарелого человека, хоть свободного, хоть раба.
72
Существует великое множество разных добродетелей, так что ничуть не трудно сказать, что такое добродетель. Для каждого из наших занятий и возрастов, в каждом деле у каждого из нас своя добродетель. И точно так же, Сократ, по‑моему, и с пороками[686]
.
Сократ.
Сдается, Менон, что мне выпало большое счастье: я искал одну добродетель, а нашел как бы целый рой добродетелей, осевший здесь, у тебя. Но все‑таки, Менон, если я, продолжая сравнение с роем,
b
спрошу тебя, какова сущность[687]
пчелы и что она такое, а ты скажешь, что есть множество разных пчел, как ты мне ответишь на мой второй вопрос: «По твоим словам, их потому множество и потому они разные и не похожие друг на друга, что они – пчелы? Или же они отличаются не этим, а чем‑нибудь другим, – красотой, величиной или еще чем‑либо подобным?» Скажи, что ответил бы ты на такой вопрос?
Менон.
Конечно, я сказал бы так: «Одна отличается от другой вовсе не тем, что все они – пчелы».
c
Сократ.
А если бы я потом спросил: «А теперь, Менон, скажи мне, чем, по‑твоему, они вовсе не отличаются друг от друга и что делает их всех одним и тем же?» Ну‑ка, можешь ты мне это сказать?
Менон.
Могу.
Сократ.
Но ведь то же относится и к добродетелям: если даже их множество и они разные, все же есть у всех у них одна определенная идея: она‑то и делает их добродетелями, н хорошо бы обратить на нее свой взгляд тому, кто отвечает и хочет объяснить спрашивающему, что такое добродетель. Впрочем, может, ты не понял, о чем я говорю?
d
Менон.
Нет, кажется, понял, но вот того, о чем ты спрашиваешь, я не постиг еще так, как хотел бы.
Сократ.
Что же, Менон, ты только о добродетели думаешь, что она для мужчины – одна, для женщины – другая и так далее, или то же самое полагаешь и насчет здоровья, и насчет роста, и насчет силы? По‑твоему, у мужчины одно здоровье, у женщины – другое? Или же если оно – здоровье, а не что иное, то идея его везде одна и та же, будь то здоровье мужчины или кого угодно еще?
e
Менон.
Мне кажется, что одно и то же здоровье и у мужчины, и у женщины.
Сократ.
А разве не так обстоит и с ростом, и с силой? Если сильна женщина, то разве не та же самая идея, не та же самая сила делает ее сильной? Под этим «та же самая» я разумею вот что: от того, что есть сила вообще, не отличается никакая сила, будь она хоть в мужчине, хоть в женщине. Или, по‑твоему, все‑таки отличается?
Менон.
По‑моему, нет.
73
Сократ.
А добродетель отличается от того, чту есть добродетель вообще, смотря по тому, присуща ли она ребенку или старику, женщине или мужчине?
Менон.
По моему мнению, Сократ, тут все иначе, нежели в тех вещах.
Сократ.
Как так? Разве ты не говорил, что добродетель мужчины – хорошо управлять государством, а женщины – домом?
Менон.
Говорил.
b
Сократ.
А разве можно хорошо управлять – государством ли, домом ли или чем угодно, – не управляя рассудительно и справедливо?
Менон.
Никак нельзя.
Сократ.
Что же, те, кто управляет рассудительно и справедливо, управляют так не благодаря справедливости и рассудительности?
Менон.
Конечно, благодаря этому.
Сократ.
Значит, и мужчина и женщина, если хотят быть добродетельными, оба нуждаются в одном и том же – в справедливости и рассудительности.
Менон.
Это очевидно.
Сократ.
Дальше. Разве старик или ребенок, если они невоздержны и несправедливы, могут быть добродетельными?
Менон.
Ни за что!
Сократ.
А если рассудительны и справедливы?
Менон.
Могут.
c
Сократ.
Значит, все люди добродетельны на один лад: достигнув одного и того же, они становятся добродетельными.
Менон.
Видимо, так.
Сократ.
Но ведь если бы не была их добродетель одна и та же, то они не были бы добродетельны на один лад?
Менон.
Конечно, нет.
Сократ.
Так вот, если добродетель у всех одна и та же, попытайся теперь припомнить и сказать, что она такое, по словам Горгия, да и по твоим тоже.
d
Менон.
Что же еще, как не способность повелевать людьми? Скажу так, раз уж ты добиваешься одного ответа на все.
Сократ.
Да, этого‑то я и добиваюсь. Но что же, Менон, и у ребенка та же добродетель? И у раба – способность повелевать своим господином? И ты думаешь, что раб может быть повелителем?
Менон.
Вовсе не думаю, Сократ.
Сократ.
Да, это было бы нелепо, мой милый! А теперь посмотри еще вот что. Ты говоришь: «способность повелевать людьми». А не добавить ли нам к этому «справедливо, а не несправедливо»?
Менон.
Я согласен с тобою, Сократ: ведь справедливость есть добродетель.
e
Сократ.
Вообще добродетель или одна из добродетелей, Менон?
Менон.
Как ты говоришь?
Сократ.
Как о любой другой вещи. Так же, если хочешь, как сказал бы, например, о круглом: что это – одно из возможных очертаний, а не просто очертание. А сказал бы я так потому, что существуют и другие очертания.
Менон.
Это ты правильно говоришь. И я тоже говорю, что кроме справедливости есть еще и другие добродетели.
74
Сократ.
Какие же? Скажи. Ведь я назвал бы тебе другие очертания, если бы ты мне велел, вот и ты назови мне другие добродетели.
Менон.
По‑моему, и мужество – добродетель, и рассудительность, и мудрость, и щедрость, и еще многое[688]
.
Сократ.
Опять, Менон, случилось с нами то же самое: снова мы отыскивали одну добродетель, а нашли множество, только иным способом, чем прежде. А ту единственную, что есть во всех них, мы не можем найти.
b
Менон.
Да, Сократ, я никак не могу найти то, что ты ищешь, и извлечь из всех единую добродетель, как делали мы с другими вещами.
Сократ.
Ничего удивительного. Однако я постараюсь, если только мне будет под силу, подвести нас к этому. Ты ведь понимаешь, что так обстоит со всем. Если б тебя спросили в таком же роде, как я сейчас спрашивал: «Что такое очертания, Менон?» – и если бы ты отвечал: «Круглое», – а тебя спросили бы, как я: «Что же, круглое – это очертание вообще или одно из очертаний?» – ты бы, конечно, сказал, что одно из них.
Менон.
Так и сказал бы.
c
Сократ.
И не потому ли, что есть еще другие очертания?
Менон.
Именно поэтому.
Сократ.
А если бы тебя спросили вдобавок, какие это очертания, ты назвал бы их?
Менон.
Конечно.
Сократ.
А если б задали тебе точно такой же вопрос насчет цвета[689]
– что он такое – и, услыхав твой ответ, что цвет – это белое, опять спросили бы: «Что же, белое – это цвет вообще или один из цветов?» – ты ведь сказал бы, что это один из цветов, потому что есть и другие?
Менон.
Ну конечно.
Сократ.
И если бы велели тебе назвать другие цвета, ты назвал бы такие, которые ничуть не менее цвета, чем белый?
d
Менон.
Назвал бы.
Сократ.
А если бы дальше повели разговор, как я, и сказали бы тебе: «Все‑то время мы возвращаемся ко множеству. Но не о том у нас речь; ведь ты многие вещи называешь одним именем и говоришь, что все они не что иное, как очертания, даже если они противоположны друг другу; так что же это такое, включающее в себя круглое точно так же, как прямое, – то, что ты именуешь очертаниями, утверждая, что круглое и прямое – очертания в равной мере?» Или ты говоришь иначе?
e
Менон.
Нет, так.
Сократ.
Но если ты так говоришь, то, по твоим словам, круглое ничуть не больше круглое, чем прямое, а прямое ничуть не больше прямое, чем круглое?
Менон.
Вовсе нет, Сократ.
Сократ.
Все же ты говоришь, что круглое есть очертание ничуть не больше, чем прямое, и наоборот?
Менон.
Вот это верно.
75
Сократ.
Что же тогда носит имя «очертания»? Попробуй ответить. Если тому, кто задает тебе такие вопросы насчет очертаний или цвета, ты скажешь: «Никак я не пойму, любезный, чего ты хочешь, и не знаю, о чем ты говоришь», – он, наверное, удивится и возразит: «Как это ты не поймешь?! Я ищу, чту во всех этих вещах есть одинакового». Или же и на такой вопрос, Менон, тебе нечего будет ответить: «Что же в круглом, и в прямом, и во всем прочем, что ты называешь очертаниями, есть общего?» Попробуй сказать – так ты и подготовишься к ответу о добродетели.
b
Менон.
Нет, Сократ, скажи сам.
Сократ.
Хочешь, чтобы я сделал по‑твоему?
Менон.
И даже очень.
Сократ.
А может быть, и ты потом пожелаешь ответить мне насчет добродетели?
Менон.
Да, конечно.
Сократ.
Тогда надо нам постараться: дело того стоит.
Менон.
Еще бы!
Сократ.
Ну ладно, попробуем сказать тебе, что такое очертания. Посмотри же, согласен ли ты со мной: очертания, по‑нашему, это единственное, что всегда сопутствует цвету. Хватит тебе этого, или ты ищешь еще чего‑нибудь? Если бы ты сказал мне так о добродетели, я удовольствовался бы этим.
c
Менон.
Но ведь это слишком просто, Сократ!
Сократ.
Как так?
Менон.
По твоим словам, очертания – это нечто такое, что всегда сопутствует окраске. Пусть так. Но если вдруг кто‑нибудь тебе скажет, что не знает, что такое окраска, и точно так же не может судить о ней, как и об очертаниях, понравится ли тебе тогда твой ответ?
Сократ.
Да он будет чистой правдой, Менон! Если вопрошающий окажется одним из тех мудрецов – любителей спорить и препираться, я отвечу ему:
d
«Свое я сказал, а если я говорю неправильно, то теперь твое дело взять слово и уличить меня». Если же собеседники, как мы с тобой сейчас, захотят рассуждать по‑дружески[690]
, то отвечать следует мягче и в большем соответствии с искусством вести рассуждение. А это искусство состоит не только в том, чтобы отвечать правду: надо еще исходить из того, что известно вопрошающему, по его собственному признанию. Попробую и я говорить с тобой так же.
e
Скажи мне: существует ли нечто такое, что ты называешь «концом»? Я имею в виду что‑то предельное, крайнее – ведь это одно и то же. Продик, наверное, не согласился бы с нами[691]
. Но ты‑то говоришь о чем‑нибудь, что оно «имеет край», «кончается»? Я хочу сказать только это, без всяких ухищрений.
Менон.
Говорю, конечно. По‑моему, я понимаю, что ты имеешь в виду.
76
Сократ.
Дальше. Существует ли нечто такое, что ты называешь плоским, и другое, что ты именуешь объемным, как это принято в геометрии?
Менон.
Существует, конечно.
Сократ.
Ну вот, из этого ты теперь уже можешь понять, чту я называю очертаниями. О каждом из очертаний я говорю: то, чем ограничивается тело, и есть его очертания. Или вкратце я сказал бы так: очертания – это граница тела.
Менон.
А что же такое, Сократ, по‑твоему, цвет?
Сократ.
Ты, однако, дерзок, Менон: человека старого заставляешь отвечать, а сам не желаешь даже вспомнить и сказать, что такое, по словам Горгия, добродетель.
b
Менон.
Нет уж, сперва ты ответь мне, Сократ, а потом я тебе скажу.
Сократ.
Ну, Менон, стоит поговорить с тобой, и с завязанными глазами можно узнать, что ты красив и уже имеешь поклонников.
Менон.
Почему?
Сократ.
Да ты в разговоре только и делаешь, что приказываешь, как все баловни, которые всегда распоряжаются, словно тираны, пока цветут юностью.
c
Да и про меня ты, наверное, прознал, что красавец легко возьмет надо мной верх. Так что придется уж мне угождать тебе и отвечать.
Менон.
Да, сделай милость.
Сократ.
Хочешь, чтобы я отвечал тебе на манер Горгия[692]
: ведь так тебе будет лучше всего следовать за мной?
Менон.
Хочу, конечно. Почему бы и нет?
Сократ.
Ведь вы говорите, в согласии с Эмпедоклом, о каких‑то истечениях из вещей?[693]
Менон.
Да.
Сократ.
И о порах, в которые проникают и через которые движутся эти истечения?
Менон.
Верно.
d
Сократ.
А из этих истечений одни, по вашим словам, соразмерны некоторым порам, а другие слишком велики или слишком малы для них?
Менон.
Так оно и есть.
Сократ.
И существует нечто такое, что ты называешь зрением?
Менон.
Ну конечно!
Сократ.
Вот из этого и «постигни то, что говорю я», как сказал Пиндар[694]
. Цвет – это истечение[695]
от очертаний, соразмерное зрению и воспринимаемое им.
Менон.
По‑моему, Сократ, лучше нельзя и ответить!
Сократ.
Это, наверное, потому, что сказано было так, как ты привык. Кстати, ты, я думаю, понял, что этим же способом можешь легко объяснить, что такое звук и запах и еще многое в том же роде.
e
Менон.
Понял, конечно.
Сократ.
Дело в том, Менон, что ответ мой – прямо как из трагедии[696]
, потому он и пришелся тебе по душе больше, чем ответ насчет очертаний.
Менон.
Как видно.
Сократ.
А я вот убежден, что не этот, а тот ответ лучше. Так‑то, Алексидемов сын! Думаю, что и тебе уже больше так не покажется, если только ты не будешь вынужден, как говорил вчера, уехать до мистерий[697]
, а останешься здесь и примешь посвящение.
77
Менон.
Я бы остался, Сократ, если бы ты побольше со мной вот так разговаривал.
Сократ.
У меня‑то хватит охоты разговаривать с тобою об этих вещах и ради тебя, и ради себя самого, только как бы не вышло так, что я не очень многое смогу тебе сказать. Впрочем, попробуй и ты исполнить обещание и объяснить, что такое добродетель вообще: и перестань «делать из одной вещи многие»[698]
, как шутя говорят о тех, кто что‑нибудь разбивает, а скажи, что такое добродетель, сохранив ее целой и невредимой. Примеры, как это сделать, я тебе уже привел.
b
Менон.
Теперь мне кажется вот что, Сократ. «Радоваться, – как говорит поэт, – прекрасному и быть способным на него»[699]
– это и есть добродетель. И я говорю так же: стремиться к прекрасному и быть в силах достигнуть его – это и есть добродетель.
Сократ.
А не утверждаешь ли ты, что стремящийся к прекрасному стремится и к благу?
Менон.
Конечно, утверждаю.
Сократ.
Но не выходит ли у нас, что некоторые стремятся к злу, а некоторые – к благу? Ведь не все, по‑твоему, мой милый Менон, стремятся к благу?
c
Менон.
Ясно, не все.
Сократ.
Кое‑кто стремится и к злу?
Менон.
Ну да.
Сократ.
Что же, по твоему мнению, они думают, что зло – это благо, или же, стремясь к злу, знают, что это есть зло?
Менон.
По‑моему, и так и сяк.
Сократ.
Значит, ты полагаешь, что есть и такие. кто, зная, что зло есть зло, будут все‑таки к нему стремиться?
Менон.
Конечно.
Сократ.
Так в чем же, по‑твоему, состоит их стремление? Не в том ли, чтобы то, к чему стремится человек, ему и досталось?
Менон.
Так оно и есть. В чем же еще?
d
Сократ.
Что же, он думает, будто зло пойдет на пользу тому, кому достанется, или же он знает, что зло вредит тому, кому выпадет на долю?
Менон.
Есть такие, которые думают, что зло принесет пользу, а есть и такие, кто знает, что оно вредит.
Сократ.
А те, кто, по‑твоему, думает, будто зло принесет им пользу, знают ли они, что оно есть зло?
Менон.
Нет, по‑моему, не знают.
Сократ.
Значит, ясно: те, кто не знает, что такое зло, стремятся не к нему, а к тому, что кажется им благом, оно же оказывается злом.
e
Так что те, кто не знает, что такое зло, и принимает его за благо, стремятся, очевидно, к благу. Верно?
Менон.
Видимо, так оно и есть.
Сократ.
Ну а те, кто, как ты утверждаешь, стремится к злу, зная, что зло вредит тому, кому выпадет на долю, понимают ли они, что сами себе наносят вред?
78
Менон.
Наверняка.
Сократ.
Но разве они не считают жалкими людьми тех, кому что‑либо вредит, именно потому, что им наносится вред?
Менон.
И это наверняка так.
Сократ.
А жалкие разве не несчастны?
Менон.
По‑моему, несчастны.
Сократ.
Так неужели же есть такой человек, который хочет быть несчастным и жалким?
Менон.
Думаю, что нет, Сократ.
Сократ.
Значит, Менон, никто не хочет зла, если не желает быть жалким и несчастным. Ведь что же иное значит «быть жалким», как не стремиться к злу и его обретать?
b
Менон.
Видно, ты прав, Сократ, и никто не желает себе зла.
Сократ.
А не говорил ли ты сейчас, что желать блага и быть способным на благо – это и есть добродетель?
Менон.
Да, говорил.
Сократ.
Но после того, что мы сказали, не получится ли, что такое желание присуще всем и потому ни один человек не лучше другого?
Менон.
Выходит, так.
Сократ.
Значит, ясно, что если один лучше другого, то он превосходит его способностью к благу?
Менон.
Верно.
Сократ.
Значит, по твоим словам, добродетель – это, видимо, способность достигать блага?
c
Менон.
По‑моему, Сократ, так именно оно и обстоит, как ты сейчас предположил.
Сократ.
Посмотрим же, правду ли ты говоришь. Может быть, ты и прав. Значит, ты утверждаешь, что способность достигать блага это и есть добродетель?
Менон.
Да.
Сократ.
А разве благом ты называешь не здоровье или богатство?
Менон.
Конечно, это благо – накопить золота и серебра и достичь почестей и власти в государстве.
Сократ.
Именно это и ничто другое считаешь ты благом?
Менон.
Да, именно такие вещи я и имею в виду.
d
Сократ.
Ладно. Копить золото и серебро – это добродетель, так говорит Менон, потомственный гость[700]
Великого царя. А не добавишь ли ты, Менон, говоря о такой прибыли, слова «справедливая» и «честная»? Или ты не видишь тут никакой разницы, и даже тогда, когда богатство нажито бесчестным путем, ты называешь это добродетелью?
Менон.
Ни в коем случае, Сократ!
Сократ.
Значит, ты называешь это пороком?
Менон.
Конечно.
Сократ.
Как видно, надо, чтобы всегда и везде этой прибыли сопутствовали справедливость, рассудительность, честность или какая‑либо иная часть добродетели. Если же этого нет, то она никак не будет добродетелью, даже когда достигается благо.
e
Менон.
И верно: откуда без этого быть добродетели?
Сократ.
А не приобретать ни золота, ни серебра ни для себя, ни для другого, когда это несправедливо, не будет ли тут сам отказ от прибыли добродетелью?
Менон.
Будет, наверное.
Сократ.
Значит, в приобретении подобных благ ничуть не больше добродетели, чем в отказе от них; добродетельно же, видимо, то, что делается по справедливости, а что чуждо всему этому, то порочно.
79
Менон.
По‑моему, иначе, чем ты говоришь, и не может быть.
Сократ.
А разве мы не говорили недавно, что и справедливость, и рассудительность, и все прочее – это части добродетели?
Менон.
Говорили.
Сократ.
Что же, Менон, смеешься ты надо мною, что ли?
Менон.
Как смеюсь, Сократ?
Сократ.
Да вот как: я только что просил тебя не мельчить и не дробить добродетель и дал примеры, как надо отвечать, а ты все пропустил мимо ушей и говоришь мне,
b
будто добродетель – это способность достигать блага по справедливости, а справедливость, по твоим же словам, есть часть добродетели.
Менон.
Да, именно так.
Сократ.
Вот и выходит из твоих слов: если все, что бы ты ни делал, делать не без доли добродетели, это и будет добродетель; ведь ты сам говоришь, что и справедливость, и прочее в таком роде – это части добродетели.
Менон.
Что же с того?
Сократ.
А вот что: я просил тебя сказать, что такое добродетель вообще, а ты не только не сказал этого, но и стал утверждать, будто всякое дело есть добродетель, если оно совершается с участием добродетели, –
c
так, словно ты уже сказал, что такое добродетель вообще, а я понял это, хоть ты и раздробил ее на части. Поэтому мне кажется, милый Менон, надо снова задать тебе тот же, первый, наш вопрос: что такое добродетель? Иначе выходит, что все совершаемое с участием добродетели есть добродетель. А ведь это и утверждает тот, кто говорит, будто все совершаемое по справедливости и есть добродетель. Или, по‑твоему, не надо снова задавать того же вопроса? Уж не думаешь ли ты, будто кто‑нибудь знает, что такое часть добродетели, не зная, что такое она сама?
Менон.
Вовсе не думаю.
d
Сократ.
Если ты помнишь, когда я отвечал тебе насчет очертаний, мы как бы отбросили прочь один ответ, потому что в нем шла речь о вещах искомых, по поводу которых мы еще не пришли к согласию.
Менон.
И правильно сделали, что отбросили его прочь, Сократ.
Сократ.
Так не думай же, мой милый, будто ты, пока мы исследуем, что такое добродетель вообще, хоть кому‑нибудь объяснишь это, если, отвечая, будешь говорить о ее частях или о вещах, им подобных;
e
все равно надо будет снова задать тебе вопрос: если ты так говоришь, то что же такое добродетель? Или, по‑твоему, я говорю пустое?
Менон.
Нет, по‑моему, ты прав.
Сократ.
Вот теперь и отвечай с самого начала: что такое добродетель? Что на этот счет говорите вы оба – ты и твой приятель?
80
Менон.
Я, Сократ, еще до встречи с тобой слыхал, будто ты только то и делаешь, что сам путаешься и людей путаешь. И сейчас, по‑моему, ты меня заколдовал и зачаровал и до того заговорил, что в голове у меня полная путаница. А еще, по‑моему, если можно пошутить, ты очень похож и видом, и всем на плоского морского ската: он ведь всякого, кто к нему приблизится и прикоснется, приводит в оцепенение, а ты сейчас, мне кажется, сделал со мной то же самое – я оцепенел[701]
.
b
У меня в самом деле и душа оцепенела, и язык отнялся: не знаю, как тебе и отвечать. Ведь я тысячу раз говорил о добродетели на все лады разным людям, и очень хорошо, как мне казалось, а сейчас я даже не могу сказать, чту она вообще такое. Ты, я думаю, прав, что никуда не выезжаешь отсюда и не плывешь на чужбину: если бы ты стал делать то же самое в другом государстве, то тебя, чужеземца, немедля схватили бы как колдуна[702]
.
Сократ.
Ну и ловкач же ты, Менон! Чуть было меня не перехитрил.
Менон.
Чем же это, Сократ?
c
Сократ.
Я знаю, зачем ты сравнил меня со скатом.
Менон.
Зачем же, по‑твоему?
Сократ.
Чтобы и я тебя с чем‑нибудь сравнил. Я ведь знаю, что все красавцы рады, когда их с чем‑нибудь сравнивают. Это им выгодно: ведь и то, с чем сравнивают красивых, должно быть, я думаю, красивым. Но я тебе не отплачу тем же и ни с чем тебя сравнивать не стану. А о себе скажу: если этот самый скат, приводя в оцепенение других, и сам пребывает в оцепенении, то я на него похож, а если нет, то не похож. Ведь не то что я, путая других, сам ясно во всем разбираюсь – нет: я и сам путаюсь, и других а запутываю.
d
Так и сейчас – о том, что такое добродетель, я ничего не знаю, а ты, может быть, и знал раньше, до встречи со мной, зато теперь стал очень похож на невежду в этом деле. И все‑таки я хочу вместе с тобой поразмыслить и поискать, что она такое.
Менон.
Но каким же образом, Сократ, ты будешь искать вещь, не зная даже, что она такое? Какую из неизвестных тебе вещей изберешь ты предметом исследования? Или если ты в лучшем случае даже натолкнешься на нее, откуда ты узнаешь, что она именно то, чего ты не знал?
e
Сократ.
Я понимаю, что ты хочешь сказать, Менон. Видишь, какой довод ты приводишь – под стать самым завзятым спорщикам! Значит, человек, знает он или не знает, все равно не может искать. Ни тот, кто знает, не станет искать: ведь он уже знает, и ему нет нужды в поисках; ни тот, кто не знает: ведь он не знает, что именно надо искать.
81
Менон.
Что же, по‑твоему, мой довод нехорош, Сократ?
Сократ.
Нет, нехорош.
Менон.
А чем, можешь ты сказать?
Сократ.
Могу, конечно: я ведь слышал и мужчин, и женщин, умудренных в божественных делах.
Менон.
И что же они говорили?
Сократ.
Говорили правду, на мой взгляд, и притом говорили прекрасно.
Менон.
Но что же именно и кто говорил тебе?
Сократ.
Говорили мне те из жрецов и жриц, которым не все равно, сумеют ли они или не сумеют дать ответ насчет того, чем они занимаются.
b
О том же говорит и Пиндар, и многие другие божественные поэты. А говорят они вот что (смотри, правда ли это): они утверждают, что душа человека бессмертна, и, хотя она то перестает жить [на земле] – это и называют смертью, – то возрождается, но никогда не гибнет[703]
. Поэтому и следует прожить жизнь как можно более благочестиво:
Кто Персефоне пеню воздаст
За все, чем встарь он был отягчен,
Души тех на девятый год
К солнцу, горящему в вышине,
Вновь она возвратит.
c
Из них возрастут великие славой цари
И полные силы кипучей и мудрости вящей мужи, –
Имя чистых героев им люди навек нарекут.
А раз душа бессмертна, часто рождается и видела все и здесь, и в Аиде, то нет ничего такого, чего бы она не познала; поэтому ничего удивительного нет в том, что и насчет добродетели, и насчет всего прочего она способна вспомнить[704]
то, что прежде ей было известно.
d
И раз все в природе друг другу родственно, а душа все познала, ничто не мешает тому, кто вспомнил что‑нибудь одно, – люди называют это познанием – самому найти и все остальное, если только он будет мужествен и неутомим в поисках: ведь искать и познавать – это как раз и значит припоминать. Выходит, не стоит следовать твоему доводу, достойному завзятых спорщиков: он сделает всех нас ленивыми, он приятен для слуха людей изнеженных, а та речь заставит нас быть деятельными и пытливыми. И, веря в истинность этой речи, я хочу вместе с тобой поискать, что такое добродетель.
e
Менон.
Ладно, Сократ. Только как это ты говоришь, что мы ничего не познаём, а то, что мы называем познанием, есть припоминание? Можешь ты меня убедить в том, что это именно так?
82
Сократ.
Я и раньше говорил, что ты, Менон, ловкач. Вот сейчас ты спрашиваешь, могу ли я тебя: убедить, хотя я утверждаю, что существует не убеждение, а припоминание; видно, ты желаешь уличить меня в том, что я сам себе противоречу.
Менон.
Нет, клянусь Зевсом, Сократ, я не ради этого сказал так, а только по привычке. Но если ты можешь показать мне, что это так, как ты говоришь, покажи.
Сократ.
Это нелегко, но ради тебя так и быть постараюсь. Позови‑ка мне из твоей многочисленной челяди кого‑нибудь одного, кого хочешь, чтобы я на нем мог тебе все показать.
b
Менон.
С удовольствием. Подойди‑ка сюда!
Сократ.
Он грек? И говорит по‑гречески?
Менон.
Конечно, ведь он родился в моем доме.
Сократ.
А теперь внимательно смотри, что будет: сам ли он станет вспоминать или научится от меня.
Менон.
Смотрю внимательно.
Сократ.
Скажи мне, мальчик, знаешь ли ты, что квадрат таков?
Раб.
Знаю[705]
.
c
Сократ.
Значит, у этой квадратной фигуры все ее стороны равны, а числом их четыре?
Раб.
Да.
Сократ.
А не равны ли между собой также линии, проходящие через центр?
Раб.
Равны.
Сократ.
А не могла бы такая же фигура быть больше или меньше, чем эта?
Раб.
Могла бы, конечно.
Сократ.
Так вот если бы эта сторона была в два фута и та в два фута, то сколько было бы футов во всем квадрате? Заметь только вот что. Если бы эта сторона была в два фута, а та – в один, разве всего в нем было бы не два фута?
d
Раб.
Два.
Сократ.
А когда и та сторона будет равна двум футам, разве не получится у нас дважды по два фута?
Раб.
Получится.
Сократ.
Значит, в этом квадрате будет дважды по два фута?
Раб.
Верно.
Сократ.
А сколько же это будет – дважды два фута? Посчитай и скажи!
Раб.
Четыре, Сократ.
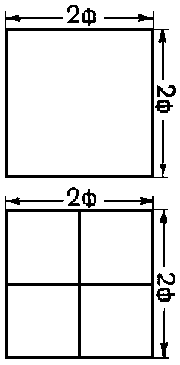
Сократ.
А может быть фигура вдвое большая этой, но все же такая, чтобы у нее, как и у этой, все стороны были между собою равны?
Раб.
Может.
Сократ.
Сколько же в ней будет футов?
Раб.
Восемь.
e
Сократ.
Ну а теперь попробуй‑ка сказать, какой длины у нее будет каждая сторона. У этой они имеют по два фута, а у той, что будет вдвое больше?
Раб.
Ясно, Сократ, что вдвое длиннее.
Сократ.
Видишь, Менон, я ничего ему не внушаю, а только спрашиваю. И вот теперь он думает, будто знает, какие стороны образуют восьмифутовый квадрат. Или, по‑твоему, это не так?
Менон.
Так.
Сократ.
Что же, знает он это?
Менон.
Вовсе не знает!
Сократ.
Но думает, что такой квадрат образуют вдвое увеличенные стороны?
Менон.
Да.
Сократ.
Теперь смотри, как он сейчас вспомнит одно за другим все, что следует вспомнить. [К мальчику
.] А ты скажи мне вот что. По‑твоему выходит, что, если удвоить стороны, получается удвоенный квадрат?
83
Я имею в виду не такую фигуру, у которой одна сторона длинная, а другая короткая, а такую, у которой все четыре стороны равны, как у этой, но только удвоенную, восьмифутовую. Вот и посмотри: тебе все еще кажется, что ее образуют удвоенные стороны?
Раб.
Да, кажется.
Сократ.
А разве не выйдет у нас сторона вдвое больше этой, если мы, продолжив ее, добавим еще одну точно такую же?
Раб.
Выйдет.
Сократ.
Значит, по‑твоему, если этих больших сторон будет четыре, то получится восьмифутовый квадрат?
b
Раб.
Получится.

Сократ.
Пририсуем‑ка к этой еще три точно такие же стороны. Неужели, по‑твоему, это и есть восьмифутовый квадрат?
Раб.
Ну конечно.
Сократ.
А разве не будет в нем четырех квадратов, каждый из которых равен этому, четырехфутовому?
Раб.
Будет.
Сократ.
Выходит, какой же он величины? Не в четыре ли раза он больше первого?
Раб.
Как же иначе?
Сократ.
Что же, он одновременно и в четыре, и в два раза больше первого?
Раб.
Нет, клянусь Зевсом!
Сократ.
Во сколько же раз он больше?
Раб.
В четыре.
c
Сократ.
Значит, благодаря удвоению сторон получается площадь не в два, а в четыре раза большая?
Раб.
Твоя правда.
Сократ.
А четырежды четыре – шестнадцать, не так ли?
Раб.
Так.
Сократ.
Из каких же сторон получается восьмифутовый квадрат? Ведь из таких вот получился квадрат, в четыре раза больший [четырехфутового]?
Раб.
И я так говорю.
Сократ.
А из сторон вдвое меньших – четырехфутовый?
Раб.
Ну да.
Сократ.
Ладно. А разве восьмифутовый не равен двум таким вот маленьким квадратам или половине этого большого квадрата?
Раб.
Конечно, равен.
Сократ.
Значит, стороны, из которых он получится, будут меньше этой большой стороны, но больше той маленькой.
d
Раб.
Мне кажется, да.
Сократ.
Очень хорошо; как тебе покажется, так и отвечай. Но скажи‑ка мне: ведь в этой линии – два фута, а в этой – четыре, верно?
Раб.
Верно.
Сократ.
Значит, сторона восьмифутовой фигуры непременно должна быть больше двух и меньше четырех футов?
Раб.
Непременно.
e
Сократ.
А попробуй сказать, сколько в такой стороне, по‑твоему, будет футов?
Раб.
Три фута.
Сократ.
Если она должна иметь три фута, то не надо ли нам прихватить половину вот этой [двухфутовой] стороны – тогда и выйдет три фута? Здесь – два фута, да отсюда один; и с другой стороны так же: здесь – два фута и один отсюда. Вот и получится фигура, о которой ты говоришь. Не так ли?
Раб.
Так.
Сократ.
Но если у нее одна сторона в три фута и другая тоже, не будет ли во всей фигуре трижды три фута?
Раб.
Очевидно, так.
Сократ.
А трижды три фута – это сколько?
Раб.
Девять.
Сократ.
А наш удвоенный квадрат сколько должен иметь футов, ты знаешь?
Раб.
Восемь.
Сократ.
Вот и не получился у нас из трехфутовых сторон восьмифутовый квадрат.
Раб.
Не получился.
Сократ.
Но из каких же получится? Попробуй сказать нам точно. И если не хочешь считать, то покажи.
84
Раб.
Нет, Сократ, клянусь Зевсом, не знаю.
Сократ.
Замечаешь, Менон, до каких пор он дошел уже в припоминании? Сперва он, так же как теперь, не знал, как велика сторона восьмифутового квадрата, но думал при этом, что знает, отвечал уверенно, так, словно знает, и ему даже в голову не приходила мысль о каком‑нибудь затруднении. А сейчас он понимает, что это ему не под силу, и уж если не знает, то и думает, что не знает.
b
Менон.
Твоя правда.
Сократ.
И разве не лучше теперь обстоит у него дело с тем, чего он не знает?
Менон.
По‑моему, лучше.
Сократ.
Так разве мы нанесли ему хоть какой‑нибудь вред, запутав его и поразив оцепенением, словно скаты?
Менон.
По‑моему, ничуть.
Сократ.
Значит, судя по всему, мы чем‑то ему помогли разобраться, как обстоит дело? Ведь теперь, не зная, он с удовольствием станет искать ответа, а раньше он, беседуя с людьми, нередко мог с легкостью подумать, будто говорит правильно, утверждая, что удвоенный квадрат должен иметь стороны вдвое более длинные.
c
Менон.
Да, похоже, что так.
Сократ.
Что же, по‑твоему, он, не зная, но думая, что знает, принялся бы искать или изучать это до того, как запутался, и, поняв, что не знает, захотел узнать?
Менон.
По‑моему, нет, Сократ.
Сократ.
Значит, оцепенение ему на пользу?
Менон.
Я думаю.
Сократ.
Смотри же, как он выпутается из этого затруднения, ища ответ вместе со мной, причем я буду только задавать вопросы и ничему не стану учить его.
d
Будь начеку и следи, не поймаешь ли меня на том что я его учу и растолковываю ему что‑нибудь, вместо того чтобы спрашивать его мнение. [К мальчику
.] А ты скажи мне: не это ли у нас четырехфутовый квадрат? Понимаешь?
Раб.
Это.

Сократ.
А другой, равный ему, квадрат мы можем к нему присоединить?
Раб.
Конечно.
Сократ.
А еще третий, равный каждому из них?
Раб.
Конечно.
Сократ.
А вот этот угол мы можем заполнить, добавив точно такой же квадрат?
Раб.
Ну а как же?
Сократ.
И тогда получатся у нас четыре равные фигуры?
e
Раб.
Получатся.
Сократ.
Дальше. Во сколько раз все вместе будет больше первого квадрата?
Раб.
В четыре.
Сократ.
А нам нужно было получить квадрат в два раза больший, помнишь?
Раб.
Помню.
85
Сократ.
Вот эта линия, проведенная из угла в угол, разве она не делит каждый квадрат пополам?
Раб.
Делит.
Сократ.
Так разве не получатся у нас четыре равные между собой стороны, образующие вот этот [новый] квадрат?
Раб.
Верно.
Сократ.
А теперь посмотри, какой величины он будет.
Раб.
Не знаю.
Сократ.
Но разве каждый из четырех [малых] квадратов не разделен такой линией пополам? Так или нет?
Раб.
Разделен.
Сократ.
Сколько же таких [треугольных] половинок будет в этом [новом] квадрате?
Раб.
Четыре.
Сократ.
А в этом [маленьком]?
Раб.
Две.
Сократ.
А во сколько раз четыре больше двух?
Раб.
Вдвое.
b
Сократ.
Во сколько же футов у нас получился квадрат?
Раб.
В восемь футов.
Сократ.
А из каких сторон?
Раб.
Вот из этих.
Сократ.
Ведь это – линии, проведенные в [малых] квадратах из угла в угол?
Раб.
Ну да.
Сократ.
Люди ученые называют такую линию диагональю. Так что если ей имя – диагональ, то ты, Менонов раб, утверждаешь, что эти диагонали образуют наш удвоенный квадрат.
Раб.
Так оно и есть, Сократ[706]
.
Сократ.
Ну, как по‑твоему, Менон? Сказал он в ответ хоть что‑нибудь, что не было бы его собственным мнением?
c
Менон.
Нет, все его собственные.
Сократ.
А ведь он ничего не знал – мы сами говорили об этом только что.
Менон.
Твоя правда.
Сократ.
Значит, эти мнения были заложены в нем самом, не так ли?
Менон.
Так.
Сократ.
Получается, что в человеке, который не знает чего‑то, живут верные мнения о том, чего он не знает?
Менон.
Видимо, так.
Сократ.
А теперь эти мнения зашевелились в нем, словно сны. А если бы его стали часто и по‑разному спрашивать о том же самом, будь уверен, он в конце концов ничуть не хуже других приобрел бы на этот счет точные знания.
d
Менон.
Как видно.
Сократ.
При этом он все узнает, хотя его будут не учить, а только спрашивать, и знания он найдет самом себе?
Менон.
Ну да.
Сократ.
А ведь найти знания в самом себе – это и значит припомнить, не так ли?
Менон.
Конечно.
Сократ.
Значит, то знание, которое у него есть сейчас, он либо у него было?
Менон.
Да.
Сократ.
Если оно всегда у него было, значит, он всегда был знающим, а если он его когда‑то приобрел, то уж никак не в нынешней жизни. Не приобщил же его кто‑нибудь к геометрии?
e
Ведь тогда его обучили бы всей геометрии, да и прочим наукам. Но разве его кто‑нибудь обучал всему? Тебе это следует знать хотя бы потому, что он родился и воспитывался у тебя в доме.
Менон.
Да я отлично знаю, что никто его ничему не учил.
Сократ.
А все‑таки есть у него эти мнения или нет?
Менон.
Само собой, есть, Сократ, ведь это очевидно.
86
Сократ.
А если он приобрел их не в нынешней жизни, то разве не ясно, что они появились у него в какие‑то иные времена, когда он и выучился [всему]?
Менон.
И это очевидно.
Сократ.
Не в те ли времена, когда он не был человеком?
Менон.
В те самые.
Сократ.
А поскольку и в то время, когда он уже человек, и тогда, когда он им еще не был, в нем должны жить истинные мнения, которые, если их разбудить вопросами, становятся знаниями, не все ли время будет сведущей его душа? Ведь ясно, что он все время либо человек, либо не человек.
Менон.
Разумеется.
b
Сократ.
Так если правда обо всем сущем живет у нас в душе, а сама душа бессмертна[707]
, то не следует ли нам смело пускаться в поиски и припоминать то, чего мы сейчас не знаем, то есть не помним?
Менон.
Сам не знаю почему, Сократ, но, мне кажется, ты говоришь правильно.
Сократ.
Мне и самому так кажется, Менон. Впрочем, иные вещи нам особенно отстаивать не придется. А вот за то, что мы, когда стремимся искать неведомое нам,
c
становимся лучше и мужественнее и деятельнее тех, кто полагает, будто неизвестное нельзя найти и незачем искать, – за это я готов воевать, насколько это в моих силах, и словом, и делом.
Менон.
И это, по‑моему, ты очень правильно говоришь, Сократ.
Сократ.
Ну, раз мы пришли к согласию насчет того, что неизвестное надо искать, то не хочешь ли попробовать общими усилиями отыскать, что же такое добродетель?
Менон.
Очень хочу, Сократ. Но еще охотнее я исследовал бы вопрос, который задал вначале, или послушал бы, чту ты сам скажешь о том,
d
следует ли браться за дело так, словно добродетели можно выучиться, или же она присуща человеку от природы, либо достается ему на долю каким‑нибудь иным образом.
Сократ.
Если бы я мог повелевать не только собою, но и тобою, Менон, мы бы ни за что не стали исследовать, можно ли научиться добродетели или нельзя, прежде чем мы не нашли бы, что же такое сама добродетель. Но теперь, раз ты и не пытаешься повелевать собою, не желая терять свободы, а мною и пытаешься повелевать, и повелеваешь, я уступлю тебе – что поделать?
e
Как видно, придется исследовать, каково то, о чем мы не знаем, что оно такое. Но все же выпусти меня из‑под своей власти хоть на самую малость и позволь исследовать, можно ли научиться добродетели или приобрести ее каким‑либо еще путем. исходя из некоей предпосылки[708]
. Когда я говорю «исходя из предпосылки», я имею в виду то же, что час то делают в своих исследованиях геометры[709]
: если кто‑нибудь спросит их насчет площадей – можно ли в данный круг вписать треугольник данной площади,
87
один из них, вероятно, ответит: «Я не знаю, возможно ли это, но считаю, что нам будет полезно исходить из некоего предположения. Если этот треугольник таков, что на одной из его сторон можно построить [прямоугольный] треугольник такой же площади, [вмещающийся в данный круг], то, думаю я, получится одно, а если этого сделать нельзя, получится совсем другое[710]
. Исходя из этого положения, я охотно скажу, что у нас получится – можно ли вписать нашу фигуру в данный круг или нельзя».
b
Так и мы, не зная ничего о добродетели – ни что она такое, ни какова она, – будем исследовать, можно ли ей выучиться или нет, исходя из некоей предпосылки и говоря вот так: «Если добродетель – это одна из тех вещей, которые относятся к душе, можно ли ей выучиться или нет? Прежде всего, если добродетель – это не знание, а что‑то иное, можно ли ей научиться или, как мы сейчас сказали, ее припомнить?
c
Ведь для нас теперь нет разницы в том, каким словом пользоваться. А если ей можно все‑таки выучиться? Или ясно, что человек, обучаясь, приобретает только знания?»
Менон.
По‑моему, ясно.
Сократ.
Но если все‑таки добродетель – это некое знание? Ведь тогда ей, очевидно, можно выучиться.
Менон.
Конечно.
Сократ.
Ну в этом мы легко разобрались: если она – знание, то ей можно выучиться, а если что‑нибудь другое, то нет.
Менон.
Конечно.
Сократ.
Теперь, видимо, нам и надо исследовать, что такое добродетель – знание или нечто иное.
d
Менон.
По‑моему, разобравшись в одном, надо исследовать и это.
Сократ.
Так что же, разве, по нашим словам, добродетель не благо? Разве не остается в силе наша предпосылка, что она – благо?
Менон.
Остается, конечно.
Сократ.
Значит, если есть какое‑либо благо, непричастное к знанию, то, может быть, и добродетель не есть какое‑то знание; если же нет такого блага, которое не охватывалось бы знанием, то мы, предположив, что добродетель – это некое знание, сделаем верное предположение.
Менон.
Так оно и есть.
e
Сократ.
А разве не добродетель делает нас хорошими людьми?
Менон.
Добродетель, конечно.
Сократ.
А хорошие люди приносят пользу, потому что всякое благо полезно, не так ли?
Менон.
Так.
Сократ.
И добродетель тоже полезна?
Менон.
Из того, что мы говорили, выходит, что так.
Сократ.
Рассмотрим по отдельности то, что нам полезно. Например, здоровье, сила, красота и богатство – все это и тому подобное мы называем полезным, не так ли?
88
Менон.
Так.
Сократ.
Но о том же самом мы говорим, что оно порой и вредит. Или это не так, по‑твоему?
Менон.
Нет, именно так.
Сократ.
Теперь посмотри, что управляет всеми этими свойствами, когда они приносят нам пользу, и что, когда они приносят вред? Разве правильное применение не делает их полезными, а неправильное – вредными?
Менон.
Конечно.
Сократ.
А теперь рассмотрим и то, что относится к нашей душе. Называешь ли ты что‑нибудь рассудительностью, справедливостью, мужеством, понятливостью, памятливостью, щедростью и так далее?
b
Менон.
Называю.
Сократ.
Посмотри, что из этого, по‑твоему, представляет собою не знание, а нечто другое, и не все ли это иногда приносит пользу, а иногда вред. Вот, например, мужество, когда оно не имеет ничего общего с разумом, а подобно простой дерзости: разве человек, если он дерзок бессмысленно, не несет ущерба, а если отважен с умом, не получает пользы?
Менон.
Именно так.
Сократ.
А разве не то же самое с рассудительностью и с понятливостью? С умом и образование, и воспитание приносят пользу, а без ума – вред.
Менон.
Да, несомненно.
c
Сократ.
Одним словом, разве не все, к чему стремится душа и что она претерпевает, оканчивается счастливо, если ею управляет разум, и несчастливо – если безрассудство?
Менон.
Да, как видно.
Сократ.
Так вот, если добродетель – это нечто обитающее в душе и если к тому же она не может не быть полезной, значит, она и есть разум[711]
, ведь все, что касается души, само по себе не полезно и не вредно,
d
но становится вредным или полезным благодаря разуму или по безрассудству. В согласии с этим рассуждением добродетель, коль скоро она полезна, и есть не что иное, как разум.
Менон.
Мне тоже так кажется.
Сократ.
Ну а то, о чем мы сейчас говорили, богатство и все прочее, что иногда бывает полезным, а иногда вредным? Если разум, управляя всем в нашей душе, делает ее движения полезными, а безрассудство
e
– вредными, то разве не та же самая душа делает богатство и прочее полезным, правильно пользуясь и управляя им, а пользуясь неправильно – вредным?
Менон.
Это верно.
Сократ.
Но ведь правильно управляет всем этим разумная душа, а неправильно – неразумная?
Менон.
Так оно и есть.
89
Сократ.
Значит, можно сказать вообще, что в человеке все зависит от души, а в самой душе – от разума, если только душа хочет быть благою. Из сказанного нами выходит, что разум полезен; но ведь мы говорили, что и добродетель полезна?
Менон.
Конечно.
Сократ.
Значит, мы утверждаем, что разум – это добродетель – либо вся, либо часть ее?
Менон.
По‑моему, Сократ, ты очень верно говоришь.
Сократ.
Если все это так, то люди, верно, добродетельны не от природы?
Менон.
Видимо, нет.
b
Сократ.
А ведь могло бы быть и так: если бы люди рождались хорошими, то были бы у нас знатоки, которые умели бы распознавать юношей с хорошим характером, а мы по их указанию отбирали бы таких и хранили как сокровище под печатью в Акрополе[712]
, оберегая пуще золота, чтобы их никто не испортил, потому что, войдя в возраст, они стали бы очень полезны для государства.
Менон.
Так оно и было бы наверняка, Сократ.
Сократ.
Но если хорошие люди становятся хорошими не от природы, значит, они достигают этого путем обучения?
c
Менон.
По‑моему, иначе и быть не может. Ведь из нашей предпосылки, Сократ, ясно, что если добродетель – это знание, то ей можно выучиться.
Сократ.
Может быть, клянусь Зевсом. Ну а вдруг наша предпосылка была неверна?
Менон.
Но ведь только недавно нам казалось, что мы говорили правильно!
Сократ.
А нужно, чтобы не только недавно казалось, что говорили мы правильно, но и теперь и впредь, если сказанное должно сохранять свою силу.
d
Менон.
Как же так? Почему ты недоволен и сомневаешься в том, что добродетель – это знание?
Сократ.
Сейчас скажу тебе, Менон. Мы правильно говорили, что если добродетель – знание, то ей можно выучиться – от этого я не отрекаюсь. Но посмотри сам, не должен ли я сомневаться в том, что она – знание. Скажи‑ка мне вот что: если какой‑нибудь вещи – любой, не только добродетели – можно выучиться, то не должны ли тогда быть учители и ученики?
Менон.
Должны, конечно.
e
Сократ.
И наоборот, если мы предположим, что нет ни учителей, ни учеников, то не будет ли верным заключение, что этой вещи выучиться нельзя?
Менон.
Это‑то верно. Но разве нет, по‑твоему, учителей добродетели?
Сократ.
Я много раз искал учителей добродетели, но не мог найти, что бы ни предпринимал. Однако я все ищу, и вместе со многими, особенно с теми, кто мне кажется особенно опытным в таком деле. Вот и сейчас, Менон, очень кстати подсел к нам Анит – мы и его заставим искать вместе с нами, и правильно сделаем:
90
ведь Анит прежде всего сын Антемиона, человека мудрого и богатого, который разбогател не случайно и не благодаря чьему‑нибудь подарку, как фиванец Исмений, получивший недавно Поликратовы сокровища[713]
, но благодаря собственной мудрости и усердию; к тому же он не какой‑нибудь чванный, спесивый и докучливый гражданин, но муж скромный и благовоспитанный.
b
И Анита он хорошо вырастил и воспитал, как считает большинство афинян[714]
, выбирающих его на самые высокие должности. Вот с такими людьми и надо исследовать, существуют ли учители добродетели или нет и какие они.
А ты, Анит, помоги нам – мне и твоему гостю Менону – исследовать, какие бывают учители этого дела. Посмотри‑ка: если мы захотим сделать Менона хорошим врачом, к каким учителям мы пошлем его? Не к врачам ли?
c
Анит.
Конечно, к врачам.
Сократ.
А если мы захотим сделать из него хорошего кожевника, то не к кожевникам ли?
Анит.
Само собой.
Сократ.
И во всем остальном так же?
Анит.
Конечно.
Сократ.
А теперь опять скажи мне на этот счет вот что: если мы, желая сделать Менона врачом, отправим его к врачам, это будет, по нашим словам, правильно?
d
А говоря так, разве мы не утверждаем, что д поступим разумно, послав его к тем, кто занимается этим искусством, а не к тем, кто им не занимается, и к тем, кто берет за это плату, объявляя себя учителями всех желающих прийти к ним учиться? И разве мы пошлем его правильно не потому, что будем все это иметь в виду?
Анит.
Именно поэтому.
Сократ.
А с игрою на флейте, да и со всем прочим разве не то же самое? Ведь будет большой глупостью, если желающие сделать кого‑нибудь флейтистом не захотят послать его к тем, кто обещает обучить его этому искусству и берет плату,
e
а отдадут это дело в другие руки и будут добиваться, чтобы ученик научился у тех, кто и не выдает себя за учителей и ни единого человека не обучает науке, которой, по нашему мнению, должен у них обучиться посланный нами. Не кажется ли тебе это большой нелепостью?
Анит.
Кажется, клянусь Зевсом, да к тому же еще и невежеством!
91
Сократ.
Очень хорошо. А теперь мы можем держать с тобой совет насчет вот этого твоего гостя Менона. Ведь он, Анит, уже давно твердит мне, что стремится к мудрости и добродетели, благодаря которой люди хорошо управляют домом и городом, заботятся о своих родителях, умеют принять и отпустить сограждан и чужестранцев так, как это подобает достойному человеку.
b
Вот и посмотри, к кому нам для обучения такой добродетели послать его, чтобы это было правильно. Разве из того, что мы сейчас говорили, не ясно, что к тем, кто провозглашает себя учителями добродетели, доступными любому из греков, желающему учиться, и берет за учение установленную ими самими плату?
Анит.
Кого же ты имеешь в виду, Сократ?
Сократ.
Ты и сам знаешь, что это те, кого люди зовут софистами.
c
Анит.
О Геракл! И не поминай их, Сократ! Не дай бог, чтобы кто‑нибудь из моих родных, домашних или друзей, здешних или иноземных, настолько сошел с ума, чтобы идти к ним себе на погибель. Ведь софисты – это очевидная гибель и порча для тех, кто с ними водится[715]
.
Сократ.
Что ты говоришь, Анит? Значит, они – единственные из всех, кто утверждает, будто могут сделать людям добро, настолько отличаются от остальных, что не только не приносят пользы, как прочие, но и совсем наоборот – губят тех, кто им доверяется? И а за это еще открыто берут деньги?
d
Уж не знаю, как тебе поверить. Я, например, слыхал, что один Протагор такой мудростью нажил больше денег, чем Фидий, создавший столь славные и красивые вещи, и еще десять ваятелей в придачу. Чудеса ты рассказываешь, Анит! Если те, что чинят старую обувь или латают плащи, и тридцати дней не могли бы незаметно для всех возвращать эту обувь или плащи в худшем, чем брали их, виде
e
и немедля померли бы с голоду, когда бы так поступали, как мог Протагор больше сорока лет незаметно для всей Эллады портить тех, кто с ним имел дело, и отпускать их назад худшими, чем принял? Умер он, по‑моему, лет семидесяти и лет сорок занимался своим искусством. И все это время не покидала его добрая слава, которая живет и по сей день; да и не одного Протагора, но и многих других тоже –
92
и тех, кто родился раньше него, и тех, кто и сейчас еще живет. Как же мы скажем, исходя из твоих слов – намеренно они обманывают и губят юношей или делают это, сами того не зная? И не признбем ли мы так безумными тех, кого некоторые провозглашают мудрейшими из людей?
Анит.
Вовсе они не безумны, Сократ, скорее уж безумны те юноши, что дают им деньги; еще безумнее родственники, вверяющие им этих юношей,
b
а всех безумнее города, позволяющие им въезжать и не изгоняющие любого, кто возьмется за такое дело, будь он хоть чужеземец, хоть гражданин.
Сократ.
Уж не обидел ли тебя, Анит, кто‑нибудь из софистов, что ты так зол на них?
Анит.
Нет, клянусь Зевсом: я ведь и сам ни с одним из них не имел дела и близким своим ни за что не позволил бы.
Сократ.
Так ты вовсе и не знаешь этих людей?
Анит.
Да эдак лучше!
c
Сократ.
Так как же ты, милейший, можешь разобраться, чту в этом деле есть хорошего и чту плохого, если ты вовсе и не знаешь его?
Анит.
Легче легкого! Уж в них‑то я разбираюсь, каковы они, знаю я их или нет, все равно.
Сократ.
Ты, верно, прорицатель, Анит? Ведь из того, что ты сказал, мне не понять, как ты мог разобраться в них иначе. Но мы хотим узнать не о тех, у которых Менон стал бы хуже, если бы к ним пришел, –
d
пусть это будут даже софисты, если желаешь, – а нет, ты назови нам (сделай доброе дело своему потомственному другу Менону) и укажи тех, к кому в таком большом городе должен он пойти, чтобы сподобиться той добродетели, о которой я только что говорил.
Анит.
А почему ты сам не указал ему их?
Сократ.
Я‑то назвал тех, кого считал учителями подобных вещей, но по твоим словам выходит, что говорил я пустое;
e
а ты, может быть, и дело говоришь. Однако сейчас твоя очередь сказать ему, к кому из афинян он должен пойти. Назови кого захочешь.
Анит.
Зачем ему имя одного человека? С кем бы из достойных афинян он ни встретился, любой поможет ему стать лучше, если только он захочет слушаться, – не то, что софисты.
Сократ.
А что же, все эти достойные люди сами собой стали такими, ни от кого не учась, и при этом они способны других обучить тому, чему не учились сами?
93
Анит.
Я считаю, что они обучились у достойных людей, которые жили раньше. Или, по‑твоему, мало рождалось в нашем городе доблестных мужей?
Сократ.
По‑моему, Анит, здесь и сейчас много людей, доблестных в гражданских делах, и прежде их было не меньше. Но вот были ли они также хорошими учителями добродетели? Ведь об этом у нас идет речь, а не о том, есть ли здесь хорошие люди, и не о том, были ли они прежде.
b
Мы давно уже исследуем, можно ли обучить добродетели. А исследуя это, мы выясняем также, умели ли хорошие люди – и нынешние, и прежние – передать другому ту добродетель, благодаря которой сами они были хороши, или же ее невозможно ни передать другому человеку, ни воспринять друг от друга[716]
. Вот над чем мы давно уже бьемся с Меноном. И ты тоже исследуй это, исходя из сказанного тобою. Согласен ты, что Фемистокл был человек с доблестный?
c
Анит.
Еще бы! Намного доблестнее всех.
Сократ.
Значит, если уж кто был хорошим учителем добродетели, так это он?
Анит.
Я думаю, так, если только он хотел.
Сократ.
Неужели же ты думаешь, будто он не хотел, чтобы другие стали достойными людьми, а особенно его собственный сын? Или, по‑твоему,
d
он завидовал сыну и нарочно не передал ему ту добродетель, которой славился сам? Разве ты не слышал, что Фемистокл воспитал своего сына Клеофанта[717]
отличным наездником? Он умел прямо стоять на лошади в стоя бросать с нее дротики и вытворял еще немало чудес – и все это преподал ему отец, умудрив его, насколько это вообще под силу хорошим учителям. Разве ты не слыхал об этом от стариков?
Анит.
Слыхал.
Сократ.
Значит, его сына нельзя было обвинить в том, что он дурен по природе?
e
Анит.
Как видно, нельзя.
Сократ.
А что с того? Слышал ли ты от кого‑нибудь – хоть старого, хоть молодого, – что Клеофант, сын Фемистокла, был доблестен и мудр в том же, в чем и его отец?
Анит.
Не слыхал.
Сократ.
Значит, если только добродетели можно обучиться, нам остается думать, что Фемистокл хотел всему обучить своего сына, но не желал, чтобы в той мудрости, которой сам он был мудр, сын превзошел хотя бы своих соседей?
Анит.
Как видно, не желал, клянусь Зевсом.
Сократ.
Вот тебе, каков был этот великий учитель добродетели, которого и ты признал одним из лучших среди наших предков.
94
Возьмем теперь другой пример – Аристида, сына Лисимаха[718]
. Согласен ты, что это был доблестный человек?
Анит.
Совершенно согласен.
Сократ.
Не правда ли, и он дал своему сыну Лисимаху наилучшее среди афинян воспитание, насколько это было под силу учителям, но разве сделал он из него человека более доблестного, чем любой другой? С Лисимахом ты сам имел дело и видел, каков он.
b
Или возьми, если хочешь, Перикла, человека совсем уж выдающейся мудрости: ты ведь знаешь, что он воспитал двоих сыновей, Парада и Ксантиппа?[719]
Анит.
Знаю.
Сократ.
И тебе известно, что их обоих он обучил верховой езде, так что в ней они не уступают никому из афинян, и в мусических искусствах, и в гимнастике, и во всем причастном к искусству он подготовил их так, что они никому не уступят. Так неужели же он не захотел сделать их достойными? Я думаю, хотел, да только обучиться этому, видно, нельзя. А чтобы ты не думал, будто неспособными в этом деле оказались лишь немногие, и притом самые скверные из афинян, вспомни,
c
что с Фукидид воспитал двоих сыновей, Мелесия и Стефана[720]
, и дал им отличное образование, и в борьбе они превосходили всех афинян, потому что одного он отдал в обучение Ксанфию, другого – Эвдору, а те считались тогда лучшими борцами. Или ты забыл об этом?
Анит.
Нет, я и об этом слыхал.
d
Сократ.
Значит, ясно: всему, что требует затрат на обучение, Фукидид своих сыновей обучил, но вот как стать хорошими людьми, – а на это расходоваться не надо – он их не научил (если только этому вообще можно научиться). Но может быть, Фукидид был человек заурядный и не имел множества друзей среди афинян и союзников? Нет, он был и знатен, и могуществен в нашем государстве и среди прочих греков, так что, если бы добродетели можно было обучить, он позаботился бы найти кого‑нибудь среди наших земляков или чужеземцев, кто сделал бы его сыновей доблестными,
e
раз уж ему самому попечение о делах государства не оставляло досуга. Вот и получается, милый мой Анит, что добродетели научить нельзя.
Анит.
По‑моему, слишком легко поносишь ты людей, Сократ. Если хочешь меня послушаться, я бы советовал тебе поостеречься. Может быть, в другом городе тоже легче делать людям зло, чем добро, а здесь и подавно. Впрочем, я думаю, ты и сам это знаешь[721]
.
95
Сократ.
Мне кажется, Менон, что Анит рассердился. Да я и не удивляюсь: он, во‑первых, считает, что я порочу всех этих людей, а во‑вторых, полагает, что и сам относится к их числу. Однако если он узнает, что значит порочить людей, то перестанет сердиться (пока он этого еще не знает). А ты мне скажи, ведь и у вас есть достойные люди?
Менон.
Есть, конечно.
b
Сократ.
Так что же, станут они по своему желанию учителями юношей, согласятся ли признать себя учителями, а добродетель – доступной изучению?
Менон.
Нет, клянусь Зевсом, Сократ! Иногда ты услышишь от них, что добродетели можно научить, иногда – что нельзя.
Сократ.
И мы признбем их учителями, если они даже в этом не согласны друг с другом?
Менон.
По‑моему, Сократ, не признбем.
Сократ.
Так как же? Уж не софисты ли, по‑твоему, учители добродетели – только потому, что единственные из всех объявляют себя таковыми?
c
Менон.
Вот за то, Сократ, я и люблю больше всего Горгия, что от него никогда не услышишь таких обещаний: он ведь и сам смеется, когда слышит, как другие это обещают. Он думает, что следует делать человека искусным в речах.
Сократ.
Значит, по‑твоему, и софисты не учители?
Менон.
Не могу тебе сказать, Сократ. Тут со мной
то же самое, что с остальными: иногда мне кажется, что да, иногда – нет.
Сократ.
А ты знаешь, что не только тебе и другим государственным людям иногда кажется, что добродетели можно научиться, иногда – что нельзя, но и у поэта Феогнида[722]
ты найдешь то же самое?
d
Менон.
В каких стихах?
Сократ.
В элегиях, там, где у него сказано:
С этими пищу дели и питье, и сиди только с ними,
И одобренья ищи тех, кто душою велик,
От благородных и сам благородные вещи узнаешь,
С злыми погубишь и тот разум, что есть у тебя[723]
.
e
Видишь, здесь он говорит о добродетели так, будто ей можно научиться.
Менон.
Это ясно.
Сократ.
А в другом месте он говорит примерно так: Если б умели мы разум создать и вложить в человека,
то, считает он,
Много бы выпало им очень великих наград –
тем, кто сумел бы это сделать.
И дальше:
…То у хороших отцов злых не бывало б детей:
Речи разумные их убеждала б; однако на деле,
Как ни учи, из дурных добрых людей не создашь[724]
.
96
Понимаешь, здесь он сам – и о том же самом – говорит совсем наоборот.
Менон.
И это ясно.
Сократ.
Что ж, можешь ты назвать какое‑нибудь другое дело, в котором тех, кто именует себя учителями, не только не признавали бы за учителей, но и считали бы негодными и невеждами именно в том, чему они берутся обучать,
b
те же, кого признают людьми достойными, иногда говорили бы, что этому делу можно научить, иногда – что нельзя? Разве тех, кто сами в чем‑нибудь путаются, ты назовешь настоящими учителями этого дела?
Менон.
Ни за что, клянусь Зевсом.
Сократ.
Ну а если ни софисты, ни достойные люди не будут учителями этого дела, не ясно ли, что и все остальные тоже не будут?
Менон.
По‑моему, так.
Сократ.
А раз нет учителей, то нет и учеников?
Менон.
Я думаю, так оно и есть, как ты говоришь.
c
Сократ.
Но разве мы с тобой не согласились, что, раз нет ни учителей какого‑то дела, ни учеников, значит, ему нельзя научиться?
Менон.
Да, так мы и говорили.
Сократ.
Выходит, что нигде нет учителей добродетели?
Менон.
Да.
Сократ.
А раз нет учителей, то нет и учеников?
Менон.
Конечно.
Сократ.
Значит, добродетели нельзя научиться?
d
Менон.
Кажется, нельзя, если только мы правильно вели исследование. Так что я удивляюсь, Сократ, откуда берутся хорошие люди и каким образом могли они стать такими?
Сократ.
Видно, Менон, и я и ты – оба мы люди никудышные, и мало чему научил тебя Горгий, а меня – Продик. Прежде всего нам надо взглянуть на самих себя и поискать, кто бы мог каким‑нибудь способом сделать нас лучше.
e
Я, когда говорю так, имею в виду наше исследование: ведь мы самым смехотворным образом упустили, что люди поступают хорошо и правильно, руководствуясь не только приобретенными знаниями; а без этого нам не удастся, пожалуй, узнать, каким образом они становятся хорошими.
Менон.
Что ты имеешь в виду, Сократ?
Сократ.
А вот что. Хорошие люди должны непременно приносить пользу, иначе и быть не может – это мы с тобой установили верно, не так ли?
Менон.
Да.
97
Сократ.
А что приносить пользу они будут в том случае, если станут правильно вести наши дела, – это мы тоже твердо установили?
Менон.
Конечно.
Сократ.
Но вот что нельзя правильно вести их, не будучи разумным, мы, видно, установили неверно.
Менон.
Что же, по‑твоему, значит «правильно»?
Сократ.
А вот что. Если кто‑нибудь, зная дорогу в Ларису или куда угодно еще, пойдет сам и поведет других, то ведь он поведет их хорошо и правильно, не так ли?
Менон.
Разумеется.
b
Сократ.
А если кто‑нибудь правильно предполагает, где эта дорога, но никогда не ходил по ней и не знает ее, то разве не сможет и он правильно повести других?
Менон.
Сможет, конечно.
Сократ.
Значит, поскольку у него есть о чем‑нибудь правильное мнение – а не знание[725]
, как у другого, – он, догадываясь об истине, но не познав ее разумом, будет вести других не хуже, чем тот, кто ее познал.
Менон.
Ничуть не хуже, Сократ.
Сократ.
Выходит, истинное мнение ведет нас к правильным действиям ничуть не хуже, чем разум. Это‑то мы сейчас и упустили из виду,
c
когда рассуждали о добродетели, какова она, и говорили, что разум с один ведет к правильным действиям: ведь к этому ведет и истинное мнение.
Менон.
Наверное, так.
Сократ.
Значит, правильное мнение приносит не меньше пользы, чем знание.
Менон.
Но не вполне, Сократ: обладающий знанием всегда попадет в цель, а обладающий правильным мнением когда попадет, а когда и промахнется.
Сократ.
Что ты говоришь? Разве тот, чье мнение всегда верно, не всегда попадает в цель, пока его мнения правильны?
d
Менон.
Это, без сомнения, так, Сократ. Вот я и удивляюсь, почему же, если это так, знание ценится куда выше правильного мнения и почему знание – это одно, а мнение – совсем другое,
Сократ.
Ты сам знаешь, почему удивляешься, или мне сказать?
Менон.
Скажи лучше ты.
Сократ.
Да ведь ты никогда не обращал внимания на Дедаловы статуи[726]
, впрочем, может быть, у вас их и нет.
Менон.
К чему ты это говоришь?
Сократ.
К тому, что и они, когда не связаны, убегают прочь, а когда связаны, стоят на месте.
e
Менон.
Ну и что же?
Сократ.
А то, что владеть этими творениями, если они развязаны, мало проку, как и владеть человеком, склонным к побегам: все равно они на месте не останутся. А вот иметь их, если они связаны, весьма ценно: уж очень хороши эти изваяния. К чему я это говорю? Я имею в виду истинные мнения: они тоже, пока остаются при нас, вещь очень неплохая и делают немало добра;
98
но только они не хотят долго при нас оставаться, они улетучиваются из души человека и потому не так ценны, пока он их не свяжет суждением о причинах. А оно и есть, друг мой Менон, припоминание, как мы с тобой недавно установили. Будучи связанными, мнения становятся, во‑первых, знаниями и, во‑вторых, устойчивыми. Поэтому‑то знание ценнее правильного мнения и отличается от правильного мнения тем, что оно связано.
Менон.
Клянусь Зевсом, Сократ, похоже, что это так.
b
Сократ.
Да я и сам говорю это, не то чтобы зная, а скорее предполагая и пользуясь уподоблением. Но вот что правильное мнение и знание – вещи разные, я, кажется, берусь утверждать без всяких уподоблений; ведь если я о чем скажу, что знаю это – а сказал бы я так не о многом, – то уж это я причислю к вещам, которые я действительно знаю.
Менон.
И будешь прав, Сократ.
Сократ.
Ну а разве неверно, что истинное мнение, если им руководствоваться, выполняя любое дело, поможет ничуть не хуже знания?
Менон.
Нет, тут ты тоже, как видно, говоришь правду.
c
Сократ.
И правильное мнение ничуть не хуже знания и не менее полезно в делах, и человек, обладающий правильным мнением, ничуть не хуже обладающего знанием?
Менон.
Так оно и есть.
Сократ.
А мы установили, что хороший человек приносит нам пользу.
Менон.
Ну да.
Сократ.
Но так как не только благодаря знанию хорошие люди бывают хорошими и приносят пользу государству, но и благодаря правильному мнению,
d
и так как ни то ни другое – ни знание, ни правильное мнение – не дается людям от природы и не приобретается… Или, по‑твоему, одно из них дается от природы?
Менон.
Нет, нет.
Сократ.
Если не от природы, то и хорошие люди хороши не от природы.
Менон.
Конечно.
Сократ.
А раз не от природы, то мы потом стали исследовать, можно ли этому научиться.
Менон.
Ну да.
Сократ.
И не показалось ли нам, что можно, если добродетель – это разум?
Менон.
Показалось.
Сократ.
И наоборот, что добродетель – это разум, если ей можно научиться?
Менон.
Так и было.
e
Сократ.
И если бы были учители добродетели, ей можно было бы научиться, а коли их нет, то нельзя?
Менон.
Именно так.
Сократ.
Но мы установили, что учителей добродетели нет.
Менон.
Да, это верно.
Сократ.
И установили, что ей нельзя научиться и что она вовсе не разум.
Менон.
Конечно.
Сократ.
Но все же согласились, что добродетель – вещь хорошая.
Менон.
Согласились.
Сократ.
А хорошо и полезно то, что правильно руководит нами?
Менон.
Конечно.
99
Сократ.
Но есть только две вещи, которые правильно руководят нами, – истинное мнение и знание: человек, обладающий тем и другим, руководствуется правильно. Если что происходит по счастливой случайности – тем руководит не человек; если же сам человек приведет правильно к цели, то лишь благодаря истинному мнению или знанию.
Менон.
И мне так кажется.
Сократ.
Но если добродетели нельзя научиться, получается, что она вовсе не знание?
Менон.
Очевидно, нет.
b
Сократ.
А из двух названных нами хороших и полезных вещей одна слишком скоро исчезает, да и другая – знание – не руководит государственными делами.
Менон.
Видимо, нет.
Сократ.
Значит, не с помощью некоей мудрости и не как мудрецы руководят государствами люди вроде Фемистокла и других, о которых говорил Анит. Потому‑то и не удается им сделать других подобными себе, что сами они стали такими, как есть, не благодаря знанию.
Менон.
Наверное, все это так, как ты говоришь, Сократ.
c
Сократ.
А если не благодаря знанию, то только благодаря правильным мнениям люди государственные ведут свои города по правильному пути; разумом же они совсем не отличаются от прорицателей и боговдохновенных провидцев: ведь и те в исступлении говорят правду, и очень часто, но сами не ведают, что говорят.
Менон.
Надо полагать, так оно и есть.
Сократ.
И разве не будет справедливо, Менон, назвать божественными тех людей, которые, хоть и не обладают разумом, достигают великого успеха во многом из того, что делают и говорят?
d
Менон.
Конечно, будет.
Сократ.
Значит, мы правильно назовем людьми божественными тех, о ком только что говорили, – прорицателей и провидцев и всякого рода поэтов; и не с меньшим правом мы можем назвать божественными и вдохновенными государственных людей: ведь и они, движимые и одержимые богом[727]
, своим словом совершают много великих дел, хотя и сами не ведают, что говорят.
Менон.
Конечно.
Сократ.
Да и женщины, Менон, именуют хороших людей божественными, и спартанцы, восхваляя доблестного мужа, говорят: «Это – человек божественный».
e
Менон.
И ясно, что они правы, когда так говорят. А вот наш Анит злится на тебя, Сократ, за то, что ты это повторяешь.
Сократ.
Об этом, Менон, мне мало заботы, с ним мы еще побеседуем. А коль скоро мы с тобой на протяжении всей нашей беседы хорошо искали и говорили, то получается, что нет добродетели ни от природы, ни от учения, и если она кому достается, то лишь по божественному уделу, помимо разума,
100
разве что найдется среди государственных людей такой, который и другого умеет сделать государственным человеком. Если бы он нашелся, то о нем можно было бы сказать, что он среди живых почти то же самое, что Тиресий, по словам Гомера, среди мертвых: ведь о нем поэт говорит, что «он лишь с умом, все другие безумными тенями веют»[728]
. Такой человек был бы среди нас как подлинный предмет среди теней, если говорить о добродетели.
b
Менон.
Золотые твои слова, Сократ!
Сократ.
Из этого нашего рассуждения стало ясно, Менон, что если нам достается добродетель, то достается она по божественному уделу, а узнбем мы это как следует тогда, когда, прежде чем искать, каким образом достается человеку добродетель, мы попробуем выяснить, что такое добродетель сама по себе.
c
Теперь мне пора идти, а ты убеди в том, в чем сейчас сам убедился, своего приятеля Анита, чтобы он стал мягче: ведь если ты его убедишь, это и афинянам будет на пользу.
Перевод С. А. Ошерова.
В кн.: Платон. Собр. соч. в 4‑х томах. Том 1. М.: «Мысль», 1990
XVIII. КРАТИЛ
Гермоген, Кратил, Сократ
383
Гермоген.
Хочешь, давай Сократа тоже пригласим к нашему разговору?
Кратил.
Как тебе угодно.
Гермоген.
Кратил вот здесь говорит, Сократ, что существует правильность имен, присущая каждой вещи от природы, и вовсе не та произносимая вслух частица нашей речи, которой некоторые из нас договорились называть каждую вещь, есть имя, но определенная правильность имен прирождена и эллинам,
b
и варварам, всем одна и та же[729]
. Я его тогда спрашиваю, правда ли ему Кратил имя? Он подтвердил. «А Сократу как имя?» – спросил я. «Сократ», – молвил он. «В таком случае и все другие люди, каким именем мы их зовем, такое и будут носить?» А он: «Во всяком случае, тебе не Гермоген имя[730]
, сколько бы ни звали тебя так все люди». Тут стал я его выспрашивать, стараясь все‑таки узнать, что он, собственно, разумеет, но он не стал ничего объяснять, да еще и
384
издевается, делая вид, будто у него что‑то есть на уме. Можно подумать, он знает об этом нечто такое, что, захоти он ясно сказать, заставил бы и меня согласиться и говорить то же, что говорит он. Так вот, если ты можешь как‑то истолковать это Кратилово пророчество, я бы выслушал с удовольствием. А лучше, с еще большим удовольствием я узнал бы, что сам ты думаешь о правильности имен. Конечно, если у тебя есть желание.
Сократ.
О сын Гиппоника Гермоген! Стара пословица: прекрасное дело трудно[731]
, когда ему нужно
b
учиться. Так вот, оказывается, и об именах немалая есть наука. Конечно, если бы я успел прослушать у Продика пятидесятидрахмовый[732]
урок, после чего, по его словам, можно и самому стать учителем, ничто не помешало бы тебе тотчас досконально узнать всю истину о правильности имен. Да вот такого‑то урока
c
я не слыхал, а прослушал всего лишь драхмовый. Поэтому я и не знаю, что будет истинным в делах такого рода. Однако я готов исследовать этот вопрос сообща, вместе с тобой и Кратилом. А что он говорит, будто не Гермоген тебе истинное имя, так я подозреваю, что он шутит. Может быть, он имеет в виду, что в погоне за деньгами ты всякий раз упускаешь случай.[733]
Однако я уже говорил: узнать вещи такого рода трудно, а нужно сообща сопоставить наши мнения и посмотреть, так ли обстоит дело, как говоришь ты или как Кратил.
Гермоген.
Так ведь что до меня, Сократ, то я часто и с ним разговаривал, и со многими другими,
d
но ни разу меня не убедили, будто правильность имени есть что‑то другое, нежели договор и соглашение[734]
. Ведь мне кажется, какое имя кто чему‑либо установит, такое и будет правильным. Правда, если он потом установит другое, а тем, прежним, именем больше не станет это называть, то новое имя будет ничуть не менее правильным, нежели старое; ведь когда мы меняем имена слугам[735]
, вновь данное имя не бывает же менее правильным, чем данное прежде. Ни одно имя никому не врождено от природы, оно зависит от закона и обычая тех, кто привык что‑либо
e
так называть. Если же это не так, то я всегда готов поучиться и послушать не только Кратила, но и кого угодно другого.
385
Сократ.
Может быть, ты и дельно говоришь, Гермоген. А все же давай посмотрим. Как решил кто‑то называть каждую вещь, такое, говоришь, и будет ей имя?
Гермоген.
Мне так кажется.
Сократ.
И если кто‑то один назовет, и если целый город?
Гермоген.
Это я и говорю.
Сократ.
Как это? Если то из сущих вещей, что мы теперь называем человеком, я стану именовать лошадью, а то, что теперь лошадью, – человеком, значит, для всех человеку будет имя «человек» и только для меня – «лошадь» и, наоборот, для меня «лошадь» будет «человек», а для всех – «лошадь»? Так ты хотел сказать?
b
Гермоген.
Мне так кажется.
Сократ.
Тогда ты мне вот что скажи – случается ли тебе о чем‑нибудь говорить: это истинно сказано, а это ложно?
Гермоген.
Мне – да.
Сократ.
А посему одна речь может быть истинная, а другая ложная?
Гермоген.
Разумеется.
Сократ.
В таком случае тот, кто говорит о вещах в соответствии с тем, каковы они есть, говорит истину, тот же, кто говорит о них иначе, лжет?
Гермоген.
Да.
Сократ.
Получается, можно вести речь и о том, что есть, и о том, чего нет?
Гермоген.
Верно.
c
Сократ.
А истинная речь истинна целиком или при этом части ее могут быть неистинными?
Гермоген.
Нет, и части тоже будут истинными.
Сократ.
А как? Большие части будут истинными, а малые – нет? Или все будут истинными?
Гермоген.
Все. Я по крайней мере так думаю.
Сократ.
Так вот: то, что ты называешь малой частью нашей речи, отличается от имени?
Гермоген.
Нет. Имя и есть наименьшая часть.
Сократ.
И предполагается, что имя есть часть истинной речи?
Гермоген.
Да.
Сократ.
Истинное имя, по крайней мере как ты говоришь.
Гермоген.
Да.
Сократ.
А часть ложной речи разве не ложна?
Гермоген.
Это и я утверждаю.
Сократ.
Можно, значит, говорить об имени истинном и ложном, раз так можно говорить о речи?
d
Гермоген.
А как же иначе?
Сократ.
Так ты говоришь, какое имя кто‑нибудь чему‑то укажет, такое имя этой вещи и будет?
Гермоген.
Да.
Сократ.
И сколько имен кто‑либо укажет каждой из вещей, столько и будет? И тогда, когда укажет?
Гермоген.
Во всяком случае, по мне, Сократ, нет иной правильности имен, кроме этой: я могу называть любую вещь одним именем, какое я установил, ты же – другим, какое дал ты. То же самое я наблюдаю
e
и в городах – иногда одни и те же вещи в каждом городе называются особо, у одних эллинов не так, как у других, и у эллинов не так, как у варваров.
Сократ.
Что ж, давай посмотрим, Гермоген. Может быть, тебе и относительно вещей все представляется так же, а именно, что сущности вещей для каждого человека особые, по слову Протагора, утверждающего,
386
что «мера всех вещей – человек»[736]
, и, следовательно, какими мне представляются вещи, такими они и будут для меня, а какими тебе, такими они будут для тебя? Или ты полагаешь, что сущность[737]
вещей составляет некую прочную основу их самих?
Гермоген.
Я могу сказать, Сократ, что уже однажды в поисках выхода я пришел было к тому, чему учит Протагор; однако мне вовсе не кажется, что дело обстоит именно так.
Сократ.
Что ж, уж не приходил ли ты к тому,
b
что тебе ни один человек не казался дурным?
Гермоген.
Нет, клянусь Зевсом. Со мной как раз частенько случалось, что некоторые люди казались мне очень дурными, и даже весьма многие.
Сократ.
А что, очень хорошими тебе люди не казались?
Гермоген.
Разве что весьма немногие.
Сократ.
А все‑таки казались?
Гермоген.
По крайней мере на мой взгляд.
Сократ.
Тогда как ты это решишь: очень хорошие, они же будут и очень разумные, а очень дурные – очень неразумные?
c
Гермоген.
Мне кажется, да.
Сократ.
Так что же, если Протагор говорил правду и правда также то, что, какими каждому кажутся вещи, такие они и есть, возможно ли, чтобы одни из нас были разумными, другие же – неразумными?
Гермоген.
Нет, конечно.
Сократ.
Тогда вот это, я думаю, ты и вовсе должен признать: коль скоро есть разум и неразумие, никак невозможно, чтобы Протагор говорил правду. Ведь по правде‑то сказать, один нисколько не будет
d
разумнее другого, если что бы каждому ни показалось, то для каждого и будет истинным.
Гермоген.
Это так.
Сократ.
Однако, я думаю, ты не считаешь также вместе с Евтидемом[738]
, что все вещи постоянно для всех людей одинаковы. Ведь не было бы людей ни хороших, ни дурных, если бы сразу и одинаково для всех и всегда существовали добродетель и порочность.
Гермоген.
Это правда.
Сократ.
Итак, если не все сразу одинаково для всех и всегда и если не особо для каждого существует каждая вещь, то ясно, что сами вещи имеют некую
e
собственную устойчивую сущность безотносительно к нам и независимо от нас и не по прихоти нашего воображения их влечет то туда, то сюда, но они возникают сами по себе, соответственно своей сущности.
Гермоген.
Я полагаю, Сократ, так оно и есть.
Сократ.
Тогда, может быть, сами они возникли таким образом, а вот действия их происходят иным способом? Или и сами они представляют собою один какой‑то вид сущего, эти действия?
Гермоген.
Ну конечно же и они сами.
387
Сократ.
В таком случае и действия производятся в соответствии со своей собственной природой, а не согласно нашему мнению. Например, если бы мы взялись какую‑либо вещь разрезать, то следует ли это делать так, как нам заблагорассудится, и с помощью того орудия, какое нам заблагорассудится для этого выбрать? Или только в том случае, если мы пожелаем разрезать вещь в соответствии с природой разрезания, то есть в соответствии с тем, как надо резать и подвергаться разрезанию, и с помощью какого орудия, данного для этого от природы, – лишь тогда мы сможем эту вещь разрезать и у нас что‑то получится, и мы поступим правильно? И с другой стороны, если мы будем действовать против природы, то совершим ошибку и ничего не добьемся?
b
Гермоген.
Я думаю, это так.
Сократ.
Следовательно, и если мы возьмемся что‑либо сжечь, то не всякое мнение нам здесь поможет, но только правильное? Последнее же состоит в том, как и с помощью чего нужно сжигать или подвергаться сжиганию исходя из природы этого действия?
Гермоген.
Это так.
Сократ.
Значит, и со всем остальным обстоит так же?
Гермоген.
Разумеется.
Сократ.
А говорить – не есть ли одно из действий?
Гермоген.
Да.
c
Сократ.
В таком случае если кому покажется нужным что‑то сказать, то пусть так и говорит, и это будет правильно? Или же если он станет говорить так, как нужно сказать или должно быть сказано в соответствии с природой этого действия и с помощью того, что для этого природою предназначено, то тогда лишь у него это получится и он сумеет что‑то сказать, а в противном случае совершит ошибку и ничего не добьется?
Гермоген.
По‑моему, дело обстоит так, как ты говоришь.
Сократ.
А давать имена – не входит ли это как часть в нашу речь? Ведь те, кто дает имена, так или иначе говорят какие‑то слова.
Гермоген.
Верно.
Сократ.
Следовательно, и давать имена тоже есть некое действие, коль скоро говорить было действием по отношению к вещам?
Гермоген.
Да.
d
Сократ.
Эти действия, как мы уже выяснили, существуют безотносительно к нам и имеют какую‑то свою особую природу?
Гермоген.
Верно.
Сократ.
В таком случае и давать имена нужно так, как в соответствии с природой вещей следует их давать и получать, и с помощью того, что для этого природою предназначено, а не так, как нам заблагорассудится, если, конечно, мы хотим, чтобы это согласовалось с нашим прежним рассуждением? И тогда у нас что‑то получится и мы сумеем дать имя, в противном же случае – нет?
Гермоген.
По‑моему, это так.
Сократ.
А скажи, то, что нужно разрезать, нужно, как мы говорим, чем‑то разрезать?
Гермоген.
Да.
e
Сократ.
А что нужно ткать, нужно чем‑то ткать? И что нужно сверлить, нужно тоже чем‑то сверлить?
Гермоген.
Разумеется.
Сократ.
И что нужно называть, нужно назвать с помощью чего‑то?
388
Гермоген.
Это так.
Сократ.
А что же это такое, чем нужно сверлить?
Гермоген.
Сверло.
Сократ.
А ткать?
Гермоген.
Челнок.
Сократ.
А называть?
Гермоген.
Имя.
Сократ.
Прекрасно. Следовательно, и имя есть какое‑то орудие?
Гермоген.
Верно.
Сократ.
Так вот если бы я спросил тебя, что за орудие челнок? Не то ли, чем ткут?
Гермоген.
Да.
b
Сократ.
А что мы делаем, когда ткем? Не распределяем ли мы уток по основе?
Гермоген.
Да.
Сократ.
Тогда и о сверле ты можешь так же сказать, и обо всем другом?
Гермоген.
Разумеется.
Сократ.
В таком случае и об имени можно так сказать. Коль скоро имя есть некое орудие, то что мы делаем, давая имена?
Гермоген.
Не могу сказать.
Сократ.
Может быть, мы учим друг друга и распределяем вещи соответственно способу их существования?
Гермоген.
Верно.
Сократ.
Выходит, имя есть некое орудие обучения и распределения сущностей, как, скажем, челнок – орудие распределения нити?
c
Гермоген.
Да.
Сократ.
Итак, челнок – орудие ткацкое?
Гермоген.
А какое же еще?
Сократ.
Следовательно, ткач будет хорошо пользоваться челноком, то есть как должно ткачу. А учитель будет хорошо пользоваться словом. Хорошо – это значит, как должно учителю.
Гермоген.
Да.
Сократ.
А вот чьим трудом хорошо пользуется ткач, когда пользуется челноком?
Гермоген.
Мастера.
Сократ.
А всякий ли человек такой мастер или тот, кто владеет этим искусством?
Гермоген.
Кто владеет этим искусством.
d
Сократ.
А чьим трудом хорошо пользуется сверлильщик, когда пользуется сверлом?
Гермоген.
Кузнеца.
Сократ.
Так вот всякий ли человек – кузнец или тот, кто знает это искусство?
Гермоген.
Тот, кто его знает.
Сократ.
Так. А чьим же трудом пользуется учитель, когда пользуется именем?
Гермоген.
Этого я не знаю.
Сократ.
Ты не знаешь, кто передал нам имена, которыми мы пользуемся?
Гермоген.
Право, не знаю.
Сократ.
Не кажется ли тебе, что их дал закон?
Гермоген.
Похоже, что так.
e
Сократ.
В таком случае учитель, когда пользуется именем, пользуется трудом законодателя?
Гермоген.
Я полагаю.
Сократ.
А как ты полагаешь, законодателем может быть любой человек или тот, кто знает это искусство?
Гермоген.
Тот, кто его знает.
Сократ.
Таким образом, не каждому человеку, Гермоген, дано устанавливать имена, но лишь такому, кого мы назвали бы творцом имен.
389
Он же, видимо, и есть законодатель, а уж этот‑то из мастеров реже всего объявляется среди людей.
Гермоген.
Похоже, что это верно.
Сократ.
Итак, давай посмотрим, на что обращает внимание законодатель, устанавливая имена. А рассмотрим мы это. исходя из ранее сказанного. На что обращает внимание мастер, делая челнок? Вероятно, на что‑нибудь такое, что самой природой предназначено для тканья?
Гермоген.
Разумеется.
b
Сократ.
Что же, а если во время работы челнок у него расколется, то, делая новый, станет ли он смотреть на расколовшийся челнок или на тот образец[739]
, по которому он его делал?
Гермоген.
На тот образец, я думаю.
Сократ.
Не вправе ли мы сказать, что этот образ и есть то, что мы называем челноком?
Гермоген.
Мне кажется, да.
Сократ.
А посему, если нужно сделать челнок для легкой ткани, либо для плотной, льняной, шерстяной, или какой‑нибудь другой, разве не должны все эти челноки прежде всего иметь образ челнока,
c
а затем уже, какой челнок по своей природе лучше всего подходит для каждого вида ткани, такие свойства при обработке ему и придать?
Гермоген.
Да, конечно.
Сократ.
Так вот и с другими орудиями: отыскав для каждого дела орудие, назначенное ему от природы, человек должен и тому, из чего он создает изделие, придать не какой угодно образ, но такой, какой назначен природой. И в каждом случае, как видно, нужно уметь воплощать в железе то сверло, какое определено природой.
Гермоген.
Несомненно.
Сократ.
И значит, в каждом случае и в дереве воплощать определенный природой челнок?
Гермоген.
Это так.
d
Сократ.
Ведь мы видели, что для каждого вида ткани от природы назначены различные челноки; и в остальных случаях дело обстоит так же.
Гермоген.
Да.
Сократ.
Таким образом, бесценнейший мой, законодатель, о котором мы говорили, тоже должен уметь воплощать в звуках и слогах имя, причем то самое, какое в каждом случае назначено от природы. Создавая и устанавливая всякие имена, он должен также обращать внимание на то, что представляет собою имя как таковое, коль скоро он собирается стать полновластным учредителем имен.
e
И если не каждый законодатель воплощает имя в одних и тех же слогах, это не должно вызывать у нас недоумение. Ведь и не всякий кузнец воплощает одно и то же орудие в одном и том же железе: он делает одно и то же орудие для одной и той же цели; и пока он воссоздает один и тот же образ[740]
, пусть и в другом железе, это орудие будет правильным, сделает ли его кто‑то здесь или у варваров. Так?
390
Гермоген.
Разумеется.
Сократ.
Следовательно, ты так же судишь и о законодателе, будь он здешний или из варваров. Пока он воссоздает образ имени, подобающий каждой вещи, в каких бы то ни было слогах, ничуть не хуже будет здешний законодатель, чем где‑нибудь еще.
Гермоген.
Разумеется.
b
Сократ.
А кто будет знать, подходящий ли образ челнока воплощен в каком‑либо дереве? Тот, кто его делал, мастер, или тот, кто будет им пользоватья, ткач?
Гермоген.
Скорее, Сократ, это пристало тому, кто будет им пользоваться.
Сократ.
Хорошо. А трудом мастера, делающего лиры, кто будет пользоваться? Не тот ли, кто умеет лучше других присмотреть за его работой и судить о сделанном, хорошо это сделано или нет?
Гермоген.
Разумеется.
Сократ.
Кто же это?
Гермоген.
Кифарист.
Сократ.
А кто способен судить о деле кораблестроителя?
c
Гермоген.
Кормчий.
Сократ.
А кто смог бы лучше других присмотреть за работой законодателя и судить о сделанном здесь и у варваров? Не тот ли, кто будет этим пользоваться?
Гермоген.
Да.
Сократ.
Так не тот ли это, кто умеет ставить вопросы?
Гермоген.
Верно.
Сократ.
Он же – и давать ответы?
Гермоген.
Да.
Сократ.
А того, кто умеет ставить вопросы и давать ответы, мы называем диалектиком?
Гермоген.
Да, это так.
d
Сократ.
Значит, мастеру должно изготовлять руль под присмотром кормчего, если он намерен сделать хороший руль?
Гермоген.
Очевидно.
Сократ.
А законодатель, видимо, должен создавать имя под присмотром диалектика, если он намерен как следует установить имена?
Гермоген.
Это так.
Сократ.
Вот потому, Гермоген, боюсь, что не такое уж это ничтожное дело – установление имени, и не дело людей неискусных или случайных. И Кратил
e
прав, говоря, что имена у вещей от природы и что не всякий мастер имен, а только тот, кто обращает внимание на присущее каждой вещи по природе имя и может воплотить этот образ в буквах и слогах.
391
Гермоген.
Я не могу, Сократ, должным образом возразить на твои слова, и в то же время нелегко так внезапно чему‑то поверить. Но мне сдается, я поверил бы тебе скорее, если бы ты мне показал, что, собственно, ты называешь правильностью имени от природы.
Сократ.
Я‑то, дорогой мой Гермоген, ни о какой такой правильности не говорю; ты забыл, что я говорил немногим раньше: я этого, пожалуй, не знаю, но исследую вместе с тобой. Теперь же, пока мы это рассматривали, ты и я, многое уже прояснилось в сравнении с прежним:
b
и что у имени есть какая‑то правильность от природы, и что не всякий человек способен правильно установить это имя для какой‑либо вещи. Не так ли?
Гермоген.
Именно так.
Сократ.
В таком случае нам нужно продолжить наше исследование, если, конечно, ты желаешь знать, в чем состоит правильность имени.
Гермоген.
Как раз это я и желаю знать.
Сократ.
Тогда смотри.
Гермоген.
Как же нужно смотреть?
Сократ.
Правильнее всего, дружище, делать это вместе со знающими людьми, изводя на них уйму денег и всячески их ублажая. А люди эти – софисты, на которых и брат твой, Каллий, извел много денег и слывет теперь мудрецом.
c
Но поскольку ты не располагаешь отцовским имуществом, тебе остается упрашивать и уговаривать брата научить тебя правильному взгляду на эти вещи, который он перенял у Протагора.
Гермоген.
Нелепа была бы моя просьба, Сократ, когда я и истину‑то Протагора целиком не принимаю, а сказанное согласно его истине оценил бы как нечто стоящее.
Сократ.
Ну если тебе и это не нравится, остается учиться у Гомера и у других поэтов.
d
Гермоген.
А что, Сократ, говорит Гомер об именах? И где?
Сократ.
Во многих местах. А больше и лучше всего там, где он различает, какими именами одни и те же вещи называют люди и какими боги. Или ты не находишь, что как раз здесь им сказано нечто великое и удивительное по поводу правильности имен? Ведь совершенно ясно, что уж боги‑то называют вещи правильно – теми именами, что определены от природы. Или ты не находишь?
e
Гермоген.
О, конечно, я прекрасно знаю, что если они что‑то называют, то называют правильно. Но о чем именно ты говоришь?
Сократ.
Разве ты не знаешь, что тот поток в Трое, который единоборствовал с Гефестом, боги, по словам Гомера, называют Ксанфом, а люди – Скамандром[741]
?
Гермоген.
А, это я помню.
392
Сократ.
Так как же? Не находишь ли ты, что очень важно знать, почему, собственно, более правильно этот поток называть Ксанфом, нежели Скамандром? Или если угодно, почему Гомер говорит о птице: В сонме бессмертных слывущей халкидой, у смертных – киминдой[742]
.
Пустая, по‑твоему, будет наука о том, насколько правильнее одной и той же птице называться халкидой, нежели киминдой? Или же Батиея и Мирина, и многое другое у этого же поэта и у других[743]
?
b
Правда, это может оказаться несколько выше нашего с тобой понимания. А вот имена Скамандрий и Астианакт вполне в человеческих силах рассмотреть, как мне кажется. Имена эти, по словам Гомера, были у Гекторова сына[744]
. Так вот здесь легче определить, на какую правильность этих имен указывает Гомер. Ты ведь, конечно, знаешь стихи, в которых заключается то, о чем я говорю?
Гермоген.
Разумеется.
Сократ.
Так вот, которое из имен, по‑твоему, Гомер считал более правильным для мальчика, Астианакт или Скамандрий?
c
Гермоген.
Не знаю, что и сказать.
Сократ.
А попробуй рассмотреть вот как: если бы тебя спросили, кто, по‑твоему, правильнее дает имена – люди более разумные или менее разумные?
Гермоген.
Ясно, конечно, что более разумные, сказал бы я.
Сократ.
Ну а как тебе кажется, в городах более разумны женщины или мужчины, если говорить о том и другом роде в целом?
Гермоген.
Мужчины.
d
Сократ.
А знаешь, Гомер говорит, что троянцы зовут Гекторова мальчика Астианактом; отсюда ясно, что Скамандрием зовут его женщины, раз мужчины его звали Астианактом[745]
.
Гермоген.
Похоже, что так.
Сократ.
А ведь и Гомер, вероятно, троянцев считал более разумными, чем их жен.
Гермоген.
Я полагаю, да.
Сократ.
В таком случае он думал, что более правильно звать мальчика Астианактом, нежели Скамандрием?
Гермоген.
Очевидно.
Сократ.
Посмотрим же, почему это так. Ведь он говорит:
e
Ибо один защищал ты врата и троянские стены,
[Гектор…]
Именно поэтому, как видно, правильно называть сына хранителя города Астианактом, то есть владыкой того города, который, по словам Гомера, защищал его отец.
Гермоген.
По‑моему, да.
Сократ.
Так в чем же тут дело? Ведь сам‑то я здесь ничего не пойму, Гермоген. А ты понимаешь?
Гермоген.
Клянусь Зевсом, тоже нет.
393
Сократ.
Однако, добрый мой друг, имя Гектора тоже установил сам Гомер?
Гермоген.
Ну и что?
Сократ.
А то, что, мне кажется, оно чем‑то близко имени Астианакта, и оба этих имени похожи на эллинские. Слова αναξ (владыка) и έκτωρ (держитель) значат почти одно и то же, имена эти – царские. Ведь над чем кто владыка, того же он и держитель.
b
Ясно ведь, что он вместе, и властвует, и обладает, и держит. Или тебе кажется, что я говорю вздор и обманываю себя, думая, что напал на след Гомерова представления о правильности имен?
Гермоген.
Клянусь Зевсом, вовсе нет. Как мне кажется, ты и правда на что‑то такое напал.
Сократ.
Так вот, справедливо, по‑моему, порождение льва называть львом, а порождение коня – конем. Я не говорю о том случае, когда от коня родится какой‑нибудь урод, а вовсе не конь, речь идет о естественном продолжении своего рода.
c
Если же конь вопреки природе произведет теленка – что вообще‑то естественно для быка, – то это порождение нужно звать не жеребенком, а теленком. Так же если от человека родится не человек, то это порождение, я думаю, не стоит называть человеком. То же самое относится и к деревьям, и ко всему остальному. Или ты не согласен?
Гермоген.
Согласен.
Сократ.
Прекрасно. Вот и последи за мной, чтобы я как‑нибудь не сбил тебя с толку. По тем же самым соображениям, если у царя появится потомок, его следует называть царем.
d
А теми же ли слогами или другими будет обозначено одно и то же – не имеет значения. И если какая‑то буква[746]
прибавится или отнимется, неважно и это, доколе остается нетронутой сущность вещи, выраженная в имени.
Гермоген.
Как это?
Сократ.
Здесь нет ничего хитрого. Напротив, ты знаешь, когда мы перечисляем буквы, мы обычно произносим их названия, а не самые буквы. Только четыре мы произносим просто: Ε, Υ, Ο, Ω.
e
Остальные же мы обставляем другими гласными и согласными, так что получаются имена этих букв. И пока имя выражает вложенный в него смысл, оно остается правильным для того, что оно выражает. Как, скажем, «бета». Ты видишь, что прибавление эты, теты, альфы не мешает имени в целом выражать природу этой буквы, как того и хотел законодатель: настолько хорошо умел он устанавливать буквам названия.
Гермоген.
Мне сдается, ты говоришь правду.
394
Сократ.
Значит, и в случае с царем рассуждение будет то же самое? Ведь от царя будет царь, от доброго – добрый и от славного – славный. И во всем остальном так же – от каждого рода будет другое такое же порождение, и если не выродок какой‑нибудь родится, то его следует называть тем же именем. Можно, правда, разнообразить слоги, чтобы человеку неискушенному казалось, что это разные имена, в то время как они одни и те же. Как, скажем, снадобья врачей, разнообразные по цвету и запаху, кажутся нам разными, в то время как они одни и те же,
b
а для врача, когда он рассматривает их возможности, они кажутся тождественными и не сбивают его с толку своими примесями. Так же, наверно, и сведущий в именах рассматривает их значение, и его не сбивает с толку, если какая‑то буква приставляется, переставляется или отнимается или даже смысл этого имени выражен совсем в других буквах. Точно так же обстоит с тем, о чем мы здесь говорили:
c
имена Астианакс и Гектор не имеют ни одной одинаковой буквы, кроме теты, но тем не менее означают одно и то же. Да и что общего в буквах имеет с ними Археполис[747]
? А выражает тем не менее то же. И есть много других имен, которые означают не что иное, как «царь». А еще другие имена значат «воевода», как Агис, Полемарх или Евполем, иные же – «врач»: Йатрокл и Акесимврот. Вероятно, мы найдем и много других имен, которые разнятся буквами и слогами, а смысл имеют один и тот же. Это очевидно. Не так ли?
d
Гермоген.
Да, весьма очевидно.
Сократ.
Итак, рожденным согласно природе следует давать такие же имена?
Гермоген.
Разумеется.
Сократ.
А как же быть с теми, что вопреки природе оказались выродками? Например, когда от человека доброго и благочестивого рождается нечестивец? Не так ли следует поступить, как мы говорили прежде, то есть когда от коня рождается подобие быка, то не по родителю, конечно, следует давать ему наименование, но по роду, к которому он принадлежит?
Гермоген.
Разумеется.
e
Сократ.
И нечестивцу, родившемуся от благочестивого человека, следует дать имя нечестивого рода?
Гермоген.
Да, это так.
Сократ.
И назвать его не Феофилом («Боголюбом»), как подобало бы, и не Мнесифеем («Богобоязненным»), и не другими подобными именами, но таким именем, которое означало бы нечто противоположное, если, конечно, имена достигали бы правильности.
Гермоген.
Скорее всего это так, Сократ.
Сократ.
Вот и Орест[748]
– возможно, Гермоген, это имя правильное, случай ли установил его или какой‑то поэт; а указывает оно на свирепость его природы и дикость – таков бывает разве что житель гористой (ορεινός) страны.
395
Гермоген.
Очевидно, это так, Сократ.
Сократ.
Похоже, и отцу его дано имя, соответствующее его природе.
Гермоген.
Очевидно.
Сократ.
Ведь возможно, что Агамемнон[749]
означает такого человека, который если уж решил чего‑то добиться, то своей храбростью и упорством доводит дело до конца. Свидетельство его страстного упорства – длительное пребывание под Троей. Имя Агамемнон, мне кажется, и означает, что этот муж удивлял неизменной отвагой (αγαστός κατά τήν έπιμονήν).
b
Вероятно, и Атрей – тоже правильное имя. Ведь убийство Хрисиппа и свирепая расправа с Фиестом[750]
– все это вредоносно и пагубно (άτερά) для добродетели. Так что это имя лишь немного отклонилось от первоначального значения и несколько затемнилось, чтобы не всякому открылась природа этого мужа. А тому, кто уже что‑то слыхал об именах, достаточно ясно, о чем говорит имя Атрей,
c
ведь оно близко к словам «неукротимое» (άτειρές) и «бестрепетное» (ατρεστον), так же как и к слову «пагубное» (άτερόν); как бы то ни было, это имя установлено правильно. Я полагаю, что и Пелопу[751]
его имя дано не зря. Ведь оно означает человека близорукого, а уж он‑то достоин такого прозвища.
Гермоген.
Почему?
Сократ.
Об этом человеке рассказывают, например, будто убивая Миртила[752]
, он не был даже способен предугадать, что станется дальше, или предвидеть, причиной каких несчастий будет он для всего своего рода,
d
а видел он лишь то, что в данное мгновение находилось у него перед глазами, а это можно выразить словом «пелас» (πέλας); так же было и тогда, когда он захотел любой ценой взять в жены Гипподамию[753]
. И имя Тантала[754]
всякий сочтет правильным и соответствующим природе, если то, что о нем рассказывают, правда.
Гермоген.
А что именно?
Сократ.
Еще при жизни с ним приключилось много ужасных несчастий, после чего в конце концов все отечество его было полностью разорено,
e
да и в Аиде это болтание (ταλαντεία) камня туда‑сюда над его головой удивительно созвучно его имени[755]
. А просто, видимо, кто‑то, желая назвать самого уж бесталанного (ταλάντατος) человека, слегка скрыл свое намерение, назвав его Танталом. Это имя и закрепила за ним прихоть молвы.
396
Мне представляется, что и тому, кто по преданию был отцом его, Зевсу, прекрасно подходит его имя. Понять это, правда, не очень легко. Дело в том, что имя Зевса есть как бы целое выражение, а мы, расчленив его на две части, пользуемся то одной, то другой. Ведь одни его называют Днем (Δία), другие же Дзеном (Ζήνα)[756]
. А сложенные вместе, эти имена открывают нам природу этого бога, что, как мы говорили, и подобает всякому имени. В самом деле, ни для нас, ни для всех остальных людей нет большего виновника жизни, властителя и царя надо всем.
b
Так что, оказывается, этот бог назван правильно – ведь всегда благодаря ему [день и] жизнь выпадает на долю всего живого. И как я говорил, это имя разделено на две части, на имя Дий и имя Дзен, хотя оно и едино. Тому, кто его слышит, сначала может показаться кощунственным, что Зевс – сын Кроноса: более последовательно было бы, если бы Зевс назывался «порождением великой мысли». Ведь слово «корос» (κόρος), [слышащееся в имени «Кронос»], означает не «отрок», но нетронутую (άκήρατον) чистоту (καΦαρόν) ума[757]
. Сам же Кронос – сын Урана, как говорит предание.
c
А имя Уран, так же как Урания[758]
(όρωσα τά ανω), прекрасно выражает «взгляд вверх», который, Гермоген, по словам людей, изучающих небесные явления, сохраняет в чистоте человеческий ум. По небу и дано правильно имя Урану.
Если б я помнил всю родословную Гесиода[759]
, каких еще далеких предков богов он называет, я мог бы без конца рассуждать о том, насколько правильно даны им имена. И так до тех пор, пока не испытал бы, откажет наконец или нет эта мудрость, которая сегодня так внезапно сошла на меня не знаю откуда.
d
Гермоген.
Да и то сказать, Сократ, ты стал вдруг изрекать пророчества совсем как одержимый.
Сократ.
Я по крайней мере убежден, Гермоген, что эта мудрость снизошла на меня скорее всего от Евтифрона[760]
из Проспалт. Ведь с утра, заслушавшись его, я пробыл с ним довольно долго. Так что, боюсь, он в своей одержимости наполнил мне божественной мудростью не одни только уши, но захватил и душу.
e
Я полагаю, нам нужно сделать так: сегодня уж мы позволим себе воспользоваться этой мудростью и рассмотрим, что нам осталось рассмотреть в связи с именами, а завтра, если и вы согласны, мы принесем за это искупительную жертву и совершим очищение, отыскав кого‑нибудь, кто это горазд делать, среди жрецов или среди софистов.
397
Гермоген.
Я‑то во всяком случае присоединяюсь, потому что с удовольствием выслушал бы и все остальное об именах.
Сократ.
Да будет так. Откуда, по‑твоему, нам следует теперь начать рассмотрение? Ведь мы нашли уже некий образец, следуя которому можно в самих именах отыскать подтверждение того, что не произвольно устанавливается каждое имя, а в соответствии с некоей правильностью.
b
Что же касается имен героев и людей, которые сохранило предание, то они нас могут и обмануть. Ведь многие из них даны в честь предков и кому‑то совсем не подходят, как мы говорили вначале. А многие имена даются как бы в пожелание: Евтихид – в пожелание счастья, Сосия – здоровья, Теофил – ради милости богов и так далее. Так что подобные имена, я полагаю, нужно оставить в стороне. Пожалуй, наиболее правильными мы сочтем имена, установленные для того, что существует вечно, для исконного.
c
Ведь как раз здесь устанавливать имена следует особенно тщательно. И некоторые из них установлены, возможно, даже более высокой силой, нежели человеческая, – божественной.
Гермоген.
Мне кажется, это ты прекрасно сказал, Сократ.
Сократ.
Так не справедливо ли будет начать наше исследование с богов и выяснить, насколько правильно называются они этим именем?
Гермоген.
Похоже, что справедливо.
Сократ.
Итак, вот что я здесь подозреваю. Мне представляется, что первые из людей, населявших Элладу, почитали только тех богов, каких и теперь еще почитают многие варвары:
d
Солнце, Луну, Землю, Звезды, Небо. А поскольку они видели, что все это всегда бежит, совершая круговорот, то от этой‑то природы бега (Φεΐν) им и дали имя богов (Φεοί). Позднее же, когда они узнали всех других богов, они стали их величать уже этим готовым именем. Ну как? Похоже на правду то, что я говорю? Или нисколько?
Гермоген.
Очень похоже, я бы сказал.
Сократ.
Тогда что бы нам рассмотреть после этого? Демонов (δαίμονας)[761]
, героев и людей?
e
Гермоген.
Конечно, сначала демонов.
Сократ.
А в самом деле, Гермоген, что может означать имя «демон»? Смотри, дело ли я говорю.
Гермоген.
Говори, говори только.
Сократ.
Ты знаешь, о каких демонах рассказывает Гесиод?
Гермоген.
Не вспомню.
Сократ.
И не знаешь, что он говорит, будто первое поколение людей было золотым?
Гермоген.
А, это я знаю.
Сократ.
Так вот как он об этом говорит:
После того как земля поколение это покрыла,
В благостных демонов все превратились они наземельных
398
Волей великого Зевса: людей на земле охраняют[762]
.
Гермоген.
Так что из этого следует?
Сократ.
А то, я думаю, что не потому он говорит о золотом роде, что род этот был из золота, но потому, что это был достойный и славный род. А доказывается это тем, что нас он называет родом железным.
Гермоген.
Это правда.
Сократ.
Как ты думаешь, если бы кто‑нибудь из нынешних оказался человеком достойным, он и его бы причислил к тому золотому роду?
b
Гермоген.
Пожалуй.
Сократ.
А достойные люди одновременно ведь и разумны?
Гермоген.
Разумны.
Сократ.
Так вот, по‑моему, это он и подразумевает скорее всего, говоря о демонах. Дело в том, что они были разумны и все было им ведомо, за что он и назвал их «ведемонами». В нашем древнем языке именно такое значение было у этого слова. Поэтому прекрасно говорит и Гесиод,[763]
да и другие поэты, что достойному человеку после смерти выпадает великая доля и честь и он становится демоном, заслужив это имя своей разумностью.
c
Вот и я поэтому всякого человека, если он человек достойный, и при жизни и по смерти приравниваю к этим божествам и считаю, что ему правильно называться демоном.
Гермоген.
Мне кажется, Сократ, здесь я с тобою вполне согласен. А вот «герой» – что это будет такое?
Сократ.
Понять это нетрудно. Ведь имя это изменилось не сильно и ясно обнаруживает происхождение от «Эрота».
Гермоген.
Как это?
Сократ.
А разве ты не знаешь, что герои – полубоги?
Гермоген.
Ну так что же?
d
Сократ.
Да ведь все они произошли либо от бога, влюбленного в смертную, либо от смертного и богини. Так что если и на это имя ты посмотришь с точки зрения древнего аттического наречия, то скорее сможешь его понять. Ты обнаружишь, что прелесть этого слова в небольшом отклонении от имени Эрота, благодаря которому и родились герои. И либо поэтому герои так называются, либо потому что они были мудрецами и искусными риторами, а к тому же еще и диалектиками, умевшими ловко ставить вопросы, а это выражается глаголом «говорить» (εΐρειν). Таким образом, как мы только что сказали, те, кого на аттическом наречии называют героями,
e
были своего рода риторы, искусные в спорах, так что род риторов и софистов оказывается героическим племенем[764]
. Это уразуметь нетрудно; но вот из названия «люди» сложнее узнать, почему люди так называются. Или у тебя есть что сказать по этому поводу?
Гермоген.
Откуда же, друг мой, у меня? Да если бы я сам был способен найти ответ, я не стал бы приставать к тебе, считая, что ты его скорее найдешь, чем я.
399
Сократ.
Ты, видимо, веришь Евтифронову вдохновению?
Гермоген.
Без сомнения.
Сократ.
Что же, и правильно делаешь. Мне кажется, что и сейчас я рассуждаю складно и если не остерегусь, то боюсь, что еще сегодня могу стать мудрее, чем следует.
Итак, следи за тем, что я говорю. Ведь что касается имен, то здесь прежде всего нужно иметь в виду, что к тому слову, каким мы хотим что‑то назвать, мы часто добавляем одни буквы, отнимаем другие, а также меняем ударения.
b
Например, чтобы из выражения «милый Зевсу» (Διί φίλος) получилось имя Дифил, из первой его части изъяли вторую йоту, а средний слог стал произноситься как тяжелый вместо острого. В других же словах, напротив, мы прибавляем буквы и придаем слогам с тяжелым ударением острое.
Гермоген.
Это правда.
Сократ.
Так вот, мне кажется, одно из этих изменений претерпело и слово «человек» (άνθρωπος). Ведь это слово получилось из целого выражения, после того как [из середины] была изъята одна буква – альфа и конец слова стал произноситься как тяжелый.
Гермоген.
Как это?
c
Сократ.
А так. Имя «человек» означает, что, тогда как остальные животные не наблюдают того, что видят, не производят сравнений, ничего не сопоставляют (άναθρείν), человек, как только увидит что‑то, а можно также сказать «уловит очами», тотчас начинает приглядываться и размышлять над тем, что уловил. Поэтому‑то он один из всех животных правильно называется «человеком», ведь он как бы «очелувец» того, что видит[765]
.
Гермоген.
Так что же дальше? Спросить тебя о том, что я послушал бы с особым удовольствием?
Сократ.
Конечно.
d
Гермоген.
Мне кажется, теперь важно рассмотреть все по порядку. Например, ведь что‑то мы называем душой, а что‑то – телом человека.
Сократ.
Конечно.
Гермоген.
Давай попробуем и это разобрать, как мы разобрали прежнее.
Сократ.
Ты говоришь, исследовать душу – насколько подобает ей это имя? А затем придет очередь и тела?
Гермоген.
Да.
Сократ.
Чтобы сказать это сразу, недолго думая, вероятно, давший это имя подразумевал что‑нибудь в таком роде: пока она присутствует в теле, она – причина его жизни и доставляет ему возможность дышать и отдыхать.
e
Когда же это отдохновляющее начало покидает тело, последнее, погибая, умирает. Поэтому, мне кажется, она и называется душой. А если хочешь знать… постой: мне кажется, я вижу нечто более убедительное для сподвижников Евтифрона.
400
Ведь к этому объяснению, мне кажется, они могут отнестись с пренебрежением и счесть его грубоватым. А вот посмотри, не понравится ли тебе такое.
Гермоген.
Говори, не медли.
Сократ.
Что, как не душа, по‑твоему, поддерживает и несет на себе природу всякого тела, так что оно может и жить, и двигаться?
Гермоген.
Именно она.
Сократ.
Так как же? Ты веришь вместе с Анаксагором, что и всякую другую природу тоже поддерживает и упорядочивает одновременно с умом душа?[766]
Гермоген.
Я – да, верю.
b
Сократ.
В таком случае по этой силе, что поддерживает и несет на себе природу [вещей], она правильно называется «природоносительница» (φυσέχη), а для красоты можно говорить просто «душа» (ψυχή).
Гермоген.
Разумеется, можно. И по‑моему, это ты более искусно придумал.
Сократ.
Да ведь так оно и есть. А все же забавным кажется, когда ее называешь тем правильным именем, какое для нее установлено.
Гермоген.
Однако как обстоит со всем остальным?
Сократ.
Ты имеешь в виду тело?
Гермоген.
Да.
Сократ.
Мне представляется, что вот это как раз имеет разные объяснения, а если хоть чуть‑чуть отклониться, то даже очень разные.
c
Многие считают, что тело подобно могильной плите (σήμα), скрывающей погребенную под ней в этой жизни душу. В то же время эта плита представляет собою также и знак (σήμα), ибо с ее помощью душа обозначает то, что ей нужно выразить, и потому тело правильно носит также название «сома» (σώμα)[767]
. И все же мне кажется, что скорее всего это имя установил кто‑то из орфиков[768]
вот в каком смысле: душа терпит наказание – за что бы там она его ни терпела, – а плоть служит ей оплотом, чтобы она смогла уцелеть, находясь в теле, как в застенке. Так вот, тело есть так называемая плоть для души, пока та не расплатится сполна, и тут уж ни прибавить, ни убавить ни буквы.
d
Гермоген.
Мне кажется, Сократ, об этом сказано достаточно. Не могли бы мы рассмотреть имена богов по тому же способу, как мы сегодня говорили об имени Зевса? Какие правила их установления?
Сократ.
Клянусь Зевсом, Гермоген! Пока мы в здравом уме, для нас существует только один способ, по крайней мере наилучший: сказать, что о богах мы ничего не знаем – ни о них, ни об их именах, как бы там каждого ни звали. Ясно ведь, что они‑то уж называют себя истинными именами.
e
Есть, правда, и второй способ – поступить так, как в молитвах: ведь существует для нас закон, какие и когда богам угодны наименования, и мы так обращаемся к ним в молитвах, οι будто никаких других имен не знаем, и, я полагаю, это заведено прекрасно.
401
Так что, если хочешь, давай рассмотрим эти имена, как бы предупредив сначала богов, что о них мы ни в коем случае не будем рассуждать, поскольку не считаем себя достойными это делать, но будем рассуждать о людях и выяснять, какое представление о богах те имели, когда устанавливали для них имена. Ведь это не возбраняется.
Гермоген.
Мне кажется, Сократ, ты говоришь ладно. Так мы и сделаем.
b
Сократ.
Давай же начнем с Гестии[769]
– уж так это заведено.
Гермоген.
Да это и справедливо.
Сократ.
Итак, что имел в виду тот, кто установил имя Гестии?
Гермоген.
Нет, нелегко это узнать, клянусь Зевсом!
Сократ.
Так вот, я думаю, милый мой Гермоген, что первые учредители имен не были простаками, но были вдумчивыми наблюдателями небесных явлений и, я бы сказал, тонкими знатоками слова.
Гермоген.
Почему ты так думаешь?
Сократ.
Мне сдается, что установление имен – дело таких вот людей. И ведь даже если рассмотреть чужеземные имена, то и тогда можно не хуже определить, что каждое из них значит.
c
Так и здесь: имя сущности вещей, которое мы произносим «усия» (ουσία), одни произносят как «гесйя» (έσσία), другие же как «осйя» (ώσ'ια). Так вот, прежде всего исходя из второго звучания имени есть основание называть Гестией сущность окружающих нас вещей. А с другой стороны, ведь и мы называем также нечто причастное существованию глаголом «есть» (εστίν), и в таком случае этой богине правильно дано ее имя. И похоже, что в древности мы то же имя сущности произносили не «усйя» (ουσία), но «эсйя» (έσσία).
d
А еще, сопоставив это имя с названием жертвоприношения (θυσία), кто‑нибудь мог бы счесть, что именно это имели в виду люди, установившие такое имя, ведь, вероятно, те, кто сущность всего называл этим именем – «эсия» (έσσία), прежде всех богов приносили жертвы Гестии. Те же, кто называют ее Осией, возможно, почти по Гераклиту[770]
считают, что все сущее движется и ничто не остается на месте. А началом и первопричиной они считают толчок («толкать» будет «отун» (ώθοΰν)), и в таком случае этой богине прекрасно подходит название Осия.
e
И пусть это будет сказано так, как если бы мы больше ничего не знали. А после Гестии по справедливости следует рассмотреть имена Реи и Кроноса[771]
. Правда, имя Кроноса мы уже разобрали, хотя, может быть, то, что я говорю, и вздор.
Гермоген.
А что ты хотел сказать, Сократ?
Сократ.
Друг мой, я замечаю, что в голове моей целый рой мудрости.
Гермоген.
Что за рой?
402
Сократ.
Смешно сказать, но я даже думаю, что в этом содержится нечто убедительное.
Гермоген.
Что же именно?
Сократ.
Мне кажется, я вижу Гераклита, как он изрекает древнюю мудрость о Кроносе и Рее; у Гомера, впрочем, тоже есть об этом.
Гермоген.
Это ты о чем?
Сократ.
Гераклит говорит где‑то: «все движется и ничто не остается на месте», а еще, уподобляя все сущее течению реки (ροή), он говорит, что «дважды тебе не войти в одну и ту же реку»[772]
.
Гермоген.
Это так.
b
Сократ.
Что же? Ты полагаешь, далек был от этой мысли Гераклита тот, кто установил прародителям всех остальных богов имена Реи и Кроноса?[773]
Или, по‑твоему, у Гераклита случайно, что имена обоих означают течение? Да и Гомер в свою очередь указывает на происхождение всех богов от Океана и «матери Тефии»[774]
. Думаю, что и Гесиод тоже[775]
. И Орфей[776]
где‑то говорит:
Первым браку почин положил Океан плавнотечный,
c
Взяв Тефию, сестру единоутробную, в жены[777]
.
Так что все свидетельства между собой согласны, и все это соответствует учению Гераклита.
Гермоген.
Мне кажется, ты дельно говоришь, Сократ. Впрочем, не пойму, что значит имя Тефии?
d
Сократ.
А ведь без малого это значит то же самое, так как в нем скрывается значение: «поток, стекающий по капле» (διαττώμενον καί ήθούμενον); из этих‑то двух слов и складывается имя Тефии.
Гермоген.
Это великолепно, Сократ!
Сократ.
А почему бы и не так? Однако что у нас за этим? О Зевсе мы уже говорили.
Гермоген.
Да.
Сократ.
Тогда давай поговорим о его братьях, Посейдоне и Плутоне, и о том другом имени, которым называют Плутона[778]
.
Гермоген.
Разумеется.
e
Сократ.
Итак, мне кажется, что первый, кто дал имя «Посейдон», сделал это потому, что, когда он вступал в воду, силы моря его удерживали и не позволяли идти вперед, становясь как бы путами для его стоп. Поэтому бога, властителя этой силы, он назвал Посейдоном (Ποσειδών), так как тот был для него Стопутидон (Ποσίδεσμος), а буква эпсилон [перед йотой] уже впоследствии была прибавлена для благозвучия.
403
А возможно, он и не так говорил, но вместо сигмы вначале произносил две ламбды – не Посейдон, а Поллейдон, подразумевая бога, много ведающего (πολλά είδώς). Может быть и то, что Посейдон называется так от слова «сотрясать» (σε'ιειν), как сотрясающий морские глубины, а пи и дельта прибавились позднее. Имя же Плутона пошло от богатства (πλοΰτος)[779]
, так как богатство приходит из‑под земли. Что же до его имени Аид (Άιδης)[780]
, то многие, я думаю, подозревают, что этим именем обозначается «невидимое» (άειδής), причем люди, опасаясь такого имени, зовут его Плутоном.
b
Гермоген.
А как тебе кажется, Сократ?
Сократ.
По‑моему, люди глубоко заблуждаются насчет силы этого бога и боятся его незаслуженно. Ведь боятся они того, что, когда раз кто‑то из нас умрет, он уже и останется там навечно. И еще они напуганы тем, что душа, освободившаяся от тела, улетает туда как бы обнаженной. Но мне кажется, что и власть этого бога, и его имя – все устремлено к одному и тому же.
Гермоген.
Как это?
c
Сократ.
Я объясню тебе, как мне это представляется. Ведь скажи: для любого живого существа, чтобы где‑то его удержать, какая цепь будет крепче – необходимость или желание?
Гермоген.
Это очень разные вещи, Сократ. Конечно, желание привязывает крепче.
Сократ.
Итак, ты думаешь, не убежали бы разве многие от Аида, если бы приходящих туда он не связывал крепчайшей цепью?
Гермоген.
Пожалуй, это так.
Сократ.
Тогда, видно, их связывает какое‑то желание, коль скоро их связывает сильнейшая цепь, а вовсе не необходимость?
Гермоген.
Очевидно.
Сократ.
Но ведь желаний всяких много?
Гермоген.
Да.
d
Сократ.
В таком случае он их связывает сильнейшим из желаний, если собирается удержать сильнейшей цепью.
Гермоген.
Да.
Сократ.
Так вот, есть ли более сильное желание, чем, общаясь с кем‑нибудь, стать благодаря ему лучше?
Гермоген.
Клянусь Зевсом, более сильного нет, Сократ.
Сократ.
Значит, мы можем сказать. Гермоген, что никто пока еще не захотел оттуда уйти, даже сами Сирены[781]
, но и они, и все другие словно зачарованы там – столь прекрасные слова, как видно, знает Аид.
e
По этим‑то словам можно судить, что бог этот – совершенный софист и великий благодетель для тех, кто у него пребывает, коль скоро он посылает им столько благ. Плотно населены его владения, так что и имя Плутона он носит от этого[782]
. А то, что он не ищет общества людей, пока у тех есть тело, но сближается с ними только тогда,
404
когда душа их чиста от всех сопряженных с телом зол и желаний, как, по‑твоему, разве недостоин философа этот благой умысел? Ведь в этом случае он может связать их желанием добродетели. Тех же, кто подвластен волнениям и безумию тела, и Кронос‑отец не смог бы задержать у себя, даже связав их теми узами, какие ему приписывает предание[783]
.
Гермоген.
Видимо, ты дельно говоришь, Сократ.
b
Сократ.
Да и самое это имя – Аид – едва ли, Гермоген, происходит от «невидимый», но гораздо скорее от «ведать (είδένοα) все прекрасное». Потому‑то и назвал его законодатель Аидом.
Гермоген.
Пусть будет так. А что же Деметра, Гера, Аполлон, Гефест, Арес[784]
и другие боги – что мы о них скажем?
Сократ.
Ну Деметра‑то, мне кажется, называется Деметрой от дарения пищи, которую она раздает, подобно матери. А вот Гера – как прелестная и одержимая эросом (έρατή):
c
ведь говорят же, что Зевс был в нее влюблен. А может быть, наблюдая небесные явления, законодатель тайно назвал Геру именем воздуха (αήρ), переставив первую букву в конец. Ты заметишь это, если несколько раз подряд повторишь имя Геры. Что касается имени Феррефатта[785]
, – надо сказать, многие боятся его, как и имени Аполлона, – то оно произошло, видимо, от незнания правильности имен. Ведь те, кто его дал, получают, переставив буквы, имя Ферсефона, а в этом имени им чудится погибель[786]
. Однако оно указывает на мудрость этой богини.
d
Ведь когда все вещи несутся в каком‑то порыве, тогда то, что перехватывает их на лету, осязает и может их проследить, и должно считаться мудростью. Следовательно, за мудрость и перехватывание, осязание несущегося (επαφή του φερομένου) правильнее было бы эту богиню называть Перепафой или еще как‑нибудь в этом роде. И Аид, который и сам мудр, связан с ней потому, что и она такова. Теперь же ее имя отклонилось от прежнего звучания, и те, кто благозвучие предпочитает истине, зовут ее Феррефаттой.
e
То же самое, говорю я, и с Аполлоном: многие напуганы именем этого бога, как будто оно указывает на что‑то ужасное. Или ты не замечал?
Гермоген.
Да, это верно. Ты говоришь правду.
Сократ.
А ведь это имя, по крайней мере мне так кажется, наилучшим образом выражает силу этого бога.
Гермоген.
Как?
405
Сократ.
Я попытаюсь тебе объяснить, как мне это представляется. Ведь имя это, оставаясь единым, как нельзя лучше соответствует четырем способностям этого бога, так что затрагивает и каким‑то образом выражает их все: способность к музыке, к пророчеству, к врачеванию и к стрельбе из лука.
Гермоген.
Растолкуй, пожалуйста. Ведь из твоих слов я пока только вижу, что это какое‑то странное имя.
Сократ.
Да ведь в нем прекрасная гармония, как это и подобает имени бога музыки. Прежде всего ведь обряды очищения и очистительные жертвы, как это принято и у врачей, и у прорицателей,
b
равно как окуривание целебными и разными волшебными снадобьями при прорицаниях, а кроме того, омовения и окропления в том и другом случае, – все это, вероятно, имеет одну цель: чтобы человек стал чист телом и душой. Или не так?
Гермоген.
Да, это верно.
Сократ.
Так разве нельзя сказать, что это очищающий бог как бы выполаскивает душу человека и вызволяет ее из плена всякого рода зол?
Гермоген.
Можно, конечно.
Сократ.
Так вот от этого выполаскивания (άπόλουσις) и вызволения (άπόλυσις), исцеляющего от всех такого рода бед,
c
правильно было бы назвать его «Выполон», а по его пророческому искусству, за неложность и подлинность (άπλοϋν) – а это одно и то же – его прорицаний, правильнее всего было бы назвать его так, как зовут его фессалийцы: ведь все фессалийцы называют этого бога «Аплун» («Απλούν»). А так как он властен постоянно посылать стрелы, то по отношению к его искусству стрелка следовало бы его называть «вечно посылающим стрелы» (Άειβάλλων). Что же касается музыки, то нужно иметь в виду, что альфа [в начале слова] может часто значить то же, что «с», «со‑», как, например, в слове «спутник» (άκόλυΦος) или «соложница» (άκοιτις);
d
так и здесь, она может означать совместное вращение в небе того, что мы называем небесными полюсами (πόλοι), а в песенной гармонии – созвучием. Все это, по словам тонких знатоков астрономии и музыки, вращается вместе в некоей гармонии, а бог этот надзирает за гармонией, осуществляя всеобщее вращение и у богов, и у людей. И как в словах «спутник» и «супруга» мы присоединяли альфу в значении «вместе»,
e
так же мы зовем и этого бога Аполлоном вместо «Однополона», прибавляя к тому же вторую ламбду, ибо иначе это имя будет звучать в точности, как тягостное слово «губитель» (άπολών). Да и теперь еще многие подозревают в его имени это значение «погибели» и боятся его из‑за собственного неправильного толкования.
406
На самом же деле оно, как я говорил раньше, наилучшим образом охватывает все способности этого бога – подлинность его прорицаний, постоянное метание стрел, «выполаскивание» и способность объединять полюсы[787]
. А Музы и вообще мусические искусства названы, видимо, этим именем от страстного стремления (μώσθαι) к философской мудрости. Лето[788]
– за мягкость этой богини, поскольку она благоволит к мольбам молящих. Но может быть, более верно то имя, каким зовут ее чужеземцы, ведь многие называют ее Лефо:
b
в этом случае, видимо, подчеркивается, что нрав ее (ήθος) не колюч, но кроток и ласков (λεΐον). А вот Артемида[789]
, мне кажется, названа так за нетронутую чистоту (άρτεμές) и скромность и еще за привязанность к девичеству (παρθενία). А может быть, назвавший ее так особо подчеркнул ее испытанную добродетель или то, что она как бы этой добродетели страж (αρετής ΐστωρ). Наконец, возможно, он подчеркнул и то, что она возненавидела (μισήσασα) в женщине пашню (αροτος) мужа. Либо за что‑нибудь одно из этого, либо за все вместе присвоил это имя богине присвоитель имен.
Гермоген.
А что же Дионис и Афродита?
c
Сократ.
Сын Гиппоника, ты спрашиваешь о трудных вещах! Можно строго исследовать имена этих богов, а можно и для забавы. Так вот о строгом способе спроси кого‑нибудь другого, а познакомиться с забавным нам ничто не мешает: ведь забавы милы и богам. Итак, Дионис[790]
как «дающий вино» (διδοϋς τον οίνον) ради забавы, возможно, был назван «Дайвинисом» (Διδοίνυσος). А самое вино за то, что оно большинство пьющих, даже и глупцов, заставляет видеть себя умными, справедливо было бы назвать «видумно» (οίόνους). Ну а об имени пенорожденной Афродиты не стоит спорить с Гесиодом,[791]
а должно согласиться, что она так называется потому, что была рождена из пены (αφρός).
d
Гермоген.
Однако не забудь об Афине,[792]
Сократ, ведь ты афинянин, да и о Гефесте и об Аресе.
Сократ.
Да, мне это не пристало бы.
Гермоген.
Конечно, нет.
Сократ.
Во всяком случае, другое ее имя нетрудно объяснить, почему оно ей присвоено.
Гермоген.
Какое?
Сократ.
Да ведь иногда ее называют еще Палладой.
Гермоген.
Конечно, как же иначе!
Сократ.
Так вот, я думаю, правильно было бы считать, что это имя ей дано от «пляски с копьем и в латах».
e
Ведь когда кто‑то либо сам воспаряет над землей, либо что‑то подбрасывает руками, то мы называем это одним и тем же словом (πάλλειν, πάλλεσθαι), не различая, сам он прыгает или что‑то подкидывает.
407
Гермоген.
Да, это верно.
Сократ.
Так что «Паллада» – отсюда.
Гермоген.
Да, это правильно. Однако о первом ее имени что ты скажешь?
Сократ.
Об имени Афина?
Гермоген.
Да.
Сократ.
Это будет потруднее, друг мой. Похоже, древние видели в Афине то же, что и нынешние знатоки Гомера. Ведь многие из них, толкуя слова поэта, говорят, что Афина воплощает ум и самое мысль.
b
Тот, кто присваивал имена, видимо, сам мыслил о ней нечто в этом роде, но выразил это еще сильнее, ведь он назвал ее «раздумьем бога» (θεοΰ νόησις): вместо эты он поставил взятую из чужого наречия альфу[793]
, а сигму и йоту отбросил. А может быть, он назвал ее так – Теоноей (θεονόη) – в отличие от других за то, что она помышляет о божественном[794]
. Ничто также не запрещает нам считать, что он хотел назвать ее Этоноей (Ήθονόη), потому что размышление было как бы в самом характере (ήθος) этой богини.
c
И уже впоследствии то ли сам законодатель, то ли какие‑нибудь другие люди, изменяя это имя к лучшему, как они полагали, стали звать ее Афина (Άθηνάα).
Гермоген.
А как же Гефест? Что ты о нем скажешь?
Сократ.
Ты спрашиваешь о благородном «знатоке света» (φάεος ΐστωρ)?
Гермоген.
Да, я это имею в виду.
Сократ.
Разве не ясно вполне, что он должен называться Фест (Φαιστός), а Ге – просто так притянуто?
Гермоген.
Вероятно, так, если только ты не захочешь растолковать это как‑нибудь иначе.
Сократ.
А чтобы я не захотел, спроси об Аресе.
Гермоген.
Спрашиваю.
d
Сократ.
Так вот, если угодно, он называется Аресом, вероятно, от ярой мужской силы и храбрости (τό άρρεν, τό άνδρεΐον); а если даже он назван так из‑за суровости и непоколебимости, из‑за того, что ему, можно сказать, несвойственно содрогаться (άρρατος), то и тогда во всех отношениях подобает богу войны имя Ареса.
Гермоген.
Да, это верно.
Сократ.
Все же, ради богов, оставим богов в покое – я боюсь о них рассуждать. Предлагай что угодно другое, «пока не изведаешь, каковы кони» Евтифрона[795]
.
e
Гермоген.
Так я и сделаю, да вот только одно еще спрошу у тебя – о Гермесе, поскольку Кратил сказал, что не Гермоген мне имя. Давай попытаемся рассмотреть имя Гермеса – что, собственно, оно означает, – дабы узнать, есть ли смысл в словах Кратила.
Сократ.
Да ведь это имя, видимо, имеет отношение к слову: он толкователь воли богов – герменевт и вестник, он и вороват, и ловок в речах, он же покровитель рынка, а все эти занятия связаны с властью слова.
408
Мы уже говорили, что «эйрейн» (εΐρειν) означает «пользоваться словом»[796]
, а Гомер часто употребляет слово «эмэсато» (έμήσατο), что значит «измыслил». Так вот из этих двух слов законодатель и составил имя бога, который измыслил речь (λέγειν) и слово (λόγος) (ведь «эйрейн» – то же самое, что и «легейн» (λέγειν)), как бы говоря: «Люди добрые! Тот, кто измыслил речь, по праву может называться у нас Говоремыслом (Είρέμης)».
b
Теперь же для красоты, я думаю, мы произносим это имя как «Гермес». Да и Ирида[797]
, пожалуй, тоже получила имя от глагола «эйрейн», поскольку она была вестницей.
Гермоген.
Клянусь Зевсом, тогда, как я вижу, Кратил верно сказал, что я не Гермоген: я ведь вовсе не скор на слово.
Сократ.
И что Пан[798]
– сын Гермеса – отличается двойственной природой, в этом тоже есть смысл, мой друг.
c
Гермоген.
Какой же?
Сократ.
Ты знаешь, ведь это слово (παν) означает «всё», его можно повернуть и так, и этак, почему оно и оказывается двойственным: истинным и ложным.
Гермоген.
Верно.
Сократ.
Так вот, истинная часть его гладкая, божественная и витает в горних высях, среди богов, а ложная находится среди людской толпы – косматая, козлиная. Отсюда и большинство преданий и вся трагическая[799]
ложь.
Гермоген.
Очень верно.
Сократ.
Значит, видимо, правильно слово «пан», означающее постоянный круговорот (αεί πολών), дало Пану имя «козопаса» (Πάν αίπόλος) – сына Гермеса, у которого двойная природа:
d
гладкая верхняя часть и косматая, козлоподобная нижняя. И одновременно этот Пан – слово или брат слова, коль скоро он сын Гермеса[800]
, а что брат похож на брата – это не удивительно. Однако, как я уже говорил, оставим богов.
Гермоген.
Пожалуй, Сократ, о таких вещах помолчим. А вот что тебе мешает рассуждать об этом: о Солнце и о Луне, о звездах и о Земле, об эфире и воздухе, об огне и воде, о временах года и о самом годе?
e
Сократ.
Уж очень многого ты от меня хочешь. Но если тебе это будет приятно, я готов.
Гермоген.
Доставь мне удовольствие.
Сократ.
С чего же ты хочешь начать? С Солнца (Ήλιος), как ты сказал?
Гермоген.
Конечно.
Сократ.
Итак, сдается мне, нам станет это яснее, если мы воспользуемся дорийским его именем. Ведь дорийцы называют Солнце «Галиос»:
409
это имя, возможно, дано ему от его восхода (αλιος), когда люди собираются на сходку (άλίζειν). А может быть, Солнце потому так называется, что оно, вечно вращаясь вокруг Земли, как бы вокруг нее слоняется (είλεΐ); а может, и потому, что, обходя Землю, оно разукрашивает или расцвечивает (αΐολεΐ) все, что выходит из ее лона.
Гермоген.
А как же Луна (σελήνη)?
Сократ.
Это имя, мне кажется, уязвляет Анаксагора.
Гермоген.
Как это?
Сократ.
Похоже, он нечто старое выдал за новое, сказав, что Луна получает свет от Солнца[801]
.
b
Гермоген.
Что ты имеешь в виду?
Сократ.
Ведь «свет» и «луч» (σέλας) – одно и то же.
Гермоген.
Да.
Сократ.
Так вот этот свет у Луны как‑то всегда бывает и тем же самым, и новым, если правду говорят последователи Анаксагора: потому что [Солнце], обходя Луну вокруг, всегда посылает ей новый свет, а прошлый остается от предыдущего месяца.
Гермоген.
Верно.
Сократ.
А поскольку она имеет один и тот же и вечно новый луч, то правильнее всего было бы ей называться «лучеединоновая», а сокращенно, но врастяжку ее называют «лу‑на».
c
Гермоген.
Это имя, Сократ, звучит так, будто оно взято из дифирамба[802]
. А про месяц и звезды что ты скажешь?
Сократ.
Месяц (μείς), вероятно, правильно был назван «менесяцем» (μείης) от «уменьшаться» (μειοϋ‑σθαι), а звезды (άστρα) называются так, видимо, по сходству с молнией (αστραπή). Сама же молния, поскольку она, словно молот, ударяет по глазам, возможно, называлась «моломния», теперь же для красоты зовется «молния».
Гермоген.
А как же огонь и вода?
d
Сократ.
Огонь? Затрудняюсь сказать. Боюсь, либо муза Евтифрона меня оставила, либо это уж очень сложно. А все же смотри, какое ухищрение я придумал для всего того, что я затруднился бы объяснить.
Гермоген.
Какое же?
Сократ.
Сейчас скажу. А вот ответь мне, можешь ли ты сказать, почему так называется огонь?
Гермоген.
Клянусь Зевсом, не могу никак.
e
Сократ.
Смотри же, что я здесь подозреваю. Мне пришло в голову, что многие имена эллины заимствовали у варваров, особенно же те эллины, что живут под их властью.
Гермоген.
Так что же?
Сократ.
Если кто‑либо возьмется исследовать, насколько подобающим образом эти имена установлены, исходя из эллинского языка, а не из того, из которого они, как оказывается, взяты, то понятно, что он встанет в тупик.
Гермоген.
И поделом.
410
Сократ.
Взгляни теперь, может быть, и это имя – «огонь» (πΰρ) – варварское? Ведь эллинскому наречию и справиться с ним нелегко, да к тому же известно, что так его называют фригийцы, лишь немного отступая от этого произношения; то же самое относится к именам «вода» (ΰδωρ), «собаки» (κύνες) и многим другим.
Гермоген.
Это верно.
Сократ.
Тогда не нужно учинять насилие над этими словами, если кто‑то другой может их объяснить[803]
. Поэтому огонь и воду мы оставим.
b
А вот воздух (αήρ), Гермоген, разве не от того ли, что что‑то воздымает (αίρει) от земли, называется воздухом? Или, может быть, оттого, что он находится в вечном течении (αεί ρεΐ)? Или потому, что от его течения возникают ветры, а ветры поэты называют дуновениями (άήται)? Поэтому, вероятно, это слово произносилось «воздухо‑поток», обозначая, что воздух как бы гоним ветром. А слово «эфир» (αίθήρ) я понимаю вот как: это – верхний слой воздуха, который все время извне обегает самый воздух (αεί θεΐ περί τόν αέρα ρέων), и, вероятно, это правильно. Имя же «гея» – «земля»[804]
лучше обнаруживает, что оно значит, если произносить его «гайа».
c
Возможно, что как раз Гайа – правильное ее имя и означает оно «прародительница» (γεννήτειρα), если верить Гомеру. Ведь он близкое этому слово «гегаасин» (γεγάασιν) употребляет в значении «родиться». Ну ладно. Что же у нас было за этим?
Гермоген.
Времена года, Сократ. А также два слова: «годы» и «лета».
Сократ.
«Времена года» (ώραι) нужно произносить по‑аттически (δραι), как и встарь, если хочешь знать вероятное их значение.
d
Они так называются по праву, ибо как бы отгораживают (όρίζουσιν) зиму от лета, время бурь от времени, когда земля дает плоды. А «годы» (ένιαυτοί) и «лета» (έτη), думаю, есть нечто единое. Ведь это то, что всё рождающееся и возникающее, каждое в свой черед, выводит на свет и через самое себя выявляет (έτάζον) до конца. И как прежде мы говорили, что, разделив на две части имя Зевса, одни звали его Дзеном, а другие Дием, так же и здесь: то говорят «годы» (ένιαυτο'ι), подчеркивая этим значение «само в себе» (εν έαυτφ), то «лета» (ετη), оттеняя значение «выявлять» (έτάζειν), а в целом это слово означает «самовыявление». Но произносится оно двояко, хотя и остается единым, так что возникают два имени: «годы» и «лета».
e
Гермоген.
Однако, несомненно, Сократ, ты сделал большие успехи.
Сократ.
Думаю, тебе кажется, что в мудрости я уже далеко ушел.
Гермоген.
Да, это верно.
Сократ.
Скоро не то еще скажешь!
411
Гермоген.
Но после вещей этого рода я бы с удовольствием рассмотрел, по каким правилам установлены те славные имена, что относятся к добродетели: «рассудительность», «сметливость», «справедливость» и все остальное в том же роде.
Сократ.
Друг мой, ты пробуждаешь к жизни целый рой имен. А поскольку теперь я уже облачился в шкуру льва[805]
, мне не следует бояться, а нужно рассмотреть, видимо, «разумение», «сметливость», «понимание», «познание» и остальные, как ты говоришь, славные имена.
b
Гермоген.
Разумеется, нам не следует отступать.
Сократ.
И правда, клянусь собакой, я, кажется, неплохой гадатель, а пришло мне в голову вот что: самые древние люди, присваивавшие имена, как и теперь большинство мудрецов, от непрерывного вращения головой в поисках объяснений вещам всегда испытывали головокружение, и поэтому им казалось, что вещи вращаются и несутся в каком‑то вихре[806]
.
c
И разумеется, и те и другие считают, что причина такого мнения не внутренний их недуг, но таковы уж вещи от природы: в них нет ничего устойчивого и надежного, но все течет и несется, все в порыве и вечном становлении. Я говорю это, имея в виду все упомянутые тобою сейчас имена.
Гермоген.
Как это, Сократ?
Сократ.
Может быть, ты замечал, что только что названные слова присвоены так, как если бы имелось в виду, что все вещи несутся, текут и испытывают постоянное становление?
Гермоген.
Нет, мне это совсем не приходило в голову.
d
Сократ.
Во‑первых, то имя, что мы назвали первым, судя по всему, установлено именно так.
Гермоген.
Какое?
Сократ.
«Разумение» (φρόνησις). Ведь это помышление умом того, кто судит о вихре, или течении, вещей (φοράς και ροΰ νόησις); а может быть, это нужно понимать так, что есть определенный расчет в этом течении, что оно полезно (δνησις φοράς). Во всяком случае, это связано с движением. И если угодно, «понимание» (γνώμη), судя по всему, означает рассмотрение возникновения (γονής σκέψις και νώμησις), поскольку «рассматривать» и «понимать» – одно и то же. Если же угодно, и самое имя «мышление» (νόησις) означает улавливание нового (νέου εσις), а новое (νέα) в свою очередь означает вечное возникновение;
e
так вот, знаком того, что душа улавливает это вечное изменение или возникновение нового, и установил законодатель имя «меноловление». Ведь оно произносилось в древности иначе – с двумя эпсилонами (ε) вместо эты (η) (νοέεσις). «Целомудрие» же (σωφροσύνη) означает, что «разумение» – это имя мы с тобой уже сегодня рассматривали – сохраняется здравым (σωτηρία φρονή‑σεως).
412
Да и слово «познание» (επιστήμη) говорит о том, что душа, значение которой в этом деле велико, следует (επομένη) за несущимися вещами, не отставая от них и их не опережая. Поэтому, вставив ει, нужно говорить «гепеистэмэ» (έπεϊστήμη) (не «познать», а «позанять»). Сметливость же, как может оказаться, означает «умозаключение». Ведь когда говорят «смекнуть» (συνιέναι), это совершенно совпадает со значением слова «познать»: «смекнуть» показывает, что душа сопровождает вещи, мечется вместе с ними. Ведь даже слово «мудрость» (σοφία) означает «захватить порыв» (φοράς έφάπτεσθαι).
b
Имя это, правда, довольно темное и скорее всего чужое. Однако следует вспомнить, что у поэтов во многих местах употребляется близкое по звучанию слово «эсютэ» (έσύθη) в значении «поспешно ушел». А одному из прославленных лаконских мужей даже было такое имя – Сус, поскольку лакедемоняне так именуют быстрый натиск. Так вот имя София и означает захватывание (επαφή) такого порыва, поскольку все сущее как бы несется.
c
Да и имя «добро» (τό αγαθόν) словно бы установлено для того, в чем изумительнее всего (άγασθόν) проявилась природа. Ведь когда все вещи находятся в движении, одно движется быстрее, другое – медленнее; и не все быстрое изумляет, но лишь кое‑что из него, и от такого рода быстроты (τό θοόν) самому изумительному присвоено это имя – «добро».
Что же до «справедливости» (δικαιοσύνη), то легко догадаться, что имя это установлено ведению права (δικαίου σΰνεσις), а вот самое имя «право» понять трудно.
d
Видимо, дело в том, что до некоторого предела почти все единодушны, а вот дальше начинаются разногласия. Те, кто считает, что все находится в пути, полагают также, что большая часть вещей просто движется, а есть еще нечто такое, что проникает все остальное, благодаря чему и возникает все рождающееся. Это нечто есть также самое быстрое и самое тонкое: ведь иначе оно не могло бы проникать сквозь все идущее, не будь оно столь тонким, что его ничто не задерживает, и столь быстрым, что оно распоряжается остальными вещами так, как если бы они стояли на месте.
e
Следовательно, если это проникающее начало (διαϊόν) правит всем остальным, то оно справедливо называется «правом» (δίκαιον), а каппа здесь прибавлена для благозвучия.
413
Так вот до этого предела, до которого и мы сейчас дошли в нашем рассуждении, все соглашаются, что именно это и означает «право». Я же, Гермоген, будучи человеком в этом деле дотошным, разведал хорошенько то, что не подлежит огласке: право есть то же, что и причина (αίτιον), ведь то, что правит возникновением вещей, это же одновременно и их причина, и кто‑то даже сказал, что и Зевс правильно так назван[807]
. Когда же, услыхав это, я тем не менее спокойно переспросил: «Что же, милейший мой, в таком случае есть‑все‑таки право?», то оказалось, что я спрашиваю больше, чем положено, и напоминаю человека, перескакивающего через ров[808]
.
b
Ведь они мне сказали, что я уже достаточно разузнал и услышал, и если они захотят наполнить меня до краев, то каждый начнет говорить свое и более уже согласия между ними не будет. Так, например, один говорит, что право – это Солнце, ведь оно одно, проходя сквозь вещи и спаляя их (διαϊών καί κάων), управляет всем сущим. Когда же я с восторгом сообщил это кому‑то другому, словно узнал нечто прекрасное, тот, услыхав это, поднял меня на смех и спросил, не думаю ли я, что у людей не остается ничего справедливого после захода Солнца.
c
А после того как я стал ему надоедать, выпытывая, что же он в свою очередь скажет, он сказал, что право – это огонь, а постичь это нелегко. Другой сказал, что это не самый огонь, но тепло, заключенное в огне. Третий же поднял их всех на смех и заявил, что право – это ум, как указывает Анаксагор[809]
, ибо ум, независимый и ни с чем не смешанный, все упорядочивает, проникая все вещи. Вот почему, мой друг, я теперь в гораздо большем затруднении, нежели прежде, чем я принялся узнавать, что же такое, собственно, право.
d
Однако то, ради чего мы затеяли это рассмотрение, – имя права, – по‑видимому, присвоено ему по этой причине.
Гермоген.
Мне кажется, Сократ, ты все это уже от кого‑то слышал и не только что пришло тебе это в голову.
Сократ.
А все остальное?
Гермоген.
Нет, разумеется.
Сократ.
Ну ладно, слушай внимательно: ведь может быть, я и в дальнейшем тебя обману – мол, вот я говорю то, чего ни от кого доселе не слышал. Что же нам остается после «справедливости»? Мужества, я думаю, мы еще не затрагивали.
e
Ведь «несправедливость» – имя ясное, и означает оно по существу помеху на пути всепроникающей (διαϊών) справедливости; а вот «мужество» (ανδρεία) имеет такое значение, как если бы это имя дано было в борьбе. По отношению к сущему, коль скоро оно течет, борьба будет значить не что иное, как встречное течение (εναντία ροή). Если отнять дельту у слова «андрэйа» (ανδρεία), то остальное даст имя «анрэйа» (άνρεία), то есть «встречное течение».
414
Ну и ясно также, что мужество есть преграда не всякому течению, а тому, которое сопротивляется справедливости, иначе оно не было бы похвальным. Да и слова «мужественность» (τό άρρεν) и «мужчина» (άνήρ) очень близки чему‑то такому, что мешает неразумному течению вещей (τή αυω ροη). А имя «жена» (γυνή), мне кажется, указывает на роженицу (γονή). Всякая же самка (θήλυ), как мне кажется, получила имя от сосца (θηλή), ну а сосец назван так, Гермоген, за то, что, питая, он заставляет все наливаться и расцветать (τεθηλέναι).
Гермоген.
Как будто бы так, Сократ.
Сократ.
А самое это слово «расцветать» (θάλλειν), мне кажется, означает прирост новых сил, как если бы что‑то быстро, внезапно расцвело.
b
Имя это как бы подражает сочетанию слов «бежать» (θείν) и «прыгать» (αλλεσθαι). Однако не замечаешь ли ты, что я как бы соскальзываю с пути, когда касаюсь более легкого. У нас же осталось много трудных, важных имен.
Гермоген.
Это правда.
Сократ.
Такое слово, например, «искусство» (τέχνη): очень важно узнать, что оно значит.
Гермоген.
Да, это верно.
c
Сократ.
Не значит ли это слово «иметь ум» (έξις νοΰ). Если переставить и изменить некоторые буквы, то и получится «искусство».
Гермоген.
Это уж очень скользко, Сократ.
Сократ.
Милый мой, разве ты не знаешь, что имена, присвоенные первоначально, уже давно погребены под грудой приставленных и отнятых букв усилиями тех, кто, составляя из них трагедийные песнопения, всячески их изменял во имя благозвучия: тому виной требования красоты, а также течение времени. Так, в слове «зеркало» (κάτοπτρον) разве не кажется тебе неуместной вставка этого р?
d
Однако, я думаю, это делают те, кто не помышляет об истине, но стремится лишь издавать звуки, так что, прибавляя все больше букв к первоначальным именам, они под конец добились того, что ни один человек не догадается, что же, собственно, данное имя значит. Так, например, Сфинкса вместо «Финке» (Φίξ) зовут «Сфинкс» (Σφίγγα) и так далее.
Гермоген.
Да, это верно, Сократ.
Сократ.
Так вот, если кто и впредь позволит добавлять и отнимать у имен буквы как кому заблагорассудится, то с еще большим удобством всякое имя можно будет приладить ко всякой вещи.
e
Гермоген.
Это правда.
Сократ.
Конечно, правда. Однако, я думаю, тебе, мудрому наставнику, следует соблюдать меру и приличие.
Гермоген.
Охотно бы соблюдал.
Сократ.
Да и я бы, Гермоген, охотно это вместе с тобою делал. Однако, бесценнейший мой, не требуй слишком строгого рассмотрения, иначе
415
Ты обессилишь меня, потеряю я крепость и храбрость[810]
.
Ведь я подойду к вершине всего того, о чем я говорил, когда вслед за искусством мы рассмотрим всякое ухищрение вообще. Ухищрение (μηχανή), мне кажется, есть знак устремления к большему (ανειν επί πολύ), слово же «величина» (μήκος) близко к слову «много» (πολύ). Так вот, из этих двух слов – «мекос» (μήκος) и «анейн» (ανειν) – и состоит это слово – «ухищрение» (μεχανή). Однако, как я уже здесь говорил, следует подойти к вершине нашего рассуждения: нужно исследовать, что значат имена «добродетель» и «порочность».
b
В первое из них я еще не проник своим взором, второе же мне кажется вполне ясным, так как оно согласуется со всем, что было сказано раньше. Ведь раз вещи движутся, то все, что в этом движении плохо, порочно (κακώς ιόν), и есть порочность (κακία). И когда нашей душе случается неправильно устремиться к вещам, то и это как частный случай носит наименование порочности. А что это значит – «порочно двигаться», мне кажется, ясно выражено и в слове «трусливость» (δελία), которое мы еще не разбирали, как бы перескочив через него,
c
тогда как следовало рассмотреть его после «мужества». Мне кажется, мы перескочили и через многое другое. Так вот «трусливость» означает «чрезмерно крепкие узы души», ведь приблизительно такой смысл заложен в слове «чрезмерно» (λίαν), выражающем некую «мощь». Так что трусливость, вероятно, и есть величайшая, чрезмерная скованность (δεσμός δ λίαν) души, как, скажем, и затруднение, недоумевание (απορία) есть зло, а также, видимо, все, что мешает идти вперед и передвигаться. Так что ясно: «порочно двигаться» выражает сдерживаемое и затрудненное передвижение, и, когда это происходит с душой, та преисполняется порчи. Если же всем этим вещам будет имя «порочность», то противоположное ему, видимо, будет «добродетель».
d
«Добродетель» (αρετή) означает прежде всего а легкое передвижение, а затем и вечно свободное течение, полет доброй души, так что, видимо, «добродетель» получила имя от вечного, неудержимого и беспрепятственного течения и полета. Правильно поэтому было бы называть ее «вечная добродетель» (άειρειτή), а может быть, «избранная» (αιρετή) как наиболее желанное состояние, сокращенно же она зовется «добродетель».
e
Может быть, ты опять скажешь, что все это я сочинил. Но я утверждаю: если сказанное прежде об имени «порочность» правильно, то и это имя – «добродетель» – правильно.
416
Гермоген.
А что такое «зло», которое ты много «в раз упоминал в связи с прежним? В чем значение этого имени?
Сократ.
Клянусь Зевсом, это имя мне кажется странным, и разгадать его трудно. Все же и к нему я применю свое ухищрение.
Гермоген.
Какое?
Сократ.
Да скажу, что и в этом имени есть что‑то варварское.
Гермоген.
И похоже, что ты правильно говоришь. Но раз ты так считаешь, мы это оставим и давай попробуем бросить взгляд на «прекрасное» и «постыдное» (αίσχρόν) – насколько разумно установлены эти имена?
b
Сократ.
Итак, «постыдное» как раз представляется мне вполне ясным, ведь то, что здесь подразумевается, согласуется с прежде сказанным. Учредитель имен, мне думается, порицал то, что препятствует потоку вещей и его сдерживает, и вот тому, что постоянно останавливает этот поток (αεί ΐσχοντι τον ρουν), он определил имя «постоостыдное» (άεισχοροΰν); теперь же сокращенное его название – «постыдное».
Гермоген.
А как обстоит дело с «прекрасным» (καλόν)[811]
?
Сократ.
О, это уразуметь труднее всего. Хотя говорят, что оно отклонилось только в своем звучании и по долготе [звука] о.
Гермоген.
Как это?
Сократ.
Видимо, это слово есть какое‑то наименование (καλών) мысли.
Гермоген.
Что ты имеешь в виду?
c
Сократ.
Скажи, что, по‑твоему, служит причиной наименования каждой вещи? Разве не то, что устанавливает имена?
Гермоген.
Судя по всему, именно это.
Сократ.
Разве нельзя сказать, что это – мысль богов, либо людей, либо и тех и других?
Гермоген.
Да.
Сократ.
Так, значит, то, что именует вещи (τό κα‑λέσαν), и прекрасное – это одно и то же, то есть мысль?
Гермоген.
Очевидно.
Сократ.
А ведь то, что создают ум и мысль, похвально, прекрасно, то же, что исходит не от них, постыдно?
Гермоген.
Разумеется.
d
Сократ.
Так вот, врачебное искусство создает врачебное дело, плотницкое искусство – плотницкое? Или как ты скажешь?
Гермоген.
Я скажу так же.
Сократ.
Значит, прекрасная речь создает прекрасное?
Гермоген.
Должно быть, так.
Сократ.
И то же самое, говорили мы, делает разум?
Гермоген.
Верно.
Сократ.
Значит, верно, что «прекрасное» – это имя разума, так как именно он делает такие вещи, которые мы с радостью так называем.
Гермоген.
Очевидно.
e
Сократ.
В таком случае что еще у нас осталось?
Гермоген.
Имена, связанные с «добрым» и «прекрасным»: «подходящее», «целесообразное», «полезное», «прибыльное», и то, что им противоположно.
417
Сократ.
Во всяком случае, имя «подходящее» (συμφέρον) ты уже и сам сможешь определить исходя из рассмотренного ранее. Ибо оно – как бы брат познания. Ведь оно выражает не что иное, как хождение души подле вещей (συμπεριφέρεσθαι), и результат этого хождения и называется «подходящим», или «удачей» (συμφορά). А вот «корыстное» (κερδάλεον) названо от корысти (κέρδος).
b
Если же ты заменишь дельту в этом слове на ню, станет ясно, что оно значит, поскольку оно другим способом называет доброе и прекрасное. Ведь оно, кроме того, проникает все вещи, смешиваясь с ними (κεράννυται), и установивший это имя подчеркнул эту его способность. Когда же вместо ню вставили дельту, это имя стали произносить как теперь – «кердос» (κέρδος).
Гермоген.
А что ты скажешь о «целесообразном»?
Сократ.
Видимо, Гермоген, «целесообразное» имеет не тот смысл, какой вкладывают в него торговцы, когда хотят возместить расходы, но тот, что оно быстрее всех вещей и не позволяет им стоять на месте.
c
Порыв не прекращается в своем движении и не задерживается именно потому, что целесообразное отвращает от него все то, что может привести его к завершению, и делает его нескончаемым, бессмертным: вот поэтому, мне кажется, и нарекли доброе «целесообразным» (λυσιτε‑λοΰν), – ведь так называется то, что сообразует порыв с целью, ее отдаляя (λύον τό τέλος). А «полезное» (ώφέλιμον) – это имя чужое. Есть слово «офёлейн» (όφέλλειν), которым часто пользовался Гомер, оно значит «приумножать». Так что «полезное» – это наименование увеличения и созидания.
d
Гермоген.
А что же у нас будет противоположно этому?
Сократ.
Имена, содержащие отрицание чего‑либо, мне кажется, нет нужды рассматривать.
Гермоген.
Что именно?
Сократ.
«Неподходящее», «бесполезное», «нецелесообразное» и «неприбыльное».
Гермоген.
Это правда.
Сократ.
Однако нужно рассмотреть «вредное» и «пагубное».
Гермоген.
Да.
e
Сократ.
Так вот, «вредное» (βλαβερόν) означает то, что вредит несущемуся потоку (βλάπτον τον ρουν). А «вредить» означает «желающее схватить» (βουλόμενον απτειν), или, что то же самое, «обвить веревкой», что во всех отношениях вредит. Так что, видно, наиболее точно было бы назвать то, что связывает поток, «вередным», а «вредным», мне представляется, это зовут красоты ради.
Гермоген.
Затейливые имена выходят у тебя, Сократ. Мне сейчас кажется, будто ты выводишь на свирели вступление к священной песне Афины, когда ты выговариваешь это слово «вередное».
418
Сократ.
Так ведь это не я виноват, Гермоген, а те, кто установил эти имена.
Гермоген.
Это правда. Однако что же такое «пагубное»?
Сократ.
Что бы такое могло быть «пагубное»? Смотри, Гермоген, насколько я прав, когда говорю, что добавленные и отнятые буквы сильно изменили смысл имен, так что чуть перевернешь слово, и ему можно придать прямо противоположное значение.
b
Так, например, обстоит со словом «должное», оно пришло мне в голову, и я вспомнил в связи с ним, что собирался тебе сказать. Наше великолепное новое наречие перевернуло вверх ногами значение слов «обязанность» и «пагуба», затемнив их смысл, старое же позволяет видеть, что они оба значат.
Гермоген.
Как это?
Сократ.
Сейчас скажу. Ты знаешь, наши предки довольно часто пользовались йотой и дельтой, да и сейчас женщины ими пользуются не меньше, а ведь они лучше других сохраняют старую речь.
c
А потом вместо йоты начали вставлять эпсилон или эту, а вместо дельты – дзету[812]
, будто бы ради торжественности.
Гермоген.
Как это?
Сократ.
Например, древние называли день «гимера» (ίμέρα), или другие – «гемера» (έμέρα), а теперь его зовут «гэмера» (ήμερα).
Гермоген.
Да, это так.
Сократ.
А знаешь ли ты, что лишь старое имя выражает замысел учредителя? Ибо на радость и усладу людям возникал свет из тьмы, поэтому его и назвали «сладень» (ίμέρα).
d
Гермоген.
Очевидно.
Сократ.
Теперь же у этих трагедийных певцов и не сообразишь, что значит слово «день». Впрочем, некоторые думают, что он так назван от слова «кроткий» (ήμερος), потому что своей мягкостью укрощает все живое.
Гермоген.
Мне это нравится.
Сократ.
Точно так же ты знаешь, что иго (ζυγόν) древние называли «двоиго» (δυογόν).
Гермоген.
Да, да.
Сократ.
Так вот, слово «иго» ничего не выражает; справедливее называть его «двоиго», так как в него впряжены двое, чтобы что‑то двигать. А теперь говорят «иго». Да и со многим другим обстоит так же.
e
Гермоген.
Очевидно.
Сократ.
Поэтому, во‑первых, то, что мы называем словом «обязанность» (τό δέον), означает нечто противоположное всему тому, что относится к добру. И хотя обязанность – это вид добра, все же она представляется как бы уздой и помехой движению, словно одновременно она сестра вредного.
Гермоген.
Во всяком случае, это очень правдоподобно, Сократ.
419
Сократ.
Так нет же, если воспользоваться старым именем. Оно, видимо, более правильно установлено, нежели теперешнее, поскольку согласуется с рассмотренными выше добрыми именами, если вместо эпсилона поставить йоту, как, вероятно, это и было в древности. Ведь такое слово будет значить не «связывающее» (δέον), но «проникающее» (διϊόν), а это – добро, и [присвоитель имени] это хвалит. Таким образом, он не противоречит сам себе, но и «обязанность», и «польза», и «целесообразность», и «выгода», и «добро», и «подходящее», и «доступное» – все представляется одним и тем же, обозначающим упорядочивающее и всепроникающее [начало], лишь приукрашенное разными именами.
b
А то, что удерживает и связывает, он порицает. Так и «губительное» (ζημιωδες): если в согласии с древним наречием поставить вместо дзеты дельту, тебе станет ясно, что это имя – «дземиодес» (ζημιωδες) – присвоено тому, что связывает идущее (δέον το ιόν).
Гермоген.
А что же «удовольствие», «печаль», «вожделение» и тому подобное, Сократ?
Сократ.
Это представляется мне не очень трудным, Гермоген. Ведь то, что называется удовольствием (ηδονή), выражает, видимо, действие, направленное на пользу (δνησις), а дельта здесь вставная, так что это зовется удовольствием вместо «удопольствия» (ήονή).
c
А вот печаль (λύπη) называется так, видимо, оттого, что эта страсть печет наше тело. «Недуг» же (ανία) – это то, что мешает идти (ιέναι). Что касается «болести» (άλγηδών), то, мне кажется, это какое‑то чуждое слово, образованное, видимо, от «болезненного» (άλγεινόν). «Напасть» (οδύνη), видимо, называется так от внезапного нападения (ενδυσις) печали. «Удрученность» вполне ясно означает трудность порыва [движения]. «Восторг» – исторгнутый и легко льющийся поток души.
d
«Наслаждение» (τέρψις) – от «услады» (το τερπνόν). Последняя же названа так, как образ влекущегося (ερψις) сквозь душу веяния (πνοής), и по справедливости должна была бы называться «проникновеянием» (ερπνουν), но со временем превратилась в «наслаждеянье». А вот «блаженство» – нет нужды говорить, почему дано такое имя: вполне ясно, что взято оно от благого шествования души вместе с вещами, и справедливее было бы ему называться «блаженношеством», но тем не менее мы зовем его «блаженством». Нетрудно и слово «вожделение» (επιθυμία), ибо ясно, что оно названо так от какого‑то наваждения, воздействующего на дух (επί τον θυμόν).
e
А «дух» (θυμός), верно, носит это имя от «бушевания» (θύσις) и «кипения» (ζέσις) души. «Влечением» же названа воля к течению, поскольку в своем течении и устремлении к вещам оно и душу с силой увлекает в этот поток, от этой‑то способности оно и называется «влечением». Да вот даже и имя страсти означает, что она направлена не на присутствующий предмет и поток желания, но на отдаленный, «отстраненный», откуда она и называется страстью.
420
Когда присутствует то, на что устремляется страсть, она называется влечением, а страстью – когда это удалено.
b
«Любовь» (έρως), поскольку она словно вливается извне (а не есть внутренний поток для того, кто ею пылает), причем вливается через очи, в древности, верно, называлась «льюбовь» (εσρος), ведь мы тогда пользовались о‑микроном вместо о‑меги. Теперь же она называется «любовь» – после подстановки о‑меги вместо о‑микрон. Однако что еще ты предлагаешь рассмотреть?
Гермоген.
«Представление» (δόξα) и тому подобное. Что ты об этом думаешь?
Сократ.
Итак, представление названо так либо от преследования (διωξις), которое совершает душа, чтобы узнать, каким образом существуют вещи, либо от падения стрелы (τόξον). Похоже, что скорее от последнего.
c
Дело в том, что с этим согласуется и слово «мнение» (οΐησις), ведь это – несение (οίσις) души по направлению к вещи, любой из всего сущего. Также и «воля» (βουλή) некоторым образом означает полет стрелы (βολή), а «соизволение» (τό βούλεσθαι) означает устремление и совет (βουλεύεσθαι). Все это, связанное с представлением, очевидно, являет образ стрельбы, так же как и «безволие» (αβουλία), которое, напротив, представляется несчастьем, как если бы кто‑то не посылал стрел и не достигал своей цели – того, что он хотел, о чем совещался и к чему стремился.
d
Гермоген.
Мне кажется, Сократ, это ты уже глубже захватываешь.
Сократ.
Но ведь виден уже конец. Я хочу напоследок рассмотреть еще «необходимость», так как она следующая в этом ряду, и «добровольное действие», или «охоту». Так вот, «охота» (τό έκούσιον) есть то, что отходит в сторону и уступает идущему. Но я полагаю, имя это выражает уступку тому, что идет и совершается согласно желанию. А вот «необходимое» (άναγκαΐον), противодействуя, направлено, таким образом, против желания и относится, вероятно, к заблуждению и невежеству.
e
Это слово выражает движение через непроходимое ущелье (άγκος), труднодоступное, бугристое и заросшее, задерживающее движение. Отсюда, верно, и название этого движения – «необходимое», намекающее на то, что ущелье это нельзя обойти.
Но пока есть во мне силы, используем их. Однако и ты не отпускай поводья, спрашивай дальше.
421
Гермоген.
Я спрошу у тебя о самом великом и прекрасном – об «истине», о «лжи» и «сущем», а также о том самом, о чем у нас идет сейчас речь, – об «имени» Откуда эти имена?
Сократ.
Так вот, называешь ли ты что‑нибудь словом «поймать» (μαίεσθαι)?
Гермоген.
Называю. Это значит «искать».
Сократ.
Видно, это слово не что иное, как сокращенное выражение, в которое входит слово «имя», означающее то сущее, коего достигает наш поиск. Скорее ты смог бы это понять из выражения «называемое поименно» (τό όνομαστόν): здесь ясно сказано, что сущее – это то, что уже поймано.
b
А что касается «истины» (αλήθεια), похоже, что и это имя составлено из других слов. Очевидно, им назван божественный порыв сущего (θεία τοΰ δντος φορά) – так, как если бы это было божественным наитием (θεία άλη). А вот «ложь» – это имя противоположно порыву. Ведь все, что порицается, обращается вспять и этой задержкой как бы принуждается к покою. Поэтому имя «ложь» (ψεΰδος) выражает лежание спящих (καθεύδοντες), а звук «пси» придан этому слову, чтобы скрыть значение имени. «Сущее» же (τό δν) и «сущность» (ουσία) согласуются с именем «истина»,
c
так как здесь отнята йота, ибо «существующее» означает «шествующее» (ιόν), а «не существующее» «не‑сущее», как выражаются некоторые, означает в свою очередь «не‑шествующее» (ούκ ιόν).
Гермоген.
Мне кажется, Сократ, ты это здорово разобрал. Ну а если кто‑нибудь спросил бы тебя: а «шествующее», «текущее», «обязывающее» – какая правильность у этих имен?
Сократ.
Что бы мы ему ответили, говоришь ты? Так?
Гермоген.
Вот именно.
Сократ.
Так ведь одно мы уже изобрели, позволяющее нам казаться людьми, рассуждающими дельно.
Гермоген.
Что же это такое?
d
Сократ.
А вот: считать чем‑то варварским то, чего мы не знаем. Какие‑то имена, может быть, и правда таковы; но может быть, что причина недоступности смысла первых имен – в их глубочайшей древности: ведь после всевозможных извращений имен не удивительно, что наш древний язык ничем не отличается от нынешнего варварского.
Гермоген.
Твои слова не лишены смысла.
Сократ.
Да ведь я говорю очевидные вещи. Впрочем, мне кажется, дело не терпит отлагательств, и нам нужно обратиться к его рассмотрению. Вдумаемся же: если кто‑то непрестанно будет спрашивать, из каких выражений получилось то или иное имя,
e
а затем начнет так же выпытывать, из чего эти выражения состоят, и не прекратит этого занятия, разве не появится в конце концов необходимость отказать ему в ответе?
Гермоген.
Я допускаю это.
422
Сократ.
Так когда же отвечающий вправе будет это сделать? Не тогда ли, когда дойдет до имен, которые уже выступают как бы в качестве первоначал[813]
, из которых состоят другие имена и слова? Ведь мы не вправе подозревать, что и они состоят из других имен, если они действительно простейшие. Например, мы говорили, что имя «добро» состоит из «достойного удивления» и «быстрого». Так вот мы могли бы сказать, что «быстрое» состоит из других слов, те же – из третьих.
b
Но если мы возьмем слово, которое не состоит ни из каких других слов, то мы вправе будем сказать, что подошли здесь к простейшей частице, которую уже не следует возводить к другим именам.
Гермоген.
Мне кажется, ты говоришь верно.
Сократ.
Значит, и те имена, о которых ты спрашиваешь, могут оказаться простейшими, и нужно уже другим каким‑то способом рассматривать, в чем состоит их правильность?
Гермоген.
Похоже, что так.
Сократ.
Конечно, похоже, Гермоген. Ведь все слова, о которых мы уже говорили, видимо, восходят как раз к таким именам.
c
Если это правильно, – а мне кажется, что это так, – посмотри тогда вместе со мной, не вздор ли я несу, рассуждая о том, какова правильность первых имен?
Гермоген.
Ты только говори, а я уж буду следить за рассуждением вместе с тобой, насколько я в силах.
Сократ.
Ну с тем, что у всякого имени, и у первого, и у позднейшего, правильность одна и та же и ни одно из них не лучше другого как имя, думаю я, и ты согласен?
Гермоген.
Разумеется.
d
Сократ.
Далее, у тех имен, которые мы рассматривали, правильность была чем‑то таким, что указывало на качества каждой вещи?
Гермоген.
А как же иначе?
Сократ.
Значит, это в равной степени должны делать и первые, и позднейшие имена, коль скоро они суть имена.
Гермоген.
Верно.
Сократ.
Но позднейшие, видно, были способны выражать это через посредство первых.
Гермоген.
Видимо.
Сократ.
Хорошо. А вот те, первые, которые не заключают в себе никаких других, каким образом смогут они сделать вещи для нас предельно очевидными, если только они действительно имена?
e
Ответь мне вот что: если бы у нас не было ни голоса, ни языка, а мы захотели бы объяснить другим окружающие предметы, не стали бы мы разве обозначать все с помощью рук, головы и вообще всего тела, как делают это немые?
Гермоген.
Другого способа я не вижу, Сократ.
423
Сократ.
Я думаю, если бы мы захотели обозначить что‑то вышнее и легкое, мы подняли бы руку к небу, подражая природе этой вещи, если же что‑то низкое и тяжелое, то опустили бы руку к земле. Точно так же, если бы мы захотели изобразить бегущего коня или какое‑нибудь другое животное, ты ведь знаешь, мы бы всем своим телом и его положением постарались походить на них.
Гермоген.
Безусловно, это должно быть так.
b
Сократ.
Таким образом, выражение чего‑либо с помощью тела – это подражание[814]
тому, что выражает тело, которому подражаешь.
Гермоген.
Да.
Сократ.
Когда ж мы хотим выразить что‑то голосом, языком и ртом, получается ли у нас выражение каждой вещи с помощью этих членов тела, раз мы с их помощью подражаем чему бы то ни было?
Гермоген.
Непременно, как мне кажется.
Сократ.
В таком случае имя, видимо, есть подражание с помощью голоса тому, чему подражают, и имя тому, чему подражают, дается при помощи голоса.
Гермоген.
Мне кажется, так.
c
Сократ.
Клянусь Зевсом, а вот мне не кажется, что я хорошо сказал это, друг.
Гермоген.
Почему?
Сократ.
Нам пришлось бы тогда признать, что те, кто подражает овцам, петухам и другим животным, дают им имена тем самым, что им подражают?
Гермоген.
Это верно.
Сократ.
И тебе кажется, здесь все в порядке?
Гермоген.
Да нет, по правде сказать. Однако, Сократ, какое подражание было бы именем?
Сократ.
Ну прежде всего, мне кажется, не такое, какое бывает тогда, когда мы подражаем вещам музыкой, хотя и тогда мы подражаем с помощью голоса;
d
далее, и не такое, какое бывает, когда мы подражаем тому же в вещах, чему подражает музыка, мне не кажется, что тогда мы даем имя. А утверждаю я вот что: у каждой вещи есть звучание, очертания, а у многих и цвет?
Гермоген.
Разумеется.
Сократ.
Искусство наименования, видимо, связано не с таким подражанием, когда кто‑то подражает подобным свойствам вещей. Это дело, с одной стороны, музыки, а с. другой – живописи. Не так ли?
Гермоген.
Да.
e
Сократ.
А подражание, о котором мы говорим, что собой представляет? Не кажется ли тебе, что у каждой вещи есть еще и сущность, как есть цвет и все то, о чем мы здесь говорили? Во‑первых, у самого цвета или звука нет разве какой‑то сущности? Да и у всего другого, что только заслуживает наименования бытия?
Гермоген.
Я полагаю.
Сократ.
Так что же? Если кто‑то мог бы посредством букв и слогов подражать в каждой вещи именно этому, сущности, разве не смог бы он выразить каждую вещь, которая существует? Или это не так?
424
Гермоген.
Разумеется, так.
Сократ.
А как бы ты назвал того, кто способен это делать, если тех ты только что назвал: одного – музыкантом, другого – живописцем? Как же мы назовем этого?
Гермоген.
Мне кажется, Сократ, тот, кого мы давно уже ищем, будет мастер давать имена.
Сократ.
Если это верно, то теперь уже следует рассмотреть те имена, о которых ты спрашивал, – «течение», «шествие», «владение»: схватывает ли мастер с помощью букв и слогов сущность вещей, чтобы ей подражать, или же нет.
b
Гермоген.
Да, это верно.
Сократ.
Тогда давай посмотрим, только ли это – первые имена, или есть еще много других?
Гермоген.
Думаю, есть и другие.
Сократ.
Видимо. Однако какой бы нам найти способ различения того, где именно начинает подражать подражающий? Коль скоро это будет подражанием сущему посредством слогов и букв[815]
, то не правильнее ли всего начать с различения простейших частиц,
c
как это делают те, кто приступает к определению стихотворного размера: сначала они различают значение звуков, затем слогов и только после этого начинают рассматривать размер, ведь верно?
Гермоген.
Да.
Сократ.
Не так ли и нам нужно сначала различать гласные, а затем в соответствии с их видами остальные – безгласные и беззвучные (ибо знатоки называют их так) и, наконец, те, которые не назовешь ни беззвучными, ни безгласными. Надо также посмотреть, сколько есть различных между собой видов гласных.
d
И когда мы все это различим как следует, тогда опять нужно будет возвратиться к сущностям и их именам и посмотреть, нет ли таких имен, к которым бы все сводились как к составным частям и из которых можно было бы видеть, что они означают, а также не различаются ли эти имена по видам подобно простейшим частицам. Хорошенько все это рассмотрев, нужно уметь найти для каждой [вещи] наиболее соответствующее ей [имя]: либо одно слово связать с одной вещью, либо отнести к этой вещи смесь из многих слов.
e
Как живописцы, желая что‑нибудь изобразить, иногда берут только пурпур, а иногда и другие краски на выбор, а бывает и так, что смешивают многие краски между собой, например когда пишут человеческое лицо или что‑нибудь в этом роде, так, по‑моему, и всякое изображение требует своих средств. И мы будем примерять звуки к вещам – то один к одной вещи, какого та потребует, то многие вместе, образуя то, что называют слогами,
425
а затем соединять слоги, из которых уже будут состоять слова и выражения. Далее из слов и выражений мы составим некое большое, прекрасное целое наподобие живописного изображения, а затем и все рассуждение – по законам искусства присвоения имен, красноречия или как бы его ни звать. Скорее же не мы – это я просто увлекся: так составили имена еще древние, и в таком виде они и посейчас остаются; если же мы сумеем рассмотреть все эти имена со знанием дела и установить,
b
существует ли способ, по которому присвоены и первые имена, и позднейшие, или такого способа нет, наша задача будет выполнена. В противном случае, как бы наш разговор не пропал впустую и не отклонился бы в сторону, милый мой Гермоген.
Гермоген.
Клянусь Зевсом, Сократ, это может случиться.
Сократ.
Так что же? Ты уверен в себе, что ты можешь все это именно так разобрать? Я, например, нет.
Гермоген.
Так ведь и мне далеко до этого.
Сократ.
Тогда оставим это. Или, хочешь, рассмотрим это хотя бы так, как сможем, и если окажемся способными обозреть хоть немногое, то давай возьмемся за это, сказав себе заранее,
c
как немного раньше сказали богам, что, не зная о них ничего истинного, мы прилагаем к ним человеческие мерки: скажем себе, что если есть хоть малая польза в том, чтобы мы или кто‑то другой это исследовал, то это, пожалуй, следует сделать. Теперь же, как говорится, мы должны будем по мере сил потрудиться на этом поприще. Ты согласен или нет?
Гермоген.
Я полностью с тобою согласен.
d
Сократ.
Смешным, я думаю, должно казаться, Гермоген, что из подражания посредством букв и слогов вещи станут для нас совершенно ясными. Однако это неизбежно, ибо у нас нет ничего лучшего, к чему мы могли бы прибегнуть для уяснения правильности первых имен, если, конечно, ты не хочешь, чтобы мы, как это делают трагические поэты в затруднительных случаях, прибегли к специальным приспособлениям, с помощью которых они поднимают наверх богов[816]
; ты ведь не хочешь, чтобы и мы так же отделались от нашего предмета, сказав, что первые имена установили боги и потому они правильны?
e
Или и для нас это лучший выход? А может быть, нам сказать, что они взяты у каких‑нибудь варваров, а варвары нас древнее? Или что за древностью лет эти имена так же невозможно рассмотреть, как и варварские?
426
Ведь все это были бы увертки, и довольно изящные, для того, кто не хочет рассуждать о первых именах и допытываться, насколько правильно они установлены. А между тем, если он почему бы то ни было не знает правильности первых имен, он не сможет узнать и позднейшие, ибо по необходимости они выражаются через те самые первые, о которых он ничего не знает.
b
А ведь тот, кто заявляет, будто он сведущ в именах, должен уметь особенно ясно показать свое искусство на первых именах или же хорошенько запомнить, что и о позднейших он болтает вздор. Или ты так не думаешь?
Гермоген.
Нет, Сократ, именно так.
Сократ.
Но все‑таки то, что я почувствовал в первых именах, кажется мне заносчивым и смешным. С тобой я, конечно, этим поделюсь, коли хочешь. Если же ты можешь где‑то найти лучший ответ, постарайся и ты поделиться со мной.
Гермоген.
Так я и сделаю. Но говори смелей.
c
Сократ.
Итак, прежде всего ро представляется мне средством [выразить] всякое движение[817]
. Кстати, мы не говорили, откуда это имя – «движение» (κίνησις). Однако ясно, что слово это то же самое, что и «хождение» (ΐεσις), так как в древности мы употребляли не эту (η), а эпсилон. Начало же его – от слова κ'ιειν: имя это чужое, а значит оно то же самое, что и слово «идти». Так что если бы кто‑нибудь нашел древнее название движения, соответствующее нашему языку, то правильнее он назвал бы его «идение». Теперь же от иноземного слова после подстановки эты на место эпсилона и вставки ню оно называется «движением» (κίνησις), хотя его следовало бы называть «двигидение» (κιείνησις).
d
А слово «стояние» (στάσις) означает отсутствие движения (άπόφασις του ίέναι) и называется «стоянием» для красоты. Так вот этот звук ро, как я говорю, показался присвоителю имен прекрасным средством выражения движения, порыва, и он много раз использовал его с этой целью. Прежде всего сами имена «река» – от слова ρείν (течь) – и «стремнина» (ροή) подражают порыву благодаря этому звуку ро;
e
затем слова «трепет» (τρόμος), «обрывистый» (τραχύς), а еще такие глаголы, как «ударять» (κρούειν), «крушить» (τραύειν), «рвать» (έρείκειν), «рыть» (θρύπτειν), «дробить» (κερματίζειν), «вертеть» (ρύμβειν) – все они очень выразительны благодаря ро. Я думаю, законодатель видел, что во время произнесения этого звука язык совсем не остается в покое и сильнейшим образом сотрясается. Поэтому, мне кажется, он и воспользовался им для выражения соответствующего действия. А йотой он воспользовался для выражения всего тонкого, что могло бы проходить через вещи.
427
Поэтому «идти» (ίέναι) и «ринуться» (ΐεσθαι) он изобразил с помощью йоты. Так же с помощью звуков пси, сигмы и дзеты (это как бы «дышащие» звуки) он, давая вещам названия, подражал сходным их свойствам. Например, так он обозначил «студеное» (ψυχρόν), «шипучее» (ζέον), «тряску» (το σείεσθαι) и вообще всякое сотрясение. И когда, давая имена, он подражал чему‑либо вспенившемуся, то всюду, как правило, вносил эти звуки.
b
В свою очередь сжатие языка при произнесении дельты и упор при произнесении тау полезно, кажется, применить для выражения скованности уздою и стояния. А так как при произнесении ламбды язык очень сильно скользит, опускаясь вниз, то, пользуясь уподоблением, он так дал имена «гладкому» (λεία), «скользящему», (ολισθηρός), «лоснящемуся» (λιπαρόν), «смолистому» (κολλώδες) и прочим подобным вещам. Скольжению же языка на звуке ламбда, когда он подражает «клейкому» (γλισχρόν), «сладкому» (γλυκύ) и «липкому» (γλοιώδες), препятствует сила звука гамма.
c
Почувствовав внутренний отзвук голоса при звуке ню, он, как бы отражая это в звуках, дал имена «внутреннее» (ένδον) и «потаенное» (εντός). В свою очередь альфу присвоил «громадному» (μέγας), эту (η) – «величине» (μήκος), поскольку это долгие звуки. А для выражения «округлого» ему необходим был о‑микрон, его‑то он и вставлял по большей части в подобные имена. Так же, я думаю, и во всем остальном: он подбирал по буквам и слогам знак для каждой вещи и таким образом создавал имена. А последующие имена он составлял уже из этих, действуя подобным же образом.
d
Вот какова, мне кажется, Гермоген, должна быть правильность имен, если только Кратил чего‑нибудь не возразит.
Гермоген.
Много же забот, Сократ, доставил мне Кратил! Да ведь я тебе с самого начала об этом толковал. Он говорил, что существует некая правильность имен, хотя на вопрос, какова она, не отвечал ничего определенного, так что нельзя разобрать, с умыслом или нет он каждый раз затемняет дело.
e
Так вот, скажи же мне в присутствии Сократа, Кратил, доволен ли ты тем, что говорит Сократ об именах, или ты можешь сказать лучше? Если можешь, скажи, чтобы тебе либо у Сократа поучиться, либо научить нас обоих.
Кратил.
Как, Гермоген? Тебе кажется, что это легко – столь быстро выучиться или научить какому‑либо делу, вплоть до такого, которое относится уже к величайшим?
428
Гермоген.
Клянусь Зевсом, мне‑то не кажется. Но по‑моему, прекрасно сказано у Гесиода, что если к малому приложить даже малое, и то дело продвинется вперед[818]
. Так что хоть малую толику ты можешь добавить: не сочти это за труд и окажи милость нашему Сократу, а по справедливости – и мне.
Сократ.
Да к тому же, Кратил, заметь, я ведь ни на чем не настаиваю из того, что говорил. Просто я рассмотрел с Гермогеном вместе, как мне все это представлялось, так что говори смело, если знаешь что‑то лучшее, ведь я приму это с охотой.
b
Еще бы, я и не удивился бы, если бы ты умел лучше сказать об этом. Ведь мне сдается, ты и сам над этим размышлял, и учился у других. Так что если ты скажешь что‑то лучшее, запиши и меня одним из своих учеников в науке о правильности имен.
Кратил.
Конечно, Сократ, занимайся я этим на самом деле, как ты говоришь, я может быть и сделал бы тебя своим учеником.
c
Боюсь все же, как бы не получилось наоборот, потому что мне пришло в голову применить к тебе слова Ахилла, которые он произносит в «Мольбах», обращаясь к Аяксу. Говорит же он вот что: Сын Теламонов, Аякс благородный, властитель народа!
Все ты, я чувствую сам, говорил по душе мне[819]
.
Так и мне, Сократ, будто прямо в душу запали твои прорицания: то ли ты вдохновлн Евтифроном, то ли в тебе давно уже таилась еще какая‑то муза.
d
Сократ.
. Добрый мой Кратил, я и сам давно дивлюсь своей мудрости и не доверяю ей. Видимо, мне еще самому нужно разобраться в том, что я, собственно, говорю. Ибо тяжелее всего быть обманутым самим собой. Ведь тогда обманщик неотступно следует за тобой и всегда находится рядом, разве это не ужасно? И потому, видно, нам следует чаще оглядываться на сказанное и пытаться, по словам того же поэта, «смотреть одновременно и вперед и назад»[820]
. Вот и теперь давай посмотрим, что у нас уже сказано.
e
Правильность имени, говорили мы, состоит в том, что оно указывает, какова вещь. Будем считать, что этого достаточно?
Кратил.
Мне кажется, вполне, Сократ.
Сократ.
Итак, имена даются ради обучения?
Кратил.
Разумеется.
Сократ.
Так не сказать ли нам, что это – искусство и что существуют люди, владеющие им?
Кратил.
Это верно.
Сократ.
Кто же они?
429
Кратил.
А вот те, о ком ты говорил вначале, учредители [имен].
Сократ.
А не скажем ли мы в таком случае, что это искусство бытует среди людей таким же образом, как все остальные? Я хочу сказать вот что: случается, что одни живописцы – хуже, другие – лучше?
Кратил.
Разумеется.
Сократ.
И одни из них создают лучшие живописные произведения, а другие – худшие? И домостроители так же: одни строят дома лучше, другие – хуже?
Кратил.
Да.
b
Сократ.
Следовательно, так же и законодатели: ь у одних то, что они делают, получается лучше, у других – хуже?
Кратил.
Я этого пока не нахожу.
Сократ.
Значит, ты не находишь, что одни законы бывают лучше, другие – хуже?
Кратил.
Конечно, нет.
Сократ.
Тогда, видимо, и имена ты не находишь одни худшими, другие – лучшими?
Кратил.
Нет, конечно.
Сократ.
Выходит, что все имена установлены правильно?
Кратил.
По крайней мере те, что действительно суть имена.
c
Сократ.
Что же, дело обстоит так, как мы говорили об этом раньше: вот Гермогену его имя либо совсем не принадлежит – если происхождение от Гермеса не имеет к нему отношения, – либо, хотя оно ему и присвоено, присвоено неверно?
Кратил.
Мне кажется, оно не принадлежит ему, Сократ, а только кажется принадлежащим; принадлежит же оно другому человеку, чья природа соответствует его имени.
Сократ.
Так не лжет ли тот, кто называет его Гермогеном? Или же вообще невозможно сказать, что он Гермоген, если он не Гермоген?
Кратил.
Почему?
d
Сократ.
Разве твое утверждение не означает, что вообще невозможно произнести ложь? А ведь многие именно это и утверждают, друг мой Кратил, – и теперь, и утверждали прежде.
Кратил.
Как же можно, Сократ, говоря о чем‑то, говорить о том, что не существует? Или это не значит произносить ложь – говорить о вещах несуществующих?
e
Сократ.
Это слишком хитро сказано, дружище, для меня и моих лет. Но скажи мне вот что: по‑твоему, утверждать что‑либо ложное нельзя, а произнести вслух – можно?
Кратил.
Нет, мне кажется, и произнести вслух нельзя также.
Сократ.
Ни сказать и ни обратиться? Например, если кто‑нибудь встретил бы тебя на чужбине и, взяв за руку, сказал: «Здравствуй, гость афинский, сын Смикриона[821]
, Гермоген!», то утверждал ли бы он это, или так просто высказался, или произнес в качестве обращения, относилось бы это к тебе или вот к этому Гермогену? Или вообще ни к кому?
Кратил.
Мне кажется, Сократ, что он вообще напрасно издавал бы все эти звуки.
430
Сократ.
Заманчиво и это суждение. А все же истинные звуки он издавал бы или ложные? Или часть их была бы истинной, а часть ложной? Ведь и этим бы я удовольствовался.
Кратил.
Я бы сказал, что это пустой звук. Напрасный труд ему себя тревожить, все равно как впустую размахивать кулаками.
Сократ.
Ну хорошо. Давай чуть‑чуть отвлечемся, Кратил. Может быть, ты согласишься, что одно дело – имя, а другое – кому оно принадлежит?
Кратил.
Ну положим.
Сократ.
А согласен ли ты, что имя есть некое подражание вещи?
b
Кратил.
В высшей степени.
Сократ.
Не полагаешь ли ты, что и живописные изображения – это подражания каким‑то вещам, но подражания, выполненные неким иным способом?
Кратил.
Да.
Сократ.
Ну хорошо… Может быть, я чего‑то не улавливаю в твоих словах, и, скорее всего, ты говоришь правильно. Скажи, можно ли различать эти изображения в их отношении к вещам, подражания которым они собой представляют, или же нет?
c
Кратил.
Можно.
Сократ.
Итак, во‑первых, смотри, может ли кто‑то отнести изображение мужчины к мужчине, а изображение женщины – к женщине и остальное таким же образом?
Кратил.
Разумеется.
Сократ.
А наоборот – изображение мужчины отнести к женщине, а изображение женщины – к мужчине?
Кратил.
Может случиться и так.
Сократ.
И оба этих распределения будут правильными? Или только одно из двух?
Кратил.
Только одно.
Сократ.
Я думаю, только то, которое отнесет к каждой вещи то, что ей подобает и на нее похоже?
Кратил.
Мне кажется, так.
d
Сократ.
Тогда, чтобы нам, друзьям, не препираться из‑за слов, прими то, что я говорю. Ведь в обоих случаях подражания, дружище, – и с помощью живописных изображений, и с помощью наименования – я назову правильным только такое вот распределение, а в случае с именами я назову его, кроме того, еще истинным; другое же, которое соотносит и сопоставляет с вещами то, что на них непохоже, я назову неправильным и вдобавок ложным, когда это касается имен.
Кратил.
А ты не боишься, Сократ, что если в живописи это и возможно – неправильно распределять изображения, то в именах – никак, но распределение здесь всегда непременно должно быть правильным?
e
Сократ.
Ну как ты можешь так говорить! Какая же здесь разница? Разве нельзя подойти к мужчине и со словами: «Вот твое изображение» – показать ему что придется: либо его изображение, либо жены? Показать – я имею в виду заставить его воспринять это зрительно.
Кратил.
Разумеется, можно.
Сократ.
А подойти к нему же и сказать: «Вот твое имя»? Ведь имя тоже в некотором роде есть подражание, как и картина. Так вот, сказать ему: «Это – твое имя»,
431
а затем заставить его воспринять на слух что придется: либо имя, подражающее ему, говоря при этом, что он мужчина, либо имя какой‑либо смертной жены, говоря, что он – женщина. Не кажется ли тебе, что это возможно и случается иногда?
Кратил.
Мне хотелось бы согласиться с тобой, Сократ. Пусть будет так.
Сократ.
Вот и прекрасно, друг мой, если это и вправду так. Ведь не следует нам уж очень из‑за этого спорить. Так что если существует какое‑то распределение и здесь, то один вид его нам нужно назвать истинным, другой же – ложным.
b
Далее, если это так и можно распределять имена неверно, относя к вещам не то, что им подобает, но иногда и то, что им не подходит, то таким же образом можно составлять и выражения. Если же можно так устанавливать выражения и имена, то непременно можно и целые высказывания. Ведь высказывание, я думаю, так или иначе из них состоит. Или не так, Кратил?
c
Кратил.
Так. Мне кажется, ты говоришь прекрасно.
Сократ.
Если мы еще раз уподобим первые имена картинам, то скажем, что, как в живописи, в них можно воплотить все подобающие цвета и очертания, а иной раз и не все – некоторые можно опустить, некоторые добавить в большей или в меньшей мере. Или так сделать нельзя?
Кратил.
Можно.
Сократ.
В таком случае тот, кто воссоздает все прекрасные черты, воссоздает и облик предмета, а тот, кто некоторые черты добавляет или отнимает, хотя и отразит облик предмета, но сделает это худо.
d
Кратил.
Да.
Сократ.
Ну а тот, кто подражает сущности вещей с помощью слогов и букв? С таким же успехом и он, если отразит все подобающие черты, получит прекрасное изображение, которое и будет именем; если же он какие‑то черты опустит, а иной раз и добавит, то, хотя и получится какое‑то изображение, оно не будет прекрасным! Так что и среди имен одни будут хорошо сделаны, а другие – худо?
Кратил.
Возможно.
e
Сократ.
Значит, возможно, что один мастер имен будет хорошим, другой же – плохим?
Кратил.
Да.
Сократ.
Но ведь мы назвали его «законодателем»?
Кратил.
Да.
Сократ.
Значит, возможно, клянусь Зевсом, чтобы, как и в других искусствах, один законодатель был хорошим, другой же – худым, коль скоро ты согласен с прежним моим утверждением.
Кратил.
Да, это так. Но взгляни и ты, Сократ, когда мы эти буквы – альфу, бету и любую другую – присваиваем именам по всем правилам грамматики, то, если мы что‑то отнимем или добавим, или переставим,
432
ведь нельзя будет сказать, что имя написано, хоть и неправильно: ведь оно вообще не будет написано и тотчас станет другим именем, если претерпит что‑либо подобное.
Сократ.
Ты не боишься, Кратил, что из такого рассмотрения у нас не выйдет ничего хорошего?
Кратил.
Почему это?
Сократ.
Может быть, с теми вещами, которые существуют или не существуют в зависимости от того или иного количества, дело так и обстоит, как ты говоришь: скажем, если к десяти или любому другому числу что‑то прибавить или отнять, тотчас получится другое число.
b
Но у изображения чего‑то определенного и вообще у всякого изображения совсем не такая правильность, но, напротив, вовсе не нужно воссоздавать все черты, присущие предмету, чтобы получить образ[822]
. Смотри же, так ли я рассуждаю? Будут ли это две разные вещи – Кратил и изображение Кратила, если кто‑либо из богов воспроизведет не только цвет и очертания твоего тела, как это делают живописцы, но и все, что внутри, –
c
воссоздаст мягкость и теплоту, движения, твою душу и разум – одним словом, сделает все, как у тебя, и поставит это произведение рядом с тобой, будет ли это Кратил и изображение Кратила, или это будут два Кратила?
Кратил.
Два Кратила, Сократ. Мне по крайней мере так кажется.
Сократ.
Так что видишь, друг мой, нужно искать какой‑то иной правильности изображений и того, о чем мы здесь говорим, и не следует настаивать на том, что если чего‑то недостает или что‑то есть в избытке, то это уже не изображение.
d
Или ты не чувствуешь, сколького недостает изображениям, чтобы стать тождественными тому, что они воплощают?
Кратил.
Нет, я чувствую.
Сократ.
Да ведь смешные вещи, Кратил, творились бы с именами и вещами, которым принадлежат эти имена, если бы они были во всем друг другу тождественны. Тогда все бы словно раздвоилось, и никто не мог бы сказать, где он сам, а где его имя.
Кратил.
Это правда.
Сократ.
Поэтому смелее допусти, благородный друг, что одно имя присвоено хорошо, другое же – нет.
e
И не настаивай на том, что имя должно иметь лишь такие звуки, какие делали бы его полностью тождественным вещи, которой оно присвоено. Допусти, что и какая‑то неподходящая буква может тут быть добавлена. А если может быть добавлена буква, то и имя в высказывании, если же имя, то и не подобающее вещам выражение может встретиться в речи,
433
но от этого ничуть не хуже можно называть вещи и рассуждать о них, пока сохраняется основной облик вещи, о которой идет речь, как, скажем, в названиях букв: ты, может быть, помнишь, что именно мы с Гермогеном уже говорили здесь по этому поводу.
Кратил.
Я хорошо это помню.
Сократ.
Вот и отлично. Пока сохраняется этот основной вид, пусть отражены и не все подобающие черты, все равно можно вести речь о данной вещи. Если отражены все подобающие черты – прекрасно, если же малая часть их – то плохо. Так бросим, милый мой, этот разговор, чтобы нас не обвинили в том, что мы,
b
подобно эгинетам, поздней ночью обходящим дорогу[823]
, и в самом деле вышли в путь позднее, чем следовало. Или уж поищи тогда какой‑нибудь другой правильности и не соглашайся, что имя есть выражение вещи с помощью букв и слогов. Ведь если ты признаешь и то и другое, то окажешься не в ладу с самим собой.
Кратил.
Мне кажется, Сократ, ты говоришь ладно. Я с тобою во всем согласен.
Сократ.
Ну раз мы оба так думаем, давай теперь рассмотрим вот что: если, скажем, имя установлено хорошо, то должно оно содержать подобающие буквы?
c
Кратил.
Да.
Сократ.
А подобают ему буквы, что подобны вещам?
Кратил.
Разумеется.
Сократ.
Следовательно, так присваивается хорошо составленное имя. Если же какое‑то имя присвоено плохо, то, верно, в большей своей части оно будет состоять из подобающих букв – подобных вещи, – раз оно все‑таки останется изображением, но при этом оно будет иметь и неподобающие буквы, из‑за чего мы скажем, что это неправильное имя и присвоено худо. Так или нет?
Кратил.
Я думаю, нам с тобой не стоит сражаться, Сократ, хотя мне не нравится называть что‑либо именем, но говорить при этом, что оно плохо присвоено.
d
Сократ.
А может быть, тебе вообще не нравится, что имя есть выражение вещи?
Кратил.
Да, если говорить обо мне.
Сократ.
Но то, что одни имена составлены из более ранних, другие же – самые первые, это, по‑твоему, хорошо сказано?
Кратил.
По‑моему, да.
Сократ.
Однако, если первые имена должны быть выражением чего‑либо, знаешь ли ты иной, лучший способ создать эти выражения, нежели сделать их возможно более тождественными тому, что они должны выразить?
e
Или тебе больше нравится вот этот способ – о нем говорит Гермоген и многие другие, – что‑де имена – это результат договора и для договорившихся они выражают заранее известные им вещи, и в этом‑то и состоит правильность имен – в договоре, – и безразлично, договорится ли кто‑то называть вещи так, как это было до сих пор, или наоборот: например, то, что теперь называется малым, он договорится звать великим, а что теперь великим – малым. Так который из способов нравится тебе больше?
434
Кратил.
Ну, это совсем разные вещи, Сократ, – выражать что‑то с помощью подобия или как попало.
Сократ.
Ты говоришь отлично. В таком случае если имя будет подобно вещи, то по природе необходимо, чтобы и буквы, из которых составлены первые имена, были подобны вещам. Разве не так? Я утверждаю, что никто не смог бы сделать то, что мы теперь называем рисунком, подобным какой‑либо из сущих вещей,
b
если бы от природы не существовало средств, из которых складывается живописное изображение, подобных тем вещам, каким подражает живопись. Или это возможно?
Кратил.
Нет, невозможно.
Сократ.
В таком случае и имена так же точно не могли бы стать чему‑то подобными, если бы не существовало начал, содержащих какую‑то исконную правильность, из которых составляются имена для тех вещей, которым они подражают. А эти начала, из которых нужно составлять имена, ведь не что иное, как звуки?
Кратил.
Да.
c
Сократ.
Теперь и ты признал то, что еще раньше признал Гермоген. Скажи, хорошо ли, по‑твоему, говорить, что буква ро соответствует порыву, движению и в то же время твердости? Или нехорошо?
Кратил.
По‑моему, хорошо.
Сократ.
А ламбда – гладкости, податливости, ну и всему тому, о чем мы говорили?
Кратил.
Да.
Сократ.
А знаешь ли ты, что мы произносим «склеротэс» (σκληρότης), а эретрийцы говорят «склеротэр» (σκληροτήρ)[824]
?
Кратил.
Верно.
Сократ.
Значит, ро и сигма похожи друг на друга? И это слово выражает одно и то же для них, оканчиваясь на ро, и для нас, оканчиваясь на сигму? Или для кого‑то из нас оно этого не выражает?
d
Кратил.
Но ведь оно выражает одно и то же для тех и других.
Сократ.
Потому ли, что ро и сигма в чем‑то подобны, или потому, что нет?
Кратил.
Потому что в чем‑то подобны.
Сократ.
Может быть, в таком случае они подобны во всех отношениях?
Кратил.
Вероятно, когда нужно выразить порыв.
Сократ.
А вставленная ламбда? Разве она не выражает того, что противоположно твердости?
Кратил.
Но ведь может быть, что она вставлена неправильно, Сократ, как это оказывалось недавно в тех случаях, когда ты объяснял какие‑то слова Гермогену, отнимая и добавляя буквы где следует: мне казалось, что ты делаешь это правильно. Так же и теперь, вероятно, вместо ламбды нужно говорить ро.
e
Сократ.
Прекрасно. Так что же? Из того, что мы здесь сказали, получается, что мы не поймем друг друга, если кто‑то скажет «склерон» (σκληρόν)? И ты тоже не понимаешь, что я сейчас говорю?
Кратил.
Ну я‑то понимаю уж но привычке, добрейший мой.
Сократ.
Вот ты говоришь «по привычке»: ты понимаешь под этим нечто отличное от договора? Или ты называешь привычкой что‑то иное, не то, что я, то есть не то, что, произнося какое‑то слово, я подразумеваю нечто определенное, ты же из моих слов узнаёшь, что я подразумеваю именно это? Не так ли?
435
Кратил.
Так.
Сократ.
И если ты узнаёшь это тогда, когда я произношу какое‑то слово, то можно сказать, что я как бы сообщаю тебе что‑то?
Кратил.
Да.
Сократ.
А я вдруг, подразумевая что‑то, стану произносить непохожие на это звуки, – коль скоро ламбда не похожа на то, что ты назвал «склеротэс» (σκληρότης). Если же это так, то ты сделал не что иное, как договорился с самим собой, и правильность имен для тебя оказывается договором, коль скоро выражать вещи могут и подобные и неподобные буквы, случайные, по привычке и договору.
b
А если под привычкой ты подразумеваешь вовсе не договор, то суди сам. хорошо ли говорить, что выражение состоит в подобии, а не в привычке? Ведь по привычке, видимо, можно выражать вещи как с помощью подобного, так и с помощью неподобного. Если же мы в этом согласимся, Кратил, – а твое молчание я принимаю за согласие, – нам необходимо договор и привычку как‑то соотнести с выражением того, что мы подразумеваем, когда произносим слова. Затем, милейший мой. если тебе угодно обратиться к числу, откуда, думаешь ты, взяты имена, подобающие каждому из чисел, если ты не допустишь, что условие и договор имеют значение для правильности имен?
c
Мне и самому нравится, чтобы имена по возможности были подобны вещам, но, чтобы уж и впрямь не было слишком скользким, как говорит Гермоген, это притягивание подобия, необходимо воспользоваться и этим досадным способом – договором – ради правильности имен. Мы, верно, тогда говорили бы лучшим из всевозможных способов, когда либо все, либо как можно большее число имен были подобными, то есть подходящими, и хуже всего говорили бы, если бы дело обстояло наоборот.
d
Но вот что скажи мне: какое значение имеют для нас имена и что хорошего, как мы бы сказали, они выполняют?
Кратил.
Мне кажется, Сократ, они учат. И это очень просто: кто знает имена, тот знает и вещи.
Сократ.
Наверное, Кратил, ты имеешь в виду что‑то в таком роде: когда кто‑то знает имя, каково оно, – а оно таково же, как вещь, – то он будет знать и вещь,
e
если только она оказывается подобной имени, так что это искусство одинаково для всех взаимоподобных вещей. Мне кажется, именно поэтому ты сказал: кто знает имена, знает и вещи.
Кратил.
Эти слова – сама истина.
Сократ.
Тогда давай посмотрим, что это за способ обучения вещам, который ты здесь называешь, и нет ли какого‑нибудь другого способа – причем этот оставался бы наилучшим, – или вообще нет никакого другого. Как ты думаешь?
436
Кратил.
Я по крайней мере считаю так: другого способа не существует, этот способ единственный и наилучший.
Сократ.
А может быть, в этом же состоит и постижение вещей: кто постигнет имена, тот постигнет и то, чему принадлежат эти имена. Или исследовать и постигать вещи нужно иным каким‑то способом? А это – способ учиться вещам?
Кратил.
Ну конечно, это способ исследования и постижения вещей, и по той же самой причине.
b
Сократ.
Тогда давай поразмыслим, Кратил. Если кто‑то в своем исследовании вещей будет следовать за именами и смотреть, каково каждое из них, не думаешь ли ты, что здесь есть немалая опасность ошибиться?
Кратил.
Каким образом?
Сократ.
Ведь ясно, что первый учредитель имен устанавливал их в соответствии с тем, как он постигал вещи. Мы уже говорили об этом. Или не так?
Кратил.
Так.
Сократ.
Значит, если он постигал их неверно, а установил имена в соответствии с тем, как он их постигал, то что ожидает нас, доверившихся ему и за ним последовавших? Что, кроме заблуждения?
c
Кратил.
Думаю, это не так, Сократ. Необходимо, чтобы имена устанавливал знающий учредитель. В противном случае, как я уже говорил раньше, это не имена. Да вот тебе вернейшее свидетельство того, что законодатель не поколебал истины: ведь иначе у него не могло бы все быть так стройно. Разве ты не видишь этого – ты, который говорил, что все имена возникли по одному и тому же способу и направлены к одному и тому же?
Сократ.
Но знаешь, друг мой Кратил, это не оправдание. Ведь если учредитель обманулся в самом начале, то и остальное он поневоле делал уж так же, насильно согласовывая дальнейшее с первым.
d
В этом нет ничего странного, так же ведь и в чертежах: иногда после первой небольшой и незаметной ошибки все остальное уже вынужденно следует за ней и с ней согласуется. Поэтому каждому человеку нужно более всего внимательным быть при начале всякого дела, и тогда нужно обдумать, правильно или нет он закладывает основание. А коль скоро это достаточно испытано, остальное уже явится следом.
e
Я бы как раз не удивился, если бы имена действительно согласовались друг с другом. Давай же снова вернемся к тому, что мы уже разобрали. Мы говорили, что имена обозначают сущность вещей так, как если бы все сущее шествовало, неслось и текло. Не кажется ли тебе, что они выражают что‑то другое?
437
Кратил.
Разумеется, нет. Это значение правильно.
Сократ.
Тогда давай посмотрим, выбрав сначала из такого рода имен слово «знание» (επιστήμη). Ведь оно двойственно и скорее, видимо, означает, что душа стоит (ϊστησις) подле (έπί) вещей, нежели что она несется вместе с ними, и правильнее, вероятно, начало этого слова произносить так, как мы теперь его произносим, делая наращение не к эпсилону (έπεϊστήμη), но к йоте. Затем слово «устойчивость» (το βέβαιον) есть скорее подражание каким‑то устоям (βάσεις) и стоянию (στάσις), а не порыву.
b
Так же и «наука» (ιστορία) обозначает некоторым образом то, что останавливает течение реки (ϊστησι τόν ρουν). И «достоверное» (πιστόν), судя по всему, означает стояние (ίστάν). Затем «память» (μνήμη) скорее всего указывает на то, что в душе унялись (μονή έστιν) какие‑то порывы. А «проступок» (αμαρτία), если угодно, и «несчастье» (συμφορά), если кто проследит эти имена, окажутся тождественными «сметливости» (σΰνεσις), «познанию» (επιστήμη) и всем другим именам, связанным с чем‑то серьезным.
Но даже «невежество» и «беспутство» представляются близкими этим именам, так как «невежество» (άματία) – это как бы шествие рядом с божеством (δμα όεω ίέναι),
c
а «беспутство» (ακολασία), судя по всему, это как бы «сопутствие» (ακολουθία) вещам. Таким образом, имена, которые мы считаем названиями худших вещей, могут оказаться названиями самых лучших. Я думаю, если бы кто‑нибудь как следует постарался, он смог бы найти много других имен, которые бы показывали, что присвоитель имен обозначал не идущие или несущиеся, но пребывающие в покое вещи.
d
Кратил.
Однако, Сократ, ты видишь, что у многих имен все‑таки первое значение.
Сократ.
Что же из того, Кратил? Подсчитаем имена, словно камешки при голосовании, и в этом‑то и будет состоять правильность? С каким значением окажется больше имен, те имена и будут истинными?
Кратил.
Нет, конечно, так делать не следует.
438
Сократ.
Ни в коем случае, мой друг. Давай оставим это и начнем оттуда, откуда мы уже начинали. Помнишь, ты только что сказал, что учредитель имен непременно должен был знать вещи, которым устанавливал имя. Ты все еще так же думаешь или нет?
Кратил.
Все так же.
Сократ.
Тот, кто первый устанавливал имена, устанавливая их, говоришь ты, знал эти вещи?
Кратил.
Знал.
b
Сократ.
Но по каким именам он изучил или исследовал вещи, если еще ни одно имя не было присвоено? Мы ведь говорили раньше, что невозможно исследовать вещи иначе, как изучив имена или исследовав их значение?
Кратил.
В том, что ты говоришь, что‑то есть, Сократ.
Сократ.
Тогда каким же образом, сказали бы мы, они могли устанавливать со знанием дела имена или оказаться законодателями, если еще не было присвоено ни одного имени, по которому они могли бы узнать, что вещи нельзя постичь иначе как из имен?
c
Кратил.
Я думаю, Сократ, что справедливее всего говорят об этом те, кто утверждает, что какая‑то сила, высшая, чем человеческая, установила вещам первые имена, так что они непременно должны быть правильными.
Сократ.
Ты думаешь, такой учредитель, будь он гений или бог, мог бы сам себе противоречить? Или ты считаешь, что до сих пор мы болтали вздор?
Кратил.
Но противоположные имена исходили уже не от них.
Сократ.
Какие же именно, превосходнейший? Те, что сводят дело к стоянию, или те, что к порыву? Ведь если исходить из ранее сказанного, вопрос решает здесь не количество?
d
Кратил.
Конечно, это было бы неправильно, Сократ.
Сократ.
Так что, если возмутятся имена и одни скажут, что именно они – подобие истины, другие же – что они. как мы сможем их рассудить, к чему мы прибегнем? Не к другим же именам, отличным от этих, ведь этого делать нельзя? Ясно, что нужно искать помимо имен то, что без их посредства выявило бы для нас, какие из них истинны, то есть показывают истину вещей.
e
Кратил.
Мне кажется, это так.
Сократ.
Если это так, Кратил, то можно, видимо, изучить вещи и без имен.
Кратил.
Очевидно.
Сократ.
Но с помощью чего же другого и как предложил бы ты их изучать? Не так ли, как это было бы всего справедливее: устанавливать родство между словами и изучать одно через другое, а также через самое себя? Ведь что‑то другое, от них отличное, и означало бы что‑то другое и отличное от них, но не их.
Кратил.
Мне кажется, ты говоришь правду.
439
Сократ.
Тогда, ради Зевса, слушай. Разве нам не приходилось уже много раз соглашаться, что хорошо установленные имена подобны тем вещам, которым они присвоены, и что имена – это изображения вещей?
Кратил.
Да.
Сократ.
А если можно было бы с успехом изучать вещи из имен, но можно было бы и из них самих – какое изучение было бы лучше и достовернее? По изображению изучать саму вещь – хорошо ли она изображена – и истину, которую являет отображение, или из самой истины изучать и ее самое, и ее отображение, подобающим ли образом оно сделано?
b
Кратил.
Мне кажется, это надо изучать из самой истины.
Сократ.
Так вот, узнать, каким образом следует изучать и исследовать вещи, это, вероятно, выше моих и твоих сил. Но хорошо согласиться и в том, что не из имен нужно изучать и исследовать вещи, но гораздо скорее из них самих.
Кратил.
Очевидно, Сократ.
c
Сократ.
Тогда давай рассмотрим еще вот что, дабы нас не обмануло множество имен, сводящихся к одному и тому же: если, давая имена сущему, учредители имен имели в виду, что все всегда шествует и течет, – а мне представляется, что именно это они и подразумевали, – если так и случилось, все же это не так, и сами они, словно попав в какой‑то водоворот, мечутся там и увлекают нас за собою. Смотри же, бесценный друг мой, что я часто вижу, словно бы в грезах. Могли бы мы сказать, что есть что‑то прекрасное и доброе само по себе и что это относится к каждой существующей вещи? Или нет?
d
Кратил.
Мне кажется, могли бы, Сократ.
Сократ.
Тогда давай это рассмотрим. Я не о том говорю, что, если прекрасно какое‑то лицо или что‑либо другое в этом роде, значит, все это течет – вовсе нет. Но можно ли нам сказать, что и само прекрасное не остается постоянно таким, каково оно есть?
Кратил.
Безусловно, можно.
Сократ.
Но можно ли тогда что‑либо правильно именовать, если оно всегда ускользает, и можно ли сначала сказать, что оно представляет собою то‑то, а затем, что оно уже такое‑то, или же в тот самый момент, когда бы мы это говорили, оно необходимо становилось уже другим и ускользало и в сущности никогда бы не было таким, [каким мы его называли]?
Кратил.
Именно так.
e
Сократ.
Но разве может быть чем‑то то, что никогда не задерживается в одном состоянии? Ведь если бы оно когда‑нибудь задержалось в этом состоянии, то тут же стало бы видно, что оно нисколько не изменяется; с другой стороны, если дело обстоит так, и оно остается самим собой, как может оно изменяться или двигаться, не выходя за пределы своей идеи[825]
?
Кратил.
Никак не может.
Сократ.
Ведь в первом случае оно не могло бы быть никем познано. Ведь когда познающий уже вот‑вот бы его настигал, оно тотчас становилось бы иным и отличным от прежнего, и нельзя было бы узнать,
440
каково же оно или в каком состоянии пребывает; а никакое познание, конечно, не познает того, о чем известно, что оно не задерживается ни в каком состоянии.
Кратил.
Да, это так.
Сократ.
И видимо, нельзя говорить о знании, Кратил, если все вещи меняются и ничто не остается на месте. Ведь и само знание – если оно не выйдет за пределы того, что есть знание, – всегда остается знанием и им будет;
b
если же изменится самая идея знания, то одновременно она перейдет в другую идею знания, то есть [данного] знания уже не будет. Если же оно вечно меняется, то оно вечно – незнание. Из этого рассуждения следует, что не было бы ни познающего, ни того, что должно быть познанным[826]
. А если существует вечно познающее, то есть и познаваемое, есть и прекрасное, и доброе, и любая из сущих вещей, и мне кажется, что то, о чем мы сейчас говорили, совсем не похоже на поток или порыв.
c
Выяснить, так ли это или так, как говорят последователи Гераклита и многие другие, боюсь, будет нелегко; и несвойственно разумному человеку, обратившись к именам, ублажать свою душу и, доверившись им и их присвоителям, утверждать, будто он что‑то знает (между тем как он презирает и себя, и вещи, в которых будто бы нет ничего устойчивого, но все течет, как дырявая скудель, и беспомощно, как люди, страдающие насморком[827]
), и думать, и располагать вещи так, как если бы все они были влекомы течением и потоком.
d
Поэтому‑то, Кратил, дело обстоит, может быть, так, а может быть, и не так. Следовательно, здесь надо все мужественно и хорошо исследовать и ничего не принимать на веру: ведь ты молод и у тебя еще есть время. Если же, исследовав это, ты что‑то откроешь, поведай об этом и мне.
Кратил.
Так я и сделаю. Все же знай, Сократ, что и сегодня я не в первый раз об этом размышляю, и, когда я рассматриваю и перебираю вещи, мне представляется, что они гораздо скорее таковы, как говорит Гераклит.
e
Сократ.
Тогда, мой друг, ты и меня научишь в другой раз, когда возвратишься. Теперь же ступай, отправляйся в деревню, как собирался. Вот и Гермоген последует туда за тобой.
Кратил.
Так и будет, Сократ. Но и ты до того времени попытайся это еще раз обдумать.
Перевод Т. В. Васильевой.
В кн.: Платон. Собр. соч. в 4‑х томах. Том 1. М.: «Мысль», 1990
XIX. ФЕДОН
Эхекрат, Федон
Вступление
Эхекрат.
Скажи, Федон, ты сам
57
был подле Сократа в тот день, когда он выпил яд[828]
в тюрьме, или только слышал обо всем от кого‑нибудь еще?
Федон.
Нет, сам, Эхекрат.
Эхекрат.
Что же он говорил перед смертью? И как встретил кончину? Очень бы мне хотелось узнать. Ведь теперь никто из флиунтцев[829]
подолгу в Афинах не бывает, а из тамошних наших друзей, кто бы ни приезжал за
b
последнее время, ни один ничего достоверного сообщить не может, кроме того только, что Сократ выпил яду и умер. Вот и все их рассказы.
Федон.
Так, значит, вы и про суд ничего не знаете,
58
как и что там происходило?
Эхекрат.
Нет, об этом‑то нам передавали. И мы еще удивлялись, что приговор вынесли давно, а умер он столько времени спустя[830]
. Как это получилось, Федон?
Федон.
По чистой случайности, Эхекрат. Вышло так, что как раз накануне приговора афиняне украсили венком корму корабля, который они посылают на Делос[831]
.
Эхекрат.
А что за корабль?
Федон.
По словам афинян, это тот самый корабль, на котором Тесей некогда повез на Крит знаменитые семь пар[832]
. Он и им жизнь спас, и сам остался жив.
b
А афиняне, как гласит предание, дали тогда Аполлону обет: если все спасутся, ежегодно отправлять на Делос священное посольство. С той поры и поныне они неукоснительно, год за годом, его отправляют. И раз уж снарядили посольство в путь, закон требует, чтобы все время, пока корабль не прибудет на Делос и не возвратится назад, город хранил чистоту и ни один смертный приговор в исполнение не приводился.
c
А плавание иной раз затягивается надолго, если задуют противные ветры. Началом священного посольства считается день, когда жрец Аполлона возложит венок на корму корабля. А это случилось накануне суда – я уже вам сказал. Потому‑то и вышло, что Сократ пробыл так долго в тюрьме между приговором и кончиною.
Эхекрат.
Ну, а какова была сама кончина, Федон? Что он говорил? Как держался? Кто был при нем из близких? Или же власти никого не допустили и он умер в одиночестве?
d
Федон.
Да что ты, с ним были друзья, и даже много друзей.
Эхекрат.
Тогда расскажи нам, пожалуйста, обо всем как можно подробнее и обстоятельнее. Если, конечно, ты не занят.
Федон.
Нет, я совершенно свободен и постараюсь все вам описать. Тем более что для меня нет ничего отраднее, как вспоминать о Сократе, – самому ли о нем говорить, слушать ли чужие рассказы.
Эхекрат.
Но и слушатели твои, Федон, в этом тебе не уступят! Так что уж ты постарайся ничего не упустить, будь как можно точнее!
e
Федон.
Хорошо. Так вот, сидя подле него, я испытывал удивительное чувство. Я был свидетелем кончины близкого друга, а между тем жалости к нему не ощущал – он казался мне счастливцем, Эхекрат, я видел поступки и слышал речи счастливого человека! До того бесстрашно и благородно он умирал, что у меня даже являлась мысль, будто и в Аид он отходит не без божественного предопределения и там, в Аиде, будет блаженнее, чем кто‑либо иной.
59
Вот почему особой жалости я не ощущал – вопреки всем ожиданиям, – но вместе с тем философская беседа (а именно такого свойства шли у нас разговоры) не доставила мне привычного удовольствия. Это было какое‑то совершенно небывалое чувство, какое‑то странное смешение удовольствия и скорби – при мысли, что он вот‑вот должен умереть. И все, кто собрался в тюрьме, были почти в таком же расположении духа и то смеялись, то плакали, в особенности один из нас – Аполлодор. Ты, верно, знаешь этого человека и его нрав.
b
Эхекрат.
Как не знать!
Федон.
Он совершенно потерял голову, но и сам я был расстроен, да и все остальные тоже.
Эхекрат.
Кто же там был вместе с тобою, Федон?
Федон.
Из тамошних граждан – этот самый Аполлодор, Критобул с отцом, потом Гермоген, Эпиген, Эсхин, Антисфен. Был и пэаниец Ктесипп, Менексен[833]
и еще кое‑кто из местных. Платон, по‑моему, был нездоров.
c
Эхекрат.
А из иноземцев кто‑нибудь был?
Федон.
Да, фиванец Симмий, Кебет, Федонд, а из Мегар – Евклид и Терпсион[834]
.
Эхекрат.
А что же Клеомброт и Аристипп[835]
?
Федон.
Их и не могло быть! Говорят, они были на Эгине в ту пору.
Эхекрат.
И больше никого не было?
Федон.
Кажется, больше никого.
Эхекрат.
Так, так, дальше! О чем же, ты говоришь, была у вас беседа?
Федон.
Постараюсь пересказать тебе все с самого начала.
d
Мы и до того – и я, и остальные – каждый день непременно навещали Сократа, встречаясь ранним утром подле суда, где слушалось его дело: суд стоит неподалеку от тюрьмы. Всякий раз мы коротали время за разговором, ожидая, пока отопрут тюремные двери. Отпирались они не так уж рано, когда же наконец отпирались, мы входили к Сократу и большею частью проводили с ним целый день. В то утро мы собрались раньше обыкновенного: накануне вечером, уходя из с тюрьмы, мы узнали, что корабль возвратился с Делоса.
e
Вот мы и условились сойтись в обычном месте как можно раньше. Приходим мы к тюрьме, появляется привратник, который всегда нам отворял, и велит подождать и не входить, пока он сам не позовет.
– Одиннадцать[836]
, – сказал он, – снимают оковы с Сократа и отдают распоряжения насчет казни. Казнить будут сегодня.
Спустя немного он появился снова и велел нам войти.
60
Войдя, мы увидели Сократа, которого только что расковали, рядом сидела Ксантиппа – ты ведь ее знаешь – с ребенком на руках[837]
.
Увидев нас, Ксантиппа заголосила, запричитала, по женской привычке, и промолвила так:
– Ох, Сократ, нынче в последний раз беседуешь ты с друзьями, а друзья – с тобою.
Тогда Сократ взглянул на Критона и сказал:
– Критон, пусть кто‑нибудь уведет ее домой.
И люди Критона повели ее, а она кричала и била себя в грудь.
b
Сократ сел на кровати, подогнул под себя ногу и потер ее рукой. Не переставая растирать ногу, он сказал:
– Что за странная это вещь, друзья, – то, что люди зовут «приятным»! И как удивительно, на мой взгляд, относится оно к тому, что принято считать его противоположностью, – к мучительному! Вместе разом они в человеке не уживаются, но, если кто гонится за одним и его настигает, он чуть ли не против воли получает и второе: они словно срослись в одной вершине. Мне
c
кажется, – продолжал он, – что, если бы над этим поразмыслил Эзоп[838]
, он сочинил бы басню о том, как бог, желая их примирить, не смог, однако ж, положить конец их вражде и тогда соединил их головами. Вот почему, как появится одно – следом спешит и другое. Так и со мной: прежде ноге было больно от оков, а теперь – вслед за тем – приятно.
Тут Кебет перебил его:
– Клянусь Зевсом, Сократ, хорошо, что ты мне напомнил! Меня уже несколько человек спрашивали
d
насчет стихов, которые ты здесь сочинил, – переложений Эзоповых притч и гимна в честь Аполлона, – и, между прочим, Евен[839]
недавно дивился, почему это, попавши сюда, ты вдруг взялся за стихи: ведь раньше ты никогда их не писал. И если тебе не все равно, как я отвечу Евену, когда он в следующий раз об этом спросит – а он непременно спросит! – научи, что мне сказать.
– Скажи ему правду, Кебет, – промолвил Сократ, – что я не хотел соперничать с ним или с его искусством – это было бы нелегко,
e
я вполне понимаю, – но просто пытался, чтобы очиститься, проверить значение некоторых моих сновидений: не этим ли видом искусства они так часто повелевали мне заниматься. Сейчас я тебе о них расскажу.
В течение жизни мне много раз являлся один и тот же сон. Правда, видел я не всегда одно и то же, но слова слышал всегда одинаковые: «Сократ, твори и трудись на поприще Муз». В прежнее время я считал это призывом и советом делать то, что я и делал.
61
Как зрители подбадривают бегунов, так, думал я, и это сновидение внушает мне продолжать мое дело – творить на поприще Муз, ибо высочайшее из искусств – это философия, а ею‑то я и занимался[840]
. Но теперь, после суда, когда празднество в честь бога отсрочило мой конец, я решил, что, быть может, сновидение приказывало мне заняться обычным искусством, и надо не противиться его голосу, но подчиниться: ведь надежнее будет повиноваться сну и не уходить, прежде чем не очистишься поэтическим творчеством.
b
И вот первым делом я сочинил песнь в честь того бога, чей праздник тогда справляли[841]
, а почтив бога, я понял, что поэт – если только он хочет быть настоящим поэтом – должен творить мифы, а не рассуждения. Сам же я даром воображения не владею, вот я и взял то, что было мне всего доступнее, – Эзоповы басни. Я знал их наизусть и первые же, какие пришли мне на память, переложил стихами[842]
. Так все и объясни Евену, Кебет, а еще скажи ему от меня «прощай» и прибавь, чтобы как можно скорее следовал за мною, если он человек здравомыслящий. Я‑то, видимо, сегодня отхожу – так велят афиняне.
c
Тут вмешался Симмий:
– Да как же убедить в этом Евена, Сократ? Мне много раз приходилось с ним встречаться, и, насколько я знаю этого человека, ни за что он не послушается твоего совета по доброй воле.
– Почему же? Разве Евен не философ?
– По‑моему, философ, – отвечал Симмий.
– Тогда он согласится со мною – и он, и всякий другой, кто относится к философии так, как она того требует и заслуживает. Правда, руки на себя он, вероятно, не наложит: это считается недозволенным.
d
С этими словами Сократ спустил ноги на пол и так сидел уже до конца беседы.
Кебет спросил его:
– Как это ты говоришь, Сократ: налагать на себя руки не дозволено, и все‑таки философ соглашается отправиться следом за умирающим?
– Ну и что же, Кебет? Неужели вы – ты и Симмий – не слышали обо всем этом от Филолая[843]
?
– Нет. По крайней мере, ничего ясного, Сократ.
– Правда, я и сам говорю с чужих слов, однако же охотно повторю то, что мне случалось слышать. Да, пожалуй, оно и всего уместнее для человека,
e
которому предстоит переселиться в иные края, – размышлять о своем переселении и пересказывать предания о том, что ждет его в конце путешествия. В самом деле, как еще скоротать время до заката?
– Так почему же все‑таки, Сократ, считается, что убить самого себя непозволительно? Сказать по правде, я уже слышал и от Филолая, когда он жил у нас, – я возвращаюсь к твоему вопросу, – и от других, что этого делать нельзя. Но ничего ясного я никогда ни от кого не слыхал.
62
– Не надо падать духом, – сказал Сократ, – возможно, ты еще услышишь. Но пожалуй, ты будешь изумлен, что среди всего прочего лишь это одно так просто и не терпит никаких исключений, как бывает во всех остальных случаях. Бесспорно, есть люди, которым лучше умереть, чем жить, и, размышляя о них – о тех, кому лучше умереть, – ты будешь озадачен, почему считается нечестивым, если такие люди сами окажут себе благодеяние, почему они обязаны ждать, пока их
облагодетельствует кто‑то другой.
Кебет слегка улыбнулся и отвечал:
– Зевс свидетель – верно!
Эти слова он произнес на своем наречии.
b
– Конечно, это может показаться бессмысленным, – продолжал Сократ, – но, на мой взгляд, свой смысл здесь есть. Сокровенное учение[844]
гласит, что мы,
люди, находимся как бы под стражей и не следует ни избавляться от нее своими силами, ни бежать, – величественное, на мой взгляд, учение и очень глубокое. И вот что еще, Кебет, хорошо сказано, по‑моему: о нас пекутся и заботятся боги, и потому мы, люди, – часть божественного достояния. Согласен ты с этим или
нет?
– Согласен, – отвечал Кебет.
c
– Но если бы кто‑нибудь из тебе принадлежащих убил себя, не справившись предварительно, угодна ли тебе его смерть, ты бы, верно, разгневался и наказал бы его, будь это в твоей власти?
– Непременно! – воскликнул Кебет.
– А тогда, пожалуй, совсем не бессмысленно, чтобы человек не лишал себя жизни, пока бог каким‑нибудь образом его к этому не принудит, вроде как, например, сегодня – меня.
– Да, это. пожалуй, верно, – сказал Кебет. – Но то, о чем ты сейчас говорил, будто философы с легкостью и с охотою согласились бы умереть, – это как‑то странно.
d
Сократ, раз мы только что правильно рассудили, признав, что бог печется о нас и что мы – его достояние. Бессмысленно предполагать, чтобы самые разумные из людей не испытывали недовольства, выходя из‑под присмотра и покровительства самых лучших покровителей – богов. Едва ли они верят, что, очутившись на свободе, смогут лучше позаботиться о себе сами. Иное дело – человек безрассудный: тот, пожалуй, решит как раз так, что надо бежать от своего владыки.
e
Ему и в голову не придет, что подле доброго надо оставаться до последней крайности, о побеге же и думать нечего. Побег был бы безумием, и, мне кажется, всякий, кто в здравом уме, всегда стремится быть подле того, кто лучше его самого. Но это очевиднейшим образом противоречит твоим словам, Сократ, потому что разумные должны умирать с недовольством, а неразумные – с весельем.
Сократ выслушал Кебета и, как показалось, обрадовался его пытливости. Обведя нас взглядом, он сказал:
63
– Всегда‑то Кебет отыщет какие‑нибудь возражения и не вдруг соглашается с тем, что ему говорят. А Симмий на это:
– Да, Сократ, и мне тоже кажется, что Кебет говорит дело. С какой стати людям поистине мудрым бежать от хозяев, которые лучше и выше их самих, и почему при расставании у них должно быть легко на сердце? И мне кажется, Кебет метит прямо в тебя. Ведь ты с такой легкостью принимаешь близкую разлуку и с нами, и с теми, кого сам признаешь добрыми владыками, – с богами.
b
– Верно, – сказал Сократ, – и, по‑моему, я вас понял: вы предъявляете обвинение, а я должен защищаться, точь‑в‑точь как в суде.
– Совершенно справедливо! – сказал Симмий.
– Ну, хорошо, попробую оправдаться перед вами более успешно, чем перед судьями. Да, Симмий и Кебет, если бы я не думал, что отойду, во‑первых, к иным богам, мудрым и добрым, а во‑вторых, к умершим, которые лучше живых, тех, что здесь, на Земле, я был бы не прав, спокойно встречая смерть.
c
Знайте и помните, однако же, что я надеюсь прийти к добрым людям, хотя и не могу утверждать это со всею решительностью. Но что я предстану пред богами, самыми добрыми из владык, – знайте и помните, это я утверждаю без колебаний, решительнее, чем что бы то ни было в подобном же роде! Так что никаких оснований для недовольства у меня нет, напротив, я полон радостной надежды, что умерших ждет некое будущее и что оно, как гласят и старинные предания, неизмеримо лучше для добрых, чем для дурных.
d
– И что же, Сократ? – спросил Симмий. – Ты намерен унести эти мысли с собою или, может быть, поделишься с нами? Мне, по крайней мере, думается, что и мы вправе получить долю в этом благе. А вдобавок, если ты убедишь нас во всем, о чем станешь говорить, вот тебе и оправдательная речь.
– Ладно, попытаюсь, – промолвил Сократ. – Но сперва давайте послушаем, что скажет наш Критон: он, по‑моему, уже давно хочет что‑то сказать.
– Только одно, Сократ, – отвечал Критон. – Прислужник, который даст тебе яду, уже много раз просил предупредить тебя, чтобы ты разговаривал как можно меньше: оживленный разговор, дескать, горячит, а всего, что горячит, следует избегать – оно мешает действию яда. Кто этого правила не соблюдает, тому иной раз приходится пить отраву дважды и даже трижды.
e
А Сократ ему:
– Да пусть его! Лишь бы только делал свое дело, – пусть даст мне яду два или даже три раза, если понадобится.
– Я так и знал, – сказал Критон, – да он давно уже мне докучает.
– Пусть его, – повторил Сократ. – А вам, мои судьи, я хочу теперь объяснить, почему, на мой взгляд, человек, который действительно посвятил жизнь философии, перед смертью полон бодрости и надежды обрести за могилой величайшие блага.
64
Как это возможно, Симмий и Кебет, сейчас попытаюсь показать. Те, кто подлинно предан философии, заняты на самом деле только одним – умиранием и смертью. Люди, как правило, этого не замечают, но если это все же так, было бы, разумеется, нелепо всю жизнь стремиться только к этому, а потом, когда оно оказывается рядом, негодовать на то, в чем так долго и с таким рвением упражнялся!
b
Симмий улыбнулся. Душа и тело с точки зрения познания истины
– Клянусь Зевсом, Сократ, – сказал он, – мне не до смеха, но ты меня рассмешил. Я думаю, большинство людей, услыхав тебя, решили бы, что очень метко нападают на философов, да и наши земляки присоединились бы к ним с величайшей охотой: ведь философы, решат они, на самом деле желают умереть, а стало быть, совершенно ясно, что они заслуживают такой участи.
– И правильно решат, Симмий, только вот насчет того, что им ясно, – это неправильно. Им не понятно и не ясно, в каком смысле желают умереть и заслуживают смерти истинные философы и какой именно смерти.
c
Так что будем лучше обращаться друг к другу, а большинство оставим в покое. Скажи, как мы рассудим: смерть есть нечто?
– Да, конечно, – отвечал Симмий.
– Не что иное, как отделение души от тела, верно? А «быть мертвым» – это значит, что тело, отделенное от души, существует само по себе и что душа, отделенная от тела, – тоже сама по себе? Или, быть может, смерть – это что‑нибудь иное?
– Нет, то самое, – сказал Симмий.
d
– Теперь смотри, друг, готов ли ты разделить мой взгляд. Я думаю, мы сделаем шаг вперед в нашем исследовании, если начнем вот с чего. Как, по‑твоему, свойственно философу пристрастие к так называемым удовольствиям, например к питью или к еде?
– Ни в коем случае, о Сократ, – отвечал Симмий.
– А к любовным наслаждениям?
– И того меньше!
– А к остальным удовольствиям из числа тех, что относятся к уходу за телом? Как тебе кажется, много они значат для такого человека? Например, щегольские сандалии, или плащ, или другие наряды, украшающие тело, – ценит он подобные вещи или не ставит ни во что, разумеется, кроме самых необходимых? Как тебе кажется?
e
– Мне кажется, ни во что не ставит. По крайней мере, если он настоящий философ.
– Значит, вообще, по‑твоему, его заботы обращены не на тело, но почти целиком – насколько возможно отвлечься от собственного тела – на душу?
– По‑моему, так.
– Стало быть, именно в том прежде всего обнаруживает себя философ, что освобождает душу от общения с телом в несравненно большей мере, чем любой другой из людей?
65
– Да, пожалуй.
– И наверное, Симмий, по мнению большинства людей, тому, кто не находит в удовольствиях ничего приятного и не получает своей доли, и жить‑то не стоит?
Ведь он уже на полдороге к смерти, раз нисколько не думает о телесных радостях!
– Да, ты совершенно прав.
– А теперь взглянем, как приобретается способность мышления. Препятствует ли этому тело или нет, если взять его в соучастники философских разысканий?
b
Я имею в виду вот что. Могут ли люди сколько‑нибудь доверять своему слуху и зрению[845]
? Ведь даже поэты без конца твердят, что мы ничего не слышим и не видим точно. Но если эти два телесных чувства ни точностью, ни ясностью не отличаются, тем менее надежны остальные, ибо все они, по‑моему, слабее и ниже этих двух. Или ты иного мнения?
– Нет, что ты!
– Когда же в таком случае, – продолжал Сократ, – душа приходит в соприкосновение с истиной? Ведь, принимаясь исследовать что бы то ни было совместно с телом, она – как это ясно – всякий раз обманывается по вине тела.
– Ты прав.
c
– Так не в размышлении ли – и только в нем одном – раскрывается перед нею что‑то от [подлинного] бытия?
– Верно.
– И лучше всего мыслит она, конечно, когда ее не тревожит ничто из того, о чем мы только что говорили, – ни слух, ни зрение, ни боль, ни удовольствие, когда, распростившись с телом, она останется одна или почти одна и устремится к [подлинному] бытию, прекратив и пресекши, насколько это возможно, общение с телом.
– Так оно и есть.
d
– Значит, и тут душа философа решительно презирает тело и бежит от него, стараясь остаться наедине с собою?
– Очевидно, так.
– Теперь такой вопрос, Симмий. Признаём мы, что существует справедливое само по себе, или не признаём?
– Ну разумеется, признаём, клянусь Зевсом.
– А прекрасное и доброе?
– Как же не признать?
– А тебе случалось хоть раз видеть что‑нибудь подобное воочию?
– Конечно, нет, – сказал Симмий.
– Значит, ты постиг это с помощью какого‑то иного телесного чувства? Я говорю сейчас о вещах того же рода – о величине, здоровье, силе и так далее – одним словом, о том, что каждая из этих вещей представляет собою по своей сущности.
e
Так как же, самое истинное в них мы обнаруживаем с помощью тела? Или же, напротив, кто из нас всего тщательнее и настойчивее приучит себя размышлять о каждой вещи, которую он исследует, тот всего ближе подойдет к ее истинному познанию?
– Именно так.
– Но в таком случае самым безукоризненным образом разрешит эту задачу тот, кто подходит к каждой вещи средствами одной лишь мысли (насколько это возможно), не привлекая в ходе размышления ни зрения, ни иного какого чувства и ни единого из них не беря в спутники рассудку,
66
кто пытается уловить любую из сторон бытия самое по себе, во всей ее чистоте, вооруженный лишь мыслью самой по себе, тоже вполне чистой, и отрешившись как можно полнее от собственных глаз, ушей и, вообще говоря, от всего своего тела, ибо оно смущает душу всякий раз, как они действуют совместно, и не дает ей обрести истину и разумение. Разве не такой человек, Симмий, больше всех преуспеет в исследовании бытия?
– Все, что ты говоришь, Сократ, – отвечал Симмий, – совершенно верно.
b
– Да, – продолжал Сократ, – примерно такое убеждение и должно составиться из всего этого у подлинных философов, и вот что приблизительно могли бы они сказать друг другу: «Словно какая‑то тропа приводит нас к мысли, что, пока мы обладаем телом и душа наша неотделима от этого зла, нам не овладеть полностью предметом наших желаний. Предмет же этот, как мы утверждаем, – истина. В самом деле, тело не только доставляет нам тысячи хлопот – ведь ему необходимо пропитание! – но вдобавок подвержено недугам, любой из которых мешает нам улавливать бытие.
c
Тело наполняет нас желаниями, страстями, страхами и такой массою всевозможных вздорных призраков, что, верьте слову, из‑за него нам и в самом деле совсем невозможно о чем бы то ни было поразмыслить! А кто виновник войн, мятежей и битв, как не тело и его страсти?
d
Ведь все войны происходят ради стяжания богатств, а стяжать их нас заставляет тело, которому мы по‑рабски служим. Вот по всем этим причинам – по вине тела – у нас и нет досуга для философии.
Но что всего хуже: если даже мы на какой‑то срок освобождаемся от заботы о теле, чтобы обратиться к исследованию и размышлению, тело и тут всюду нас путает, сбивает с толку, приводит в замешательство, в смятение, так что из‑за него мы оказываемся не в силах разглядеть истину. И напротив, у нас есть неоспоримые доказательства, что достигнуть чистого знания чего бы то ни было мы не можем иначе как отрешившись от тела и созерцая вещи сами по себе самою по себе душой.
e
Тогда, конечно, у нас будет то, к чему мы стремимся с пылом влюбленных, а именно разум, но только после смерти, как обнаруживает наше рассуждение, при жизни же – никоим образом. Ибо если, не расставшись с телом, невозможно достичь чистого знания, то одно из двух: или знание вообще недостижимо, или же достижимо только после смерти. Ну, конечно, ведь только тогда, и никак не раньше, душа остается сама по себе, без тела.
67
А пока мы живы, мы, по‑видимому, тогда будем ближе всего к знанию, когда как можно больше ограничим свою связь с телом и не будем заражены его природою, но сохраним себя в чистоте до той поры, пока сам бог нас не освободит. Очистившись таким образом и избавившись от безрассудства тела, мы, по всей вероятности, объединимся с другими такими же, как и мы, [чистыми сущностями][846]
и собственными силами познаем все чистое, а это, скорее всего, и есть истина. А нечистому касаться чистого не дозволено».
b
Вот что, Симмий, мне кажется, непременно должны говорить друг другу все подлинно стремящиеся к знанию и такого должны держаться взгляда. Ты согласен со мною?
– Совершенно согласен, Сократ.
– Если же это верно, друг, – продолжал Сократ, – можно твердо надеяться, что там, куда я нынче отправляюсь, именно там, скорее, чем где‑нибудь еще, мы в полной мере достигнем цели, ради которой столько трудились всю жизнь,
c
так что назначенное мне путешествие я начинаю с доброю надеждою, как и всякий другой, кто верит, что очистил свой ум и этим привел его в должную готовность.
– Да, это так, – сказал Симмий.
– А очищение – не в том ли оно состоит (как говорилось прежде), чтобы как можно тщательнее отрешать душу от тела, приучать ее собираться из всех его частей, сосредоточиваться самой по себе и жить, насколько возможно, – и сейчас и в будущем – наедине с собою, освободившись от тела, как от оков?
d
– Совершенно верно, – сказал Симмий.
– Но это как раз и называется смертью – освобождение и отделение души от тела?
– Да, бесспорно.
– Освободить же ее, – утверждаем мы, – постоянно и с величайшею настойчивостью желают лишь истинные философы, в этом как раз и состоят философские занятия – в освобождении и отделении души от тела. Так или не так?
– Очевидно, так.
e
– Тогда мне остается повторить уже сказанное вначале: человек всю жизнь приучал себя жить так, чтобы быть как можно ближе к смерти, а потом, когда смерть наконец приходит к нему, он негодует. Разве это не смешно?
– Конечно, еще бы не смешно.
– Да и в самом деле, Симмий, – продолжал Сократ, – истинные философы много думают о смерти, и никто на свете не боится ее меньше, чем эти люди. Суди сам. Если они непрестанно враждуют со своим телом и хотят обособить от него душу, а когда это происходит, трусят и досадуют, – ведь это же чистейшая бессмыслица!
68
Как не испытывать радости, отходя туда, где надеешься найти то, что любил всю жизнь, – любил же ты разумение, – и избавиться от общества давнего своего врага! Немало людей жаждали сойти в Аид после смерти любимого, супруги или же сына[847]
: их вела надежда встретиться там со своими желанными и больше с ними не разлучаться.
b
А человек, который на самом деле любит разумение и проникся уверенностью, что нигде не приобщится к нему полностью, кроме как в Аиде, – этот человек будет досадовать, когда наступит смерть, и отойдет, полный печали?!
Вот как нам надо рассуждать, друг Симмий, если мы говорим о настоящем философе, ибо он будет совершенно уверен, что нигде в ином месте не приобщится к разумению во всей его чистоте. Но когда так, повторяю, разве это не чистейшая бессмыслица, чтобы такой человек боялся смерти?
– Да, полная бессмыслица, клянусь Зевсом, – сказал Симмий.
– А если ты увидишь человека, которого близкая смерть огорчает, не свидетельствует ли это с достаточной убедительностью,
c
что он любит не мудрость, а тело? А может, он окажется и любителем богатства, или любителем почестей, или того и другого разом.
– Ты говоришь сущую правду, – сказал Симмий.
– Теперь ответь мне, Симмий: то, что называют мужеством, не свойственно ли в наивысшей степени людям, о которых идет у нас беседа?
– Да, несомненно.
– Ну, а рассудительность – то, что так называет обычно большинство: умение не увлекаться страстями, но относиться к ним сдержанно, с пренебрежением, – не свойственна ли она тем и только тем, кто больше всех других пренебрегает телом и живет философией?
d
– Иначе и быть не может.
– Хорошо, – продолжал Сократ. – Если же ты дашь себе труд задуматься над мужеством и рассудительностью остальных людей, ты обнаружишь нечто несообразное.
– Как так, Сократ?
– Ты ведь знаешь, что все остальные считают смерть великим злом?
– Еще бы!
– И если иные из них – когда решатся ее встретить – мужественно встречают смерть, то не из страха ли перед еще большим злом?
– Правильно.
– Стало быть, все, кроме философов, мужественны от боязни, от страха. Но быть мужественным от робости, от страха – ни с чем не сообразно!
e
– Да, разумеется.
– Взглянем теперь на людей умеренных. Если иные умеренны, то и тут то же самое: они рассудительны в силу особого рода невоздержности. «Это невозможно!» – скажем мы, а все же примерно так оно и обстоит с туповатой рассудительностью. Те, кому она присуща, воздерживаются от одних удовольствий просто потому, что боятся потерять другие, горячо их желают и целиком находятся в их власти.
69
Хотя невоздержностью называют покорность удовольствиям, все же получается, что эти люди, сдаваясь на милость одних удовольствий, побеждают другие. Вот и выходит так, как мы только что сказали: в известном смысле они воздержны именно благодаря невоздержности.
– Похоже, что так.
– Но, милый мой Симмий, если иметь в виду добродетель, разве это правильный обмен – менять удовольствие на удовольствие, огорчение на огорчение, страх на страх, разменивать большее на меньшее, словно монеты[848]
?
b
Нет, существует лишь одна правильная монета – разумение, и лишь в обмен на нее дулжно все отдавать; лишь в этом случае будут неподдельны и мужество, и рассудительность, и справедливость – одним словом, подлинная добродетель: она сопряжена с разумением, все равно, сопутствуют ли ей удовольствия, страхи и все иное тому подобное или не сопутствуют. Если же все это отделить от разумения и обменивать друг на друга, как бы не оказалась пустою видимостью такая добродетель, поистине годная лишь для рабов, хилая и подложная. Между тем, истинное – это действительно очищение от всех [страстей], а рассудительность, справедливость, мужество и само разумение – средство такого очищения.
c
И быть может, те, кому мы обязаны учреждением таинств[849]
, были не так уж просты, но на самом деле еще в древности приоткрыли в намеке, что сошедший в Аид непосвященным будет лежать в грязи, а очистившиеся и принявшие посвящение, отойдя в Аид, поселятся среди богов. Да, ибо, как говорят те, кто сведущ в таинствах, «много тирсоносцев, да мало вакхантов»,
d
и «вакханты» здесь, на мой взгляд, не кто иной, как только истинные философы. Одним из них старался стать и я – всю жизнь, всеми силами, ничего не упуская. Верно ли я старался и чего мы достигли, мы узнаем точно, если то будет угодно богу, когда придем в Аид. Ждать осталось недолго, сколько я понимаю.
Вот вам моя защитительная речь, Симмий и Кебет; вот почему я сохраняю спокойствие и веселость:
e
я покидаю и вас, и здешних владык в уверенности, что и там найду добрых владык и друзей, как нашел их здесь. И если вам моя речь показалась более убедительной, чем афинским судьям, это было бы хорошо.
Когда Сократ закончил, заговорил Кебет:
– Вот это – по крайней мере на мой взгляд – сказано прекрасно, кроме одного: то, что ты говорил о душе, вызывает у людей большие сомнения.
70
Они опасаются, что, расставшись с телом, душа уже нигде больше не существует, но гибнет и уничтожается в тот самый день, как человек умирает. Едва расставшись с телом, выйдя из него, она рассеивается, словно дыхание или дым, разлетается, и ее уже решительно больше нет. Разумеется, если бы душа действительно могла где‑то собраться сама по себе и вдобавок избавленная от всех зол, которые ты только что перечислил, это было бы, Сократ, источником великой и прекрасной надежды, что слова твои – истина.
b
Но что душа умершего продолжает существовать и обладает известной способностью мыслить, – это, на мой взгляд, требует веских доказательств и обстоятельных разъяснений.
– Верно, Кебет, – согласился Сократ. – Что же нам делать, однако? Не хочешь ли потолковать об этом: может так быть или не может?
– Очень хочу, – сказал Кебет. – Хочу знать, что ты об этом думаешь. Четыре доказательства бессмертия души.
Аргумент первый: взаимопереход противоположностей
c
– Хорошо, – промолвил Сократ. – Мне кажется, что теперь никто, даже комический поэт[850]
, не решится утверждать, будто я попусту мелю языком и разглагольствую о вещах, которые меня не касаются. Итак, если не возражаешь, приступим к рассуждению. Начнем, пожалуй, вот с какого вопроса: что, души скончавшихся находятся в Аиде или же нет? Есть древнее учение – мы его уже вспоминали, – что души, пришедшие отсюда, находятся там и снова возвращаются сюда, возникая из умерших.
d
Если это так, если живые вновь возникают из умерших, то, по‑видимому, наши души должны побывать там, в Аиде, не правда ли? Если бы их там не было, они не могли бы и возникнуть; и если бы мы с полною ясностью обнаружили, что живые возникают из мертвых и никак не иначе, это было бы достаточным доказательством нашей правоты. Если же все это не так, поищем иных доводов.
– Отлично, – сказал Кебет.
– Тогда, – продолжал Сократ, – чтобы тебе было легче понять, не ограничивайся одними людьми, но взгляни шире, посмотри на всех животных, на растения – одним словом, на все, чему присуще возникновение,
e
и давай подумаем, не таким ли образом возникает все вообще – противоположное из противоположного – в любом случае, когда налицо две противоположности. Возьми, например, прекрасное и безобразное, или справедливое и несправедливое, или тысячи иных противоположностей. Давай спросим себя: если существуют противоположные вещи, необходимо ли, чтобы одна непременно возникала из другой, ей противоположной? Например, когда что‑нибудь становится больше, значит ли это с необходимостью, что сперва оно было меньшим, а потом из меньшего становится большим?
– Да.
– И соответственно если оно станет меньше, то меньшим станет из большего?
71
– Конечно, – подтвердил Кебет.
– И слабое возникает из сильного, а скорое из медленного?
– Несомненно!
– Какой бы еще привести тебе пример? Если что становится хуже, то не из лучшего ли? Если справедливее, то из несправедливого? Так?
– А как же иначе?
– Значит, мы достаточно убедились, что все возникает таким образом – противоположное из противоположного?
– Совершенно достаточно.
– Тогда двинемся дальше. Нет ли между любыми двумя противоположностями как бы чего‑то промежуточного? Так как противоположностей две, то возможны два перехода
b
– от одной противоположности к другой или, наоборот, от второй к первой. Например, между большей вещью и меньшей возможны рост и убывание, и об одной мы говорим, что она убывает, о другой – что растет.
– Да, ты прав, – сказал Кебет.
– Но ведь не иначе обстоит дело с разъединением и соединением, с охлаждением и нагреванием и во всех остальных случаях; у нас не всегда может найтись подходящее к случаю слово, но на деле это всегда и непременно так: противоположности возникают одна из другой, и переход этот обоюдный.
– Ты совершенно прав, – сказал Кебет.
c
– Теперь ответь мне, есть ли что‑нибудь противоположное жизни, как сон противоположен бодрствованию?
– Конечно, есть.
– Что же именно?
– Смерть, – отвечал Кебет.
– Значит, раз они противоположны, то возникают друг из друга, и между двумя этими противоположностями возможны два перехода.
– Ну, конечно!
– Тогда я назову тебе одну из двух пар, которые только что упомянул, – сказал Сократ, – и самое пару, и связанные с нею переходы, а ты назовешь мне другую.
d
Я говорю: сон и бодрствование, и из сна возникает бодрствование, а из бодрствования – сон, а переходы в этом случае называются засыпанием и пробуждением. Достаточно тебе этого или нет?
– Вполне достаточно.
– Теперь сам скажи так же о жизни и смерти. Ты признаёшь, что жизнь противоположна смерти?
– Признаю.
– И что они возникают одна из другой?
– Да.
– Стало быть, из живого что возникает?
– Мертвое, – промолвил Кебет.
– А из мертвого что? – продолжал Сократ.
– Должен признать, что живое, – сказал Кебет.
– Итак, Кебет, живое и живые возникают из мертвого?
e
– По‑видимому, да.
– Значит, наши души имеют пребывание в Аиде?
– Похоже, что так.
– Не правда ли, из двух переходов, связанных с этой парой, один совершенно ясен? Ведь умирание – вещь ясная, ты со мною согласен?
– Разумеется, согласен!
– Как же мы теперь поступим? Не станем вводить для равновесия противоположный переход – пускай себе природа хромает на одну ногу? Или же мы обязаны уравновесить умирание каким‑то противоположным переходом?
– Пожалуй, что обязаны.
– Каким же именно?
– Оживанием.
72
– Но если оживание существует, – продолжал Сократ, – то чем оно будет, это оживание? Не переходом ли из мертвых в живые?
– Да, конечно.
– Значит, мы согласны с тобою и в том, что живые возникли из мертвых ничуть не иначе, чем мертвые – из живых. Но если так, мы уже располагаем достаточным, на мой взгляд, доказательством, что души умерших должны существовать в каком‑то месте, откуда они вновь возвращаются к жизни.
– Да, Сократ, мне кажется – это необходимый вывод из всего, в чем мы с тобою согласились, – сказал Кебет.
– А вот взгляни, Кебет, еще довод в пользу того, что не напрасно, на мой взгляд, пришли мы с тобою к согласию.
b
Если бы возникающие противоположности не уравновешивали постоянно одна другую, словно описывая круг, если бы возникновение шло по прямой линии, только в одном направлении и никогда не поворачивало вспять, в противоположную сторону, – ты сам понимаешь, что все в конце концов приняло бы один и тот же образ, приобрело одни и те же свойства, и возникновение прекратилось бы.
– Нет, не понимаю. Как это? – спросил Кебет.
– Да очень просто! – отвечал Сократ. – Представь себе, например, что существует только засыпание и что пробуждение от сна его не уравновешивает, – ты легко поймешь, что в конце концов сказание об Эндимионе оказалось бы вздором и потеряло всякий смысл, потому что и все остальное также погрузилось бы в сон[851]
.
c
И если бы все только соединялось, прекратив разъединяться, очень быстро стало бы по слову Анаксагора: «Все вещи [были] вместе»[852]
. И точно так же, друг Кебет, если бы все причастное к жизни умирало, а умерев, оставалось бы мертвым и вновь не оживало, – разве не совершенно ясно, что в конце концов все стало бы мертво и жизнь бы исчезла?
d
И если бы даже живое возникало из чего‑нибудь иного, а затем все‑таки умирало, каким образом можно было бы избегнуть всеобщей смерти и уничтожения?
– Никаким, сколько я могу судить, Сократ, – сказал Кебет. – А ты, мне кажется, рассуждаешь совершенно верно.
– Вот и мне кажется, Кебет, что это именно так, а не как‑нибудь иначе, – сказал Сократ, – и что мы нисколько не обманываем себя, приходя к согласию. Поистине существуют и оживание, и возникновение живых из мертвых. Существуют и души умерших, и добрым между ними выпадает лучшая доля, а дурным – худшая. Аргумент второй: знание как припоминание того, что было до рождения человека
e
– Постой‑ка, Сократ, – подхватил Кебет, – твои мысли подтверждает еще один довод, если только верно то, что ты так часто, бывало, повторял, а именно что знание на самом деле не что иное, как припоминание[853]
: то, что мы теперь припоминаем, мы должны были знать в прошлом, – вот что с необходимостью следует из этого довода.
73
Но это было бы невозможно, если бы наша душа не существовала уже в каком‑то месте, прежде чем родиться в нашем человеческом образе. Значит, опять выходит, что душа бессмертна.
– Но как это доказывается, Кебет? – вмешался Симмий. – Напомни мне, я что‑то забыл.
– Лучшее доказательство, – сказал Кебет, – заключается в том, что, когда человека о чем‑нибудь спрашивают, он сам может дать правильный ответ на любой вопрос – при условии, что вопрос задан правильно. Между тем, если бы у людей не было знания и верного понимания, они не могли бы отвечать верно.
b
И кроме того, поставь человека перед чертежом или чем‑нибудь еще в таком же роде – и ты с полнейшей ясностью убедишься, что так оно и есть.
– А если этого тебе недостаточно, Симмий, – сказал Сократ, – погляди, не согласишься ли ты с другими соображениями, вот примерно какими. Ты ведь сомневаешься, может ли то, что называют знанием, быть припоминанием?
– Нет, я‑то как раз не сомневаюсь, – возразил Симмий. – Мне нужно лишь одно, и как раз то, о чем сейчас идет речь: припомнить. Кебет только принялся рассуждать – и я уже почти все помню и почти что согласен с вами. И тем не менее мне бы хотелось услышать, как примешься рассуждать ты.
c
– Я? Да вот как, – сказал Сократ. – Мы оба, разумеется, сходимся на том, что, если человеку предстоит что‑либо припомнить, он должен уже знать это заранее.
– Конечно.
– Тогда, может быть, мы сойдемся и на том, что знание, если оно возникает таким образом, каким именно, я сейчас скажу, – это припоминание? Если человек, что‑то увидев, или услыхав, или восприняв иным каким‑либо чувством, не только узнает это, но еще и примыслит нечто иное, принадлежащее к иному знанию, разве не вправе мы утверждать, что он вспомнил то, о чем мыслит?
d
– Как это?
– Вот тебе пример. Знать человека и знать лиру – это ведь разные знания?
– Само собой.
– Но тебе, конечно, известно, что испытывают влюбленные, когда увидят лиру, или плащ, или иное что из вещей своего любимца: они узнают лиру, и тут же в уме у них возникает образ юноши, которому эта лира принадлежит. Это и есть припоминание. Так же точно, когда видят Симмия, часто вспоминают Кебета. Можно бы назвать тысячи подобных случаев.
– Да, клянусь Зевсом, тысячи! – сказал Симмий.
e
– Стало быть, это своего рода припоминание, – продолжал Сократ. – Но в особенности, мне кажется, нужно говорить о припоминании, когда дело касается вещей, забытых с течением времени или давно не виденных. Как, по‑твоему?
– Ты совершенно прав.
– Теперь скажи мне, возможно ли, увидев нарисованного коня или нарисованную лиру, вспомнить вдруг о человеке? Или, увидев нарисованного Симмия, вспомнить Кебета?
– Вполне возможно.
– А увидев нарисованного Симмия, вспомнить самого Симмия?
74
– И это возможно.
– Не следует ли из всего этого, что припоминание вызывается когда сходством, а когда и несходством?
– Следует.
– И если мы припоминаем о чем‑то по сходству, не бывает ли при этом, что мы непременно задаемся вопросом, насколько полно или, напротив, неполно это сходство с припоминаемым?
– Непременно бывает.
– Тогда смотри, верно ли я рассуждаю дальше. Мы признаем, что существует нечто, называемое равным, – я говорю не о том, что бревно бывает равно бревну, камень камню и тому подобное, но о чем‑то ином, отличном от всего этого, – о равенстве самом по себе. Признаем мы, что оно существует, или не признаем?
b
– Признаем, клянусь Зевсом, да еще как! – отвечал Симмий.
– И мы знаем, что это такое?
– Прекрасно знаем.
– Но откуда мы берем это знание? Не из тех ли вещей, о которых мы сейчас говорили? Видя равные между собою бревна, или камни, или еще что‑нибудь, мы через них постигаем иное, отличное от них. Или же оно не кажется тебе иным, отличным? Тогда взгляни вот так: бывает, что равные камни или бревна хоть и не меняются нисколько, а все ж одному человеку кажутся равными, а другому нет?
– Конечно, бывает.
c
– Ну, а равное само по себе – не случалось ли, чтобы оно казалось тебе неравным, то есть чтобы равенство показалось тебе неравенством?
– Никогда, Сократ!
– Значит, это не одно и то же, – сказал Сократ, – равные вещи и само равенство.
– Никоим образом, на мой взгляд.
– И однако же, знание о нем ты примысливаешь и извлекаешь как раз из этих равных вещей, как ни отличны они от самого равенства, верно?
– Вернее не скажешь, – отвечал Симмий.
– И между ним и вещами может существовать либо сходство, либо несходство?
– Разумеется.
d
– Впрочем, это не важно, – заметил Сократ. – Но всякий раз, когда вид одной вещи вызывает у тебя мысль о другой, либо сходной с первою, либо несходной, – это припоминание.
– Да, несомненно.
– А скажи, – продолжал Сократ, – с бревнами и другими равными между собою вещами, которые мы сейчас называли, дело обстоит примерно так же? Они представляются нам равными в той же мере, что и равное само по себе, или им недостает этого равного, чтобы ему уподобиться?
– Недостает, и очень, – отвечал Симмий.
– Тогда представь себе, что человек, увидев какой‑нибудь предмет, подумает: «То, что у меня сейчас перед глазами стремится уподобиться чему‑то иному из существующего, но таким же точно сделаться не может и остается ниже, хуже».
e
Согласимся ли мы, что этот человек непременно должен заранее знать второй предмет, который он находит схожим с первым, хоть и не полностью?
– Непременно согласимся.
– Прекрасно. А разве не такое же впечатление у нас составляется, когда речь идет о равных вещах и равенстве самом по себе?
– Совершенно такое же!
75
– Ну, стало быть, мы непременно должны знать равное само по себе еще до того, как впервые увидим равные предметы и уразумеем, что все они стремятся быть такими же, как равное само по себе, но полностью этого не достигают.
– Да, верно.
– Но мы, конечно, согласимся и в том, что такая мысль возникает и может возникнуть не иначе как при помощи зрения, осязания или иного чувственного восприятия. То, что я говорю, относится ко всем чувствам одинаково.
– Да, одинаково, Сократ. По крайней мере, до тех пор, пока мы не упускаем из виду цель нашего рассуждения.
b
– Итак, именно чувства приводят нас к мысли, что все воспринимаемое чувствами стремится к доподлинно равному, не достигая, однако, своей цели? Так мы скажем или по‑другому?
– Да, так.
– Но отсюда следует, что, прежде чем начать видеть, слышать и вообще чувствовать, мы должны были каким‑то образом узнать о равном самом по себе – что это такое, раз нам предстояло соотносить с ним равенства, постигаемые чувствами: ведь мы понимаем, что все они желают быть такими же, как оно, но уступают ему.
– Да, Сократ, это с необходимостью следует из того, что уже сказано.
– А видим мы, и слышим, и вообще чувствуем с того самого мига, как родились на свет?
– Конечно.
c
– Но знанием равного мы должны были обладать еще раньше, – так мы скажем?
– Так.
– Выходит, мы должны были обладать им еще до рождения?
– Выходит, что так.
– А если мы приобрели его до рождения и с ним появились на свет, наверно, мы знали – и до рождения, и сразу после – не только равное, большее и меньшее, но и все остальное подобного рода? Ведь не на одно равное распространяется наше доказательство, но совершенно так же и на прекрасное само по себе, и на доброе само по себе, и справедливое, и священное –
d
одним словом, как я сейчас сказал, на все, что мы в своих беседах, и предлагая вопросы, и отыскивая ответы, помечаем печатью «бытия самого по себе» (αυτό ό εοτι). Так что мы должны были знать все это, еще не родившись.
– Да, верно.
– И если, узнав однажды, мы уже не забываем, то всякий раз мы должны рождаться, владея этим знанием, и хранить его до конца жизни. Ведь что такое «знать»? Приобрести знание и уже не терять его. А под забвением, если не ошибаемся, Симмий, мы понимаем утрату знания.
e
– Да, Сократ, совершенно верно, – сказал Симмий.
– Но если, рождаясь, мы теряем то, чем владели до рождения, а потом с помощью чувств восстанавливаем прежние знания, тогда, по‑моему, «познавать» означает восстанавливать знание, уже тебе принадлежавшее. И, называя это «припоминанием», мы бы, пожалуй, употребили правильное слово.
– Совершенно правильное.
76
– Ну да, ведь, как выяснилось, вполне возможно, чтобы человек, увидев что‑либо, или услыхав, или постигнув любым иным чувством, вслед за тем помыслил о чем‑то другом, забывшемся в силу либо сходства, либо же несходства двух этих предметов. Итак, повторяю, одно из двух: либо все мы рождаемся, уже зная вещи сами по себе, и знаем их до конца своих дней, либо те, о ком мы говорим, что они познают, на самом деле только припоминают, и учиться в этом случае означало бы припоминать.
– Так точно оно и есть, Сократ.
b
– И что бы ты выбрал, Симмий? Что мы рождаемся, владея знанием, или что позже припоминаем уже известное в прежние времена?
– Пока я не могу еще сделать выбора, Сократ.
– Тогда вот тебе другой вопрос – скажи, что ты думаешь по этому поводу: если человек что‑то знает, может он выразить свои знания словами или не может?
– Несомненно может, Сократ, – отвечал Симмий.
– И ты думаешь, все могут ясно высказаться о вещах, о которых мы сейчас говорили?
– Хотел бы я так думать, – возразил Симмий, – но очень боюсь, что завтра, в этот час, уже не будет на свете человека, который сумел бы это сделать по‑настоящему.
c
– Значит, ты не думаешь, Симмий, что эти вещи известны каждому?
– Ни в коем случае.
– Значит, люди припоминают то, что знали когда‑то?
– Должно быть.
– Но когда появляются у нас в душе эти знания? Ведь не после того, как мы родились в человеческом облике?
– Конечно, нет!
– Значит, раньше?
– Да.
– Стало быть, Симмий, наши души и до того, как им довелось оказаться в человеческом образе, существовали вне тела и уже тогда обладали разумом.
– Да, если только мы не приобретаем эти знания в тот самый миг, когда рождаемся, Сократ: вот время, которое мы еще не приняли в расчет.
d
– Будь по‑твоему, друг, но тогда в какое же время мы их теряем? Ведь мы не рождаемся с этими знаниями, как мы только что с тобою согласились. Может быть, мы теряем их в тот же миг, в который и приобретаем? Или ты укажешь иное какое время?
– Нет, Сократ, не укажу. Теперь я понял, что сказал глупость.
– Тогда, Симмий, вот к чему мы пришли: если существует то, что постоянно у нас на языке, – прекрасное, и доброе, и другие подобного рода сущности, к которым мы возводим все, полученное в чувственных восприятиях, причем обнаруживается, что все это досталось нам с самого начала, –
e
если это так, то с той же необходимостью, с какой есть эти сущности, существует и наша душа, прежде чем мы родимся на свет. Если же они не существуют, разве не шло бы наше рассуждение совсем по‑иному? Значит, это так, и в равной мере необходимо существование и таких сущностей, и наших душ еще до нашего рождения, и, видимо, если нет одного, то нет и другого?
77
– По‑моему, это совершенно необходимо, Сократ, – ответил Симмий. – И какое прекрасное прибежище находит наше рассуждение в том, что одинаково существуют и души до рождения[854]
, и те сущности, о которых ты говоришь! Для меня, по крайней мере, нет ничего более очевидного: да, все эти вещи безусловно и неоспоримо существуют – и прекрасное, и доброе, и все остальное, о чем ты сейчас говорил. Что до меня, мне других доводов не надо!
– А как быть с Кебетом? – спросил Сократ. – Нужно ведь и его убедить.
– Я думаю, и ему этого достаточно, – сказал Симмий, – хотя нет на свете человека более упорного и недоверчивого.
b
И все же, я думаю, он вполне убедился, что душа наша существовала до того, как мы родились. Но будет ли она существовать и после того, как мы умрем, – продолжал он, – это и мне, Сократ, представляется еще не доказанным. Еще не опровергнуто опасение большинства, о котором говорил Кебет, что со смертью человека душа немедленно рассеивается и ее существованию настает конец. В самом деле, пусть даже она возникла и образовалась где‑то в ином месте и существовала прежде, чем войти в человеческое тело, – разве это мешает ей, после того как она наконец войдет в тело, а затем избавится от него, погибнуть и разрушиться самой?
c
– Ты прав, Симмий, – заметил Кебет. – Я бы сказал так: доказана только половина того, что нужно, а именно что наша душа существовала прежде, чем мы родились. Надо еще доказать, что и когда мы умрем, она будет существовать ничуть не хуже, чем до нашего рождения. Иначе доказательство останется незавершенным.
– Оно уже и теперь завершено, Симмий и Кебет, – возразил Сократ, – если вы потрудитесь соединить в одно два доказательства – это и другое, на котором мы сошлись раньше, то есть что все живое возникает из умершего.
d
Раз наша душа существовала ранее, то, вступая в жизнь и рождаясь, она возникает неизбежно и только из смерти, из мертвого состояния. Но в таком случае она непременно должна существовать и после смерти: ведь ей предстоит родиться снова. Значит, то, о чем вы говорите, уже доказано. И все же, мне кажется, и ты, и Симмий были бы не прочь углубить это доказательство потому, что испытываете детский страх,
e
как бы и вправду ветер не разнес и не рассеял душу, когда она выходит из тела, – в особенности если человеку выпало умирать не в тихую погоду, а в сильную бурю. Кебет улыбнулся.
– Ну что ж, Сократ, – сказал он, – постарайся переубедить трусов. А впрочем, не то чтобы мы сами трусили, но, пожалуй, сидит и в нас какое‑то малое дитя – оно‑то всего этого и боится. Постарайся же его разубедить, чтобы оно не страшилось смерти, точно буки.
– Так ведь над ним придется каждый день произносить заклинания, пока вы его совсем не исцелите, – сказал Сократ.
78
– Но где же нам взять чародея, сведущего в таких заклинаниях, если ты, Сократ, нас покидаешь?
– Греция велика, Кебет, и, конечно, сведущие люди найдутся. А сколько племен и народов кроме греков! И в поисках такого чародея вам надо обойти их все, не щадя ни денег, ни трудов, ибо нет на свете ничего, на что было бы уместнее потратить деньги. Надо поискать и среди вас самих: мне кажется, вы не так легко найдете человека, который сумел бы исполнить эту задачу лучше вашего. Аргумент третий: самотождество идеи (эйдоса) души
b
– Мы сделаем, Сократ, как ты говоришь, – сказал Кебет. – Но вернемся к тому, от чего мы отвлеклись, если ты не против.
– Нисколько не против, наоборот!
– Прекрасно.
– Вот какой вопрос нам нужно задать себе, по‑моему, – сказал Сократ. – Чему свойственно испытывать это состояние, то есть рассеиваться, и каким вещам оно грозит, и за какие, напротив, можно не опасаться? Потом нужно рассудить, куда отнести душу, и уж в зависимости от этого страшиться за нашу душу или быть за нее спокойным.
– Да, верно ты говоришь.
c
– Не правда ли, рассеянию подвержено все составное и сложное по природе – оно распадается таким же образом, как прежде было составлено? И если только вообще возможно этой участи избежать, то лишь в одном случае: когда вещь оказывается несоставной?
– Я думаю, так оно и есть, – сказал Кебет.
– Скорее всего можно предполагать, что несоставные вещи – это те, которые всегда постоянны и неизменны, а те, что в разное время неодинаковы и неизменностью вовсе не обладают, – те составные.
– По‑моему, так.
d
– Тогда давай обратимся к тому, о чем мы говорили раньше. Та сущность, бытие которой мы выясняем в наших вопросах и ответах, – что же, она всегда неизменна и одинакова или в разное время иная? Может ли равное само по себе, прекрасное само по себе, все вообще существующее само по себе, то есть бытие, претерпеть какую бы то ни было перемену? Или же любая из этих вещей, единообразная и существующая сама по себе, всегда неизменна и одинакова и никогда, ни при каких условиях не подвержена ни малейшему изменению?
– Они должны быть неизменны и одинаковы, Сократ, – отвечал Кебет.
e
– А что мы скажем о многих прекрасных вещах, е ну, допустим, о прекрасных людях, или конях, или плащах, что мы скажем о любых других вещах, которые называют равными или прекрасными, короче говоря, обо всем, что одноименно упомянутым сущностям? Они тоже неизменны или, в полную противоположность тем, первым, буквально ни на миг не остаются неизменными ни по отношению к самим себе, ни по отношению друг к другу?
– И снова ты прав, – ответил Кебет, – они все время изменяются.
79
– Теперь скажи мне, ведь эти вещи ты можешь ощупать, или увидеть, или ощутить с помощью какого‑нибудь из чувств, а неизменные [сущности] можно постигнуть только лишь с помощью размышления – они безвидны и незримы?
– Да, ты совершенно прав!
– Итак, с твоего разрешения, мы установим два вида сущего – зримое и безвидное.
– Согласен.
– Безвидное всегда неизменно, а зримое непрерывно изменяется?
– Примем и это, – согласился Кебет.
b
– Пойдем дальше, – сказал Сократ. – В нас самих есть ли что‑нибудь – тело или душа – отличное [от этих двух видов]?
– Ничего нет.
– К какому же из двух видов [сущего] ближе тело?
– Каждому ясно, что к зримому.
– А душа? Зрима она или незрима?
– [Незрима], по крайней мере для людей.
– Да ведь мы все время говорим о том, что зримо или незримо для человеческой природы! Или, может, ты имеешь в виду другую [природу]?
– Нет, человеческую.
– Что же мы скажем о душе? Можно ее видеть или нельзя?
– Нельзя.
– Значит, она безвидна?
– Да.
– Значит, в сравнении с телом душа ближе к безвидному, а тело в сравнении с душой – к зримому?
c
– Несомненно, Сократ.
– А разве мы уже не говорили, что, когда душа пользуется телом, исследуя что‑либо с помощью зрения, слуха или какого‑нибудь иного чувства (ведь исследовать с помощью тела и с помощью чувства – это одно и то же!), тело влечет ее к вещам, непрерывно изменяющимся, и от соприкосновения с ними душа сбивается с пути, блуждает, испытывает замешательство и теряет равновесие, точно пьяная?
– Да, говорили.
d
– Когда же она ведет исследование сама по себе, она направляется туда, где все чисто, вечно, бессмертно и неизменно, и так как она близка и сродни всему этому, то всегда оказывается вместе с ним, как только остается наедине с собою и не встречает препятствий. Здесь наступает конец ее блужданиям, и, в непрерывном соприкосновении с постоянным и неизменным, она и сама обнаруживает те же свойства. Это ее состояние мы называем разумением, правильно?
– Совершенно правильно, Сократ! Ты говоришь замечательно!
– Итак, еще раз: к какому виду [сущего] ближе душа, как ты рассудишь, помня и прежние доводы, и эти, самые последние?
e
– Мне кажется, Сократ, – ответил Кебет, – любой, даже самый отъявленный тугодум, идя по этому пути, признает, что душа решительно и безусловно ближе к неизменному, чем к изменяющемуся.
– А тело?
– К изменяющемуся.
80
– Взгляни теперь еще вот с какой стороны. Когда душа и тело соединены[855]
, природа велит телу подчиняться и быть рабом, а душе – властвовать и быть госпожою. Приняв это в соображение, скажи, что из них, по‑твоему, ближе божественному и что смертному? Не кажется ли тебе, что божественное создано для власти и руководительства, а смертное – для подчинения и рабства?
– Да, кажется.
– Так с чем же схожа душа?
– Ясно, Сократ: душа схожа с божественным, а тело со смертным.
b
– Теперь подумай, Кебет, согласен ли ты, что из всего сказанного следует такой вывод: божественному, бессмертному, умопостигаемому, единообразному, неразложимому, постоянному и неизменному самому по себе в высшей степени подобна наша душа, а человеческому, смертному, постигаемому не умом, многообразному, разложимому и тленному, непостоянному и несходному с самим собою подобно – и тоже в высшей степени – наше тело. Можем мы сказать что‑нибудь вопреки этому, друг Кебет?
– Нет, не можем.
– А если так, то не подобает ли телу быстро разрушаться, а душе быть вовсе неразрушимой или почти неразрушимой?
c
– Как же иначе?
– Но ведь ты замечаешь, что, когда человек умирает, видимая его часть – тело, принадлежащая к видимому [миру], или труп, как мы его называем, которому свойственно разрушаться, распадаться, развеиваться, подвергается этой участи не вдруг, не сразу, но сохраняется довольно долгое время, если смерть застигнет тело в удачном состоянии и в удачное время года. К тому же тело усохшее и набальзамированное, как бальзамируют в Египте, может сохраняться чуть ли не без конца.
d
Но если даже тело и сгниет, некоторые его части – кости, сухожилия и прочие им подобные, можно сказать, бессмертны. Верно?
– Да.
– А душа, сама безвидная и удаляющаяся в места славные, чистые и безвидные – поистине в Аид[856]
, к благому и разумному богу, куда – если бог пожелает – вскорости предстоит отойти и моей душе, – неужели душа, чьи свойства и природу мы сейчас определили, немедленно, едва расставшись с телом, рассеивается и погибает, как судит большинство людей?
e
Нет, друзья мои, Кебет и Симмий, ничего похожего, но скорее всего вот как. Допустим, что душа разлучается с телом чистою и не влачит за собою ничего телесного, ибо в течение всей жизни умышленно избегала любой связи с телом, остерегалась его и сосредоточивалась в самой себе, постоянно в этом упражняясь, иными словами, посвящала себя истинной философии и, по сути дела, готовилась умереть легко и спокойно. Или же это нельзя назвать подготовкою к смерти?
81
– Бесспорно, можно.
– Такая душа уходит в подобное ей самой безвидное место, божественное, бессмертное, разумное, и, достигши его, обретает блаженство, отныне избавленная от блужданий, безрассудства, страхов, диких вожделений и всех прочих человеческих зол, и – как говорят о посвященных в таинства – впредь навеки поселяется среди богов. Так мы должны сказать, Кебет, или как‑нибудь по‑иному?
– Так, клянусь Зевсом, – ответил Кебет.
b
– Но, думаю, если душа разлучается с телом оскверненная и замаранная, ибо всегда была в связи с телом, угождала ему и любила его, зачарованная им, его страстями и наслаждениями настолько, что уже ничего не считала истинным, кроме телесного, – того, что можно осязать, увидеть, выпить, съесть или использовать для любовной утехи, а все смутное для глаза и незримое, но постигаемое разумом и философским рассуждением, приучилась ненавидеть, бояться и избегать, – как, по‑твоему, такая душа расстанется с телом чистою и обособленною в себе самой?
c
– Никогда!
– Я думаю, что она вся проникнута чем‑то телесным: ее срастили с ним постоянное общение и связь и долгие заботы о нем.
– Совершенно верно.
– Но ведь телесное, друг, надо представлять себе плотным, тяжелым, землеобразным, видимым. Ясно, что душа, смешанная с телесным, тяжелеет, и эта тяжесть снова тянет ее в видимый мир[857]
. В страхе перед безвидным, перед тем, что называют Аидом, она бродит среди надгробий и могил – там иной раз и замечают похожие на тени призраки душ.
d
Это призраки как раз таких душ, которые расстались с телом нечистыми; они причастны зримому и потому открываются глазу.
– Да, Сократ, похоже на то.
– Очень похоже, Кебет. И конечно же это души не добрых, но дурных людей: они принуждены блуждать среди могил, неся наказание за дурной образ жизни в прошлом,
e
и так блуждают до той поры, пока пристрастием к бывшему своему спутнику – к телесному – не будут вновь заключены в оковы тела. Оковы эти, вероятно, всякий раз соответствуют тем навыкам, какие были приобретены в прошлой жизни.
– О каких же навыках ты говоришь, Сократ?
– Ну, вот, например, кто предавался чревоугодию, беспутству и пьянству, вместо того чтобы всячески их остерегаться, перейдет, вероятно, в породу ослов или иных подобных животных. Как тебе кажется?
82
– Это вполне вероятно.
– А те, кто отдавал предпочтение несправедливости, властолюбию и хищничеству, перейдут в волков, ястребов или коршунов. Или же мы с тобою, решим, что такие души перейдут в иные какие‑нибудь тела?
– Что ты! – сказал Кебет. – Конечно, в эти, которые ты назвал.
– Тогда, по‑моему, уже ясно, что и всем остальным предназначены места, соответствующие их главной в жизни заботе.
– Да уж куда яснее!
– А самые счастливые среди них, уходящие в самое лучшее место, – это те, кто преуспел в гражданской, полезной для всего народа добродетели:
b
имя ей рассудительность и справедливость, она рождается из повседневных обычаев и занятий, без участия философии и ума.
– Чем же они такие счастливые?
– Да они, вероятно, снова окажутся в общительной и смирной породе, среди пчел, или, может быть, ос, или муравьев, а не то и вернутся к человеческому роду, и из них произойдут воздержные люди.
– Да, похоже на то.
c
– Но в род богов не позволено перейти никому, кто не был философом и не очистился до конца, – никому, кто не стремился к познанию. Потому‑то, милые мои Симмий и Кебет, истинные философы гонят от себя все желания тела, крепятся и ни за что им не уступают, не боясь разорения и бедности в отличие от большинства, которое корыстолюбиво, и, хотя они в отличие от властолюбивых и честолюбивых не страшатся бесчестия и бесславия, доставляемых дурною жизнью, они от желаний воздерживаются.
– Так ведь иное было бы и недостойно их, Сократ! – воскликнул Кебет.
d
– Да, недостойно, клянусь Зевсом. Кто заботится о своей душе, а не холит тело, тот расстается со всеми этими желаниями. Остальные идут, сами не зная куда, а они следуют своим путем: в уверенности, что нельзя перечить философии и противиться освобождению и очищению, которые она несет, они идут за ней, куда бы она ни повела.
– Как это, Сократ?
e
– Сейчас объясню. Тем, кто стремится к познанию, хорошо известно вот что: когда философия принимает под опеку их душу, душа туго‑натуго связана в теле и прилеплена к нему, она вынуждена рассматривать и постигать сущее не сама по себе, но через тело, словно бы через решетки тюрьмы, и погрязает в глубочайшем невежестве. Видит философия и всю грозную силу этой тюрьмы: подчиняясь страстям, узник сам крепче любого блюстителя караулит собственную темницу.
83
Да, стремящимся к познанию известно, в каком положении бывает их душа, когда философия берет ее под свое покровительство и с тихими увещаниями принимается освобождать, выявляя, до какой степени обманчиво зрение, обманчив слух и остальные чувства, убеждая отдаляться от них, не пользоваться их службою, насколько это возможно, и советуя душе сосредоточиваться и собираться в себе самой, верить только себе,
b
когда, сама в себе, она мыслит о том, что существует само по себе, и не считать истинным ничего из того, что она с помощью другого исследует из других вещей, иначе говоря, из ощутимых и видимых, ибо то, что видит душа, умопостигаемо и безвидно. Вот то освобождение, которому не считает нужным противиться душа истинного философа, и потому она бежит от радостей, желаний, печалей и страхов, насколько это в ее силах, понимая, что, если кто сильно обрадован, или опечален, или испуган, или охвачен сильным желанием, он терпит не только обычное зло, какого и мог бы ожидать,
c
– например, заболевает или проматывается, потакая своим страстям, – но и самое великое, самое крайнее из всех зол и даже не отдает себе в этом отчета.
– Какое же это зло, Сократ? – спросил Кебет.
– А вот какое: нет человека, чья душа, испытывая сильную радость или сильную печаль, не считала бы то, чем вызвано такое ее состояние, предельно ясным и предельно подлинным, хотя это и не так. Ты, я думаю, со мною согласишься, что в первую очередь это относится к вещам видимым.
– Охотно соглашусь.
d
– А согласишься ли ты, что именно в таком состоянии тело сковывает душу особенно крепко?
– То есть как?
– А вот как: у любой радости или печали есть как бы гвоздь, которым она пригвождает душу к телу, пронзает ее и делает как бы телесною, заставляя принимать за истину все, что скажет тело. А разделяя представления и вкусы тела, душа, мне кажется, неизбежно перенимает его правила и привычки, и уже никогда не прийти ей в Аид чистою – она всегда отходит, обремененная телом, и потому вскоре вновь попадает в иное тело и, точно посеянное зерно, пускает ростки.
e
Так она лишается своей доли в общении с божественным, чистым и единообразным.
– Верно, Сократ, совершенно верно, – сказал Кебет.
– По этим как раз причинам, Кебет, воздержны и мужественны те, кто достойным образом стремится к познанию, а вовсе не по тем, о которых любит говорить большинство. Или, может, ты иного мнения?
84
– Нет, что ты!
– Да, душа философа рассуждает примерно так, как мы говорили, и не думает, будто дело философии – освобождать ее, а она, когда это дело сделано, может снова предаться радостям и печалям и надеть прежние оковы, наподобие Пенелопы, без конца распускающей свою ткань[858]
. Внося во все успокоение, следуя разуму и постоянно в нем пребывая, созерцая истинное,
b
божественное и непреложное и в нем обретая для себя пищу, душа полагает, что так именно должно жить, пока она жива, а после смерти отойти к тому, что ей сродни, и навсегда избавиться от человеческих бедствий. Благодаря такой пище и в завершение такой жизни, Симмий и Кебет, ей незачем бояться ничего дурного, незачем тревожиться, как бы при расставании с телом она не распалась, не рассеялась по ветру, не умчалась неведомо куда, чтобы уже нигде больше и никак не существовать.
c
После этих слов Сократа наступило долгое молчание. Видно было, что и сам он размышляет над только что сказанным, и большинство из нас тоже. Потом Кебет и Симмий о чем‑то коротко перемолвились друг с другом. Сократ приметил это и спросил:
– Что такое? Вы, верно, считаете, что сказанного недостаточно? Да, правда, остается еще немало сомнительных и слабых мест, если просмотреть все от начала до конца с нужным вниманием. Конечно, если у вас на уме что‑нибудь другое, я молчу. Но если вы в затруднении из‑за этого, не стесняйтесь, откройте свои соображения, если они кажутся вам более убедительными,
d
наконец, примите в свой разговор и меня, если находите, что с моею помощью дело пойдет лучше.
На это Симмий отозвался так:
– Я скажу тебе, Сократ, все как есть. Мы уже давно оба в смущении и всё только подталкиваем друг друга, чтобы тебя спросить, потому что очень хотим услышать, что ты ответишь, да боимся причинить тебе огорчение – как бы наши вопросы не были тебе в тягость из‑за нынешней беды.
Сократ слегка улыбнулся и сказал:
e
– Ах, Симмий, Симмий! До чего же трудно было бы мне убедить чужих людей, что я совсем не считаю бедою нынешнюю свою участь, если даже вас я не могу в этом убедить и вы опасаетесь, будто сегодня я расположен мрачнее, чем раньше, в течение всей жизни! Вам, верно, кажется, что даром прорицания я уступаю лебедям,
85
которые, как почуют близкую смерть, заводят песнь такую громкую и прекрасную, какой никогда еще не певали: они ликуют оттого, что скоро отойдут к богу, которому служат. А люди из‑за собственного страха перед смертью возводят напраслину и на лебедей, утверждая, что они якобы оплакивают свою смерть и что скорбь вдохновляет их на предсмертную песнь. Им и невдомек, этим людям, что ни одна птица не поет, когда страдает от голода, или холода, или иной какой нужды, – даже соловей, даже ласточка или удод, хотя про них и рассказывают, будто они поют, оплакивая свое горе[859]
. Но, по‑моему, это выдумка – и про них, и про лебедей.
b
Лебеди принадлежат Аполлону[860]
, и потому – вещие птицы – они провидят блага, ожидающие их в Аиде, и поют, и радуются в этот последний свой день, как никогда прежде. Но я и себя, вместе с лебедями, считаю рабом того же господина и служителем того же бога[861]
, я верю, что и меня мой владыка наделил даром пророчества не хуже, чем лебедей, и не сильнее, чем они, горюю, расставаясь с жизнью. Так что вы можете говорить и спрашивать о чем хотите, пока вам не препятствуют Одиннадцать, поставленные афинянами.
c
– Что ж, прекрасно, – начал Симмий, – в таком случае и я объясню тебе, в чем мои затруднения, и Кебет не скроет, что из сказанного сегодня кажется ему неприемлемым. Мне думается, Сократ, – как, впрочем, может быть, и тебе самому, – что приобрести точное знание о подобных вещах в этой жизни либо невозможно, либо до крайности трудно, но в то же время было бы позорным малодушием не испытать и не проверить всеми способами существующие на этот счет взгляды и отступиться, пока возможности для исследования не исчерпаны до конца. Значит, нужно достигнуть одного из двух: узнать истину от других или отыскать ее самому либо же, если ни первое, ни второе невозможно,
d
принять самое лучшее и самое надежное из человеческих учений и на нем, точно на плоту, попытаться переплыть через жизнь, если уже не удастся переправиться на более устойчивом и надежном судне – на каком‑нибудь божественном учении. Поэтому я теперь наберусь смелости и задам свой вопрос, тем более что ты и сам велишь: я не хочу потом укорять себя за то, что теперь промолчал. Да, Сократ, я и сам размышляю над твоими словами, и вместе с ним, с Кебетом, и мне кажется, они не вполне убедительны.
e
А Сократ на это:
– Может быть, тебе и правильно кажется, друг, но только скажи, в чем именно «не вполне»?
– А вот в чем, на мой взгляд: то же самое рассуждение можно применить к лире, к ее струнам и гармонии[862]
. И верно, в настроенной лире гармония – это нечто невидимое, бестелесное, прекрасное и божественное, а сама лира и струны – тела, то есть нечто телесное, сложное, земное и сродное смертному.
86
Представь себе теперь, что лиру разбили или же порезали и порвали струны, – приводя те же доводы, какие приводишь ты, кто‑нибудь будет упорно доказывать, что гармония не разрушилась и должна по‑прежнему существовать. Быть того не может, скажет такой человек, чтобы лира с разорванными струнами и сами струны – вещи смертной природы – все еще существовали, а гармония, сродная и близкая божественному и бессмертному, погибла, уничтожившись раньше, чем смертное.
b
Нет, гармония непременно должна существовать, и прежде истлеют без остатка дерево и жилы струн, чем претерпит что‑нибудь худое гармония. И право же, Сократ, я думаю, ты и сам отлично сознаешь, что наиболее частый взгляд на душу таков[863]
: если наше тело связывают и держат в натяжении тепло, холод, сухость, влажность и некоторые иные, подобные им, [начала], то душа наша есть сочетание и гармония этих [начал],
c
когда они хорошо и соразмерно смешаны друг с другом. И если душа – это действительно своего рода гармония, значит, когда тело чрезмерно слабеет или, напротив, чрезмерно напрягается – из‑за болезни или иной какой напасти, – душа при всей своей божественности должна немедленно разрушиться, как разрушается любая гармония, будь то звуков или же любых творений художников; а телесные останки могут сохраняться долгое время, пока их не уничтожит огонь или тление.
d
Пожалуйста, подумай, как нам отвечать на этот довод, если кто будет настаивать, что душа есть сочетание телесных качеств и потому в том, что мы называем смертью, гибнет первою.
Сократ, по всегдашней своей привычке, обвел собравшихся взглядом, улыбнулся и сказал:
– Симмий говорит дело. Если кто из вас находчивее моего, пусть отвечает. Кажется, Симмий метко поддел [наше] рассуждение. И все‑таки, на мой взгляд, прежде чем отвечать, нужно сперва выслушать еще Кебета, –
e
в чем упрекает [наши] доводы он, а мы тем временем подумаем, что нам сказать. И тогда уже, выслушав обоих, мы либо уступим им, если выяснится, что они поют в лад, а если нет – будем отстаивать свое доказательство. Ну, Кебет, теперь твой черед: говори, что тебя смущает.
– Да, Сократ, я скажу, – отозвался Кебет. – Мне кажется, [наше] доказательство не сдвинулось с места, и упрек, что мы делали ему раньше, можно повторить и теперь.
87
Что наша душа существовала и до того, как воплотилась в этом образе, доказано – я не отрицаю – очень тонко и, смею сказать, очень убедительно. Но что она и после нашей смерти продолжает где‑то существовать, это мне представляется далеко не столь убедительным. Правда, я не разделяю возражения Симмия, будто душа не сильнее и не долговечнее тела. Наоборот, сколько я понимаю, душа обладает огромным преимуществом перед всем телесным. «Как же так? – спросят меня. –
b
Откуда же тогда твои сомнения, если ты видишь, что после смерти человека даже более слабая его часть продолжает существовать? Разве тебе не кажется, что более долговечная часть непременно должна сохраняться в целости все это время?» Смотри, есть ли толк в том, что я на это отвечаю. Естественно, что и мне, как раньше Симмию, понадобится какое‑нибудь уподобление.
Так рассуждать, на мой взгляд, примерно то же самое, что применить этот довод к умершему старику ткачу и утверждать, будто он не погиб, но где‑то существует, целый и невредимый, и в подтверждение предъявить плащ, который старик сам себе соткал: плащ‑то ведь цел, ему ничего не сделалось, он невредим.
c
А если кто усомнится, тогда спросить, что долговечнее, люди или плащи, которые постоянно в употреблении, в носке, и, услыхав в ответ: «Разумеется, люди», – считать доказанным, что человек, соткавший этот плащ, без всякого сомнения, цел и невредим, раз не погибла вещь менее долговечная.
Но я думаю, Симмий, что на самом‑то деле все обстоит иначе. Следи и ты за тем, что я говорю. Кто так рассуждает, судит нелепо – это каждому видно.
d
Ведь наш ткач соткал и сносил много этаких плащей и пережил их все, за исключением, правда, одного, последнего, но из этого никак не следует, будто человек негоднее или бессильнее плаща.
То же самое уподобление, по‑моему, применимо и к душе, связанной с телом, и, кто говорит о душе и теле теми же самыми словами, что о ткаче и плаще, мне кажется, говорит верно: он скажет, что душа долговечнее, а тело слабее и кратковременнее; к этому, однако ж, он должен прибавить, что всякая душа снашивает много тел, в особенности если живет много лет:
e
тело ведь изнашивается и отмирает еще при жизни человека, и, стало быть, душа беспрерывно ткет наново, заменяя сношенное. И когда душа погибает, последняя одежда на ней непременно должна быть цела – она одна только и переживает душу. Лишь после гибели души обнаруживает тело природную свою слабость и скоро истребляется тлением. Значит, приняв наше доказательство, мы все еще не можем твердо надеяться, что душа наша, когда мы умрем, будет где‑то продолжать свое существование.
88
Мало того, скажут мне, допустим, мы сделаем стороннику этих доводов еще большие уступки, чем сделал ты, и согласимся, что душа существует не только до нашего рождения, но, что вполне возможно, некоторые души существуют и после того, как мы умрем, и будут существовать, и много раз родятся, и снова умрут: ведь душа по природе своей настолько сильна, что способна вынести много рождений. Допустим, со всем этим мы согласимся, но не признаем, что душа не несет никакого ущерба в частых своих рождениях и не погибает однажды совершенно в какую‑то из своих смертей, –
b
а никто не похвастается, будто знает хоть что‑нибудь об этой последней смерти и о разрушении тела, несущем гибель душе, ибо такое ощущение никому из нас не доступно. Раз это так, не следует нам выказывать отвагу перед смертью; она просто безрассудна, такая отвага, – ведь доказать, что душа совершенно бессмертна и неуничтожима, мы не можем. А раз не можем, умирающий непременно будет бояться за свою душу, как бы, отделяясь от тела на этот раз, она не погибла окончательно.
c
Выслушав Симмия и Кебета, мы все помрачнели, Потом мы признавались друг другу, что прежние доводы полностью нас убедили, а тут мы снова испытывали замешательство и были полны недоверия не только к сказанному прежде, но и к тому, что нам еще предстояло услышать. Может быть, это мы никуда не годны и не способны ни о чем судить? Или же сам вопрос не допускает ясного ответа?
Эхекрат.
Клянусь богами, Федон, я вас отлично понимаю. Послушал я тебя, и вот что примерно хочется мне сказать самому себе:
d
«Какому же доказательству мы теперь поверим, если Сократ говорил так убедительно, и, однако же, все его рассуждения поколеблены!» До сих пор меня всегда особенно привлекал взгляд на душу как на своего рода гармонию. Когда об этом зашла речь, мне словно напомнили, что я давно держусь такого мнения и сам, и теперь снова, как бы с самого начала, мне до крайности нужно какое‑нибудь иное доказательство, которое уверит меня, что душа не умирает вместе с телом. Продолжай, ради Зевса! Как Сократ вернулся к своему доказательству?
e
И был ли он заметно удручен – так же как и вы – или же, напротив, спокойно помог вашему исследованию? И вполне ли успешной была его помощь или не вполне? Расскажи нам обо всем как можно точнее!
Федон.
Знаешь, Эхекрат, я часто восхищался Сократом, но никогда не испытывал такого восхищения, как в тот раз. Он нашелся, что ответить, но в этом нет еще, пожалуй, ничего странного.
89
Если я был восхищен сверх всякой меры, так это тем, во‑первых, с какой охотой, благожелательностью и даже удовольствием он встретил возражения своих молодых собеседников, далее, тем, как чутко подметил он наше уныние, вызванное их доводами, и, наконец, как прекрасно он нас исцелил. Мы были точно воины, спасающиеся бегством после поражения, а он ободрил нас и повернул назад, чтобы вместе с ним и под его руководительством внимательно исследовать все сначала.
Эхекрат.
Как же именно?
b
Федон.
Сейчас объясню. Случилось так, что я сидел справа от Сократа, подле самого ложа – на скамеечке – и потому гораздо ниже его. И вот, проведя рукой по моей голове и пригладив волосы на шее – он часто играл моими волосами, – Сократ промолвил:
– Завтра, Федон, ты, верно, острижешь эти прекрасные кудри[864]
?
– Боюсь, что так, Сократ, – отвечал я.
– Не станешь ты этого делать, если послушаешься меня.
– Отчего же? – спросил я.
– Да оттого, что еще сегодня и я остригусь вместе с тобою, если наше доказательство скончается и мы не сумеем его оживить.
c
Будь я на твоем месте и ускользни доказательство у меня из рук, я бы дал клятву, по примеру аргосцев[865]
, не отращивать волосы до тех пор, пока не одержу победы в новом бою против доводов Симмия и Кебета.
– Но ведь, как говорится, против двоих даже Гераклу не выстоять, – возразил я.
– Тогда кликни на помощь меня – я буду твоим Иолаем, пока день еще не погас.
– Конечно, кликну, только давай наоборот: я буду Иолаем, а ты Гераклом[866]
.
– Это все равно, – сказал Сократ. – Но прежде всего давай остережемся одной опасности.
– Какой опасности? – спросил я.
d
– Чтобы нам не сделаться ненавистниками всякого слова, как иные становятся человеконенавистниками, ибо нет большей беды, чем ненависть к слову[867]
. Рождается она таким же точно образом, как человеконенавистничество. А им мы проникаемся, если сперва горячо и без всякого разбора доверяем кому‑нибудь и считаем его человеком совершенно честным, здравым и надежным, но в скором времени обнаруживаем, что он неверный, ненадежный и еще того хуже. Кто испытает это неоднократно, и в особенности по вине тех, кого считал самыми близкими друзьями,
e
тот в конце концов от частых обид ненавидит уже всех подряд и ни в ком не видит ничего здравого и честного. Тебе, верно, случалось замечать, как это бывает.
– Конечно, случалось, – сказал я.
– Но разве это не срам? – продолжал Сократ. – Разве не ясно, что мы приступаем к людям, не владея искусством их распознавать? Ведь кто владеет этим искусством по‑настоящему, тот рассудит, что и очень хороших и очень плохих людей немного, а посредственных – без числа.
90
– Как это? – спросил я.
– Так же точно, как очень маленьких и очень больших. Что встретишь реже, чем очень большого или очень маленького человека или собаку и так далее? Или что‑нибудь очень быстрое или медленное, безобразное или прекрасное, белое или черное? Разве ты не замечал, что во всех таких случаях крайности редки и немногочисленны, зато середина заполнена в изобилии?
– Конечно, замечал, – сказал я.
b
– И если бы устроить состязание в испорченности, то и первейших негодяев оказалось бы совсем немного, не так ли?
– Похоже, что так, – сказал я.
– Вот именно, – подтвердил он. – Но не в этом сходство между рассуждениями и людьми – я сейчас просто следовал за тобою, куда ты вел, – а в том, что иногда мы поверим доказательству и признбем его истинным (хотя сами искусством рассуждать не владеем), а малое время спустя решим, что оно ложно, – когда по заслугам, а когда и незаслуженно, и так не раз и не два. Особенно, как ты знаешь, это бывает с теми, кто любит отыскивать доводы и за и против чего бы то ни было:
c
в конце концов они начинают думать, будто стали мудрее всех на свете и одни только постигли, что нет ничего здравого и надежного ни среди вещей, ни среди суждений, но что все решительно испытывает приливы и отливы, точно воды Еврипа[868]
, и ни на миг не остается на месте.
– Да, все, что ты сказал, – чистая правда.
– А когда так, Федон, было бы печально, если бы, узнав истинное, надежное и доступное для понимания доказательство,
d
а затем встретившись с доказательствами такого рода, что иной раз они представляются истинными, а иной раз ложными, мы стали бы винить не себя самих и не свою неискусность, но от досады охотно свалили бы собственную вину на доказательства и впредь, до конца дней упорно ненавидели бы и поносили рассуждения, лишив себя истинного знания бытия.
– Да, клянусь Зевсом. – сказал я. – это было бы очень печально.
e
– Итак, – продолжал он, – прежде всего охраним себя от этой опасности и не будем допускать мысли, будто в рассуждениях вообще нет ничего здравого, скорее будем считать, что это мы сами еще недостаточно здравы и надо мужественно искать полного здравомыслия: тебе и остальным – ради всей вашей дальнейшей жизни, мне же – ради одной только смерти.
91
Сейчас обстоятельства складываются так, что я рискую показаться вам не философом, а завзятым спорщиком, а это уже свойство полных невежд. Они, если возникает разногласие, не заботятся о том, как обстоит дело в действительности; как бы внушить присутствующим свое мнение – вот что у них на уме. В нынешних обстоятельствах, мне кажется, я отличаюсь от них лишь тем, что не присутствующих стремлюсь убедить в правоте моих слов – разве что между прочим, – но самого себя, чтобы убедиться до конца.
b
Вот мой расчет, дорогой друг, и погляди, какой своекорыстный расчет: если то, что я утверждаю, окажется истиной, хорошо, что я держусь такого убеждения, а если для умершего нет уже ничего, я хотя бы не буду докучать присутствующим своими жалобами в эти предсмертные часы, и, наконец, глупая моя выдумка тоже не сохранится среди живых – это было бы неладно, – но вскоре погибнет.
Вот как я изготовился, Симмий и Кебет, чтобы приступить к доказательству. А вы послушайтесь меня и поменьше думайте о Сократе, но главным образом – об истине;
c
и если решите, что я говорю верно, соглашайтесь, а если нет – возражайте, как только сможете. А не то смотрите – я увлекусь и введу в обман разом и себя самого, и вас, а потом исчезну, точно пчела, оставившая в ранке жало.
Однако ж вперед! Раньше всего напомните мне, что вы говорили, – на случай, если я что забыл. Симмий, если не ошибаюсь, был в сомнении и в страхе, как бы душа, хотя она и божественнее и прекраснее тела, все же не погибла первою – по той причине, что она своего рода гармония.
d
А Кебет, мне кажется, соглашается со мною в том. что душа долговечнее тела, но, по его мнению, никто не может быть уверен, что душа, после того как сменит и сносит много тел, покидая последнее из них, не погибает и сама; именно гибель души и есть, собственно, смерть, потому что тело отмирает и гибнет непрестанно. Это или что другое нужно нам рассмотреть, Кебет и Симмий?
Оба отвечали, что именно это.
e
– Скажите, – продолжал Сократ, – вы отвергаете все прежние доводы целиком или же одни отвергаете, а другие нет?
– Одни отвергаем, – отвечали они, – другие нет.
– А как насчет того утверждения, что знание – это припоминание и что, если так, душа наша непременно должна была где‑то существовать, прежде чем попала в оковы тела?
92
– Я, – промолвил Кебет, – и тогда нашел это утверждение на редкость убедительным, и сейчас ни в коем случае не хочу от него отказываться.
– И я так считаю, – сказал Симмий, – и был бы очень изумлен, если бы мое мнение вдруг переменилось.
Тогда Сократ:
– А между тем, друг‑фиванец, тебе придется его переменить, если ты останешься при мысли, что гармония – это нечто составное, а душа – своего рода гармония, слагающаяся из натяжения телесных начал.
b
Ведь ты едва ли и сам допустишь, что гармония сложилась и существовала прежде, нежели то, из чего ей предстояло сложиться. Или все‑таки допустишь?
– Никогда, Сократ! – воскликнул Симмий.
– Но ты видишь, что именно это ты нечаянно и утверждаешь? Ведь ты говоришь, что душа существует до того, как воплотится в человеческом образе, а значит, она существует, сложившись из того, что еще не существует. Ведь гармония совсем непохожа на то, чему ты уподобляешь ее сейчас:
c
наоборот, сперва рождается лира, и струны, и звуки, пока еще негармоничные, и лишь последней возникает гармония и первой разрушается. Как же этот новый твой довод будет звучать в лад с прежним?
– Никак не будет, – отвечал Симмий.
– А ведь если какому доводу и следует звучать стройно и в лад, так уж тому, который касается гармонии.
– Да, конечно, – согласился Симмий.
– А у тебя не выходит в лад, – сказал Сократ. – Так что гляди, какой из двух доводов ты выбираешь: что знание – это припоминание[869]
или что душа – гармония.
d
– Первый, Сократ, несомненно, первый. Второй я усвоил без доказательства, соблазненный его правдоподобием и изяществом, то есть так же, как обычно принимает его большинство людей. Но я прекрасно знаю, что доводы, доказывающие свою правоту через правдоподобие, – это пустохвалы, и, если не быть настороже, они обманут тебя самым жестоким образом. Так случается и в геометрии, и во всем прочем. Иное дело – довод о припоминании и знании: он строится на таком основании, которое заслуживает доверия. Сколько я помню, мы говорили, что душа существует до перехода своего в тело с такой же необходимостью, с какою ей принадлежит сущность, именуемая бытием.
e
Это основание я принимаю как верное и достаточное и нимало в нем не сомневаюсь. А если так, я, по‑видимому, не должен признавать, что душа есть гармония, кем бы этот взгляд ни высказывался – мною или еще кем‑нибудь.
93
– Ну, так и что же, Симмий? Как тебе кажется, может ли гармония или любое другое сочетание проявить себя как‑то иначе, чем составные части, из которых оно складывается?
– Никак не может.
– Стало быть, как я думаю, ни действовать само, ни испытывать воздействие как‑нибудь иначе, чем они?
Симмий согласился.
– И значит, гармония не может руководить своими составными частями, наоборот, она должна следовать за ними?
Симмий подтвердил.
– И уж подавно ей и не двинуться, и не прозвучать вопреки составным частям, одним словом, никакого противодействия им не оказать?
– Да, ни малейшего.
– Пойдем дальше. Всякая гармония по природе своей такова, какова настройка?
– Не понимаю тебя.
b
– Ну, а если настройка лучше, полнее – допустим, что такое возможно, – то и гармония была бы гармонией в большей мере, а если хуже и менее полно, то в меньшей мере.
– Совершенно верно.
– А к душе это приложимо, так чтобы хоть ненамного одна душа была лучше, полнее другой или хуже, слабее именно как душа?
– Никак не приложимо!
– Продолжим, ради Зевса. Про душу говорят, что одна обладает умом и добродетелью и потому хороша, а другая безрассудна, порочна и потому дурна. Верно так говорится или неверно?
c
– Да, верно.
– А если душу считать гармонией, как нам обозначить то, что содержится в душах – добродетель и порочность? Назовем первую еще одной гармонией, а вторую дисгармонией? И про хорошую душу скажем, что она гармонична и, будучи сама гармонией, несет в себе еще одну гармонию, а про другую – что она и сама негармонична, и другой гармонии не содержит?
– Я, право, не знаю, как отвечать, – промолвил Симмий. – Однако же ясно: раз мы так предположили, то и скажем что‑нибудь вроде этого.
d
– Но ведь мы уже признали, – продолжал Сократ, – что ни одна душа не может быть более или менее душою, чем другая, а это означает признать, что одна гармония не может быть более, полнее или же менее, слабее гармонией, чем другая. Так?
– Именно так.
– А что не есть гармония более или менее, то не должно быть и настроено более или менее. Верно?
– Верно.
– А что не настроено более или менее, будет ли это причастно гармонии в большей или меньшей степени, нежели что‑то иное, или одинаково?
– Одинаково.
e
– Значит, душа, раз она всегда остается самой собою и не бывает ни более ни менее душою, чем другая душа, не бывает и настроенной в большей или меньшей степени?
– Да, не бывает.
– И если так, [одна душа] не может быть причастна гармонии или дисгармонии более полно, [чем другая]?
– Выходит, что нет.
– Но повторяю, если так, может ли одна душа оказаться причастной порочности или добродетели более полно, чем другая? Ведь мы признали, что порочность – это дисгармония, добродетель же – гармония.
– Никак не может.
94
– А еще вернее, пожалуй, – если быть последовательными – ни одна душа, Симмий, порочности не причастна: ведь душа – это гармония, а гармония, вполне оставаясь самой собою, то есть гармонией, никогда не будет причастна дисгармонии.
– Да, конечно.
– И душа не будет причастна порочности, поскольку она остается доподлинно душою.
– Можно ли сделать такой вывод из всего, что было сказано?
– Из нашего рассуждения следует, что все души всех живых существ одинаково хороши, коль скоро душам свойственно оставаться тем, что они есть, – душами.
– Мне кажется, что так, Сократ.
b
– Но кажется ли тебе это верным? Кажется ли тебе, что мы пришли бы к такому выводу, будь наше исходное положение – что душа это гармония – верно?
– Ни в коем случае!
– Пойдем дальше, – продолжал Сократ. – Что правит всем в человеке – душа, в особенности если она разумна, или что иное, как, по‑твоему?
– По‑моему, душа.
– А правит она, уступая состоянию тела или противясь ему? Я говорю вот о чем: если, например, у тебя жар и жажда, душа влечет тебя в другую сторону и не велит пить, если ты голоден – не велит есть, и в тысяче других случаев мы видим, как она действует вопреки телу. Так или не так?
c
– Именно так.
– Но разве мы не согласились раньше, что душа, если это гармония, всегда поет в лад с тем, как натянуты, или отпущены, или звучат, или как‑то еще размещены и расположены составные части? Разве мы не согласились, что душа следует за ними и никогда не властвует?
– Да, – отвечал Симмий, – согласились.
d
– Что же получается? Ведь мы убеждаемся, что она действует как раз наоборот – властвует над всем тем, из чего, как уверяют, она состоит, противится ему чуть ли не во всем и в течение всей жизни всеми средствами подчиняет своей власти и то сурово и больно наказывает, заставляя исполнять предписания врача или учителя гимнастики, то обнаруживает некоторую снисходительность, то грозит, то увещевает, обращаясь к страстям, гневным порывам и страхам словно бы со стороны. Это несколько напоминает те стихи Гомера, где он говорит об Одиссее:
В грудь он ударил себя и сказал раздраженному сердцу:
e
Сердце, смирись; ты гнуснейшее вытерпеть силу имело…[870]
Разве, по‑твоему, у него сложились бы такие стихи, если бы он думал, что душа – это гармония, что ею руководят состояния тела, а не наоборот – что она сама руководит и властвует и что она гораздо божественнее любой гармонии? Как тебе кажется?
– Клянусь Зевсом, Сократ, мне кажется, что ты прав!
– Тогда, дорогой мой, нам никак не годится утверждать, будто душа – своего рода гармония: так мы, пожалуй, разойдемся и с божественным Гомером, и с самими собою.
95
– Верно, – подтвердил он.
– Вот и прекрасно, – сказал Сократ. – Фиванскую Гармонию[871]
мы как будто умилостивили. Теперь очередь Кадма, Кебет. Как нам приобрести его благосклонность, какими доводами?
– Мне кажется, ты найдешь как, – отозвался Кебет. – Во всяком случае, твои возражения против гармонии меня просто восхитили – настолько они были неожиданны. Слушая Симмия, когда он говорил о своих затруднениях, я все думал: неужели кто‑нибудь сумеет справиться с его доводами?
b
И мне было до крайности странно, когда он не выдержал и первого твоего натиска. Так что я бы не удивился, если бы та же участь постигла и Кадмовы доводы.
– Ах, милый ты мой, – сказал Сократ, – не надо громких слов – как бы кто не испортил наше рассуждение еще раньше, чем оно началось. Впрочем, об этом позаботится божество, а мы по‑гомеровски вместе пойдем[872]
и посмотрим, дело ли ты говоришь.
Что ты хочешь выяснить? Главное, если я не ошибаюсь, вот что. Ты требуешь доказательства, что душа наша неуничтожима и бессмертна;
c
в противном случае, говоришь ты, отвага философа, которому предстоит умереть и который полон бодрости и спокойствия, полагая, что за могилою он найдет блаженство, какого не мог бы обрести, если бы прожил свою жизнь иначе, – его отвага безрассудна и лишена смысла. Пусть мы обнаружили, что душа сильна и богоподобна, что она существовала и до того, как мы родились людьми, – все это, по‑твоему, свидетельствует не о бессмертии души, но лишь о том, что она долговечна и уже существовала где‑то в прежние времена неизмеримо долго, многое постигла и многое совершила.
d
Но к бессмертию это ее нисколько не приближает, напротив, самое вселение ее в человеческое тело было для души началом гибели, словно болезнь. Скорбя проводит она эту свою жизнь, чтобы под конец погибнуть в том, что зовется смертью. И совершенно безразлично, утверждаешь ты, войдет ли она в тело раз или много раз, по крайней мере для наших опасений: если только человек не лишен рассудка, он непременно должен опасаться – ведь он не знает, бессмертна ли душа, и не может этого доказать.
e
Вот, сколько помнится, то, что ты сказал, Кебет. Я повторяю это нарочно, чтобы ничего не пропустить и чтобы ты мог что‑нибудь прибавить или убавить, если пожелаешь.
А Кебет в ответ:
– Нет, Сократ, сейчас я ничего не хочу ни убавлять, ни прибавлять. Это все, что я сказал.
Сократ задумался и надолго умолк. Потом начал так:
96
– Не простую задачу задал ты, Кебет. Чтобы ее решить, нам придется исследовать причину рождения и разрушения в целом. И если ты не против, я расскажу тебе о том, что приключилось со мной во время такого исследования. Если что из этого рассказа покажется тебе полезным, ты сможешь использовать это для подкрепления твоих взглядов.
– Конечно, я не против, – ответил Кебет. Аргумент четвертый: теория души как эйдоса жизни
– Тогда послушай. В молодые годы, Кебет. у меня была настоящая страсть к тому виду мудрости, который называют познанием природы. Мне представлялось чем‑то возвышенным знать причины каждого явления – почему что рождается, почему погибает и почему существует. И я часто бросался из крайности в крайность и вот какого рода вопросы задавал себе в первую очередь:
b
когда теплое и холодное вызывают гниение, не тогда ли, как судили некоторые, образуются живые существа[873]
? Чем мы мыслим – кровью, воздухом или огнем[874]
? Или же ни тем, ни другим и ни третьим, а это наш мозг вызывает чувство слуха, и зрения, и обоняния, а из них возникают память и представление, а из памяти и представления, когда они приобретут устойчивость, возникает знание[875]
?
c
Размышлял я и о гибели всего этого, и о переменах, которые происходят в небе и на Земле, и все для того, чтобы в конце концов счесть себя совершенно непригодным к такому исследованию. Сейчас я приведу тебе достаточно веский довод. До тех пор я кое‑что знал ясно – так казалось и мне самому, и остальным, – а теперь, из‑за этих исследований, я окончательно ослеп и утратил даже то знание, что имел прежде, – например, среди многого прочего перестал понимать, почему человек растет. Прежде я думал, что это каждому ясно: человек растет потому, что ест и пьет.
d
Мясо прибавляется к мясу, кости – к костям, и так же точно, по тому же правилу, всякая часть [пищи] прибавляется к родственной ей части человеческого тела и впоследствии малая величина становится большою. Так малорослый человек делается крупным. Вот как я думал прежде. Правильно, по‑твоему, или нет?
– По‑моему, правильно, – сказал Кебет.
– Или еще. Если высокий человек, стоя рядом с низкорослым, оказывался головою выше, то никаких сомнений это у меня не вызывало. И два коня рядом – тоже.
e
Или еще нагляднее: десять мне казалось больше восьми потому, что к восьми прибавляется два, а вещь в два локтя длиннее вещи в один локоть потому, что превосходит ее на половину собственной длины.
– Ну, хорошо, а что ты думаешь обо всем этом теперь? – спросил Кебет.
– Теперь, клянусь Зевсом, – сказал Сократ, – я далек от мысли, будто знаю причину хотя бы одной из этих вещей. Я не решаюсь судить даже тогда, когда к единице прибавляют единицу, – то ли единица, к которой прибавили другую, стала двумя, то ли прибавляемая единица и та, к которой прибавляют, вместе становятся двумя через прибавление одной к другой.
97
Пока каждая из них была отдельно от другой, каждая оставалась единицей и двух тогда не существовало, но вот они сблизились, и я спрашиваю себя: в этом ли именно причина возникновения двух – в том, что произошла встреча, вызванная взаимным сближением? И если кто разделяет единицу, я не могу больше верить, что двойка появляется именно по этой причине – через разделение, ибо тогда причина будет как раз противоположной причине образования двух:
b
только что мы утверждали, будто единицы взаимно сближаются и прибавляются одна к другой, а теперь говорим, что одна от другой отделяется и отнимается! И я не могу уверить себя, будто понимаю, почему и как возникает единица или что бы то ни было иное – почему оно возникает, гибнет или существует. Короче говоря, этот способ исследования мне решительно не нравится, и я выбираю себе наугад другой.
c
Но однажды мне кто‑то рассказал, как он вычитал в книге Анаксагора, что всему в мире сообщает порядок и всему служит причиной Ум[876]
; и эта причина мне пришлась по душе, я подумал, что это прекрасный выход из затруднений, если всему причина – Ум. Я решил, что если так, то Ум‑устроитель должен устраивать все наилучшим образом и всякую вещь помещать там, где ей всего лучше находиться. И если кто желает отыскать причину, по которой что‑либо рождается, гибнет или существует, ему следует выяснить, как лучше всего этой вещи существовать, действовать или самой испытывать какое‑либо воздействие.
d
Исходя из этого рассуждения, человеку не нужно исследовать ни в себе, ни в окружающем ничего иного, кроме самого лучшего и самого совершенного. Конечно, он непременно должен знать и худшее, ибо знание лучшего и знание худшего – это одно и то же знание. Рассудивши так, я с удовольствием думал, что нашел в Анаксагоре учителя, который откроет мне причину бытия, доступную моему разуму, и прежде всего расскажет, плоская ли Земля или круглая, а рассказавши, объяснит необходимую причину
e
– сошлется на самое лучшее, утверждая, что Земле лучше всего быть именно такой, а не какой‑нибудь еще. И если он скажет, что Земля находится в центре [мира], объяснит, почему ей лучше быть в центре. Если он откроет мне все это, думал я, я готов не искать причины иного рода.
98
Да, я был готов спросить у него таким же образом о Солнце, Луне и звездах – о скорости их движения относительно друг друга, об их поворотах и обо всем остальном, что с ними происходит: каким способом каждое из них действует само или подвергается воздействию. Я ни на миг не допускал мысли, что, назвавши их устроителем Ум, Анаксагор может ввести еще какую‑то причину помимо той, что им лучше всего быть в таком положении, в каком онк и находятся.
b
Я полагал, что, определив причину каждого из них и всех вместе, он затем объяснит, что всего лучше для каждого и в чем их общее благо. И эту свою надежду я не отдал бы ни за что! С величайшим рвением принялся я за книги Анаксагора, чтобы поскорее их прочесть и поскорее узнать, что же всего лучше и что хуже.
Но с вершины изумительной этой надежды, друг Кебет, я стремглав полетел вниз, когда, продолжая читать, увидел, что Ум у него остается без всякого применения[877]
и что порядок вещей вообще не возводится ни к каким причинам, но приписывается – совершенно нелепо – воздуху, эфиру, воде и многому иному.
c
На мой взгляд, это все равно, как если бы кто сперва объявил, что всеми своими действиями Сократ обязан Уму, а потом, принявшись объяснять причины каждого из них в отдельности, сказал: «Сократ сейчас сидит здесь потому, что его тело состоит из костей и сухожилий и кости твердые и отделены одна от другой сочленениями, а сухожилия могут натягиваться и расслабляться и окружают кости – вместе с мясом и кожею, которая все охватывает.
d
И так как кости свободно ходят в своих суставах, сухожилия, растягиваясь и напрягаясь, позволяют Сократу сгибать ноги и руки. Вот по этой‑то причине он и сидит теперь здесь, согнувшись». И для беседы нашей можно найти сходные причины – голос, воздух, слух и тысячи иных того же рода, пренебрегши истинными причинами –
e
тем, что, раз уж афиняне почли за лучшее меня осудить, я в свою очередь счел за лучшее сидеть здесь, счел более справедливым остаться на месте и понести то наказание, какое они назначат.
99
Да, клянусь собакой, эти жилы и эти кости уже давно, я думаю, были бы где‑нибудь в Мегарах или в Беотии[878]
, увлеченные ложным мнением о лучшем, если бы я не признал более справедливым и более прекрасным не бежать и не скрываться, но принять любое наказание, какое бы ни назначило мне государство.
Нет, называть подобные вещи причинами – полная бессмыслица. Если бы кто говорил, что без всего этого – без костей, сухожилий и всего прочего, чем я владею, – я бы не мог делать то, что считаю нужным, он говорил бы верно. Но утверждать, будто они причина всему, что я делаю, и в то же время что в данном случае я повинуюсь Уму,
b
а не сам избираю наилучший образ действий, было бы крайне необдуманно. Это значит не различать между истинной причиной и тем, без чего причина не могла бы быть причиною. Это последнее толпа, как бы ощупью шаря в потемках, называет причиной – чуждым, как мне кажется, именем. И вот последствия: один изображает Землю недвижно покоящейся под небом и окруженною неким вихрем[879]
, для другого она что‑то вроде мелкого корыта, поддерживаемого основанием из воздуха, но силы,
c
которая наилучшим образом устроила все так, как оно есть сейчас, – этой силы они не ищут и даже не предполагают за нею великой божественной мощи. Они надеются в один прекрасный день изобрести Атланта, еще более мощного и бессмертного, способного еще тверже удерживать все на себе[880]
, и нисколько не предполагают, что в действительности все связуется и удерживается благим и должным. А я с величайшей охотою пошел бы в учение к кому угодно, лишь бы узнать и понять такую причину.
d
Но она не далась мне в руки, я и сам не сумел ее отыскать, и от других ничему не смог научиться, и тогда в поисках причины я снова пустился в плавание. Хочешь, я расскажу тебе, Кебет, о моих стараниях?
– Очень хочу! – отвечал Кебет.
– После того, – продолжал Сократ, – как я отказался от исследования бытия, я решил быть осторожнее, чтобы меня не постигла участь тех, кто наблюдает и исследует солнечное затмение. Иные из них губят себе глаза, если смотрят прямо на Солнце, а не на его образ в воде или еще в чем‑нибудь подобном,
e
– вот и я думал со страхом, как бы мне совершенно не ослепнуть душою, рассматривая вещи глазами и пытаясь коснуться их при помощи того или иного из чувств. Я решил, что надо прибегнуть к отвлеченным понятиям и в них рассматривать истину бытия, хотя уподобление, которым я при этом пользуюсь, в чем‑то, пожалуй, и ущербно.
100
Правда, я не очень согласен, что тот, кто рассматривает бытие в понятиях, лучше видит его в уподоблении, чем если рассматривать его в осуществлении. Как бы там ни было, именно этим путем двинулся я вперед, каждый раз полагая в основу понятие, которое считал самым надежным; и то, что, как мне кажется, согласуется с этим понятием, я принимаю за истинное – идет ли речь о причине или о чем бы то ни было ином, – а что не согласно с ним, то считаю неистинным. Но я хочу яснее высказать тебе свою мысль. Мне кажется, ты меня еще не понимаешь.
– Да, клянусь Зевсом, – сказал Кебет. – Не совсем.
b
– Но ведь я не говорю ничего нового, а лишь повторяю то, что говорил всегда – и ранее, и только что в нашей беседе. Я хочу показать тебе тот вид причины, который я исследовал, и вот я снова возвращаюсь к уже сто раз слышанному и с него начинаю, полагая в основу, что существует прекрасное само по себе, и благое, и великое, и все прочее. Если ты согласишься со мною и признаешь, что так оно и есть, я надеюсь, это позволит мне открыть и показать тебе причину бессмертия души.
c
– Считай, что я согласен, и иди прямо к цели, – отвечал Кебет.
– Посмотри же, примешь ли ты вместе со мною и то, что за этим следует. Если существует что‑либо прекрасное помимо прекрасного самого по себе, оно, мне кажется, не может быть прекрасным иначе, как через причастность прекрасному самому по себе. Так же я рассуждаю и во всех остальных случаях. Признаёшь ты эту причину?
– Признаю.
d
– Тогда я уже не понимаю и не могу постигнуть иных причин, таких мудреных, и, если мне говорят, что такая‑то вещь прекрасна либо ярким своим цветом, либо очертаниями, либо еще чем‑нибудь в таком же роде, я отметаю все эти объяснения, они только сбивают меня с толку[881]
. Просто, без затей, может быть даже слишком бесхитростно, я держусь единственного объяснения: ничто иное не делает вещь прекрасною, кроме присутствия прекрасного самого по себе или общности с ним, как бы она ни возникла. Я не стану далее это развивать, я настаиваю лишь на том, что все прекрасные вещи становятся прекрасными через прекрасное [само по себе]. Надежнее ответа нельзя, по‑моему, дать ни себе, ни кому другому.
e
Опираясь на него, я уже не оступлюсь. Да, я надежно укрылся от опасностей, сказавши себе и другим, что прекрасное становится прекрасным благодаря прекрасному. И тебе тоже так кажется?
– Да.
– И стало быть, большие вещи суть большие и большие суть большие благодаря большому [самому по себе], а меньшие – благодаря малому?
– Да.
– И значит, если бы тебе сказали, что один человек головою больше другого, а другой головою меньше, ты не принял бы этого утверждения, но решительно бы его отклонил, заявивши так:
101
«Я могу сказать лишь одно – что всякая вещь, которая больше другой вещи, такова лишь благодаря большому, то есть она становится больше благодаря большому, а меньшее становится меньшим лишь благодаря малому, то есть малое делает его меньшим». А если бы ты признал, что один человек головою больше, а другой меньше, тебе пришлось бы, я думаю, опасаться, как бы не встретить возражения: прежде всего в том, что большее у тебя есть большее, а меньшее – меньшее по одной и той же причине, а затем и в том, что большее делает бульшим малое, – ведь голова‑то мала!
b
А быть большим благодаря малому – это уж диковина! Ну что, не побоялся бы ты таких возражений?
– Побоялся бы, – отвечал Кебет со смехом.
– Стало быть, – продолжал Сократ, – ты побоялся бы утверждать, что десять больше восьми на два и по этой причине превосходит восемь, но сказал бы, что десять превосходит восемь количеством и через количество? И что вещь в два локтя больше вещи в один локоть длиною, но не на половину собственного размера? Ведь и здесь приходится опасаться того же самого.
– Совершенно верно.
– Пойдем дальше. Разве не остерегся бы ты говорить, что, когда прибавляют один к одному, причина появления двух есть прибавление, а когда разделяют одно – то разделение?
c
Разве ты не закричал бы во весь голос, что знаешь лишь единственный путь, каким возникает любая вещь, – это ее причастность особой сущности, которой она должна быть причастна, и что в данном случае ты можешь назвать лишь единственную причину возникновения двух – это причастность двойке. Все, чему предстоит сделаться двумя, должно быть причастно двойке, а чему предстоит сделаться одним – единице. А всяких разделений, прибавлений и прочих подобных тонкостей тебе даже и касаться не надо. На эти вопросы пусть отвечают те, кто помудрее тебя, ты же, боясь, как говорится, собственной тени и собственного невежества, не расставайся с надежным и верным основанием, которое мы нашли, и отвечай соответственно.
d
Если же кто ухватится за само основание, ты не обращай на это внимания и не торопись с ответом, пока не исследуешь вытекающие из него следствия и не определишь, в лад или не в лад друг другу они звучат. А когда потребуется оправдать само основание, ты сделаешь это точно таким же образом – положишь в основу другое, лучшее в сравнении с первым, как тебе покажется, и так до тех пор, пока не достигнешь удовлетворительного результата.
e
Но ты не станешь все валить в одну кучу, рассуждая разом и об исходном понятии, и о его следствиях, как делают завзятые спорщики[882]
: ведь ты хочешь найти подлинное бытие, а среди них, пожалуй, ни у кого нет об этом ни речи, ни заботы. Своею премудростью они способны все перепутать и замутить, но при этом остаются вполне собою довольны. Ты, однако ж, философ и потому, я надеюсь, поступишь так, как я сказал.
102
– Ты совершенно прав, – в один голос откликнулись Симмий и Кебет.
Эхекрат.
Клянусь Зевсом, Федон, иначе и быть не могло! Мне кажется, Сократ говорил изумительно ясно, так что впору понять и слабому уму.
Федон.
Верно, Эхекрат, все, кто был тогда подле него, так и решили.
Эхекрат.
Вот и мы тоже, хоть нас там и не было, и мы лишь сейчас это слышим. А о чем шла беседа после этого?
b
Федон.
Помнится, когда Симмий и Кебет с ним согласились и признали, что каждая из идей существует и что вещи в силу причастности к ним получают их имена[883]
, после этого Сократ спросил:
– Если так, то, говоря, что Симмий больше Сократа и меньше Федона, ты утверждаешь, что в Симмий есть и большое и малое само по себе разом. Верно?
– Верно.
– Но ты, конечно, согласен со мною, что выражение «Симмий выше Сократа» полностью истине не соответствует? Ведь Симмий выше не потому, что он Симмий, не по природе своей, но через то большое, которое в нем есть.
c
И выше Сократа он не потому, что Сократ – это Сократ, а потому, что Сократ причастен малому – сравнительно с большим, которому причастен Симмий.
– Правильно.
– И ниже Федона он не потому, что Федон – это Федон, а потому, что причастен малому сравнительно с большим, которому причастен Федон?
– Да, это так.
– Выходит, что Симмия можно называть разом и маленьким, и большим по сравнению с двумя другими: рядом с великостью одного он ставит свою малость, а над малостью второго воздвигает собственную великость.
d
Тут Сократ улыбнулся и заметил:
– Видно, я сейчас заговорю как по писаному. Но как бы там ни было, а говорю я, сдается мне, дело. Кебет подтвердил.
– Цель же моя в том, – продолжал Сократ, – чтобы ты разделил мой взгляд. Мне кажется, не только большое никогда не согласится быть одновременно и большим и малым, но и большое в нас никогда не допустит и не примет малого, не пожелает оказаться меньше другого.
e
Но в таком случае одно из двух: либо большое отступает и бежит, когда приблизится его противник – малое, либо гибнет, когда противник подойдет вплотную. Ведь, оставаясь на месте и принявши малое, оно сделается иным, чем было раньше, а именно этого оно и не хочет. Вот, например, я принял и допустил малое, но остаюсь самим собою – я прежний Сократ, маленький, тогда как то, большое, не смеет быть малым, будучи большим. Так же точно и малое в нас никогда не согласится стать или же быть большим, и вообще ни одна из противоположностей, оставаясь тем, что она есть, не хочет ни превращаться в другую противоположность, ни быть ею, но либо удаляется, либо при этом изменении гибнет.
103
– Да, – сказал Кебет, – мне кажется, что именно так оно и есть.
Услыхав это, кто‑то из присутствовавших – я уже не помню точно кто – сказал:
– Ради богов, да ведь мы раньше сошлись и согласились как раз на обратном тому, что говорим сейчас! Разве мы не согласились, что из меньшего возникает большее, а из большего меньшее и что вообще таково происхождение противоположностей – из противоположного? А теперь, сколько я понимаю, мы утверждаем, что так никогда не бывает!
Сократ обернулся, выслушал и ответил так:
b
– Ты смело напомнил! Но ты не понял разницы между тем, что говорится теперь и говорилось тогда. Тогда мы говорили, что из противоположной вещи рождается противоположная вещь, а теперь – что сама противоположность никогда не перерождается в собственную противоположность ни в нас, ни в природе. Тогда, друг, мы говорили о вещах, несущих в себе противоположное, называя их именами этих противоположностей, а теперь о самих противоположностях, присутствие которых дает имена вещам: это они, утверждаем мы теперь, никогда не соглашаются возникнуть одна из другой.
c
Тут он взглянул на Кебета и прибавил:
– Может быть, и тебя, Кебет, смутило что‑нибудь из того, что высказал он?
– Нет, – отвечал Кебет, – нисколько. Но я не стану отрицать, что многое смущает и меня.
– Значит, мы согласимся без всяких оговорок, что противоположность никогда не будет противоположна самой себе?
– Да, без малейших оговорок.
– Теперь взгляни, согласишься ли ты со мною еще вот в каком вопросе. Ты ведь называешь что‑либо холодным или горячим?
– Называю.
– И это то же самое, что сказать «снег» и «огонь»?
d
– Нет, конечно, клянусь Зевсом!
– Значит, горячее – это иное, чем огонь, и холодное – иное, чем снег?
– Да.
– Но ты, видимо, понимаешь, что никогда снег (как мы сейчас только говорили), приняв горячее, уже не будет тем, чем был прежде, – снегом, и вместе с тем горячим: когда горячее приблизится, он либо отступит перед ним, либо погибнет.
– Совершенно верно.
– Равным образом ты, видимо, понимаешь, что огонь, когда приближается холодное, либо сходит с его пути, либо же гибнет: он и не хочет и не в силах, принявши холод, быть тем, чем был прежде, – огнем, и, вместе, холодным.
e
– Да, это так.
– Значит, в иных из подобных случаев бывает, что одно и то же название сохраняется на вечные времена не только за самой идеей, но и за чем‑то иным, что не есть идея, но обладает ее формою во все время своего существования. Сейчас, я надеюсь, ты яснее поймешь, о чем я говорю. Нечетное всегда должно носить то имя, каким я его теперь обозначаю, или не всегда?
– Разумеется, всегда.
104
– Но одно ли оно из всего существующего – вот что я хочу спросить, – или же есть еще что‑нибудь: хоть оно и не то же самое, что нечетное, все‑таки кроме своего особого имени должно всегда называться нечетным, ибо по природе своей неотделимо от нечетного? То. о чем я говорю, видно на многих примерах, и в частности на примере тройки. Поразмысли‑ка над числом «три». Не кажется ли тебе, что его всегда надо обозначать и своим названием, и названием нечетного, хотя нечетное и не совпадает с тройкой?
b
Но такова уж природа и тройки, и пятерки, и вообще половины всех чисел, что каждое из них всегда нечетно и все же ни одно полностью с нечетным не совпадает. Соответственно два, четыре и весь другой ряд чисел всегда четны, хотя полностью с четным ни одно из них не совпадает. Согласен ты со мною или нет?
– Как не согласиться! – отвечал Кебет.
– Тогда следи внимательнее за тем, что я хочу выяснить. Итак, по‑видимому, не только все эти противоположности не принимают друг друга, но и все то, что не противоположно друг другу, однако же постоянно несет в себе противоположности, как видно, не принимает той идеи, которая противоположна идее, заключенной в нем с самом, но, когда она приближается, либо гибнет, либо отступает перед нею.
c
Разве мы не признбем, что число «три» скорее погибнет и претерпит все, что угодно, но только не станет, будучи тремя, четным?
– Несомненно, признаем, – сказал Кебет.
– Но между тем два не противоположно трем?
– Нет, конечно.
– Стало быть, не только противоположные идеи не выстаивают перед натиском друг друга, но существует и нечто другое, не выносящее сближения с противоположным?
– Совершенно верно.
– Давай определим, что это такое, если сможем?
– Очень хорошо.
d
– Не то ли это, Кебет, чту, овладев вещью, заставляет ее принять не просто свою собственную идею, но [идею] того, что всегда противоположно тому, [чем оно овладевает]?
– Как это?
– Так, как мы только что говорили. Ты же помнишь, что всякая вещь, которою овладевает идея троичности, есть непременно и три, и нечетное.
– Отлично помню.
– К такой вещи, утверждаем мы, никогда не приблизится идея, противоположная той форме, которая эту вещь создает.
– Верно.
– А создавала ее форма нечетности?
– Да.
– И противоположна ей идея четности?
– Да.
e
– Стало быть, к трем идея четности никогда не приблизится.
– Да, никогда.
– У трех, скажем мы, нет доли в четности.
– Нет.
– Стало быть, три лишено четности.
– Да.
– Я говорил, что мы должны определить, что, не будучи противоположным чему‑то иному, все же не принимает этого как противоположного. Вот, например, тройка: она не противоположна четному и тем не менее не принимает его, ибо привносит нечто всегда ему противоположное. Равным образом двойка привносит нечто противоположное нечетности, огонь – холодному и так далее.
105
Теперь гляди, не согласишься ли ты со следующим определением: не только противоположное не принимает противоположного, но и то, что привносит нечто противоположное в другое, приближаясь к нему, никогда не примет ничего сугубо противоположного тому, что оно привносит. Вспомни‑ка еще разок (в этом нет вреда – слушать несколько раз об одном и том же): пять не примет идеи четности, а десять, удвоенное пять, – идеи нечетности. Разумеется, это – десятка, – хоть сама и не имеет своей противоположности, вместе с тем идеи нечетности не примет.
b
Так же ни полтора, ни любая иная дробь того же рода не примет идеи целого, ни треть, как и все прочие подобные ей дроби. Надеюсь, ты поспеваешь за мною и разделяешь мой взгляд.
– Да, разделяю, и с величайшей охотой! – сказал Кебет.
– Тогда вернемся к началу. Только теперь, пожалуйста, отвечай мне не так, как я спрашиваю, но подражая мне. Дело в том, что помимо прежнего надежного ответа я усмотрел по ходу нашего рассуждения еще и другую надежность. Если бы ты спросил меня, что должно появиться в теле, чтобы оно стало теплым, я бы уже не дал того надежного,
c
но невежественного ответа, не сказал бы, что теплота, но, наученный нашим рассуждением, ответил бы потоньше – что огонь. И если ты спросишь, от чего тело становится недужным, не скажу, что от недуга, но – от горячки. Подобным же образом, если ты спросишь меня, чту должно появиться в числе, чтобы оно сделалось нечетным, я отвечу, что не нечетность, но единица. Ну и так далее. Теперь ты достаточно ясно понимаешь, что я имею в виду?
– Вполне достаточно.
– Тогда отвечай: что должно появиться в теле, чтобы оно было живым?
– Душа, – сказал Кебет.
d
– И так бывает всегда?
– А как может быть иначе? – спросил тот.
– Значит, чем бы душа ни овладела, она всегда привносит в это жизнь?
– Да, верно.
– А есть ли что‑нибудь противоположное жизни или нет?
– Есть.
– Что же это?
– Смерть.
– Но – в этом мы уже согласились – душа никогда не примет противоположного тому, что всегда привносит сама?
– Без всякого сомнения! – отвечал Кебет.
– Что же выходит? Как мы сейчас назвали то, что не принимает идеи четного?
– Нечетным.
– А не принимающее справедливости и то, что никогда не примет искусности?
e
– Одно – неискусным, другое – несправедливым.
– Прекрасно. А то, что не примет смерти, как мы назовем?
– Бессмертным.
– Но ведь душа не принимает смерти?
– Нет.
– Значит, душа бессмертна?
– Бессмертна, – сказал Кебет.
– Прекрасно. Будем считать, что это доказано? Или как по‑твоему?
– Доказано, Сократ, и к тому же вполне достаточно.
– Пойдем дальше, Кебет. Если бы нечетное должно было быть неуничтожимым, то, вероятно, было бы неуничтожимо и три.
106
– Разумеется.
– Ну, а если бы и холодному непременно следовало быть неуничтожимым, то, когда к снегу приблизили бы тепло, он отступил бы целый и нерастаявший, не так ли? Ведь погибнуть он бы не мог, но не мог бы и принять теплоту, оставаясь самим собой.
– Правильно, – сказал Кебет.
– Точно так же, я думаю, если бы неуничтожимым было горячее, то, когда к огню приблизилось бы что‑нибудь холодное, он бы не гаснул, не погибал, но отступал бы невредимым.
– Непременно.
b
– Но не должны ли мы таким же образом рассуждать и о бессмертном? Если бессмертное неуничтожимо, душа не может погибнуть, когда к ней приблизится смерть: ведь из всего сказанного следует, что она не примет смерти и не будет мертвой! Точно так же, как не будет четным ни три, ни [само] нечетное, как не будет холодным ни огонь, ни теплота в огне! «Что, однако же, препятствует нечетному, – скажет кто‑нибудь, – не становясь четным, когда четное приблизится, – так мы договорились – погибнуть и уступить свое место четному?»
c
И мы не были бы вправе решительно настаивать, что нечетное не погибнет, – ведь нечетное не обладает неуничтожимостью. Зато если бы было признано, что оно неуничтожимо, мы без труда отстаивали бы свой взгляд, что под натиском четного нечетное и три спасаются бегством. То же самое мы могли бы решительно утверждать об огне и горячем, а равно и обо всем остальном. Верно?
– Совершенно верно.
– Теперь о бессмертном. Если признано, что оно неуничтожимо, то душа не только бессмертна, но и неуничтожима. Если же нет, потребуется какое‑то новое рассуждение.
d
– Нет, нет, – сказал Кебет, – ради этого нам нового рассуждения не нужно. Едва ли что избегнет гибели, если даже бессмертное, будучи вечным, ее примет.
– Я полагаю, – продолжал Сократ, – что ни бог, ни сама идея жизни, ни все иное бессмертное никогда не гибнет, – это, видимо, признано у всех.
– Да, у всех людей, клянусь Зевсом, и еще больше, мне думается, у богов.
e
– Итак, поскольку бессмертное неуничтожимо, душа, если она бессмертна, должна быть в то же время и неуничтожимой.
– Бесспорно, должна.
– И когда к человеку подступает смерть, то смертная его часть, по‑видимому, умирает, а бессмертная отходит целой и невредимой, сторонясь смерти.
– По‑видимому, так.
– Значит, не остается ни малейших сомнений, Кебет, что душа бессмертна и неуничтожима. И поистине, наши души будут существовать в Аиде.
107
– Что до меня, Сократ, то мне возразить нечего, я полон доверия к нашему доказательству. Но если Симмий или кто другой хотят что‑нибудь сказать, лучше им не таить свои мысли про себя: ведь другого случая высказаться и услышать твои разъяснения по этому поводу, пожалуй, не представится, так что лучше не откладывать.
b
– Я тоже, – заметил Симмий, – не нахожу, в чем из сказанного я мог бы усомниться. Но величие самого предмета и недоверие к человеческим силам все же заставляют меня в глубине души сомневаться в том, что сегодня говорилось.
– И не только в этом, Симмий, – отвечал Сократ, – твои слова надо бы отнести и к самым первым основаниям. Хоть вы и считаете их достоверными, все же надо их рассмотреть более отчетливо. И если вы разберете их достаточно глубоко, то, думаю я, достигнете в доказательстве результатов, какие только доступны человеку. В тот миг, когда это станет для вас ясным, вы прекратите искать.
– Верно, – промолвил Симмий. Этические выводы из учения о душе
c
– А теперь, друзья, – продолжал Сократ, – правильно было бы поразмыслить еще вот над чем. Если душа бессмертна[884]
, она требует заботы не только на нынешнее время, которое мы называем своей жизнью, но на все времена, и, если кто не заботится о своей душе, впредь мы будем считать это грозной опасностью. Если бы смерть была концом всему, она была бы счастливой находкой для дурных людей: скончавшись, они разом избавлялись бы и от тела, и – вместе с душой – от собственной порочности. Но на самом‑то деле, раз выяснилось, что душа бессмертна, для нее нет, видно, иного прибежища и спасения от бедствий, кроме единственного: стать как можно лучше и как можно разумнее.
d
Ведь душа не уносит с собою в Аид ничего, кроме воспитания и образа жизни, и они‑то, говорят, доставляют умершему либо неоценимую пользу, либо чинят непоправимый вред с самого начала его пути в загробный мир.
Рассказывают же об этом так. Когда человек умрет, его гений[885]
, который достался ему на долю еще при жизни, уводит умершего в особое место, где все, пройдя суд, должны собраться,
e
чтобы отправиться в Аид с тем вожатым, какому поручено доставить их отсюда туда. Обретя там участь, какую и должно, и пробывши срок, какой должны пробыть, они возвращаются сюда под водительством другого вожатого, и так повторяется вновь и вновь через долгие промежутки времени. Но путь их, конечно, не таков, каким его изображает Телеф у Эсхила[886]
.
108
Он говорит, что дорога в Аид проста, но мне она представляется и не простою и не единственной: ведь тогда не было бы нужды в вожатых, потому что никто не мог бы сбиться, будь она единственной, эта дорога. Нет, похоже, что на ней много распутий и перекрестков: я сужу по священным обрядам и обычаям, которые соблюдаются здесь у нас.
Если душа умеренна и разумна, она послушно следует за вожатым, и то, что окружает ее, ей знакомо. А душа, которая страстно привязана к телу, как я уже говорил раньше, долго витает около него –
b
около видимого места[887]
, долго упорствует и много страдает, пока наконец приставленный к ней гений силою не уведет ее прочь. Но остальные души, когда она к ним присоединится, все отворачиваются и бегут от нее, не желают быть ей ни спутниками, ни вожатыми, если окажется, что она нечиста, замарана неправедным убийством или иным каким‑либо из деяний, которые совершают подобные ей души.
c
И блуждает она одна во всяческой нужде и стеснении, пока не исполнятся времена, по прошествии коих она силою необходимости водворяется в обиталище, коего заслуживает. А души, которые провели свою жизнь в чистоте и воздержности, находят и спутников, и вожатых среди богов, и каждая поселяется в подобающем ей месте. А на Земле, как меня убедили, есть много удивительных мест, и она совсем иная, чем думают те, кто привык рассуждать о ее размерах и свойствах. Космологические выводы из учения о душе
d
Тут Симмий прервал его:
– Как это, Сократ? Я ведь и сам много слышал о Земле, но не знаю, в чем ты убедился, и охотно послушал бы тебя.
– Видишь ли, Симмий, просто пересказать, что и как, – для этого, на мой взгляд, умения Главка не надо, но доказать, что так именно оно и есть, никакому Главку, пожалуй, не под силу[888]
. Мне‑то, во всяком случае, не справиться, а самое главное, Симмий, будь я даже на это способен, мне теперь, верно, не хватило бы и жизни на такой длинный разговор. Каков, однако ж, по моему убеждению, вид Земли и каковы ее области, я могу описать: тут никаких препятствий нет.
e
– Прекрасно! – воскликнул Симмий. – С нас и этого хватит!
– Вот в чем я убедился. Во‑первых, если Земля кругла и находится посреди неба[889]
, она не нуждается ни в воздухе, ни в иной какой‑либо подобной силе, которая удерживала бы ее от падения, –
109
для этого достаточно однородности неба повсюду и собственного равновесия Земли, ибо однородное, находящееся в равновесии тело, помещенное посреди однородного вместилища, не может склониться ни в ту, ни в иную сторону, но останется однородным и неподвижным. Это первое, в чем я убедился.
– И правильно, – сказал Симмий.
b
– Далее, я уверился, что Земля очень велика и что мы, обитающие от Фасиса до Геракловых Столпов[890]
, занимаем лишь малую ее частицу; мы теснимся вокруг нашего моря, словно муравьи или лягушки вокруг болота, и многие другие народы живут во многих иных местах, сходных с нашими. Да, ибо повсюду по Земле есть множество впадин, различных по виду и по величине, куда стеклись вода, туман и воздух. Но сама Земля покоится чистая в чистом небе со звездами – с большинство рассуждающих об этом обычно называют это небо эфиром[891]
. Осадки с него стекают постоянно во впадины Земли в виде тумана, воды и воздуха.
c
А мы, обитающие в ее впадинах, об этом и не догадываемся, но думаем, будто живем на самой поверхности Земли, все равно как если бы кто, обитая на дне моря, воображал, будто живет на поверхности, и, видя сквозь воду Солнце и звезды, море считал бы небом.
d
Из‑за медлительности своей и слабости он никогда бы а не достиг поверхности, никогда бы не вынырнул и не поднял голову над водой, чтобы увидеть, насколько чище и прекраснее здесь, у нас, чем в его краях, и даже не услыхал бы об этом ни от кого другого, кто это видел.
В таком же точно положении находимся и мы: мы живем в одной из земных впадин, а думаем, будто находимся на поверхности, и воздух зовем небом в уверенности, что в этом небе движутся звезды. А все оттого, что, по слабости своей и медлительности, мы не можем достигнуть крайнего рубежа воздуха.
e
Но если бы кто‑нибудь все‑таки добрался до края или же сделался крылатым и взлетел ввысь, то, словно рыбы здесь, у нас, которые высовывают головы из моря и видят этот наш мир, так же и он, поднявши голову, увидел бы тамошний мир. И если бы по природе своей он был способен вынести это зрелище, он узнал бы, что впервые видит истинное небо, истинный свет и истинную Землю.
110
А наша Земля, и ее камни, и все наши местности размыты и изъедены, точно морские утесы, разъеденные солью. Ничто достойное внимания в море не родится, ничто, можно сказать, не достигает совершенства, а где и есть земля – там лишь растрескавшиеся скалы, песок, нескончаемый ил и грязь – одним словом, там нет решительно ничего, что можно было бы сравнить с красотами наших мест.
b
И еще куда больше отличается, видимо, тот мир от нашего! Если только уместно сейчас пересказывать миф, стоило бы послушать, Симмий, каково то, что находится на Земле, под самыми небесами.
– Ну, конечно, Сократ, – отвечал Симмий, – мы были бы рады услышать этот миф.
– Итак, друг, рассказывают прежде всего, что та Земля, если взглянуть на нее сверху, похожа на мяч, сшитый из двенадцати кусков кожи и пестро расписанный разными цветами[892]
. Краски, которыми пользуются наши живописцы, могут служить образчиками этих цветов,
c
но там вся Земля играет такими красками, и даже куда более яркими и чистыми[893]
. В одном месте она пурпурная и дивно прекрасная, в другом золотистая, в третьем белая – белее снега и алебастра; и остальные цвета, из которых она складывается, такие же, только там их больше числом и они прекраснее всего, что мы видим здесь.
d
И даже самые ее впадины, хоть и наполненные водою и воздухом, окрашены по‑своему и ярко блещут пестротою красок, так что лик ее представляется единым, целостным и вместе нескончаемо разнообразным.
Вот какова она, и, подобные ей самой, вырастают на ней деревья и цветы, созревают плоды, и горы сложены по ее подобию, и камни – они гладкие, прозрачные и красивого цвета. Их обломки – это те самые камешки, которые так ценим мы здесь: наши сердолики, и яшмы, и смарагды, и все прочие подобного рода.
e
А там любой камень такой или еще лучше. Причиною этому то, что тамошние камни чисты, неизъедены и неиспорчены – в отличие от наших, которые разъедает гниль и соль из осадков, стекающих в наши впадины: они приносят уродства и болезни камням и почве, животным и растениям.
Всеми этими красотами изукрашена та Земля, а еще – золотом, и серебром, и прочими дорогими металлами. Они лежат на виду, разбросанные повсюду в изобилии, и счастливы те, кому открыто это зрелище.
111
Среди многих живых существ, которые ее населяют, есть и люди: одни живут в глубине суши, другие – по краю воздуха, как мы селимся по берегу моря, третьи – на островах, омываемых воздухом, невдалеке от материка. Короче говоря, что для нас и для нужд нашей жизни вода, море, то для них воздух, а что для нас воздух, для них – эфир.
b
Зной и прохлада так у них сочетаются, что эти люди никогда не болеют и живут дольше нашего. И зрением, и слухом, и разумом, и всем остальным они отличаются от нас настолько же, насколько воздух отличен чистотою от воды или эфир – от воздуха. Есть у них и храмы, и священные рощи богов, и боги действительно обитают в этих святилищах и через знамения, вещания, видения общаются с людьми.
c
И люди видят Солнце, и Луну, и звезды такими, каковы они на самом деле. И спутник всего этого – полное блаженство.
Такова природа той Земли в целом и того, что ее окружает. Но во впадинах по всей Земле есть много мест, то еще более глубоких и открытых, чем впадина, в которой живем мы, то хоть и глубоких, но со входом более тесным, чем зев нашей впадины.
d
А есть и менее глубокие, но более пространные. Все они связаны друг с другом подземными ходами разной ширины, идущими в разных направлениях, так что обильные воды переливаются из одних впадин в другие, словно из чаши в чашу, и под землею текут неиссякающие, невероятной ширины реки – горячие и холодные. И огонь под землею в изобилии, и струятся громадные огненные реки и реки мокрой грязи, где более густой, где более жидкой, вроде грязевых потоков в Сицилии, какие бывают перед извержением лавы, или вроде самой лавы.
e
Эти реки заполняют каждое из углублений, и каждая из них в свою очередь всякий раз принимает все новые потоки воды или огня, которые движутся то вверх, то вниз, словно какое‑то колебание происходит в недрах. Природа этого колебания вот примерно какая. Один из зевов Земли – самый большой из всех;
112
там начало пропасти, пронизывающей Землю насквозь, и об этом упоминает Гомер, говоря:
Пропасть далекая, где под землей глубочайшая бездна[894]
.
И сам Гомер в другом месте, и многие другие поэты называют ее Тартаром. В эту пропасть стекают все реки, и в ней снова берут начало, и каждая приобретает свойства земли, по которой течет.
b
Причина, по какой все они вытекают из Тартара и туда же впадают, в том, что у всей этой влаги нет ни дна, ни основания и она колеблется – вздымается и опускается, а вместе с нею и окутывающие ее воздух и ветер: они следуют за влагой, куда бы она ни двинулась, – в дальний ли конец той Земли или в ближний. И как при дыхании воздух все время течет то в одном, то в другом направлении, так и там ветер колеблется вместе с влагой и то врывается в какое‑нибудь место, то вырывается из него, вызывая чудовищной силы вихри.
c
Когда вода отступает в ту область, которую мы зовем нижнею, она течет сквозь землю по руслам тамошних рек и наполняет их, словно оросительные канавы; а когда уходит оттуда и устремляется сюда, то снова наполняет здешние реки, и они бегут подземными протоками, каждая к тому месту, куда проложила себе путь, и образуют моря и озера, дают начала рекам и ключам. А потом они снова исчезают в глубине той Земли и возвращаются в Тартар:
d
иная – более долгой дорогою, через многие и отдаленные края, иная – более короткой. И всегда устье лежит ниже истока: иногда гораздо ниже высоты, на какую вода поднималась при разливе, иногда ненамного. Иной раз исток и устье на противоположных сторонах, а иной раз – по одну сторону от середины той Земли. А есть и такие потоки, что описывают полный круг, обвившись вокруг той Земли кольцом или даже несколькими кольцами, точно змеи; они спускаются в самую большую глубину, какая только возможна, но впадают все в тот же Тартар.
e
Спуститься же в любом из направлений можно только до середины Земли, но не дальше: ведь откуда бы ни текла река, с обеих сторон от середины местность для нее пойдет круто вверх.
Этих рек многое множество, они велики и разнообразны, но особо примечательны среди них четыре. Самая большая из всех и самая далекая от середины течет по кругу; она зовется Океаном[895]
. Навстречу ей, но из по другую сторону от центра течет Ахеронт[896]
.
113
Он течет по многим пустынным местностям, главным образом под землей, и заканчивается озером Ахерусиадой. Туда приходят души большинства умерших и, пробыв назначенный судьбою срок – какая больший, какая меньший, – отсылаются назад, чтобы снова перейти в породу живых существ.
Третья река берет начало между двумя первыми и вскоре достигает обширного места, пылающего жарким огнем, и образует озеро, где бурлит вода с илом, размерами больше нашего моря. Дальше она бежит по кругу, мутная и илистая,
b
опоясывая ту Землю, и подходит вплотную к краю озера Ахерусиады, но не смешивается с его водами. Описав под землею еще много кругов, она впадает в нижнюю часть Тартара. Имя этой реки – Пирифлегетонт[897]
, и она изрыгает наружу брызги своей лавы повсюду, где коснется земной поверхности.
В противоположном от нее направлении берет начало четвертая река, которая сперва течет по местам, как говорят, диким и страшным, иссиня‑черного цвета; их называют Стигийскою страной, и озеро, которое образует река, зовется Стикс[898]
.
c
Впадая в него, воды реки приобретают грозную силу и катятся под землею дальше, описывая круг в направлении, обратном Пирифлегетонту, и подступают к озеру Ахерусиаде с противоположного края. Они тоже нигде не смешиваются с чужими водами и тоже, опоясав землю кольцом, вливаются в Тартар – напротив Пирифлегетонта. Имя этой реки, по словам поэтов, Кокит[899]
.
d
Вот как все это устроено.
Когда умершие являются в то место, куда уводит каждого его гений, первым делом надо всеми чинится суд – и над теми, кто прожил жизнь прекрасно и благочестиво, и над теми, кто жил иначе. О ком решат, что они держались середины, те отправляются к Ахеронту – всходят на ладьи, которые их ждут, и на них приплывают на озеро. Там они обитают и, очищаясь от провинностей, какие кто совершал при жизни, несут наказания и получают освобождение от вины, а за добрые дела получают воздаяния – каждый по заслугам.
e
Тех, кого по тяжести преступлений сочтут неисправимыми (это либо святотатцы, часто и помногу грабившие в храмах, либо убийцы, многих погубившие вопреки справедливости и закону, либо иные схожие с ними злодеи), – тех подобающая им судьба низвергает в Тартар, откуда им уже никогда не выйти.
А если о ком решат, что они совершили преступления тяжкие, но все же искупимые – например, в гневе подняли руку на отца или на мать, а потом раскаивались всю жизнь, либо стали убийцами при сходных обстоятельствах, –
114
те, хотя и должны быть ввергнуты в Тартар, однако по прошествии года волны выносят человекоубийц в Кокит, а отцеубийц и матереубийц – в Пирифлегетонт. И когда они оказываются близ берегов озера Ахерусиады, они кричат и зовут, одни – тех, кого убили, другие – тех, кому нанесли обиду, и молят, заклинают, чтобы они позволили им выйти к озеру и приняли их.
b
И если те склонятся на их мольбы, они выходят, и бедствиям их настает конец, а если нет – их снова уносит в Тартар, а оттуда – в реки, и так они страдают до тех пор, пока не вымолят прощения у своих жертв: в этом состоит их кара, назначенная судьями. И наконец, те, о ком решат, что они прожили жизнь особенно свято: их освобождают и избавляют от заключения в земных недрах, и они приходят в страну вышней чистоты, находящуюся над той Землею, и там поселяются.
c
Те из их числа, кто благодаря философии очистился полностью, впредь живут совершенно бестелесно и прибывают в обиталища еще более прекрасные, о которых, однако же, поведать нелегко, да и времени у нас в обрез.
И вот ради всего, о чем мы сейчас говорили, Симмий, мы должны употребить все усилия, чтобы приобщиться, пока мы живы, к добродетели и разуму, ибо прекрасна награда и надежда велика!
d
Правда, человеку здравомыслящему не годится утверждать с упорством, будто все обстоит именно так, как я рассказал. Но что такая или примерно такая участь и такие жилища уготованы нашим душам – коль скоро мы находим душу бессмертной, – утверждать, по‑моему, следует, и вполне решительно. Такая решимость и достойна, и прекрасна – с ее помощью мы словно бы зачаровываем самих себя. Вот почему я так пространно и подробно пересказываю это предание.
e
Но опять‑таки в силу того, о чем мы сейчас говорили, нечего тревожиться за свою душу человеку, который в течение целой жизни пренебрегал всеми телесными удовольствиями, и в частности украшениями и нарядами, считал их чуждыми себе и приносящими скорее вред, нежели пользу, который гнался за иными радостями, радостями познания, и,
115
украсив душу не чужими, но доподлинно ее украшениями – воздержностью, справедливостью, мужеством, свободою, истиной, ожидает странствия в Аид, готовый пуститься в путь, как только позовет судьба. Заключение. Смерть Сократа
Вы, Симмий, Кебет и все остальные, тоже отправитесь этим путем, каждый в свой час, а меня уже нынче «призывает судьба» – так, вероятно, выразился бы какой‑нибудь герой из трагедии. Ну, пора мне, пожалуй, и мыться: я думаю, лучше выпить яд после мытья и избавить женщин от лишних хлопот – не надо будет обмывать мертвое тело.
b
Тут заговорил Критон.
– Хорошо, Сократ, – промолвил он, – но не хочешь ли оставить им или мне какие‑нибудь распоряжения насчет детей или еще чего‑нибудь? Мы бы с величайшею охотой сослужили тебе любую службу.
– Ничего нового я не скажу, Критон, – отвечал Сократ, – только то, что говорил всегда: думайте и пекитесь о себе самих, и тогда, что бы вы ни делали, это будет доброю службой и мне, и моим близким, и вам самим, хотя бы вы сейчас ничего и не обещали. А если вы не будете думать о себе и не захотите жить в согласии с тем, о чем мы толковали сегодня и в прошлые времена, вы ничего не достигнете, сколько бы самых с горячих обещаний вы сейчас ни надавали.
c
– Да, Сократ, – сказал Критон, – мы постараемся исполнить все, как ты велишь. А как нам тебя похоронить[900]
?
– Как угодно, – отвечал Сократ, – если, конечно, сумеете меня схватить и я не убегу от вас.
Он тихо засмеялся и, обернувшись к нам, продолжал:
– Никак мне, друзья, не убедить Критона, что я – это только тот Сократ, который сейчас беседует с вами и пока еще распоряжается каждым своим словом.
d
Он воображает, будто я – это тот, кого он вскорости увидит мертвым, и вот спрашивает, как меня хоронить! А весь этот длинный разговор о том, что, выпив яду, я уже с вами не останусь, но отойду в счастливые края блаженных, кажется ему пустыми словами, которыми я хотел утешить вас, а заодно и себя. Так поручитесь же за меня перед Критоном, только дайте ручательство, обратное тому, каким сам он ручался перед судьями: он‑то ручался, что я останусь на месте, а вы поручитесь, что не останусь, но удалюсь отсюда, как только умру.
e
Тогда Критону будет легче, и, видя, как мое тело сжигают или зарывают в землю, он уже не станет негодовать и убиваться, воображая, будто я терплю что‑то ужасное, и не будет говорить на похоронах, что кладет Сократа на погребальное ложе, или выносит, или зарывает. Запомни хорошенько, мой дорогой Критон: когда ты говоришь неправильно, это не только само по себе скверно, но и душе причиняет зло.
116
Так не теряй мужества и говори, что хоронишь мое тело, а хорони как тебе заблагорассудится и как, по твоему мнению, требует обычай.
С этими словами он поднялся и ушел в другую комнату мыться. Критон пошел следом за ним, а нам велел ждать. И мы ждали, переговариваясь и раздумывая о том, что услышали, но все снова и снова возвращались к мысли, какая постигла нас беда: мы словно лишались отца и на всю жизнь оставались сиротами.
b
Когда Сократ помылся, к нему привели сыновей[901]
– у него было двое маленьких и один побольше; пришли и родственницы, и Сократ сказал женщинам несколько слов в присутствии Критона и о чем‑то распорядился, а потом велел женщинам с детьми возвращаться домой, а сам снова вышел к нам.
Было уже близко к закату: Сократ провел во внутренней комнате много времени. Вернувшись после мытья, он сел и уже больше почти не разговаривал с нами. Появился прислужник Одиннадцати и, ставши против Сократа, сказал:
c
– Сократ, мне, видно, не придется жаловаться на тебя, как обычно на других, которые бушуют и проклинают меня, когда я по приказу властей объявляю им, что пора пить яд. Я уж и раньше за это время убедился, что ты самый благородный, самый смирный и самый лучший из людей, какие когда‑нибудь сюда попадали. И теперь я уверен, что ты не гневаешься на меня. Ведь ты знаешь виновников и на них, конечно, и гневаешься. Ясное дело, тебе уже понятно, с какой вестью я пришел. Итак, прощай и постарайся как можно легче перенести неизбежное.
d
Тут он заплакал и повернулся к выходу. Сократ взглянул на него и промолвил:
– Прощай и ты. А мы всё исполним как надо. – Потом, обратившись к нам, продолжал: – Какой обходительный человек! Он все это время навещал меня, а иногда и беседовал со мною, просто замечательный человек! Вот и теперь, как искренне он меня оплакивает. Однако ж, Критон, послушаемся его – пусть принесут яд, если уже стерли[902]
. А если нет, пусть сотрут.
e
А Критон в ответ:
– Но ведь солнце, по‑моему, еще над горами, Сократ, еще не закатилось. А я знаю, что другие принимали отраву много спустя после того, как им прикажут, ужинали, пили вволю, а иные даже наслаждались любовью, с кем кто хотел. Так что не торопись, время еще терпит.
А Сократ ему:
– Вполне понятно, Критон, что они так поступают, – те, о ком ты говоришь. Ведь они думают, будто этим что‑то выгадывают. И не менее понятно, что я так не поступаю.
117
Я ведь не надеюсь выгадать ничего, если выпью яд чуть попозже, и только сделаюсь смешон самому себе, цепляясь за жизнь и дрожа над последними ее остатками. Нет, нет, не спорь со мною и делай, как я говорю.
Тогда Критон кивнул рабу, стоявшему неподалеку. Раб удалился, и его не было довольно долго; потом он вернулся, а вместе с ним вошел человек, который держал в руке чашу со стертым ядом, чтобы поднести Сократу.
Увидев этого человека, Сократ сказал:
– Вот и прекрасно, любезный. Ты со всем этим знаком – что же мне надо делать?
– Да ничего, – отвечал тот, – просто выпей и ходи до тех пор, пока не появится тяжесть в ногах, а тогда ляг. Оно подействует само.
b
С этими словами он протянул Сократу чашу. И Сократ взял ее с полным спокойствием, Эхекрат, – не задрожал, не побледнел, не изменился в лице, но, по всегдашней своей привычке, взглянул на того чуть исподлобья и спросил:
– Как, по‑твоему, этим напитком можно сделать возлияние кому‑нибудь из богов или нет[903]
?
– Мы стираем ровно столько, Сократ, сколько надо выпить.
c
– Понимаю, – сказал Сократ. – Но молиться богам и можно и нужно – о том, чтобы переселение из этого мира в иной было удачным. Об этом я и молю, и да будет так.
Договорив эти слова, он поднес чашу к губам и выпил до дна – спокойно и легко.
До сих пор большинство из нас еще как‑то удерживалось от слез, но, увидев, как он пьет и как он выпил яд, мы уже не могли сдержать себя. У меня самого, как я ни крепился, слезы лились ручьем. Я закрылся плащом и оплакивал самого себя – да! не его я оплакивал, но собственное горе – потерю такого друга!
d
Критон еще раньше моего разразился слезами и поднялся с места. А Аполлодор, который и до того плакал не переставая, тут зарыдал и заголосил с таким отчаянием, что всем надорвал душу, всем, кроме Сократа. А Сократ промолвил:
– Ну что вы, что вы, чудаки! Я для того главным образом и отослал отсюда женщин, чтобы они не устроили подобного бесчинства, – ведь меня учили, что умирать дулжно в благоговейном молчании. Тише, сдержите себя!
e
И мы застыдились и перестали плакать.
Сократ сперва ходил, потом сказал, что ноги тяжелеют, и лег на спину: так велел тот человек. Когда Сократ лег, он ощупал ему ступни и голени и немного погодя – еще раз. Потом сильно стиснул ему ступню и спросил, чувствует ли он.
118
Сократ отвечал, что нет. После этого он снова ощупал ему голени и, понемногу ведя руку вверх, показывал нам, как тело стынет и коченеет[904]
. Наконец прикоснулся в последний раз и сказал, что, когда холод подступит к сердцу, он отойдет.
Холод добрался уже до живота, и тут Сократ раскрылся – он лежал, закутавшись, – и сказал (это были его последние слова):
– Критон, мы должны Асклепию петуха[905]
. Так отдайте же, не забудьте.
– Непременно, – отозвался Критон. – Не хочешь ли еще что‑нибудь сказать?
Но на этот вопрос ответа уже не было. Немного спустя он вздрогнул, и служитель открыл ему лицо: взгляд Сократа остановился. Увидев это, Критон закрыл ему рот и глаза.
Таков, Эхекрат, был конец нашего друга, человека – мы вправе это сказать – самого лучшего из всех, кого нам довелось узнать на нашем веку, да и вообще самого разумного и самого справедливого.
Перевод С. П. Маркиша.
В кн.: Платон. Собр. соч. в 4‑х томах. Том 2. М.: «Мысль», 1993
XX. ПИР
Аполлодор и его друг
172
К вашим расспросам[906]
я, по‑моему, достаточно подготовлен. На днях, когда я шел в город из дому, из Фалера[907]
, один мой знакомый увидал меня сзади и шутливо окликнул издали.
– Эй, – крикнул он, – Аполлодор, фалерский житель[908]
, погоди‑ка!
Я остановился и подождал.
– Аполлодор, – сказал он, – а ведь я как раз искал тебя, чтобы расспросить о том пире у Агафона, где были Сократ, Алкивиад[909]
и другие, и узнать, что же это за речи там велись о любви.
b
Один человек рассказывал мне о них со слов Феникса, сына Филиппа[910]
, и сказал, что ты тоже все это знаешь. Но сам он ничего толком не мог сообщить, а потому расскажи‑ка мне обо всем этом ты – ведь тебе больше всех пристало передавать речи твоего друга. Но сначала скажи мне, присутствовал ли ты сам при этой беседе или нет?
И я ответил ему:
– Видимо, тот, кто тебе рассказывал, и впрямь не рассказал тебе ничего толком, если ты думаешь, будто беседа, о которой ты спрашиваешь, происходила недавно, так что я мог там присутствовать.
c
– Да, именно так я и думал, – отвечал он.
– Да что ты, Главкон[911]
! – воскликнул я. – Разве ты не знаешь, что Агафон уже много лет здесь не живет[912]
? А с тех пор как я стал проводить время с Сократом[913]
и взял за правило ежедневно примечать все, что он говорит и делает, не прошло и трех лет.
173
Дотоле я бродил где придется, воображая, что занимаюсь чем‑то стоящим, а был жалок, как любой из вас, – к примеру, как ты теперь, если ты думаешь, что лучше заниматься чем угодно, только не философией.
– Не смейся, – ответил он, – а лучше скажи мне, когда состоялась эта беседа.
– Во времена нашего детства, – отвечал я, – когда Агафон получил награду за первую свою трагедию, на следующий день после того, как он жертвоприношением отпраздновал эту победу вместе с, хоревтами[914]
.
– Давно, оказывается, было дело. Кто же рассказывал об этом тебе, не сам ли Сократ?
b
– Нет, клянусь Зевсом, не Сократ, а тот же, кто и Фениксу, – некий Аристодем из Кидафин[915]
, маленький такой, всегда босоногий; он присутствовал при этой беседе, потому что был тогда, кажется, одним из самых пылких почитателей Сократа. Впрочем, и самого Сократа я кое о чем расспрашивал, и тот подтвердил мне его рассказ.
– Так почему бы тебе не поделиться со мной? Ведь по дороге в город удобно и говорить и слушать.
c
Вот мы и вели по пути беседу об этом: потому я и чувствую себя, как я уже заметил вначале, достаточно подготовленным. И если вы хотите, чтобы я рассказал все это и вам, пусть будет по‑вашему. Ведь я всегда безмерно рад случаю вести или слушать философские речи, не говоря уже о том, что надеюсь извлечь из них какую‑то пользу; зато когда я слышу другие речи, особенно ваши обычные речи богачей и дельцов, на меня нападает тоска, и мне становится жаль вас, моих приятелей,
d
потому что вы думаете, будто дело делаете, а сами только напрасно время тратите. Вы же, может быть, считаете несчастным меня, и я допускаю, что вы правы; но что несчастны вы – это я не то что допускаю, а знаю твердо.
– Всегда‑то ты одинаков, Аполлодор: вечно ты поносишь себя и других и, кажется, решительно всех, кроме Сократа, считаешь достойными сожаления, а уже себя самого – в первую голову. За что прозвали тебя бесноватым[916]
, этого я не знаю, но в речах твоих ты и правда всегда таков: ты нападаешь на себя и на весь мир, кроме Сократа.
e
– Ну как же мне не бесноваться, милейший, как мне не выходить из себя, если таково мое мнение и обо мне самом, и о вас.
– Не стоит сейчас из‑за этого пререкаться, Аполлодор. Лучше исполни нашу просьбу и расскажи, какие там велись речи.
174
– Они были такого примерно рода… Но я попытаюсь, пожалуй, рассказать вам все по порядку, так же как и сам Аристодем мне рассказывал.
Итак, он встретил Сократа – умытого и в сандалиях, что с тем редко случалось[917]
, и спросил его, куда это он так вырядился. Тот ответил:
– На ужин к Агафону. Вчера я сбежал с победного торжества, испугавшись многолюдного сборища, но пообещал прийти сегодня. Вот я и принарядился, чтобы явиться к красавцу красивым. Ну а ты, – заключил он, – не хочешь ли пойти на пир без приглашения?
b
И Аристодем ответил ему:
– Как ты прикажешь!
– В таком случае, – сказал Сократ, – пойдем вместе и, во изменение поговорки, докажем, что «к людям достойным на пир достойный без зова приходит»[918]
. А ведь Гомер не просто исказил эту поговорку, но, можно сказать, надругался над ней. Изобразив Агамемнона необычайно доблестным воином,
c
а Менелая «слабым копейщиком», он заставил менее достойного Менелая явиться без приглашения к более достойному Агамемнону, когда тот приносил жертву и давал пир[919]
.
Выслушав это, Аристодем сказал:
– Боюсь, что выйдет не по‑твоему, Сократ, а скорее по Гомеру, если я, человек заурядный, приду без приглашения на пир к мудрецу. Сумеешь ли ты, приведя меня, как‑нибудь оправдаться? Ведь я же не признаюсь, что явился незваным, а скажу, что пригласил меня ты.
d
– «Путь совершая вдвоем»[920]
, – возразил он, – мы обсудим, что нам сказать. Пошли!
Обменявшись такими примерно словами, они отправились в путь. Сократ, предаваясь своим мыслям, всю дорогу отставал, а когда Аристодем останавливался его подождать, Сократ просил его идти вперед.
e
Придя к дому Агафона, Аристодем застал дверь открытой, и тут, по его словам, произошло нечто забавное. К нему тотчас выбежал раб и отвел его туда, где уже возлежали готовые приступить к ужину гости. Как только Агафон увидел вошедшего, он приветствовал его такими словами:
– А, Аристодем, ты пришел кстати, – как раз поужинаешь с нами. Если же ты по какому‑нибудь делу, то отложи его до другого раза. Ведь я и вчера уже искал тебя, чтобы пригласить, но нигде не нашел. А Сократа что же ты не привел к нам?
– И я, – продолжал Аристодем, – обернулся, а Сократ, гляжу, не идет следом; пришлось объяснить, что сам я пришел с Сократом, который и пригласил меня сюда ужинать.
– И отлично сделал, что пришел, – ответил хозяин, – но где же Сократ?
175
– Он только что вошел сюда следом за мною, я и сам не могу понять, куда он девался.
– Ну‑ка, – сказал Агафон слуге, – поищи Сократа и приведи его сюда. А ты, Аристодем, располагайся рядом с Эриксимахом[921]
!
И раб обмыл ему ноги, чтобы он мог возлечь; а другой раб тем временем вернулся и доложил: Сократ, мол, повернул назад и теперь стоит в сенях соседнего дома, а на зов идти отказывается.
– Что за вздор ты несешь, – сказал Агафон, – позови его понастойчивей!
b
Но тут вмешался Аристодем.
– Не нужно, – сказал он, – оставьте его в покое. Такая уж у него привычка – отойдет куда‑нибудь в сторонку и станет там. Я думаю, он скоро явится, не надо только его трогать.
– Ну что ж, пусть будет по‑твоему, – сказал Агафон. – А нас всех остальных, вы, слуги, пожалуйста, угощайте! Подавайте нам все, что пожелаете, ведь никаких надсмотрщиков я никогда над вами не ставил. Считайте, что и я, и все остальные приглашены вами на обед, и ублажайте нас так, чтобы мы не могли на вас нахвалиться.
c
Затем они начали ужинать, а Сократа все не было. Агафон не раз порывался послать за ним, но Аристодем этому противился. Наконец Сократ все‑таки явился, как раз к середине ужина, промешкав, против обыкновения, не так уж долго. И Агафон, возлежавший в одиночестве с краю, сказал ему:
d
– Сюда, Сократ, располагайся рядом со мной, чтобы и мне досталась доля той мудрости, которая осенила тебя в сенях. Ведь конечно же ты нашел ее и завладел ею, иначе ты бы не тронулся с места.
– Хорошо было бы, Агафон, – отвечал Сократ, садясь, – если бы мудрость имела свойство перетекать, как только мы прикоснемся друг к другу, из того, кто полон ею, к тому, кто пуст, как перетекает вода по шерстяной нитке из полного сосуда в пустой.
e
Если и с мудростью дело обстоит так же, я очень высоко ценю соседство с тобой: я думаю, что ты до краев наполнишь меня великолепнейшей мудростью. Ведь моя мудрость какая‑то ненадежная, плохонькая, она похожа на сон, а твоя блистательна и приносит успех: вон как она, несмотря на твою молодость, засверкала позавчера на глазах тридцати с лишним тысяч греков[922]
.
– Насмешник ты, Сократ, – сказал Агафон. – Немного погодя, взяв в судьи Диониса[923]
, мы с тобой еще разберемся, кто из нас мудрей, а покамест принимайся за ужин!
176
– Затем, – продолжал Аристодем, – после того как Сократ возлег и все поужинали, они совершили возлияние, спели хвалу богу[924]
, исполнили все, что полагается, и приступили к вину. И тут Павсаний[925]
повел такую речь.
– Хорошо бы нам, друзья, – сказал он, – не напиваться допьяна. Я, откровенно говоря, чувствую себя после вчерашней попойки довольно скверно, и мне нужна некоторая передышка, как, впрочем, по‑моему, и большинству из вас: вы ведь тоже вчера в этом участвовали; подумайте же, как бы нам пить поумеренней.
b
И Аристофан[926]
ответил ему:
– Ты совершенно прав, Павсаний, что нужно всячески стараться пить в меру. Я и сам вчера выпил лишнего.
Услыхав их слова, Эриксимах, сын Акумена, сказал:
– Конечно, вы правы. Мне хотелось бы только выслушать еще одного из вас – Агафона: в силах ли он пить?
– Нет, я тоже не в силах, – ответил Агафон.
c
– Ну, так нам, кажется, повезло, мне, Аристодему, Федру[927]
и остальным, – сказал Эриксимах, – если вы, такие мастера пить, сегодня отказываетесь, – мы‑то всегда пьем по капле. Сократ не в счет: он способен и пить и не пить, так что, как бы мы ни поступили, он будет доволен. А раз никто из присутствующих не расположен, по‑моему, пить много, я вряд ли кого‑либо обижу, если скажу о пьянстве всю правду. Что опьянение тяжело людям, это мне, как врачу, яснее ясного.
d
Мне и самому неохота больше пить, и другим я не советую, особенно если они еще не оправились от похмелья.
– Сущая правда, – подхватил Федр из Мирринунта, – я‑то и так всегда тебя слушаюсь, а уж когда дело касается врачевания, то и подавно, но сегодня, я думаю, и все остальные, если поразмыслят, с тобой согласятся.
e
Выслушав их, все сошлись на том, чтобы на сегодняшнем пиру допьяна не напиваться, а пить просто так, для своего удовольствия.
– Итак, – сказал Эриксимах, – раз уж решено, чтобы каждый пил сколько захочет, без всякого принуждения, я предлагаю отпустить эту только что вошедшую к нам флейтистку, – пускай играет для себя самой или, если ей угодно, для женщин во внутренних покоях дома, а мы посвятим сегодняшнюю нашу встречу беседе. Какой именно – это я тоже, если хотите, могу предложить.
177
Все заявили, что хотят услыхать его предложение. И Эриксимах сказал:
– Начну я так же, как Меланиппа у Еврипида[928]
: «Вы не мои слова сейчас услышите», а нашего Федра. Сколько раз Федр при мне возмущался: «Не стыдно ли, Эриксимах, что, сочиняя другим богам и гимны и пэаны. Эроту, такому могучему и великому богу, ни один из поэтов – а их было множество – не написал даже похвального слова[929]
.
b
Или возьми почтенных софистов: Геракла и других они восхваляют в своих перечислениях, как, например, достойнейший Продик[930]
. Все это еще не так удивительно, но однажды мне попалась книжка одного мудреца, в которой превозносились полезные свойства соли, да и другие вещи подобного рода не раз бывали предметом усерднейших восхвалений,
c
а Эрота до сих пор никто еще не отважился достойно воспеть, и великий этот бог остается в пренебрежении!» Федр, мне кажется, прав. А поэтому мне хотелось бы отдать Федру должное и доставить ему удовольствие, тем более что нам, собравшимся здесь сегодня, подобает, по‑моему, почтить этого бога.
d
Если вы разделяете мое мнение, то мы бы отлично провели время в беседе. Пусть каждый из нас, справа по кругу, скажет как можно лучше похвальное слово Эроту, и первым пусть начнет Федр, который и возлежит первым, и является отцом этой беседы.
– Против твоего предложения, Эриксимах, – сказал Сократ, – никто не подаст голоса. Ни мне, раз я утверждаю, что не смыслю ни в чем, кроме любви, ни Агафону с Павсанием, ни, подавно, Аристофану, –
e
ведь все, что он делает, связано с Дионисом и Афродитой[931]
, – да и вообще никому из тех, кого я здесь вижу, не к лицу его отклонять. Правда, мы, возлежащие на последних местах, находимся в менее выгодном положении; но если речи наших предшественников окажутся достаточно хороши, то с нас и этого будет довольно. Итак, в добрый час, пусть Федр положит начало и произнесет свое похвальное слово Эроту!
178
Все, как один, согласились с Сократом и присоединились к его пожеланию. Но всего, что говорил каждый, Аристодем не запомнил, да и я не запомнил всего, что пересказал мне Аристодем. Я передам вам из каждой речи то, что показалось мне наиболее достойным памяти. Речь Федра: древнейшее происхождение Эрота
Итак, первым, как я уже сказал, говорил Федр, а начал он с того, что Эрот – это великий бог, которым люди и боги восхищаются по многим причинам, и не в последнюю очередь из‑за его происхождения:
b
ведь почетно быть древнейшим богом. А доказательством этого служит отсутствие у него родителей[932]
, о которых не упоминает ни один рассказчик и ни один поэт. Гесиод говорит, что сначала возник Хаос, а следом
Широкогрудая Гея, всеобщий приют безопасный,
С нею Эрот…[933]
В том, что эти двое, то есть Земля и Эрот, родились после Хаоса, с Гесиодом согласен и Акусилай[934]
. А Парменид говорит о рождающей силе, что
Первым из всех богов она сотворила Эрота[935]
.
c
Таким образом, весьма многие сходятся на том, что Эрот – бог древнейший. А как древнейший бог, он явился для нас первоисточником величайших благ. Я, по крайней мере, не знаю большего блага для юноши, чем достойный влюбленный, а для влюбленного – чем достойный возлюбленный[936]
. Ведь тому, чем надлежит всегда руководствоваться людям, желающим прожить свою жизнь безупречно, никакая родня, никакие почести, никакое богатство, да и вообще ничто на свете не научит их лучше, чем любовь.
d
Чему же она должна их учить? Стыдиться постыдного и честолюбиво стремиться к прекрасному[937]
, без чего ни государство, ни отдельный человек не способны ни на какие великие и добрые дела. Я утверждаю, что, если влюбленный совершит какой‑нибудь недостойный поступок или по трусости спустит обидчику, он меньше страдает, если уличит его в этом отец, приятель или еще кто‑нибудь, – только не его любимец.
e
То же, как мы замечаем, происходит и с возлюбленным: будучи уличен в каком‑нибудь неблаговидном поступке, он стыдится больше всего тех, кто его любит. И если бы возможно было образовать из влюбленных и их возлюбленных государство или, например, войско, они управляли бы им наилучшим образом, избегая всего постыдного и соревнуясь друг с другом;
179
а сражаясь вместе, такие люди даже и в малом числе побеждали бы, как говорится, любого противника: ведь покинуть строй или бросить оружие влюбленному легче при ком угодно, чем при любимом, и нередко он предпочитает смерть такому позору; а уж бросить возлюбленного на произвол судьбы или не помочь ему, когда он в опасности, – да разве найдется на свете такой трус, в которого сам Эрот не вдохнул бы доблесть, уподобив его прирожденному храбрецу?
b
И если Гомер прямо говорит, что некоторым героям «отвагу внушает бог»[938]
, то любящим дает ее не кто иной, как Эрот.
Ну, а умереть друг за друга готовы одни только любящие, причем не только мужчины, но и женщины. У греков убедительно доказала это Алкестида, дочь Пе‑лия: она одна решилась умереть за своего мужа, хотя у него были еще живы отец и мать[939]
.
c
Благодаря своей любви она настолько превзошла обоих в привязанности к их сыну, что всем показала: они только считаются его родственниками, а на самом деле – чужие ему люди; этот ее подвиг был одобрен не только людьми, но и богами, и если из множества смертных, совершавших прекрасные дела, боги лишь считанным даровали почетное право возвращения души из Аида[940]
, то ее душу они выпустили оттуда, восхитившись ее поступком.
d
Таким образом, и боги тоже высоко чтут преданность и самоотверженность в любви. Зато Орфея, сына Эагра, они спровадили из Аида ни с чем и показали ему лишь призрак жены, за которой тот явился, но не выдали ее самой, сочтя, что он, как кифаред, слишком изнежен, если не отважился, как Алкестида, из‑за любви умереть, а умудрился пробраться в Аид живым[941]
. Поэтому боги и наказали его, сделав так, что он погиб от рук женщин,
e
в то время как Ахилла, сына Фетиды, они почтили, послав на Острова блаженных[942]
; узнав от матери, что он умрет, если убьет Гектора, а если не убьет, то вернется домой и доживет до старости, Ахилл смело предпочел прийти на помощь Патроклу[943]
и, отомстив за своего поклонника, принять смерть не только за него, но и вслед за ним.
180
И за то, что он был так предан влюбленному в него, безмерно восхищенные боги почтили Ахилла особым отличием. Эсхил говорит вздор, утверждая, будто Ахилл был влюблен в Патрокла[944]
: ведь Ахилл был не только красивей Патрокла, как, впрочем, и вообще всех героев, но, по словам Гомера, и гораздо моложе, так что у него даже борода еще не росла.
b
И в самом деле, высоко ценя добродетель в любви, боги больше восхищаются, и дивятся, и благодетельствуют в том случае, когда любимый предан влюбленному, чем когда влюбленный предан предмету своей любви. Ведь любящий божественнее любимого, потому что вдохновлен богом. Вот почему, послав Ахилла на Острова блаженных, боги удостоили его большей чести, чем Алкестиду.
Итак, я утверждаю, что Эрот – самый древний, самый почтенный и самый могущественный из богов, наиболее способный наделить людей доблестью и даровать им блаженство при жизни и после смерти. Речь Павсания: два Эрота
c
Вот какую речь произнес Федр. После Федра говорили другие, но их речи Аристодем плохо помнил и потому, опустив их, стал излагать речь Павсания. А Павсаний сказал:
– По‑моему, Федр, мы неудачно определили свою задачу, взявшись восхвалять Эрота вообще. Это было бы правильно, будь на свете один Эрот, но ведь Эротов больше, а поскольку их больше, правильнее будет сначала условиться, какого именно Эрота хвалить.
d
Так вот, я попытаюсь поправить дело, сказав сперва, какого Эрота надо хвалить, а потом уже воздам ему достойную этого бога хвалу. Все мы знаем, что нет Афродиты без Эрота; следовательно, будь на свете одна Афродита, Эрот был бы тоже один; но коль скоро Афродиты две[945]
, то и Эротов должно быть два. А этих богинь, конечно же, две: старшая, что без матери, дочь Урана, которую мы и называем поэтому небесной, и младшая, дочь Дионы[946]
и Зевса, которую мы именуем пошлой.
e
Но из этого следует, что и Эротов, сопутствующих обеим Афродитам, надо именовать соответственно небесным и пошлым. Хвалить следует, конечно, всех богов, но я попытаюсь определить свойства, доставшиеся в удел каждому из этих двоих. О любом деле можно сказать, что само по себе оно не бывает ни прекрасным, ни безобразным[947]
.
181
Например, все, что мы делаем сейчас, пьем ли, поем ли или беседуем, прекрасно не само по себе, а смотря по тому, как это делается, как происходит: если дело делается прекрасно и правильно, оно становится прекрасным, а если неправильно, то, наоборот, безобразным. То же самое и с любовью: не всякий Эрот прекрасен и достоин похвал, а лишь тот, который побуждает прекрасно любить.
b
Так вот, Эрот Афродиты пошлой поистине пошл и способен на что угодно; это как раз та любовь, которой любят люди ничтожные. А такие люди любят, во‑первых, женщин не меньше, чем юношей; во‑вторых, они любят своих любимых больше ради их тела, чем ради души, и, наконец, любят они тех, кто поглупее, заботясь только о том, чтобы добиться своего, и не задумываясь, прекрасно ли это. Вот почему они и способны на что угодно – на хорошее и на дурное в одинаковой степени.
c
Ведь идет эта любовь как‑никак от богини, которая не только гораздо моложе другой, но и по своему происхождению причастна и к женскому и к мужскому началу. Эрот же Афродиты небесной восходит к богине, которая, во‑первых, причастна только к мужскому началу, но никак не к женскому, – недаром это любовь к юношам, – а во‑вторых, старше и чужда преступной дерзости. Потому‑то одержимые такой любовью обращаются к мужскому полу, отдавая предпочтение тому, что сильней от природы и наделено большим умом.
d
Но и среди любителей мальчиков можно узнать тех, кем движет только такая любовь. Ибо любят они не малолетних, а тех, у кого уже обнаружился разум, а разум появляется обычно с первым пушком. Те, чья любовь началась в эту пору, готовы, мне кажется, никогда не разлучаться и жить вместе всю жизнь; такой человек не обманет юношу, воспользовавшись его неразумием, не переметнется от него, посмеявшись над ним, к другому. Надо бы даже издать закон, запрещающий любить малолетних,
e
чтобы не уходило много сил неизвестно на что; ведь неизвестно заранее, в какую сторону пойдет духовное и телесное развитие ребенка – в дурную или хорошую. Конечно, люди достойные сами устанавливают себе такой закон, но надо бы запретить это и поклонникам пошлым, как запрещаем мы им, насколько это в наших силах, любить свободнорожденных женщин.
182
Пошлые эти люди настолько осквернили любовь, что некоторые утверждают даже, будто уступать поклоннику предосудительно вообще. Но утверждают‑то они это, глядя на поведение как раз таких людей и видя их назойливость и непорядочность, ибо любое дело, если только оно делается непристойно и не так, как принято, не может не заслужить порицания.
Обычай насчет любви, существующий в других государствах, понять нетрудно, потому что там все определено четко, а вот здешний и лакедемонский куда сложней.
b
В Элиде, например, и в Беотии, да и везде, где нет привычки к мудреным речам, принято просто‑напросто уступать поклонникам, для того, видимо, чтобы тамошним жителям – а они не мастера говорить – не тратить сил на уламывания, и никто там, ни старый, ни молодой, не усматривает ничего предосудительного в этом обычае; в Ионии же[948]
и во многих других местах, повсюду, где правят варвары, это считается предосудительным. Ведь варварам из‑за их тиранического строя и в философии, и в занятиях гимнастикой видится что‑то предосудительное.
c
Тамошним правителям, я полагаю, просто невыгодно, чтобы у их подданных рождались высокие помыслы и укреплялись содружества и союзы, чему наряду со всеми другими условиями очень способствует та любовь, о которой идет речь. На собственном опыте узнали это и здешние тираны: ведь любовь Аристогитона и окрепшая привязанность к нему Гармодия положила конец их владычеству[949]
.
Таким образом, в тех государствах, где отдаваться поклонникам считается предосудительным, это мнение установилось из‑за порочности тех, кто его придерживается,
d
то есть своекорыстных правителей и малодушных подданных; а в тех, где это просто признается прекрасным, этот порядок идет от косности тех, кто его завел. Наши обычаи много лучше, хотя, как я уже сказал, разобраться в них не так‑то легко. И правда, если учесть, что, по общему мнению, лучше любить открыто, чем тайно, юношей достойных и благородных, хотя бы они были и не так хороши собой; если учесть, далее, что влюбленный встречает у всех удивительное сочувствие и ничего зазорного в его поведении никто не видит, что победа в любви – это, по общему мнению, благо, а поражение – позор;
e
что обычай не только оправдывает, но и одобряет любые уловки домогающегося победы поклонника,
183
даже такие, которые, если к ним прибегнуть ради любой другой цели, кроме этой, наверняка вызовут всеобщее осуждение (попробуй, например, ради денег, должности или какой‑нибудь другой выгоды вести себя так, как ведут себя порою поклонники, донимающие своих возлюбленных униженными мольбами, осыпающие их клятвами, валяющиеся у их дверей и готовые выполнять такие рабские обязанности, каких не возьмет на себя последний раб, и тебе не дадут проходу ни друзья, ни враги:
b
первые станут тебя отчитывать, стыдясь за тебя, вторые обвинят тебя в угодничестве и подлости; а вот влюбленному все это прощают, и обычай всецело на его стороне, словно его поведение поистине безупречно), если учесть наконец – и это самое поразительное, – что, по мнению большинства, боги прощают нарушение клятвы только влюбленному, поскольку, мол, любовная клятва – это не клятва,
c
и что, следовательно, по здешним понятиям, и боги и люди предоставляют влюбленному любые права, – если учесть все это, вполне можно заключить, что и любовь и благоволение к влюбленному в нашем государстве считаются чем‑то безупречно прекрасным. Но если, с другой стороны, отцы приставляют к своим сыновьям надзирателей, чтобы те прежде всего не позволяли им беседовать с поклонниками, а сверстники и товарищи сыновей обычно корят их за такие беседы,
d
причем старшие не пресекают и не опровергают подобные укоры как несправедливые, то, видя это, можно, наоборот, заключить, что любовные отношения считаются у нас чем‑то весьма постыдным.
А дело, по‑моему, обстоит вот как. Тут все не так просто, ибо, как я сказал вначале, ни одно действие не бывает ни прекрасно, ни безобразно само по себе: если оно совершается прекрасно – оно прекрасно, если безобразно – оно безобразно. Безобразно, стало быть, угождать низкому человеку, и притом угождать низко, но прекрасно – и человеку достойному, и достойнейшим образом.
e
Низок же тот пошлый поклонник, который любит тело больше, чем душу; он к тому же и непостоянен, поскольку непостоянно то, что он любит. Стоит лишь отцвести телу, а тело‑то он и любил, как он «упорхнет, улетая», посрамив все свои многословные обещания. А кто любит за высокие нравственные достоинства, тот остается верен всю жизнь, потому что он привязывается к чему‑то постоянному.
184
Поклонников у нас принято хорошенько испытывать и одним угождать, а других избегать. Вот почему наш обычай требует, чтобы поклонник домогался своего возлюбленного, а тот уклонялся от его домогательств: такое состязание позволяет выяснить, к какому разряду людей принадлежат тот и другой. Поэтому считается позорным, во‑первых, быстро сдаваться, не дав пройти какому‑то времени, которое и вообще‑то служит хорошей проверкой;
b
во‑вторых, позорно отдаваться за деньги или из‑за политического влияния поклонника, независимо от того, вызвана ли эта уступчивость страхом перед нуждой или же неспособностью пренебречь благодеяниями, деньгами или политическими расчетами. Ведь такие побуждения ненадежны и преходящи, не говоря уже о том, что на их почве никогда не вырастает благородная дружба. И значит, достойным образом угождать поклоннику можно, по нашим обычаям, лишь одним путем. Мы считаем, что если поклонника, как бы рабски ни служил он по своей воле предмету любви, никто не упрекнет в позорном угодничестве,
c
то и другой стороне остается одна непозорная разновидность добровольного рабства, а именно рабство во имя совершенствования.
И в самом деле, если кто‑нибудь оказывает кому‑нибудь услуги, надеясь усовершенствоваться благодаря ему в какой‑либо мудрости или в любой другой добродетели, то такое добровольное рабство не считается у нас ни позорным, ни унизительным. Так вот, если эти два обычая –
d
любви к юношам и любви к мудрости и всяческой добродетели – свести к одному, то и получится, что угождать поклоннику – прекрасно. Иными словами, если поклонник считает нужным оказывать уступившему юноше любые, справедливые, по его мнению, услуги, а юноша в свою очередь считает справедливым ни в чем не отказывать человеку, который делает его мудрым и добрым, и если поклонник способен сделать юношу умнее и добродетельней,
e
а юноша желает набраться образованности и мудрости, – так вот, если оба на этом сходятся, только тогда угождать поклоннику прекрасно, а во всех остальных случаях – нет. В этом случае и обмануться не позорно, а во всяком другом и обмануться и не обмануться – позор одинаковый.
185
Если, например, юноша, отдавшийся ради богатства богатому, казалось бы, поклоннику, обманывается в своих расчетах и никаких денег, поскольку поклонник окажется бедняком, не получит, этому юноше должно быть тем не менее стыдно, ибо он‑то все равно уже показал, что ради денег пойдет для кого угодно на что угодно, а это нехорошо. Вместе с тем, если кто отдался человеку над вид порядочному, рассчитывая, что благодаря дружбе с таким поклонником станет лучше и сам, а тот оказался на поверку человеком скверным и недостойным, – такое заблуждение все равно остается прекрасным.
b
Ведь он уже доказал, что ради того, чтобы стать лучше и совершеннее, сделает для кого угодно все, что угодно, а это прекрасней всего на свете. И стало быть, угождать во имя добродетели прекрасно в любом случае.
Такова любовь богини небесной: сама небесная, она очень ценна и для государства, и для отдельного человека, поскольку требует от любящего и от любимого великой заботы о нравственном совершенстве.
c
Все другие виды любви принадлежат другой Афродите – пошлой. Вот что, Федр, – заключил Павсаний, – могу я без подготовки прибавить насчет Эрота к сказанному тобой.
Сразу за Павсанием завладеть вниманием – говорить такими созвучиями учат меня софисты – должен был, по словам Аристодема, Аристофан, но то ли от пресыщения, то ли от чего другого на него как раз напала икота, так что он не мог держать речь и вынужден был обратиться к ближайшему своему соседу, врачу Эриксимаху с такими словами:
d
– Либо прекрати мою икоту, Эриксимах, либо говори вместо меня, пока я не перестану икать. И Эриксимах отвечал:
– Ну что ж, я сделаю и то и другое. Мы поменяемся очередью, и я буду держать речь вместо тебя, а ты, когда прекратится икота, – вместо меня. А покуда я буду говорить, ты подольше задержи дыхание, и твоя икота пройдет. Если же она все‑таки не пройдет, прополощи горло водой.
e
А уж если с ней совсем не будет сладу, пощекочи чем‑нибудь в носу и чихни. Проделай это разок‑другой, и она пройдет, как бы сильна ни была.
– Начинай же, – ответил Аристофан, – а я последую твоему совету. Речь Эриксимаха: Эрот разлит по всей природе
И Эриксимах сказал:
186
– Поскольку Павсаний, прекрасно начав свою речь, закончил ее не совсем удачно, я попытаюсь придать ей завершенность. Что Эрот двойствен, это, по‑моему, очень верное наблюдение. Но наше искусство – искусство врачевания – показывает мне, что живет он не только в человеческой душе и не только в ее стремлении к прекрасным людям, но и во многих других ее порывах, да и вообще во многом другом на свете – в телах любых животных, в растениях, во всем, можно сказать, сущем[950]
,
b
ибо он бог великий, удивительный и всеобъемлющий, причастный ко всем делам людей и богов. И начну я с врачевания, чтобы нам, кстати, и почтить это искусство.
Двойственный этот Эрот заключен в самой природе тела. Ведь здоровое и больное начала тела, по общему признанию, различны и непохожи, а непохожее стремится к непохожему[951]
и любит его. Следовательно, у здорового начала один Эрот, у больного – другой. И если, как только что сказал Павсаний, угождать людям достойным хорошо,
c
а распутникам – плохо, то и в самом теле угождать началу хорошему и здоровому – в чем и состоит врачебное искусство – прекрасно и необходимо, а началу плохому и больному – позорно, безобразно, и нужно, наоборот, всячески ему противодействовать, если ты хочешь быть настоящим врачом. Ведь врачевание – это, по сути, наука о вожделениях тела к наполнению и к опорожнению[952]
, и кто умеет различать среди этих вожделений прекрасные и дурные, тот сведущий врач,
d
а кто добивается перемены, стремясь заменить в теле одно вожделение другим, создавая нужное вожделение там, где его нет, но где оно должно быть, и удаляя оттуда ненужное, тот – великий знаток своего дела. Ведь тут требуется умение установить дружбу между самыми враждебными в теле началами и внушить им взаимную любовь[953]
. Самые же враждебные начала – это начала совершенно противоположные: холодное и горячее, горькое и сладкое, влажное и сухое и тому подобное.
e
Благодаря своему умению внушать этим враждебным началам любовь и согласие наш предок Асклепий[954]
, как утверждают присутствующие здесь поэты, – а я им верю – и положил начало нашему искусству.
Но, значит, кроме врачебного искусства, которое, как я сказал, подчинено всецело Эроту, этот бог управляет также гимнастикой и земледелием[955]
.
187
Что касается музыки, то каждому мало‑мальски наблюдательному человеку ясно, что с нею дело обстоит точно так же, и именно это, вероятно, хочет сказать Гераклит, хотя мысль его выражена не лучшим образом. Он говорит, что единое, «расходясь, само с собою сходится», примером чего служит «гармония лука и лиры»[956]
. Однако очень нелепо утверждать, что гармония – это раздвоение или что она возникает из различных начал. Вероятно, мудрец просто хочет сказать, что гармония возникает из звуков, которые сначала различались по высоте,
b
а потом благодаря музыкальному искусству друг к другу приладились. Ведь не может же возникнуть гармония только оттого, что один звук выше, а другой ниже. Гармония – это созвучие, а созвучие – это своего рода согласие, а из начал различных, покуда они различны между собой, согласия не получается. И опять‑таки, раздваивающееся и несогласное нельзя привести в гармонию,
c
что видно и на примере ритма, который создается согласованием расходящихся сначала замедлений и ускорений. А согласие во все это вносит музыкальное искусство, которое устанавливает, как и искусство врачебное, любовь и единодушие. Следовательно, музыкальное искусство есть знание любовных начал, касающихся строя и ритма. Впрочем, в самом строении гармонии и ритма нетрудно заметить любовное начало, и любовь здесь не двойственна.
d
Но когда гармонию и ритм нужно передать людям, то есть либо сочинить музыку, чту называется мелопеей, либо правильно воспроизвести уже сочиненные лады и размеры, что достигается выучкой, тогда эта задача трудна и требует большого искусника.
Ведь тут снова вступает в силу известное положение, что угождать следует людям умеренным, заставляя тех, кто еще не отличается умеренностью, стремиться к ней, и что любовь умеренных, которую нужно беречь, – это прекрасная, небесная любовь. Это – Эрот музы Урании[957]
.
e
Эрот же Полигимнии[958]
пошл, и прибегать к нему, если уж дело дошло до этого, следует с осторожностью, чтобы он принес удовольствие, но не породил невоздержности. Точно так же и в нашем ремесле очень важно верно направить желания, связанные с поварским искусством, чтобы удовольствие не оказалось чревато заболеванием.
Итак, и в музыке, и во врачевании, и во всех других делах, и человеческих и божественных, нужно, насколько это возможно, принимать во внимание обоих Эротов, ибо и тот и другой там присутствуют.
188
Даже свойства времен года зависят от них обоих. Когда началами, о которых я говорил, теплом и холодом, сухостью и влажностью овладевает любовь умеренная и они сливаются друг с другом рассудительно и гармонично, год бывает изобильный, он приносит людям, животным и растениям здоровье, не причиняя им никакого вреда. Но когда времена года попадают под власть разнузданного Эрота, Эрота‑насильника, он многое губит и портит[959]
.
b
Ведь из‑за этого обычно возникают заразные и другие болезни, поражающие животных и растения. Ибо и иней, и град, и медвяная роса происходят от таких преувеличенных, неумеренных любовных вожделений, знание которых, когда дело касается движения звезд и времен года, именуется астрономией.
c
Но и жертвоприношения, и все, что относится к искусству гадания и в чем состоит общение богов и людей, тоже связано не с чем иным, как с охраной любви, с одной стороны, и врачеванием ее – с другой. Ведь всякое нечестие возникает обычно тогда, когда не чтут умеренного Эрота, не угождают ему, не отводят ему во всем первого места, а оказывают все эти почести другому Эроту, идет ли речь о родителях – живых ли, умерших ли – или о богах. На то и существует искусство гадания, чтобы следить за любящими и врачевать их;
d
вот и получается, что гадание – это творец дружбы между богами и людьми, потому что оно знает, какие любовные вожделения людей благочестивы и освящены обычаем[960]
.
Вот сколь большим и многообразным, вернее сказать, неограниченным могуществом обладает всякий вообще Эрот, но Эрот, который у нас и у богов ведет ко благу, к рассудительности и справедливости, – этот Эрот обладает могуществом поистине величайшим и приносит нам всяческое блаженство, позволяя нам дружески общаться между собой и даже с богами, которые совершеннее нас.
e
Возможно, что и я в своем похвальном слове Эроту многого не сказал, хотя так получилось не по моей воле. Но если я что‑либо упустил, твое дело, Аристофан, дополнить мою речь. Впрочем, может быть, ты собираешься восхвалять этого бога как‑либо иначе – ну, что ж, изволь, кстати, и твоя икота прошла.
189
И Аристофан ответил:
– Да, прошла, но только после того, как я расчихался, и я даже удивляюсь, что пристойное поведение тела достигается таким шумным и щекотным способом: ведь икота сразу прошла, стоило мне несколько раз чихнуть.
– Ну что ты делаешь, дорогой, – возразил Аристофану Эриксимах, – ты острословишь перед началом речи, и мне придется во время твоей речи следить, чтобы ты не зубоскалил, а ведь ты мог бы говорить без помех.
b
– Ты прав, Эриксимах, – отвечал со смехом Аристофан, – беру то, что сказал, обратно. А следить за мной тебе не придется, ибо не того боюсь я, что скажу что‑нибудь смешное, – это было бы мне на руку и вполне в духе моей Музы, – а того, что стану посмешищем.
– Так легко тебе от меня не отделаться, Аристофан, – сказал Эриксимах. – Нет, будь начеку и говори так, словно тебе предстоит держать ответ за свои слова. А впрочем, я тебе, может быть, еще и дам поблажку. Речь Аристофана: Эрот как стремление человека к изначальной целостности
c
– Конечно, Эриксимах, – начал Аристофан, – я намерен говорить не так, как ты и Павсаний. Мне кажется, что люди совершенно не сознают истинной мощи любви, ибо, если бы они сознавали ее, они бы воздвигали ей величайшие храмы и алтари и приносили величайшие жертвы, а меж тем ничего подобного не делается, хотя все это следует делать в первую очередь.
d
Ведь Эрот – самый человеколюбивый бог, он помогает людям и врачует недуги, исцеление от которых было бы для рода человеческого величайшим счастьем. Итак, я попытаюсь объяснить вам его мощь, а уж вы будете учителями другим.
Раньше, однако, мы должны кое‑что узнать о человеческой природе и о том, что она претерпела. Когда‑то наша природа была не такой, как теперь, а совсем другой[961]
. Прежде всего, люди были трех полов, а не двух, как ныне, –
e
мужского и женского, ибо существовал еще третий пол, который соединял в себе признаки этих обоих; сам он исчез, и от него сохранилось только имя, ставшее бранным, – андрогины, и из него видно, что они сочетали в себе вид и наименование обоих полов – мужского и женского. Тогда у каждого человека тело было округлое, спина не отличалась от груди, рук было четыре, ног столько же, сколько рук, и у каждого на круглой шее два лица, совершенно одинаковых;
190
голова же у двух этих лиц, глядевших в противоположные стороны, была общая, ушей имелось две пары, срамных частей две, а прочее можно представить себе по всему, что уже сказано. Передвигался такой человек либо прямо, во весь рост, – так же как мы теперь, но любой из двух сторон вперед, либо, если торопился, шел колесом, занося ноги вверх и перекатываясь на восьми конечностях, что позволяло ему быстро бежать вперед.
b
А было этих полов три, и таковы они были потому, что мужской искони происходит от Солнца, женский – от Земли, а совмещавший оба этих – от Луны, поскольку и Луна совмещает оба начала. Что же касается их шаровидности и соответствующего способа передвижения, то и тут сказывалось сходство их с прародителями. Страшные своей силой и мощью, они питали великие замыслы и посягали даже на власть богов, и то, что Гомер говорит об Эфиальте и Оте, относится к ним: это они пытались совершить восхождение на небо, чтобы напасть на богов.
c
И вот Зевс и прочие боги стали совещаться, как поступить с ними, и не знали, как быть: убить их, поразив род людской громом, как когда‑то гигантов, – тогда боги лишатся почестей и приношений от людей; но и мириться с таким бесчинством тоже нельзя было. Наконец Зевс, насилу кое‑что придумав, говорит:
– Кажется, я нашел способ и сохранить людей, и положить конец их буйству, уменьшив их силу. Я разрежу каждого из них пополам, и тогда они, во‑первых, станут слабее, а во‑вторых, полезней для нас, потому что число их увеличится.
d
И ходить они будут прямо, на двух ногах. А если они и после этого не угомонятся и начнут буйствовать, я, – сказал он, – рассеку их пополам снова, и они запрыгают у меня на одной ножке.
Сказав это, он стал разрезать людей пополам, как разрезают перед засолкой ягоды рябины или как режут яйцо волоском.
e
И каждому, кого он разрезал, Аполлон, по приказу Зевса, должен был повернуть в сторону разреза лицо и половину шеи, чтобы, глядя на свое увечье, человек становился скромней, а все остальное велено было залечить. И Аполлон поворачивал лица и, стянув отовсюду кожу, как стягивают мешок, к одному месту, именуемому теперь животом, завязывал получавшееся посреди живота отверстие – оно и носит ныне название пупка.
191
Разгладив складки и придав груди четкие очертания, – для этого ему служило орудие вроде того, каким сапожники сглаживают на колодке складки кожи, – возле пупка и на животе Аполлон оставлял немного морщин, на память о прежнем состоянии. И вот когда тела были таким образом рассечены пополам, каждая половина с вожделением устремлялась к другой своей половине, они обнимались, сплетались и, страстно желая срастись, умирали от голода и вообще от бездействия,
b
потому что ничего не хотели делать порознь. И если одна половина умирала, то оставшаяся в живых выискивала себе любую другую половину и сплеталась с ней, независимо от того, попадалась ли ей половина прежней женщины, то есть то, что мы теперь называем женщиной, или прежнего мужчины. Так они и погибали. Тут Зевс, пожалев их, придумывает другое устройство: он переставляет вперед срамные их части, которые до того были у них обращены в ту же сторону, что прежде лицо, так что семя они изливали не друг в друга, а в землю, как цикады.
c
Переместил же он их срамные части, установив тем самым оплодотворение женщин мужчинами, для того чтобы при совокуплении мужчины с женщиной рождались дети и продолжался род, а когда мужчина сойдется с мужчиной – достигалось все же удовлетворение от соития, после чего они могли бы передохнуть, взяться за дела и позаботиться о других своих нуждах.
d
Вот с каких давних пор свойственно людям любовное влечение друг к другу, которое, соединяя прежние половины, пытается сделать из двух одно и тем самым исцелить человеческую природу.
Итак, каждый из нас – это половинка человека, рассеченного на две камбалоподобные части, и поэтому каждый ищет всегда соответствующую ему половину. Мужчины, представляющие собой одну из частей того двуполого прежде существа, которое называлось андрогином, охочи до женщин, и блудодеи в большинстве своем принадлежат именно к этой породе,
e
а женщины такого происхождения падки до мужчин и распутны. Женщины же, представляющие собой половинку прежней женщины, к мужчинам не очень расположены, их больше привлекают женщины, и лесбиянки принадлежат именно к этой породе. Зато мужчин, представляющих собой половинку прежнего мужчины, влечет ко всему мужскому: уже в детстве, будучи дольками существа мужского пола, они любят мужчин, и им нравится лежать и обниматься с мужчинами.
192
Это самые лучшие из мальчиков и из юношей, ибо они от природы самые мужественные. Некоторые, правда, называют их бесстыдными, но это заблуждение: ведут они себя так не по своему бесстыдству, а по своей смелости, мужественности и храбрости, из пристрастия к собственному подобию. Тому есть убедительное доказательство:
b
в зрелые годы только такие мужчины обращаются к государственной деятельности. Возмужав, они любят мальчиков, и у них нет природной склонности к деторождению и браку; к тому и другому их принуждает обычай, а сами они вполне довольствовались бы сожительством друг с другом без жен. Питая всегда пристрастие к родственному, такой человек непременно становится любителем юношей и другом влюбленных в него.
Когда кому‑либо, будь то любитель юношей или всякий другой, случается встретить как раз свою половину, обоих охватывает такое удивительное чувство привязанности, близости и любви, что они поистине не хотят разлучаться даже на короткое время.
c
И люди, которые проводят вместе всю жизнь, не могут даже сказать, чего они, собственно, хотят друг от друга. Ведь нельзя же утверждать, что только ради удовлетворения похоти столь ревностно стремятся они быть вместе.
d
Ясно, что душа каждого хочет чего‑то другого; чего именно, она не может сказать и лишь догадывается о своих желаниях, лишь туманно намекает на них. И если бы перед ними, когда они лежат вместе, предстал Гефест[962]
со своими орудиями и спросил их: «Чего же, люди, вы хотите один от другого?» – а потом, видя, что им трудно ответить, спросил их снова: «Может быть, вы хотите как можно дольше быть вместе и не разлучаться друг с другом ни днем, ни ночью? Если ваше желание именно таково, я готов сплавить вас и срастить воедино,
e
и тогда из двух человек станет один, и, покуда вы живы, вы будете жить одной общей жизнью, а когда вы умрете, в Аиде будет один мертвец вместо двух, ибо умрете вы общей смертью. Подумайте только, этого ли вы жаждете и будете ли вы довольны, если достигнете этого?» – случись так, мы уверены, что каждый не только не отказался бы от подобного предложения и не выразил никакого другого желания, но счел бы, что услыхал именно то, о чем давно мечтал, одержимый стремлением слиться и сплавиться с возлюбленным в единое существо. Причина этому та, что такова была изначальная наша природа и мы составляли нечто целостное.
193
Таким образом, любовью называется жажда целостности и стремление к ней. Прежде, повторяю, мы были чем‑то единым, а теперь, из‑за нашей несправедливости, мы поселены богом порознь, как аркадцы лакедемонянами[963]
. Существует, значит, опасность, что, если мы не будем почтительны к богам, нас рассекут еще раз, и тогда мы уподобимся не то выпуклым надгробным изображениям, которые как бы распилены вдоль носа, не то значкам взаимного гостеприимства[964]
. Поэтому каждый должен учить каждого почтению к богам, чтобы нас не постигла эта беда
b
и чтобы нашим уделом была целостность, к которой нас ведет и указывает нам дорогу Эрот. Не следует поступать наперекор Эроту: поступает наперекор ему лишь тот, кто враждебен богам. Наоборот, помирившись и подружившись с этим богом, мы встретим и найдем в тех, кого любим, свою половину, что теперь мало кому удается. Пусть Эриксимах не вышучивает мою речь, думая, что я мйчу в Агафона и Павсания.
c
Может быть, и они принадлежат к этим немногим и природа у них обоих мужская. Но я имею в виду вообще всех мужчин и всех женщин и хочу сказать, что наш род достигнет блаженства тогда, когда мы вполне удовлетворим Эрота и каждый найдет соответствующий себе предмет любви, чтобы вернуться к своей первоначальной природе. Но если это вообще самое лучшее, значит, из всего, что есть сейчас, наилучшим нужно признать то, что ближе всего к самому лучшему: встретить предмет любви, который тебе сродни. И следовательно, если мы хотим прославить бога, дарующего нам это благо,
d
мы должны славить Эрота: мало того что Эрот и теперь приносит величайшую пользу, направляя нас к тому, кто близок нам и сродни, он сулит нам, если только мы будем чтить богов, прекрасное будущее, ибо тогда сделает нас счастливыми и блаженными, исцелив и вернув нас к нашей изначальной природе.
Такова, Эриксимах, – заключил он, – моя речь об Эроте, она совсем не похожа на твою. Еще раз прошу тебя, не вышучивай ее и дай нам послушать, что скажут остальные, вернее, двое оставшихся – Агафон и Сократ.
e
– Согласен, – сказал Эриксимах, – тем более что речь твоя была мне приятна. Не знай я, что и Сократ и Агафон великие знатоки любви, я бы очень боялся сейчас, что им нечего будет добавить, ибо многое и о самом разном уже сказано. А так я спокоен.
194
– Еще бы, – ответил ему Сократ, – ведь ты‑то, Эриксимах, состязался на славу. А очутись ты в том положении, в каком я нахожусь или, вернее, окажусь, когда и Агафон произнесет свою речь, тебе было бы очень боязно, и ты чувствовал бы себя в точности так же, как я себя чувствую.
– Ты хочешь, Сократ, – сказал Агафон, – одурманить меня, чтобы я сбился от одной мысли, что эти зрители ждут от меня невесть какой прекрасной речи.
b
– У меня была бы очень скверная память, Агафон, – отвечал Сократ, – если бы я, видевший, как храбро и важно всходил ты с актерами на подмостки и перед исполнением сочиненных тобой же речей глядел в глаза тысячам зрителей без малейшего страха, мог подумать, что ты растеряешься перед небольшим нашим кружком.
– Неужели, Сократ, – сказал Агафон, – я, по‑твоему, так упоен театром, что не понимаю, насколько для человека мало‑мальски здравомыслящего несколько умных людей страшнее многих невежд?
c
– Нет, Агафон, – отвечал Сократ, – это было бы нехорошо с моей стороны, если бы я был о тебе такого нелепого мнения. Я не сомневаюсь, что, окажись ты в обществе тех, кто, по‑твоему, действительно умен, ты считался бы с ними больше, чем с большинством. Но мы‑то, боюсь я, к ним не относимся: мы‑то ведь тоже были в театре и принадлежали к большинству. А вот окажись ты в обществе каких‑нибудь умных людей, ты, наверно, устыдился бы их, если бы считал, что делаешь что‑то постыдное, не так ли?
– Ты прав, – отвечал Агафон.
– Ну, а большинства ты не стал бы стыдиться, если бы считал, что делаешь что‑то плохо?
d
– Дорогой мой Агафон, – вмешался в этот разговор Федр, – если ты будешь отвечать Сократу, ему будет уже совершенно безразлично, что здесь происходит, лишь бы у него был собеседник, тем более еще и красивый. Хоть мне и приятно слушать беседы Сократа, я должен позаботиться о восхвалении Эрота и потребовать от каждого из вас речи. Пусть каждый из вас обоих отдаст сначала дань этому богу, а потом уж беседуйте друг с другом в свое удовольствие. Речь Агафона: совершенства Эрота
e
– Верно, Федр, – сказал Агафон, – и ничто не мешает мне начать речь. А побеседовать с Сократом мне еще не раз представится случай. Но я хочу сначала сказать, как я должен говорить, а уж потом говорить. Мне кажется, что все мои предшественники не столько восхваляли этого бога, сколько прославляли то счастье и те блага, которые приносит он людям.
195
А каков сам податель этих благ, никто не сказал. Между тем единственный верный способ построить похвальное слово кому бы то ни было – это разобрать, какими свойствами обладает тот, о ком идет речь, и то, причиной чего он является. Стало быть, и нам следовало бы воздать хвалу сначала самому Эроту и его свойствам, а затем уже его дарам.
Итак, я утверждаю, что из всех блаженных богов Эрот – если дозволено так сказать, не вызывая осуждения, – самый блаженный, потому что он самый красивый и самый совершенный из них. Самым красивым я называю его вот почему. Прежде всего, Федр, это самый молодой бог.
b
Что я прав, убедительно доказывает он сам; ведь он бегом бежит от старости[965]
, которая явно не мешкает, – во всяком случае, она приходит к нам быстрее, чем нужно. Так вот, Эрот по природе своей ненавидит старость и обходит ее как можно дальше. Зато с молодыми он неразлучен, – недаром исстари говорят, что подобное стремится к подобному[966]
. Соглашаясь с Федром во многом другом, я не согласен с ним, что Эрот старше Иапета и Крона[967]
.
c
Я утверждаю, что он самый молодой из богов и всегда молод, а что касается тех древних дел между богами, о которых повествуют Гесиод и Парменид, то причиной их, если эти поэты говорят правду, была Необходимость[968]
, а совсем не Любовь. Ведь боги не оскопляли бы и не заковывали друг друга и вообще не совершали бы насилий, если бы среди них был Эрот, а жили бы в мире и дружбе, как теперь, когда Эрот ими правит. Итак, он молод и – вдобавок к своей молодости – нежен.
d
Чтобы изобразить нежность бога, нужен такой поэт, как Гомер. Утверждая, например, что Ата[969]
богиня, и притом нежная, – по крайней мере, стопы у нее нежны, Гомер выражается так:
Нежны стопы у нее: не касается ими
Праха земного она, по главам человеческим ходит[970]
.
Так вот, по‑моему, он прекрасно доказал ее нежность, сказав, что ступает она не по твердому, а по мягкому.
e
Тем же доказательством воспользуемся и мы, утверждая, что Эрот нежен. Ведь ходит он не по земле и даже не по головам, которые не так‑то уж и мягки, нет, он и ходит и обитает в самой мягкой на свете области, водворяясь в нравах и душах богов и людей, причем не во всех душах подряд, а только в мягких, ибо, встретив суровый нрав, уходит прочь, когда же встретит мягкий – остается. А коль скоро всегда он касается и ногами, и всем только самого мягкого в самом мягком, он не может не быть необыкновенно нежным.
196
Итак, это самый молодой бог и самый нежный. К тому же он отличается гибкостью форм. Не будь он гибок, он не мог бы всюду прокрадываться и сперва незаметно входить в душу, а потом выходить из нее. Убедительным доказательством соразмерности и гибкости форм Эрота служит то ни с чем не сравнимое благообразие, которым он, как все признают, обладает. Ведь у любви и безобразия вечная распря. А о красоте кожи этого бога можно судить по тому, что живет он среди цветов.
b
Ведь на отцветшее и поблекшее – будь то душа, тело или что другое – Эрот не слетит, он останавливается и остается только в местах, где все цветет и благоухает.
О красоте этого бога сказано уже достаточно, хотя еще далеко не все. Теперь надо сказать о его добродетелях, самая главная из которых состоит в том, что Эрот не обижает ни богов, ни людей и что ни боги, ни люди не обижают Эрота. Ведь если он сам страдает, то не от насилия – Эрота насилие не касается, а если он причиняет страдание, то опять‑таки без насилия, ибо
c
Эроту служат всегда добровольно, а что делается с обоюдного согласия, то «законы, эти владыки государства»[971]
, признают справедливым. Кроме справедливости ему в высшей степени свойственна рассудительность. Ведь рассудительность – это, по общему признанию, умение обуздывать свои вожделения и страсти, а нет страсти, которая была бы сильнее Эрота. Но если страсти слабее, чем он, значит, они должны подчиняться ему, а он – обуздывать их. А если Эрот обуздывает желания и страсти, его нужно признать необыкновенно рассудительным. Да и в храбрости с Эротом «и самому Аресу не тягаться бы»[972]
.
d
Ведь не Арес владеет Эротом, а Эрот Аресом, – то есть любовь к Афродите. А владеющий сильнее того, кем он владеет, и, значит, Эрот, раз он сильнее того, кто храбрее всех, должен быть самым большим храбрецом.
Итак, относительно справедливости, рассудительности и храбрости этого бога сказано, остается сказать о его мудрости. Ну что ж, попытаемся, насколько это возможно, не осрамиться и тут. Прежде всего, чтобы и мне почтить свое искусство, как Эриксимах почтил свое, скажу:
e
этот бог настолько искусный поэт, что способен и другого сделать поэтом. Во всяком случае, каждый, кого коснется Эрот, становится поэтом, хотя бы «дотоле он и был чужд Музам»[973]
. А это может нам служить доказательством, что Эрот хороший поэт, сведущий вообще во всех видах мусических творений. Ведь чего сам не имеешь, того и другому не передашь, а чего сам не знаешь, тому и других не научишь.
197
А уж что касается сотворения всего живого, кто станет отрицать, что благодаря мудрости Эрота возникает и образуется все, что живет?
И мастерство в искусстве и ремеслах – разве мы не знаем, что те, чьим учителем оказывается этот бог, достигали великой славы, а те, кого Эрот не коснулся, прозябали в безвестности? Ведь искусство стрельбы из лука, искусство врачевания и прорицания Аполлон открыл тогда, когда им руководили любовь и страсть,
b
так что его тоже можно считать учеником Эрота, наставника Муз в искусстве, Гефеста – в кузнечном деле, Афины – в ткацком, Зевса – в искусстве «править людьми и богами»[974]
.
Вот почему и дела богов пришли в порядок только тогда, когда среди них появилась любовь, разумеется, любовь к красоте, ибо безобразие не вызывает любви. Дотоле, как я уже сказал вначале, среди богов творилось, по преданию, много ужасных дел, и виною тому было господство Необходимости. А стоило лишь появиться этому богу, как из любви к прекрасному возникли всякие блага для богов и людей.
c
Таким образом, Федр, мне кажется, что Эрот, который сначала был сам прекраснейшим и совершеннейшим богом, стал потом источником этих же качеств для прочих. Мне хочется даже сказать стихами, что это он дарует
Людям мир и покой, безветрие в море широком,
Буйного вихря молчанье и сон безмятежный на ложе[975]
.
d
Избавляя нас от отчужденности и призывая к сплоченности, он устраивает всякие собрания, вроде сегодняшнего, и становится нашим предводителем на празднествах, в хороводах и при жертвоприношениях. Кротости любитель, грубости гонитель, он приязнью богат, неприязнью небогат. К добрым терпимый, мудрецами чтимый, богами любимый; воздыханье незадачливых, достоянье удачливых; отец роскоши, изящества и неги, радостей, страстей и желаний; благородных опекающий, а негодных презирающий,
e
он и в страхах и в мученьях, и в помыслах и в томленьях лучший наставник, помощник, спаситель и спутник, украшение богов и людей, самый прекрасный и самый достойный вождь, за которым должен следовать каждый, прекрасно воспевая его и вторя его песне, завораживающей помыслы всех богов и людей.
Вот какую речь, Федр, посвящаю я этому богу, в меру смешав в ней, насколько это в моих силах, серьезное и шутку.
198
Когда Агафон кончил, все присутствующие, по словам Аристодема, одобрительно зашумели, находя, что молодой человек говорил достойно себя и бога. Тогда Сократ повернулся к Эриксимаху и сказал:
– Ну, теперь‑то тебе, сын Акумена, уже не кажется, что прежние мои страхи были напрасны и что не был я прорицателем, сказав, что Агафон произнесет великолепную речь, а я окажусь в затруднении?
– Однако твое прорицание, – отвечал Эриксимах, – что Агафон будет говорить превосходно, сбылось, а вот что ты окажешься в затруднении, никак не верится.
b
– Да как же мне или любому другому, кто должен говорить после такой прекрасной и богатой речи, – воскликнул Сократ, – не стать, милый ты мой, в тупик! И если начало ее еще не столь восхитительно, то какого слушателя не поразит красота слов и подбор их в заключительной части? Я, например, как подумал, что мне не сказать ничего такого, что хотя бы только приближалось по красоте к этой речи, готов был бежать от стыда, если бы можно было.
c
Речь эта напомнила мне Горгия, и я, прямо‑таки по Гомеру, боялся, что под конец своей речи Агафон напустит на мою речь голову Горгия[976]
, этого великого говоруна, а меня самого превратит в камень безгласный. И я понял, как был я смешон, когда согласился произнести в очередь с вами похвальное слово Эроту
d
и сказал, что знаю толк в любовных делах, хотя, оказывается, понятия не имею о том, как надлежит строить похвальную речь. Я по своей простоте думал, что о любом восхваляемом предмете нужно говорить правду, и это главное, а из правды выбрать самое замечательное и расположить в наиболее подходящем порядке.
Так вот, я был слишком самонадеян, когда полагал, что скажу хорошую речь, раз знаю верный способ воздать хвалу любому предмету. Оказывается, умение произнести прекрасную похвальную речь состоит вовсе не в этом, а в том, чтобы приписать предмету как можно больше прекрасных качеств, не думая, обладает он ими или нет:
e
не беда, стало быть, если и солжешь. Видно, заранее был уговор, что каждый из нас должен лишь делать вид, что восхваляет Эрота, а не восхвалять его в самом деле. Поэтому‑то вы, наверное, и приписываете Эроту все, что угодно, любые свойства, любые заслуги,
199
лишь бы выставить его в самом прекрасном и благородном свете – перед теми, разумеется, кто не знает его, но никак не перед людьми осведомленными. И похвальное слово получается красивое и торжественное. Но я‑то не знал такого способа строить похвальные речи и по неведению согласился говорить в очередь с вами. Стало быть, «язык лишь дал согласье, но не сердце, нет»[977]
. А на нет и суда нет. Строить свою речь по такому способу я не стану, потому что попросту не могу.
b
Правду, однако, если хотите, я с удовольствием скажу вам на свой лад, но только не в лад вашим речам, чтобы не показаться смешным. Решай же, Федр, нужна ли тебе еще и такая речь, где об Эроте будет сказана правда, и притом в первых попавшихся, взятых наугад выражениях.
Тут Федр и все прочие стали просить его, чтобы он говорил так, как находит нужным.
– В таком случае, Федр, – сказал Сократ, – позволь мне задать несколько вопросов Агафону, чтобы начать речь, уже столковавшись с ним.
c
– Разрешаю, – сказал Федр, – спрашивай. Речь Сократа: цель Эрота – овладение благом
И Сократ, продолжал Аристодем, начал примерно так: – Ты показал в своей речи поистине прекрасный пример, дорогой Агафон, когда говорил, что прежде надо сказать о самом Эроте и его свойствах, а потом уже о его делах. Такое начало очень мне по душе. Так вот, поскольку ты прекрасно и даже блестяще разобрал свойства Эрота, ответь‑ка мне вот что[978]
.
d
Есть ли Эрот непременно любовь к кому‑то или нет? Я не спрашиваю, любовь ли это, скажем, к отцу или матери – смешон был бы вопрос, есть ли Эрот любовь к матери или отцу, – нет, я спрашиваю тебя так, как спросил бы ну, например, об отце: раз он отец, то ведь он непременно доводится отцом кому‑то? Если бы ты захотел ответить на это правильно, ты бы, вероятно, сказал мне, что отец всегда доводится отцом дочери или сыну, не так ли?
– Конечно, – отвечал Агафон.
– И мать точно так же, не правда ли?
Агафон согласился и с этим.
e
– Тогда ответь еще на вопрос‑другой, чтобы тебе легче было понять, чего я хочу. Если брат действительно брат, то ведь он обязательно брат кому‑то?
Агафон отвечал, что это так.
– Брату, следовательно, или сестре? – спросил Сократ.
Агафон отвечал утвердительно.
– Теперь, – сказал Сократ, – попытайся ответить насчет любви. Есть ли Эрот любовь к кому‑нибудь или нет?
– Да, конечно.
200
– Так вот, запомни это покрепче и не забывай, а пока ответь, вожделеет ли Эрот к тому, кто является предметом любви, или нет?
– Конечно, вожделеет, – отвечал Агафон.
– Когда же он любит и вожделеет: когда обладает предметом любви или когда не обладает?
– По всей вероятности, когда не обладает, – сказал Агафон.
b
– А может быть, – спросил Сократ, – это не просто вероятность, но необходимость, что вожделение вызывает то, чего недостает, а не то, в чем нет недостатка? Мне, например, Агафон, сильно сдается, что это необходимость. А тебе как?
– И мне тоже, – сказал Агафон.
– Отличный ответ. Итак, пожелал бы, например, рослый быть рослым, а сильный сильным?
– Мы же согласились, что это невозможно. Ведь у того, кто обладает этими качествами, нет недостатка в них.
– Правильно. Ну, а если сильный, – продолжал Сократ, – хочет быть сильным, проворный проворным, здоровый здоровым и так далее? В этом случае можно, пожалуй, думать, что люди, уже обладающие какими‑то свойствами, желают как раз того, чем они обладают.
c
Так вот, чтобы не было никаких недоразумений, я рассматриваю и этот случай. Ведь если рассудить, Агафон, то эти люди неизбежно должны уже сейчас обладать упомянутыми свойствами – как же им еще и желать их? А дело тут вот в чем. Если кто‑нибудь говорит: «Я хоть и здоров, а хочу быть здоровым, я хоть и богат, а хочу быть богатым, то есть желаю того, что имею», – мы вправе сказать ему: «Ты, дорогой, обладая богатством, здоровьем и силой, хочешь обладать ими и в будущем,
d
поскольку в настоящее время ты все это волей‑неволей имеешь. Поэтому, говоря: «Я желаю того, что у меня есть», ты говоришь в сущности: «Я хочу, чтобы то, что у меня есть сейчас, было у меня и в будущем"». Согласился бы он с нами?
Агафон ответил, что согласился бы. Тогда Сократ сказал:
– А не значит ли это любить то, чего у тебя еще нет и чем не обладаешь, если ты хочешь в будущем этим владеть и обладать?
e
– Конечно, значит, – отвечал Агафон.
– Следовательно, и этот человек, и всякий другой желает того, чего нет налицо, чего он не имеет, что не есть он сам и в чем испытывает нужду, и предметы, вызывающие любовь и желание, именно таковы?
– Да, конечно, – отвечал Агафон.
– Ну, а теперь, – продолжал Сократ, – подведем итог сказанному. Итак, во‑первых, Эрот – это всегда любовь к кому‑то или к чему‑то, а во‑вторых, предмет ее – то, в чем испытываешь нужду, не так ли?
201
– Да, – отвечал Агафон.
– Вспомни вдобавок, любовью к чему назвал ты в своей речи Эрота? Если хочешь, я напомню тебе. По‑моему, ты сказал что‑то вроде того, что дела богов пришли в порядок благодаря любви к прекрасному, поскольку, мол, любви к безобразному не бывает. Не таков ли был смысл твоих слов?
– Да, именно таков, – отвечал Агафон.
– И сказано это было вполне справедливо, друг мой, – продолжал Сократ. – Но не получается ли, что Эрот – это любовь к красоте, а не к безобразию?
Агафон согласился с этим.
b
– А не согласились ли мы, что любят то, в чем нуждаются и чего не имеют?
– Согласились, – отвечал Агафон.
– И значит, Эрот лишен красоты и нуждается в ней?
– Выходит, что так, – сказал Агафон.
– Так неужели ты назовешь прекрасным то, что совершенно лишено красоты и нуждается в ней?
– Нет, конечно.
– И ты все еще утверждаешь, что Эрот прекрасен, – если дело обстоит так?
– Получается, Сократ, – отвечал Агафон, – что я сам не знал, что тогда говорил.
c
– А ведь ты и в самом деле прекрасно говорил, Агафон. Но скажи еще вот что. Не кажется ли тебе, что доброе прекрасно?
– Кажется.
– Но если Эрот нуждается в прекрасном, а доброе прекрасно, то, значит, он нуждается и в добре.
– Я, – сказал Агафон, – не в силах спорить с тобой, Сократ. Пусть будет по‑твоему.
– Нет, милый мой Агафон, ты не в силах спорить с истиной, а спорить с Сократом дело нехитрое.
d
Но теперь я оставлю тебя в покое. Я попытаюсь передать вам речь об Эроте, которую услыхал некогда от одной мантинеянки, Диотимы[979]
, женщины очень сведущей и в этом и во многом другом и добившейся однажды для афинян во время жертвоприношения перед чумой десятилетней отсрочки этой болезни, – а Диотима‑то и просветила меня в том, что касается любви, – так вот, я попытаюсь передать ее речь, насколько это в моих силах, своими словами, отправляясь от того, в чем мы с Агафоном только что согласились.
Итак, следуя твоему, Агафон, примеру, нужно сначала выяснить, что такое Эрот и каковы его свойства, а потом уже, каковы его дела.
e
Легче всего, мне кажется, выяснить это так же, как некогда та чужеземка, а она задавала мне вопрос за вопросом. Я говорил ей тогда примерно то же, что мне сейчас Агафон: Эрот – это великий бог, это любовь к прекрасному. А она доказала мне теми же доводами, какими я сейчас Агафону, что он вопреки моим утверждениям совсем не прекрасен и вовсе не добр. И тогда я спросил ее:
– Что ты говоришь, Диотима? Значит, Эрот безобразен и подл?
А она ответила:
– Не богохульствуй! Неужели то, что не прекрасно, непременно должно быть, по‑твоему, безобразным?
202
– Конечно.
– И значит, то, что не мудро, непременно невежественно? Разве ты не замечал, что между мудростью и невежеством есть нечто среднее?
– Что же?
– Стало быть, тебе неведомо, что правильное, но не подкрепленное объяснением мнение нельзя назвать знанием? Если нет объяснения, какое же это знание? Но это и не невежество. Ведь если это соответствует тому, что есть на самом деле, какое же это невежество? По‑видимому, верное представление – это нечто среднее между пониманием и невежеством.
– Ты права, – сказал я.
b
– А в таком случае не стой на том, что все, что не прекрасно, безобразно, а все, что не добро, есть зло. И, признав, что Эрот не прекрасен и также не добр, не думай, что он должен быть безобразен и зол, а считай, что он находится где‑то посредине между этими крайностями.
– И все‑таки, – возразил я, – все признают его великим богом.
– Ты имеешь в виду всех несведущих или также и сведущих? – спросила она.
– Всех вообще.
– Как же могут, Сократ, – засмеялась она, – признавать его великим богом те люди, которые и богом‑то его не считают?
c
– Кто же это такие? – спросил я.
– Ты первый, – отвечала она, – я вторая.
– Как можешь ты так говорить? – спросил я.
– Очень просто, – отвечала она. – Скажи мне, разве ты не утверждаешь, что все боги блаженны и прекрасны? Или, может быть, ты осмелишься о ком‑нибудь из богов сказать, что он не прекрасен и не блажен?
– Нет, клянусь Зевсом, не осмелюсь, – ответил я.
– А блаженными ты называешь не тех ли, кто прекрасен и добр?
– Да, именно так.
d
– Но ведь насчет Эрота ты признал, что, не отличаясь ни добротою, ни красотой, он вожделеет к тому, чего у него нет.
– Да, я это признал.
– Так как же он может быть богом, если обделен добротою и красотой?
– Кажется, он и впрямь не может им быть.
– Вот видишь, – сказала она, – ты тоже не считаешь Эрота богом.
– Так что же такое Эрот? – спросил я. – Смертный?
– Нет, никоим образом.
– А что же?
– Как мы уже выяснили, нечто среднее между бессмертным и смертным.
– Кто же он, Диотима?
– Великий гений, Сократ. Ведь все гении представляют собой нечто среднее между богом и смертным.
e
– Каково же их назначение? – спросил я.
– Быть истолкователями и посредниками между людьми и богами, передавая богам молитвы и жертвы людей, а людям наказы богов и вознаграждения за жертвы. Пребывая посредине, они заполняют промежуток между теми и другими, так что Вселенная связана внутренней связью. Благодаря им возможны всякие прорицания, жреческое искусство и вообще все, что относится к жертвоприношениям, таинствам, заклинаниям, пророчеству и чародейству.
203
Не соприкасаясь с людьми, боги общаются и беседуют с ними только через посредство гениев – и наяву и во сне. И кто сведущ в подобных делах, тот человек божественный, а сведущий во всем прочем, будь то какое‑либо искусство или ремесло, просто ремесленник. Гении эти многочисленны и разнообразны, и Эрот – один из них.
– Кто же его отец и мать? – спросил я.
b
– Рассказывать об этом долго, – отвечала она, – но все‑таки я тебе расскажу.
Когда родилась Афродита, боги собрались на пир, и в числе их был Порос, сын Метиды[980]
. Только они отобедали – а еды у них было вдоволь[981]
, – как пришла просить подаяния Пения и стала у дверей. И вот Порос, охмелев от нектара – вина тогда еще не было, – вышел в сад Зевса и, отяжелевший, уснул. И тут Пения, задумав в своей бедности родить ребенка от Пороса, прилегла к нему и зачала Эрота.
c
Вот почему Эрот – спутник и слуга Афродиты: ведь он был зачат на празднике рождения этой богини; кроме того, он по самой своей природе любит красивое: ведь Афродита красавица. Поскольку же он сын Пороса и Пении, дело с ним обстоит так: прежде всего он всегда беден и вопреки распространенному мнению совсем не красив и не нежен, а груб, неопрятен, не обут и бездомен;
d
он валяется на голой земле, под открытым небом, у дверей, на улицах и, как истинный сын своей матери, из нужды не выходит. Но с другой стороны, он по‑отцовски тянется к прекрасному и совершенному, он храбр, смел и силен, он искусный ловец, непрестанно строящий козни, он жаждет разумности и достигает ее, он всю жизнь занят философией, он искусный чародей, колдун и софист.
e
По природе своей он ни бессмертен, ни смертен: в один и тот же день он то живет и расцветает, если дела его хороши, то умирает, но, унаследовав природу отца, оживает опять. Все, что Эрот ни приобретает, идет прахом, отчего он никогда не бывает ни богат, ни беден.
Он находится также посредине между мудростью и невежеством, и вот почему.
204
Из богов никто не занимается философией и не желает стать мудрым, поскольку боги и так уже мудры; да и вообще тот, кто мудр, к мудрости не стремится. Но не занимаются философией и не желают стать мудрыми опять‑таки и невежды. Ведь тем‑то и скверно невежество, что человек и не прекрасный, и не совершенный, и не умный вполне доволен собой. А кто не считает, что в чем‑то нуждается, тот и не желает того, в чем, по его мнению, не испытывает нужды.
– Так кто же, Диотима, – спросил я, – стремится к мудрости, коль скоро ни мудрецы, ни невежды философией не занимаются?
b
– Ясно и ребенку, – отвечала она, – что занимаются ею те, кто находится посредине между мудрецами и невеждами, а Эрот к ним и принадлежит. Ведь мудрость – это одно из самых прекрасных на свете благ, а Эрот – это любовь к прекрасному, поэтому Эрот не может не быть философом, то есть любителем мудрости, а философ занимает промежуточное положение между мудрецом и невеждой. Обязан же он этим опять‑таки своему происхождению: ведь отец у него мудр и богат, а мать не обладает ни мудростью, ни богатством. Такова, дорогой Сократ, природа этого гения.
c
Что же касается твоего мнения об Эроте, то в нем нет ничего удивительного. Судя по твоим словам, ты считал, что Эрот есть предмет любви, а не любящее начало. Потому‑то, я думаю, Эрот и показался тебе таким прекрасным. Ведь предмет любви в самом деле и прекрасен, и нежен, и полон совершенства, и достоин зависти. А любящее начало имеет другой облик, такой примерно, как я сейчас описала.
Тогда я сказал ей:
– Пусть так, чужеземка, ты говорила прекрасно, но если Эрот таков, какая польза от него людям?
d
– А это, Сократ, – сказала она, – я сейчас и попытаюсь тебе объяснить. Итак, свойства и происхождение Эрота тебе известны, а представляет он собой, как ты говоришь, любовь к прекрасному. Ну, а если бы нас спросили: «Что же это такое, Сократ и Диотима, любовь к прекрасному?» – или, выражаясь еще точнее: «Чего же хочет тот, кто любит прекрасное?»
– Чтобы оно стало его уделом, – ответил я.
– Но твой ответ, – сказала она, – влечет за собой следующий вопрос, а именно: «Что же приобретет тот, чьим уделом станет прекрасное?»
Я сказал, что не могу ответить на такой вопрос сразу.
e
– Ну, а если заменить слово «прекрасное» словом е «благо» и спросить тебя: «Скажи, Сократ, чего хочет тот, кто любит благо?»
– Чтобы оно стало его уделом, – отвечал я.
– А что приобретает тот, чьим уделом окажется благо? – спросила она.
– На это, – сказал я, – ответить легче. Он будет счастлив.
205
– Правильно, счастливые счастливы потому, что обладают благом, – подтвердила она. – А спрашивать, почему хочет быть счастливым тот, кто хочет им быть, незачем. Твоим ответом вопрос, по‑видимому, исчерпан.
– Ты права, – согласился я.
– Ну, а это желание и эта любовь присущи, по‑твоему, всем людям, и всегда ли они желают себе блага, по‑твоему?
– Да, – отвечал я. – Это присуще всем.
b
– Но если все и всегда любят одно и то же, – сказала она, – то почему же, Сократ, мы говорим не обо всех, что они любят, а об одних говорим так, а о других – нет?
– Я и сам этому удивляюсь, – отвечал я.
– Не удивляйся, – сказала она. – Мы просто берем одну какую‑то разновидность любви и, закрепляя за ней название общего [понятия,] именуем любовью только ее, а другие разновидности называем иначе.
– Например? – спросил я.
c
– Изволь, – отвечала она. – Ты знаешь, творчество – [понятие] широкое. Все, что вызывает переход из небытия в бытие, – творчество, и, следовательно, создание любых произведений искусства и ремесла можно назвать творчеством, а всех создателей их – творцами.
– Совершенно верно, – согласился я.
– Однако, – продолжала она, – ты знаешь, что они не называются творцами, а именуются иначе, ибо из всех видов творчества выделена одна область – область музыки и стихотворных размеров, к которой и принято относить наименование «творчество». Творчеством зовется только она, а творцами‑поэтами – только те, кто ей причастен.
– Совершенно верно, – согласился я.
d
– Так же обстоит дело и с любовью. По сути, всякое желание блага и счастья – это для всякого великая и коварная любовь. Однако о тех, кто предан таким ее видам, как корыстолюбие, любовь к телесным упражнениям, любовь к мудрости, не говорят, что они любят или что они влюблены, – только к тем, кто занят и увлечен одним лишь определенным видом любви, относят общие названия «любовь», «любить» и «влюбленные».
– Пожалуй, это правда, – сказал я.
e
– Некоторые утверждают, – продолжала она, – что любить – значит искать свою половину. А я утверждаю, что ни половина, ни целое не вызовет любви, если не представляет собой, друг мой, какого‑то блага. Люди хотят, чтобы им отрезали руки и ноги, если эти части собственного их тела покажутся им негодными. Ведь ценят люди вовсе не свое (если, конечно, не называть все хорошее своим и родственным себе, а все дурное – чужим), нет, любят они только хорошее. А ты как думаешь?
206
– Я думаю так же, – отвечал я.
– Нельзя ли поэтому просто сказать, что люди любят благо?
– Можно, – ответил я.
– А не добавить ли, – продолжала она, – что люди любят и обладать благом?
– Добавим.
– И не просто обладать им, но обладать вечно?
– Добавим и это.
– Не есть ли, одним словом, любовь не что иное, как любовь к вечному обладанию благом?
– Ты говоришь сущую правду, – сказал я.
b
– Ну, а если любовь – это всегда любовь к благу, – сказала она, – то скажи мне, каким образом должны поступать те, кто к нему стремится, чтобы их пыл и рвение можно было назвать любовью? Что они должны делать, ты можешь сказать?
– Если бы мог, – отвечал я, – я не восхищался бы твоей мудростью и не ходил к тебе, чтобы все это узнать.
– Ну, так я отвечу тебе, – сказала она. – Они должны родить в прекрасном как телесно, так и духовно.
– Нужно быть гадателем, – сказал я, – чтобы понять, что ты имеешь в виду, а мне это непонятно,
c
– Ну что ж, – отвечала она, – скажу яснее. Дело в том, Сократ, что все люди беременны как телесно, так и духовно, и, когда они достигают известного возраста, природа наша требует разрешения от бремени. Разрешиться же она может только в прекрасном, но не в безобразном. Соитие мужчины и женщины есть такое разрешение. И это дело божественное, ибо зачатие и рождение суть проявления бессмертного начала в существе смертном. Ни то ни другое не может произойти в неподходящем,
d
а неподходящее для всего божественного – это безобразие, тогда как прекрасное – это подходящее. Таким образом, Мойра и Илифия всякого рождения – это Красота[982]
. Поэтому, приблизившись к прекрасному, беременное существо проникается радостью и весельем, родит и производит на свет, а приблизившись к безобразному, мрачнеет, огорчается, съеживается, отворачивается, замыкается и, вместо того чтобы родить, тяготится задержанным в утробе плодом.
e
Вот почему беременные и те, кто уже на сносях, так жаждут прекрасного – оно избавляет их от великих родильных мук. Но любовь, – заключила она, – вовсе не есть стремление к прекрасному, как то тебе, Сократ, кажется.
– А что же она такое?
– Стремление родить и произвести на свет в прекрасном.
– Может быть, – сказал я.
– Несомненно, – сказала она. – А почему именно родить? Да потому, что рождение – это та доля бессмертия и вечности, которая отпущена смертному существу.
207
Но если любовь, как мы согласились, есть стремление к вечному обладанию благом, то наряду с благом нельзя не желать и бессмертия. А значит, любовь – это стремление и к бессмертию.
Всему этому она учила меня всякий раз, когда беседовала со мной о любви. А однажды она спросила меня:
– В чем, по‑твоему, Сократ, причина этой любви и этого вожделения? Не замечал ли ты, в сколь необыкновенном состоянии бывают все животные, и наземные и пернатые, когда они охвачены страстью деторождения?
b
Они пребывают в любовной горячке сначала во время спаривания, а потом – когда кормят детенышей, ради которых они готовы и бороться с самыми сильными, как бы ни были слабы сами, и умереть, и голодать, только чтобы их выкормить, и вообще сносить все, что угодно. О людях еще можно подумать, – продолжала она, – что они делают это по велению разума, но в чем причина таких любовных порывов у животных, ты можешь сказать?
c
И я снова сказал, что не знаю.
– И ты рассчитываешь стать знатоком любви, – спросила она, – не поняв этого?
– Но ведь я же, как я только что сказал, потому и хожу к тебе, Диотима, что мне нужен учитель. Назови же мне причину и этого и всего другого, относящегося к любви!
– Так вот, – сказала она, – если ты убедился, что любовь по природе своей – это стремление к тому, о чем мы не раз уже говорили, то и тут тебе нечему удивляться.
d
Ведь у животных, так же как и у людей, смертная природа стремится стать по возможности бессмертной и вечной. А достичь этого она может только одним путем – порождением, оставляя всякий раз новое вместо старого; ведь даже за то время, покуда о любом живом существе говорят, что оно живет и остается самим собой – человек, например, от младенчества до старости считается одним и тем же лицом, – оно никогда не бывает одним и тем же, хоть и числится прежним, а всегда обновляется, что‑то непременно теряя,
e
будь то волосы, плоть, кости, кровь или вообще все телесное, да и не только телесное, но и то, что принадлежит душе: ни у кого не остаются без перемен ни его привычки и нрав, ни мнения, ни желания, ни радости, ни горести, ни страхи, всегда что‑то появляется, а что‑то утрачивается.
А еще удивительнее, однако, обстоит дело с нашими знаниями: мало того что какие‑то знания у нас появляются,
208
а какие‑то мы утрачиваем и, следовательно, никогда не бываем прежними и в отношении знаний, – такова же участь каждого вида знаний в отдельности. То, что называется упражнением, обусловлено не чем иным, как убылью знания, ибо забвение – это убыль какого‑то знания, а упражнение, заставляя нас вновь вспоминать забытое, сохраняет нам знание настолько, что оно кажется прежним. Так вот, таким же образом сохраняется и все смертное:
b
в отличие от божественного оно не остается всегда одним и тем же, но, устаревая и уходя, оставляет новое свое подобие. Вот каким способом, Сократ, – заключила она, – приобщается к бессмертию смертное – и тело, и все остальное. Другого способа нет. Не удивляйся же, что каждое живое существо по природе своей заботится о своем потомстве. Бессмертия ради сопутствует всему на свете рачительная эта любовь.
Выслушав ее речь, я пришел в изумление и сказал:
– Да неужели, премудрая Диотима, это действительно так?
c
И она отвечала, как отвечают истинные мудрецы:
– Можешь быть уверен в этом, Сократ. Возьми людское честолюбие – ты удивишься его бессмысленности, если не вспомнишь то, что я сказала, и упустишь из виду, как одержимы люди желанием сделать громким свое имя, «чтобы на вечное время стяжать бессмертную славу»[983]
, ради которой они готовы подвергать себя еще большим опасностям, чем ради своих детей, тратить деньги, сносить любые тяготы, умереть, наконец.
d
Ты думаешь, – продолжала она, – Алкестиде захотелось бы умереть за Адмета, Ахиллу – вслед за Патроклом, а вашему Кодру[984]
– ради будущего царства своих детей, если бы все они не надеялись оставить ту бессмертную память о своей добродетели, которую мы и сейчас сохраняем? Я думаю, – сказала она, – что все делают всё ради такой бессмертной славы об их добродетели, и, чем люди достойнее, тем больше они и делают. Бессмертие – вот чего они жаждут.
e
Те, у кого разрешиться от бремени стремится тело, – продолжала она, – обращаются больше к женщинам и служат Эроту именно так, надеясь деторождением приобрести бессмертие и счастье и оставить о себе память на вечные времена.
209
Беременные же духовно – ведь есть и такие, – пояснила она, – которые беременны духовно, и притом в большей даже мере, чем телесно, – беременны тем, что как раз душе и подобает вынашивать. А что ей подобает вынашивать? Разумение и прочие добродетели. Родителями их бывают все творцы и те из мастеров, которых можно назвать изобретательными. Самое же важное и прекрасное – это разуметь, как управлять государством и домом, и называется это умение рассудительностью и справедливостью.
b
Так вот, кто смолоду вынашивает эти качества, храня чистоту и с наступлением возмужалости, но испытывает страстное желание родить, тот, я думаю, тоже ищет везде прекрасное, в котором он мог бы разрешиться от бремени, ибо в безобразном он ни за что не родит. Беременный, он радуется прекрасному телу больше, чем безобразному, но особенно рад он, если такое тело встретится ему в сочетании с прекрасной, благородной и даровитой душой:
c
для такого человека он сразу находит слова о добродетели, о том, каким должен быть и чему должен посвятить себя достойный муж, и принимается за его воспитание. Проводя время с таким человеком, он, я думаю, соприкасается с прекрасным и родит на свет то, чем давно беременей. Всегда помня о своем друге, где бы тот ни был – далеко или близко, он сообща с ним растит свое детище, благодаря чему они гораздо ближе друг другу, чем мать и отец, и дружба между ними прочнее, потому что связывающие их дети прекраснее и бессмертнее.
d
Да и каждый, пожалуй, предпочтет иметь таких детей, а не обычных, если подумает о Гомере, Гесиоде и других прекрасных поэтах, чье потомство[985]
достойно зависти, ибо оно приносит им бессмертную славу и сохраняет память о них, потому что и само незабываемо и бессмертно. Или возьми, если угодно, – продолжала она, – детей, оставленных Ликургом в Лакедемоне, – детей, спасших Лакедемон и, можно сказать, всю Грецию[986]
.
e
В почете у вас и Солон, родитель ваших законов, а в разных других местах, будь то у греков или у варваров, почетом пользуется много других людей, совершивших множество прекрасных дел и породивших разнообразные добродетели. Не одно святилище воздвигнуто за таких детей этим людям, а за обычных детей никому еще не воздвигали святилищ.
210
Во все эти таинства любви можно, пожалуй, посвятить и тебя, Сократ. Что же касается тех высших и сокровеннейших, ради которых первые, если разобраться, и существуют на свете, то я не знаю, способен ли ты проникнуть в них. Сказать о них я, однако, скажу, – продолжала она, – за мной дело не станет. Так попытайся же следовать за мной, насколько сможешь.
Кто хочет избрать верный путь ко всему этому, должен начать с устремления к прекрасным телам в молодости. Если ему укажут верную дорогу, он полюбит сначала одно какое‑то тело и родит в нем прекрасные мысли,
b
а потом поймет, что красота одного тела родственна красоте любого другого и что если стремиться к идее прекрасного, то нелепо думать, будто красота у всех тел не одна и та же. Поняв это, он станет любить все прекрасные тела, а к тому одному охладеет, ибо сочтет такую чрезмерную любовь ничтожной и мелкой. После этого он начнет ценить красоту души выше, чем красоту тела, и, если ему попадется человек хорошей души,
c
но не такой уж цветущий, он будет вполне доволен, полюбит его и станет заботиться о нем, стараясь родить такие суждения, которые делают юношей лучше, благодаря чему невольно постигнет красоту нравов и обычаев и, увидев, что все это прекрасное родственно между собою, будет считать красоту тела чем‑то ничтожным. От нравов он должен перейти к наукам, чтобы увидеть красоту наук
d
и, стремясь к красоте уже во всем ее многообразии, не быть больше ничтожным и жалким рабом чьей‑либо привлекательности, плененным красотой одного какого‑то мальчишки, человека или характера, а повернуть к открытому морю красоты и, созерцая его в неуклонном стремлении к мудрости, обильно рождать великолепные речи и мысли, пока наконец, набравшись тут сил и усовершенствовавшись, он не узрит того единственного знания, которое касается прекрасного, и вот какого прекрасного…
e
Теперь, – сказала Диотима, – постарайся слушать меня как можно внимательнее.
Кто, наставляемый на пути любви, будет в правильном порядке созерцать прекрасное, тот, достигнув конца этого пути, вдруг увидит нечто удивительно прекрасное по природе, то самое, Сократ, ради чего и были предприняты все предшествующие труды, – нечто, во‑первых, вечное,
211
то есть не знающее ни рождения, ни гибели, ни роста, ни оскудения, а во‑вторых, не в чем‑то прекрасное, а в чем‑то безобразное, не когда‑то, где‑то, для кого‑то и сравнительно с чем‑то прекрасное, а в другое время, в другом месте, для другого и сравнительно с другим безобразное. Прекрасное это предстанет ему не в виде какого‑то лица, рук или иной части тела, не в виде какой‑то речи или знания, не в чем‑то другом, будь то животное, Земля, небо или еще что‑нибудь, а само по себе, всегда в самом себе единообразное;
b
все же другие разновидности прекрасного причастны к нему таким образом, что они возникают и гибнут, а его не становится ни больше, ни меньше, и никаких воздействий оно не испытывает. И тот, кто благодаря правильной любви к юношам поднялся над отдельными разновидностями прекрасного и начал постигать само прекрасное, тот, пожалуй, почти у цели.
c
Вот каким путем нужно идти в любви – самому или под чьим‑либо руководством: начав с отдельных проявлений прекрасного, надо все время, словно бы по ступенькам, подниматься ради самогу прекрасного вверх – от одного прекрасного тела к двум, от двух – ко всем, а затем от прекрасных тел к прекрасным нравам, а от прекрасных нравов к прекрасным учениям, пока не поднимешься от этих учений к тому, которое и есть учение о самом прекрасном, и не познаешь наконец, что же это – прекрасное.
d
И в созерцании прекрасного самого по себе, дорогой Сократ, – продолжала мантинеянка, – только и может жить человек, его увидевший. Ведь, увидев его, ты не сравнишь его ни со златотканой одеждой, ни с красивыми мальчиками и юношами, при виде которых ты теперь приходишь в восторг, и, как многие другие, кто любуется своими возлюбленными и не отходит от них, согласился бы, если бы это было хоть сколько‑нибудь возможно, не есть и не пить, а только непрестанно глядеть на них и быть с ними.
e
Так что же было бы, – спросила она, – если бы кому‑нибудь довелось увидеть прекрасное само по себе прозрачным, чистым, беспримесным, не обремененным человеческой плотью, красками и всяким другим бренным вздором, если бы это божественное прекрасное можно было увидеть во всем его единообразии?
212
Неужели ты думаешь, – сказала она, – что человек, устремивший к нему взор, подобающим образом его созерцающий и с ним неразлучный, может жить жалкой жизнью? Неужели ты не понимаешь, что, лишь созерцая прекрасное тем, чем его и надлежит созерцать, он сумеет родить не призраки добродетели, а добродетель истинную, потому что постигает он истину, а не призрак? А кто родил и вскормил истинную добродетель, тому достается в удел любовь богов, и если кто‑либо из людей бывает бессмертен, то именно он.
b
Вот что – да будет и тебе, Федр, и всем вам известно – рассказала мне Диотима, и я ей верю. А веря ей, я пытаюсь уверить и других, что в стремлении человеческой природы к такому уделу у нее вряд ли найдется лучший помощник, чем Эрот. Поэтому я утверждаю, что все должны чтить Эрота, и, будучи сам почитателем его владений и всячески в них подвизаясь, я и другим советую следовать моему примеру и, как могу, славлю могущество и мужество Эрота.
c
Если хочешь, Федр, считай эту речь похвальным словом Эроту, а нет – назови ее чем угодно, как заблагорассудится.
Когда Сократ кончил, все стали его хвалить, а Аристофан пытался что‑то сказать, потому что в своем слове Сократ упомянул одно место из его речи. Вдруг в наружную дверь застучали так громко, словно явилась целая ватага гуляк, и послышались звуки флейты.
d
– Эй, слуги, – сказал Агафон, – поглядите, кто там, и, если кто из своих, просите. А если нет, скажите, что мы уже не пьем, а прилегли отдохнуть.
Вскоре со двора донесся голос Алкивиада, который был сильно пьян и громко кричал, спрашивая, где Агафон, и требуя, чтобы его провели к Агафону. Его провели к ним вместе с флейтисткой, которая поддерживала его под руку, и другими его спутниками,
e
и он, в каком‑то пышном венке из плюща и фиалок и с великим множеством лент на голове[987]
, остановился в дверях и сказал:
– Здравствуйте, друзья! Примете ли вы в компанию очень пьяного человека, или нам уйти? Но прежде мы увенчаем Агафона, ведь ради этого мы и явились! Вчера я не мог прийти, – продолжал он, – зато сейчас я пришел, и на голове у меня ленты, но я их сниму и украшу ими голову самого, так сказать, мудрого и красивого. Вы смеетесь надо мной, потому что я пьян?
213
Ну что ж, смейтесь, я все равно прекрасно знаю, что я прав. Но скажите сразу, входить мне на таких условиях или лучше не надо? Будете вы пить со мной или нет?
Все зашумели, приглашая его войти и расположиться за столом, и Агафон тоже его пригласил.
И тогда он вошел, поддерживаемый рабами, и сразу же стал снимать с себя ленты, чтобы повязать ими Агафона; ленты свисали ему на глаза, а потому он не заметил Сократа
b
и сел рядом с Агафоном, между ним и Сократом, который потеснился. Усевшись рядом с Агафоном, Алкивиад поцеловал его и украсил повязками. И Агафон сказал:
– Разуйте, слуги, Алкивиада, чтобы он возлег с нами третьим.
– С удовольствием, – сказал Алкивиад, – но кто же наш третий сотрапезник?
И, обернувшись, он увидел Сократа и, узнав его, вскочил на ноги и воскликнул:
c
– О Геракл, что же это такое? Это ты, Сократ! Ты устроил мне засаду и здесь. Такая уж у тебя привычка – внезапно появляться там, где тебя никак не предполагаешь увидеть. Зачем ты явился на этот раз? И почему ты умудрился возлечь именно здесь, не рядом с Аристофаном или с кем‑нибудь другим, кто смешон или нарочно смешит, а рядом с самым красивым из всех собравшихся?
И Сократ сказал:
– Постарайся защитить меня, Агафон, а то любовь этого человека стала для меня делом нешуточным.
d
С тех пор как я полюбил его, мне нельзя ни взглянуть на красивого юношу, ни побеседовать с каким‑либо красавцем, не вызывая неистовой ревности Алкивиада, который творит невесть что, ругает меня и доходит чуть ли не до рукоприкладства. Смотри же, как бы он и сейчас не натворил чего, помири нас, а если он пустит в ход силу, заступись за меня, ибо я не на шутку боюсь безумной влюбчивости этого человека.
– Нет, – сказал Алкивиад, – примирения между мной и тобой быть не может, но за сегодняшнее я отплачу тебе в другой раз.
e
А сейчас, Агафон, – продолжал он, – дай мне часть твоих повязок, мы украсим ими и эту удивительную голову, чтобы владелец ее не упрекал меня за то, что тебя я украсил, а его, который побеждал своими речами решительно всех, и притом не только позавчера, как ты, а всегда, – его не украсил.
И, взяв несколько лент, он украсил ими Сократа и расположился за столом.
А расположившись, сказал:
– Э, друзья, да вы, кажется, трезвы. Это не годится, надо пить, такой уж у нас уговор. Пока вы как следует не напьетесь, распорядителем пира буду я. Итак, пусть Агафон велит принести чару побольше, если такая найдется. А впрочем, не нужно: лучше тащи‑ка ты сюда, мальчик, вон ту холодильную чашу, – сказал он, увидев, что в нее войдет котил[988]
восемь, если не больше.
214
Наполнив ее, он выпил сначала сам, а потом велел налить Сократу, сказав при этом:
– Сократу, друзья, затея моя нипочем. Он выпьет, сколько ему ни прикажешь, и не опьянеет ничуточки.
Мальчик наполнил чашу, и Сократ выпил.
Тогда Эриксимах сказал:
b
– Что же это такое, Алкивиад? Неужели мы не будем ни беседовать за чашей, ни петь, а станем просто пить, как пьют для утоления жажды?
– А, Эриксимах, достойнейший сын достойнейшего и благоразумнейшего отца! Здравствуй, Эриксимах, – отозвался Алкивиад.
– Здравствуй, здравствуй, – сказал Эриксимах. – Но как же нам быть?
– Как ты прикажешь. Ведь тебя надо слушаться.
Стоит многих людей один врачеватель искусный[989]
.
Распоряжайся, как тебе будет угодно.
– Так слушай же, – сказал Эриксимах. – До твоего прихода мы решили, что каждый из нас по очереди, начиная справа, скажет, как можно лучше, речь об Эроте и прославит его.
c
И вот все мы уже свое сказали. Ты же речи не говорил, а выпить выпил. Поэтому было бы справедливо, чтобы ты ее произнес, а произнеся, дал любой наказ Сократу, а тот потом своему соседу справа, и так далее.
– Все это, Эриксимах, прекрасно, – отвечал Алкивиад, – но пьяному не по силам тягаться в красноречии с трезвым. А кроме того, дорогой мой, неужели ты поверил всему, что Сократ сейчас говорил?
d
Разве ты не знаешь: что бы он тут ни говорил, все обстоит как раз наоборот. Ведь это он, стоит лишь мне при нем похвалить не его, а кого‑нибудь другого, бога ли, человека ли, сразу же дает волю рукам.
– Молчал бы лучше, – сказал Сократ.
– Нет, что бы ты ни говорил, – возразил Алкивиад, – я никого не стану хвалить в твоем присутствии, клянусь Посейдоном.
– Ну что ж, – сказал Эриксимах, – в таком случае воздай хвалу Сократу.
e
– Что ты, Эриксимах! – воскликнул Алкивиад. – Неужели, по‑твоему, я должен напасть на него и при вас отомстить ему?
– Послушай, – сказал Сократ, – что это ты задумал? Уж не собираешься ли ты высмеять меня в своем похвальном слове?
– Я собираюсь говорить правду, да не знаю, позволишь ли.
– Правду, – ответил Сократ, – я не только позволю, но и велю· говорить. Речь Алкивиада: панегирик Сократу
– Ну что ж, не премину, – сказал Алкивиад. – А ты поступай вот как. Едва только я скажу неправду, перебей меня, если захочешь, и заяви, что тут я соврал, – умышленно врать я не стану.
215
Но если я буду говорить несвязно, как подскажет память, не удивляйся. Не так‑то легко перечислить по порядку все твои странности, да еще в таком состоянии.
Хвалить же, друзья мои, Сократа я попытаюсь путем сравнений. Он, верно, подумает, что я хочу посмеяться над ним, но к сравнениям я намерен прибегать ради истины, а совсем не для смеха.
b
Более всего, по‑моему, он похож на тех силенов, какие бывают в мастерских ваятелей и которых художники изображают с какой‑нибудь дудкой или флейтой в руках[990]
. Если раскрыть такого силена, то внутри у него оказываются изваяния богов. Так вот, Сократ похож, по‑моему, на сатира Марсия. Что ты сходен с силенами внешне, Сократ, этого ты, пожалуй, и сам не станешь оспаривать. А что ты похож на них и в остальном, об этом послушай. Скажи, ты дерзкий человек или нет? Если ты не ответишь утвердительно, у меня найдутся свидетели. Далее, разве ты не флейтист? Флейтист, и притом куда более достойный удивления, чем Марсий.
c
Тот завораживал людей силой своих уст, с помощью инструмента, как, впрочем, и ныне еще любой, кто играет его напевы. Те, которые играл Олимп, я, кстати сказать, тоже приписываю Марсию, как его учителю[991]
. Так вот, только напевы Марсия, играет ли их хороший флейтист или плохая флейтистка, одинаково увлекают слушателей и, благодаря тому что они сами божественны, обнаруживают тех, кто испытывает потребность в богах и таинствах. Ты же ничем не отличаешься от Марсия, только достигаешь того же самого без всяких инструментов, одними речами.
d
Когда мы, например, слушаем речь какого‑нибудь другого оратора, даже очень хорошего, это никого из нас, правду сказать, не волнует. А слушая тебя или твои речи в чужом, хотя бы и очень плохом, пересказе, все мы, мужчины, и женщины, и юноши, бываем потрясены и увлечены.
Что касается меня, друзья, то я, если бы не боялся показаться вам совсем пьяным, под клятвой рассказал бы вам, что я испытывал, да и теперь еще испытываю, от его речей.
e
Когда я слушаю его, сердце у меня бьется гораздо сильнее, чем у беснующихся корибантов[992]
, а из глаз моих от его речей льются слезы; то же самое, как я вижу, происходит и со многими другими. Слушая Перикла и других превосходных ораторов, я находил, что они хорошо говорят, но ничего подобного не испытывал, душа у меня не приходила в смятение, негодуя на рабскую мою жизнь.
216
А этот Марсий приводил меня часто в такое состояние, что мне казалось – нельзя больше жить так, как я живу. И ты, Сократ, не скажешь, что это неправда. Да я и сейчас отлично знаю, что стоит лишь мне начать его слушать, как я не выдержу и впаду в такое же состояние. Ведь он заставит меня признать, что при всех моих недостатках я пренебрегаю самим собою и занимаюсь делами афинян. Поэтому я нарочно не слушаю его и пускаюсь от него, как от сирен, наутек, иначе я до самой старости не отойду от него. И только перед ним одним испытываю я то, чего вот уж никто бы за мною не заподозрил, – чувство стыда.
b
Я стыжусь только его, ибо сознаю, что ничем не могу опровергнуть его наставлений, а стоит мне покинуть его, соблазняюсь почестями, которые оказывает мне большинство. Да, да, я пускаюсь от него наутек, удираю, а когда вижу его, мне совестно, потому что я ведь был с ним согласен.
c
И порою мне даже хочется, чтобы его вообще не стало на свете, хотя, с другой стороны, отлично знаю, что, случись это, я горевал бы гораздо больше. Одним словом, я и сам не ведаю, как мне относиться к этому человеку. Вот какое действие оказывает на меня и на многих других звуками своей флейты этот сатир. Послушайте теперь, как похож он на то, с чем я сравнил его, и какой удивительной силой он обладает. Поверьте, никто из вас не знает его, но я, раз уж начал, покажу вам, а каков он.
d
Вы видите, что Сократ любит красивых, всегда норовит побыть с ними, восхищается ими, и в то же время ничего‑де ему не известно и ни в чем он не смыслит. Не похож ли он этим на силена? Похож, и еще как! Ведь он только напускает на себя такой вид, поэтому он и похож на полое изваяние силена. А если его раскрыть, сколько рассудительности, дорогие сотрапезники, найдете вы у него внутри! Да будет вам известно, что ему совершенно неважно, красив человек или нет
e
(вы даже не представляете себе, до какой степени это е безразлично ему), богат ли и обладает ли каким‑нибудь другим преимуществом, которое превозносит толпа. Все эти ценности он ни во что не ставит, считая, что и мы сами – ничто, но он этого не говорит, нет, он всю свою жизнь морочит людей притворным самоуничижением.
Не знаю, доводилось ли кому‑либо видеть таящиеся в нем изваяния, когда он раскрывался по‑настоящему, а мне как‑то раз довелось, и они показались мне такими божественными, золотыми, прекрасными и удивительными, что я решил сделать вскорости все, чего Сократ ни потребует.
217
Полагая, что он зарится на цветущую мою красоту, я счел ее счастливым даром и великой своей удачей: ведь благодаря ей я мог бы, уступив Сократу, услыхать от него все, что он знает. Вот какого я был о своей красоте невероятного мнения.
b
С такими‑то мыслями я однажды и отпустил провожатого, без которого я до той поры не встречался с Сократом, и остался с ним с глазу на глаз – скажу уж вам, так и быть, всю правду, поэтому будьте внимательны, а ты, Сократ, если совру, поправь меня.
Итак, друзья, мы оказались наедине, и я ждал, что вот‑вот он заговорит со мной так, как говорят без свидетелей влюбленные с теми, в кого они влюблены, и радовался заранее. Но ничего подобного не случилось: проведя со мной день в обычных беседах, он удалился.
c
После этого я пригласил его поупражняться вместе в гимнастике и упражнялся с ним вместе, надеясь тут чего‑то добиться. И, упражняясь, он часто боролся со мной, когда никого поблизости не было. И что же? На том все и кончилось. Ничего таким путем не достигнув, я решил пойти на него приступом и не отступать от начатого, а узнать наконец, в чем тут дело. И вот я приглашаю его поужинать со мной – ну прямо как влюбленный, готовящий ловушку любимому.
d
Хотя и эту просьбу выполнил он не сразу, но в конце концов все‑таки принял мое приглашение. Когда он явился в первый раз, то после ужина пожелал уйти, и я, застеснявшись, тогда отпустил его. Залучив его к себе во второй раз, я после ужина болтал с ним до поздней ночи, а когда он собрался уходить, я сослался на поздний час и заставил его остаться. Он лег на соседнее с моим ложе, на котором возлежал и во время обеда, и никто, кроме нас, в комнате этой не спал…
e
Все, что я сообщил до сих пор, можно смело рассказывать кому угодно, а вот дальнейшего вы не услышали бы от меня, если бы, во‑первых, вино не было, как говорится правдиво, причем не только с детьми, но и без них[993]
, а во‑вторых, если бы мне не казалось несправедливым замалчивать великолепный поступок Сократа, раз уж я взялся произнести ему похвальное слово. Вдобавок я испытываю сейчас то же, что человек, укушенный гадюкой. Говорят, что тот, с кем это случилось, рассказывает о своих ощущениях только тем, кто испытал то же на себе, ибо только они способны понять его и простить, что бы он ни наделал и ни наговорил от боли.
218
Ну, я был укушен чувствительнее, чем кто бы то ни было, и притом в самое чувствительное место – в сердце, в душу – называйте как хотите, укушен и ранен философскими речами, которые впиваются в молодые и достаточно одаренные души сильней, чем змея, и могут заставить делать и говорить все, что угодно. С другой стороны, передо мной сейчас такие люди, как
b
Федр, Агафон, Эриксимах, Павсаний, Аристодем, Аристофан и другие, не говоря уже о самом Сократе: все вы одержимы философским неистовством, а потому и слушайте все! Ведь вы простите мне то, что я тогда сделал и о чем сейчас расскажу. Что же касается слуг и всех прочих непосвященных невежд, то пусть они свои уши замкнут большими вратами[994]
.
c
Итак, друзья, когда светильник погас и слуги вышли, я решил не хитрить с ним больше и сказать о своих намерениях без обиняков.
– Ты спишь, Сократ? – спросил я, потормошив его.
– Нет еще, – отвечал он.
– Ты знаешь, что я задумал?
– Что же? – спросил он.
– Мне кажется, – отвечал я, – что ты единственный достойный меня поклонник, и, по‑моему, ты не решаешься заговорить об этом со мной. Что же до меня, то, на мой взгляд, было бы величайшей глупостью отказать тебе в этом: ведь я не отказал бы тебе, нуждайся ты в моем имуществе или в моих друзьях.
d
Для меня нет ничего важнее, чем достичь как можно большего совершенства, а тут, я думаю, мне никто не сумеет помочь лучше тебя. Вот почему, откажи я такому человеку, я гораздо больше стыдился бы людей умных, чем стыдился бы глупой толпы, ему уступив.
На это он ответил с обычным своим лукавством:
e
– Дорогой мой Алкивиад, ты, видно, и в самом деле не глуп, если то, что ты сказал обо мне, – правда, и во мне действительно скрыта какая‑то сила, которая способна сделать тебя благороднее, – то есть если ты усмотрел во мне какую‑то удивительную красоту, совершенно отличную от твоей миловидности. Так вот, если, увидев ее. ты стараешься вступить со мною в общение и обменять красоту на красоту, – значит, ты хочешь получить куда большую, чем я, выгоду, приобрести настоящую красоту ценой кажущейся и задумал поистине выменять медь на золото[995]
.
219
Но приглядись ко мне получше, милейший, чтобы от тебя не укрылось мое ничтожество. Зрение рассудка становится острым тогда, когда глаза начинают уже терять свою зоркость, а тебе до этого еще далеко.
На это я ответил ему:
– Ну что ж, я, во всяком случае, сказал то, что думал. А уж ты сам решай, как будет, по‑твоему, лучше и мне и тебе.
b
– Вот это, – сказал он, – правильно. И впредь мы будем сначала советоваться, а потом уже поступать так, как нам покажется лучше, – и в этом деле, и во всех остальных.
Обменявшись с ним такими речами, я вообразил, что мои слова ранили его не хуже стрел. Я встал и, не дав ему ничего сказать, накинул этот свой гиматий – дело было зимой, – лег под его потертый плащ и, обеими руками обняв этого поистине божественного, удивительного человека, пролежал так всю ночь.
c
И на этот раз, Сократ, ты тоже не скажешь, что я лгу. Так вот, несмотря на все эти мои усилия, он одержал верх, пренебрег цветущей моей красотой, презрительно посмеялся над ней. А я‑то думал, что она хоть что‑то да значит, судьи, – да, да, судьи Сократовой заносчивости, – ибо, клянусь вам всеми богами и богинями, – проспав с Сократом всю ночь, я встал точно таким же, как если бы спал с отцом или со старшим братом.
d
В каком я был, по‑вашему, после этого расположении духа, если, с одной стороны, я чувствовал себя обиженным, а с другой – восхищался характером, благоразумием и мужественным поведением этого человека, равного которому по силе ума и самообладанию я никогда до сих пор и не чаял встретить? Я не мог ни сердиться на него, ни отказаться от его общества, а способа привязать его к себе у меня не было.
e
Ведь я же прекрасно знал, что подкупить его деньгами еще невозможнее, чем ранить Аякса мечом[996]
, а когда я пустил в ход то, на чем единственно надеялся поймать его, он ускользнул от меня. Я был беспомощен и растерян, он покорил меня так, как никто никогда не покорял. Все это произошло еще до того, как нам довелось отправиться с ним в поход на Потидею[997]
и вместе там столоваться. Начну с того, что выносливостью он превосходил не только меня, но и вообще всех. Когда мы оказывались отрезаны и поневоле, как это бывает в походах, голодали, никто не мог сравниться с ним выдержкой.
220
Зато когда всего бывало вдоволь, он один бывал способен всем насладиться; до выпивки он не был охотник, но уж когда его принуждали пить, оставлял всех позади, и, что самое удивительное, никто никогда не видел Сократа пьяным. Это, кстати сказать, наверно, и сейчас подтвердится. Точно так же и зимний холод – а зимы там жестокие – он переносил удивительно стойко,
b
и однажды, когда стояла страшная стужа и другие либо вообще не выходили наружу, либо выходили, напялив на себя невесть сколько одежды и обуви, обмотав ноги войлоком и овчинами, он выходил в такую погоду в обычном своем плаще и босиком шагал по льду легче, чем другие обувшись. И воины косо глядели на него, думая, что он глумится над ними… Но довольно об этом. Послушайте теперь
c
…чту он,
Дерзко‑решительный муж, наконец предпринял и исполнил[998]
во время того же похода. Как‑то утром он о чем‑то задумался и, погрузившись в свои мысли, застыл на месте, и, так как дело у него не шло на лад, он не прекращал своих поисков и все стоял и стоял. Наступил уже полдень, и люди, которым это бросалось в глаза, удивленно говорили друг другу, что Сократ с самого утра стоит на одном месте и о чем‑то раздумывает. Наконец вечером, уже поужинав, некоторые ионийцы – дело было летом – вынесли свои подстилки на воздух,
d
чтобы поспать в прохладе и заодно понаблюдать за Сократом, будет ли он стоять на том же месте и ночью. И оказалось, что он простоял там до рассвета и до восхода Солнца, а потом, помолившись Солнцу, ушел.
А хотите знать, каков он в бою? Тут тоже нужно отдать ему должное. В той битве, за которую меня наградили военачальники, спас меня не кто иной, как Сократ:
e
не захотев бросить меня, раненого, он вынес с поля боя и мое оружие, и меня самого. Я и тогда, Сократ, требовал от военачальников, чтобы они присудили награду тебе, – тут ты не можешь ни упрекнуть меня, ни сказать, что я лгу, – но они, считаясь с моим высоким положением, хотели присудить ее мне, а ты сам еще сильней, чем они, ратовал за то, чтобы наградили меня, а не тебя.
Особенно же стоило посмотреть на Сократа, друзья, когда наше войско, обратившись в бегство, отступало от Делия. Я был тогда в коннице, а он в тяжелой пехоте.
221
Он уходил вместе с Лахетом[999]
, когда наши уже разбрелись. И вот я встречаю обоих и, едва их завидев, призываю их не падать духом и говорю, что не брошу их. Вот тут‑то Сократ и показал мне себя с еще лучшей стороны, чем в Потидее, – сам я был в меньшей опасности, потому что ехал верхом. Насколько, прежде всего, было у него больше самообладания, чем у Лахета.
b
Кроме того, мне казалось, что и там, так же как здесь, он шагал, говоря твоими, Аристофан, словами, «чинно глядя то влево, то вправо»[1000]
, то есть спокойно посматривал на друзей и на врагов, так что даже издали каждому было ясно, что этот человек, если его тронешь, сумеет постоять за себя, и поэтому оба они благополучно завершили отход.
c
Ведь тех, кто так себя держит, на войне обычно не трогают, преследуют тех, кто бежит без оглядки.
В похвальном слове Сократу можно назвать и много других удивительных его качеств. Но иное можно, вероятно, сказать и о ком‑либо другом, а вот то, что он не похож ни на кого из людей, древних или ныне здравствующих, – это самое поразительное. С Ахиллом, например, можно сопоставить Брасида и других, с Периклом – Нестора и Антенора[1001]
, да и другие найдутся;
d
и всех прочих тоже можно таким же образом с кем‑то сравнить. А Сократ и в повадке своей, и в речах настолько своеобычен, что ни среди древних, ни среди ныне живущих не найдешь человека, хотя бы отдаленно похожего на него. Сравнивать его можно, как я это и делаю, не с людьми, а с силенами и сатирами – и его самого, и его речи.
Кстати сказать, вначале я не упомянул, что и речи его больше всего похожи на раскрывающихся силенов.
e
В самом деле, если послушать Сократа, то на первых порах речи его кажутся смешными: они облечены в такие слова и выражения, что напоминают шкуру этакого наглеца сатира. На языке у него вечно какие‑то вьючные ослы, кузнецы, сапожники и дубильщики, и кажется, что говорит он всегда одними и теми же словами одно и то же, и поэтому всякий неопытный и недалекий человек готов поднять его речи на смех.
222
Но если раскрыть их и заглянуть внутрь, то сначала видишь, что только они и содержательны, а потом, что речи эти божественны, что они таят в себе множество изваяний добродетели и касаются множества вопросов, вернее сказать, всех, которыми подобает заниматься тому, кто хочет достичь высшего благородства.
Вот что я могу сказать в похвалу Сократу, друзья, и, с другой стороны, в упрек ему, поскольку попутно я рассказал вам, как он меня обидел. Обошелся он так, впрочем, не только со мной, но и с Хармидом, сыном Главкона, и с Евтидемом, сыном Дикола[1002]
, и со многими другими:
b
обманывая их, он ведет себя сначала как их поклонник, а потом сам становится скорее предметом любви, чем поклонником. Советую и тебе, Агафон, не попадаться ему на удочку, а, зная наш опыт, быть начеку, чтобы не подтвердить поговорки: «Горьким опытом дитя учится»[1003]
. Заключительная сцена
c
Когда Алкивиад кончил, все посмеялись по поводу его откровенных признаний, потому что он все еще был, казалось, влюблен в Сократа. А Сократ сказал:
– Мне кажется, Алкивиад, что ты совершенно трезв. Иначе бы так хитро не крутился вокруг да около, чтобы затемнить то, ради чего ты все это говорил и о чем как бы невзначай упомянул в конце, словно всю свою речь ты произнес
d
не для того, чтобы посеять рознь между мною и Агафоном, считая, что я должен любить тебя, и никого больше, а Агафона – ты и больше никто. Но хитрость эта тебе не удалась, смысл твоей сатиро‑силеновской драмы яснее ясного. Так не дай же ему, дорогой Агафон, добиться своего, смотри, чтобы нас с тобой никто не поссорил.
– Пожалуй, ты прав, Сократ, – сказал Агафон. – Наверное, он для того и возлег между мной и тобой, чтобы нас разлучить. Так вот, назло ему, я пройду к тебе и возлягу рядом с тобой.
e
– Конечно, – отвечал Сократ, – располагайся вот здесь, ниже меня.
– О Зевс! – воскликнул Алкивиад. – Как он опять со мной обращается! Он считает своим долгом всегда меня побивать. Но пусть тогда Агафон возляжет хотя бы уж между нами, поразительный ты человек!
– Нет, так не выйдет, – сказал Сократ. – Ведь ты же произнес похвальное слово мне, а я в свою очередь должен воздать хвалу своему соседу справа. Если же Агафон возляжет ниже тебя, то ему придется воздавать мне хвалу во второй раз, не услыхав моего похвального слова ему. Уступи же, милейший, и не завидуй этому юноше, когда я буду хвалить его. А мне очень хочется произнести в его честь похвальное слово.
223
– Увы, Алкивиад! – воскликнул Агафон. – Остаться здесь мне никак нельзя, теперь‑то уж я непременно пересяду, чтобы Сократ произнес в мою честь похвальное слово.
– Обычное дело, – сказал Алкивиад. – Где Сократ, там другой на красавца лучше не зарься. Вот и сейчас он без труда нашел убедительный предлог уложить Агафона возле себя.
b
После этого Агафон встал, чтобы возлечь рядом с Сократом. Но вдруг к дверям подошла большая толпа веселых гуляк и, застав их открытыми – кто‑то как раз выходил, – ввалилась прямо в дом и расположилась среди пирующих. Тут поднялся страшный шум, и пить уже пришлось без всякого порядка, вино полилось рекой. Эриксимах, Федр и некоторые другие ушли, по словам Аристодема, домой, а сам он уснул и проспал очень долго, тем более что ночи тогда были длинные.
c
Проснулся он на рассвете, когда уже пели петухи, а проснувшись, увидел, что одни спят, другие разошлись по домам, а бодрствуют еще только Агафон, Аристофан и Сократ, которые пьют из большой чаши, передавая ее по кругу слева направо, причем Сократ ведет с ними беседу. Всех его речей Аристодем не запомнил, потому что не слыхал их начала и к тому же подремывал.
d
Суть же беседы, сказал он, состояла в том, что Сократ вынудил их признать, что один и тот же человек должен уметь сочинить и комедию и трагедию и что искусный трагический поэт является также и поэтом комическим[1004]
. Оба по необходимости признали это, уже не очень следя за его рассуждениями: их клонило ко сну, и сперва уснул Аристофан, а потом, когда уже совсем рассвело, Агафон.
Сократ же, оставив их спящими, встал и ушел, а он, Аристодем, по своему обыкновению, за ним последовал. Придя в Ликей[1005]
и умывшись, Сократ провел остальную часть дня обычным образом, а к вечеру отправился домой отдохнуть.
Перевод С. К. Апта.
В кн.: Платон. Собр. соч. в 4‑х томах. Том 2. М.: «Мысль», 1993
XXI. ФЕДР
Сократ, Федр
227
Сократ.
Милый Федр, куда и откуда?
Федр.
От Лисия, Сократ, сына Кефала[1006]
, иду прогуляться за городской стеной: у него ведь я просидел очень долго, с самого утра. А по совету нашего с тобой друга Акумена[1007]
я гуляю по загородным дорогам – он уверяет, что это не так утомительно, как по городским улицам.
b
Сократ.
Он верно говорит, друг мой. Так, значит, Лисий уже в городе?
Федр.
Да, у Эпикрата, в доме Морихия[1008]
близ храма Олимпийца.
Сократ.
Чем же вы занимались? Лисий, конечно, угощал вас своими сочинениями?
Федр.
Узнаешь, если у тебя есть досуг пройтись со мной и послушать.
Сократ.
Как, разве, по‑твоему, для меня не самое главное дело – «превыше недосуга», по выражению Пиндара[1009]
, – услышать, чем вы занимались с Лисием?
c
Федр.
Так идем.
Сократ.
Только бы ты рассказывал!
Федр.
А ведь то, что ты сейчас услышишь, Сократ, будет как раз по твоей части: сочинение, которым мы там занимались, было – уж не знаю, каким это образом, – о любви. Лисий написал о попытке соблазнить одного из красавцев, – однако не со стороны того, кто был в него влюблен, в этом‑то и вся тонкость: Лисий уверяет, что надо больше угождать тому, кто не влюблен, чем тому, кто влюблен.
Сократ.
Что за благородный человек! Если бы он написал, что надо больше угождать бедняку, чем богачу, пожилому человеку, чем молодому, и так далее – все это касается меня и большинства из нас, – какие а бы это были учтивые и полезные для народа сочинения!
d
У меня такое горячее желание тебя послушать, что я не отстану от тебя, даже если ты продолжишь свою прогулку до самой Мегары, а там, по предписанию Геродика[1010]
, дойдя до городской стены, повернешь обратно.
Федр.
Как это ты говоришь, дорогой Сократ, – неужели ты думаешь, что я, такой неумелый, припомню достойным Лисия образом то, что
228
он, самый искусный теперь писатель, сочинял исподволь и долгое время? Куда уж мне, хоть бы и желал я этого больше, чем иметь груду золота.
Сократ.
Ох, Федр, я или Федра не знаю, или позабыл уже и себя самого! Но нет – ни то, ни другое. Я уверен, что он, слушая сочинение Лисия, не просто разок прослушал, но много раз заставлял его повторять, на что тот охотно соглашался.
b
А ему и этого было мало: в конце концов он взял свиток, стал просматривать все, что его особенно привлекало, а просидев за этим занятием с утра, утомился и пошел прогуляться, вытвердив это сочинение уже наизусть, – клянусь собакой, я, право, так думаю, – если только оно не слишком было длинно. А отправился он за город, чтобы поупражняться. Встретив человека, помешанного на том, чтобы слушать чтение сочинений, он при виде его обрадовался, что будет с кем предаться восторженному неистовству, и пригласил пройтись вместе.
c
Когда же этот поклонник сочинений попросил его рассказать, он стал прикидываться, будто ему не хочется. А кончит он тем, что станет пересказывать даже насильно, хотя бы его добровольно никто и не слушал. Так уж ты, Федр, упроси его сейчас же приступить к тому, что он в любом случае все равно сделает.
Федр.
Правда, самое лучшее для меня – рассказать, как умею. Ты, мне кажется, ни за что меня не отпустишь, пока я хоть как‑то не расскажу.
Сократ.
И очень верно кажется!
d
Федр.
Тогда я так и сделаю. Но в сущности, Сократ, я вовсе не выучил это дословно, хотя главный смысл почти всего, что Лисий говорит о разнице положения влюбленного и невлюбленного, я могу передать по порядку с самого начала.
Сократ.
Сперва, миленький, покажи, что это у тебя в левой руке под плащом? Догадываюсь, что при тебе это самое сочинение. Раз это так, то сообрази вот что:
e
я тебя очень люблю, но, когда и Лисий здесь присутствует, я не очень‑то склонен, чтобы ты на мне упражнялся. Ну‑ка, показывай!
Федр.
Перестань! Ты лишил меня, Сократ, надежды, которая у меня была: воспользоваться тобой для упражнения. Но где же, по‑твоему, нам сесть и заняться чтением?
229
Сократ.
Свернем сюда и пойдем вдоль Илиса, а там, где нам понравится, сядем в затишье.
Федр.
Видно, кстати я сейчас босиком. А ты‑то всегда так. Ногам легче будет, если мы пойдем прямо по мелководью, это особенно приятно в такую пору года и в эти часы.
Сократ.
Я за тобой, а ты смотри, где бы нам присесть.
Федр.
Видишь вон тот платан, такой высокий?
Сократ.
И что же?
b
Федр.
Там тень и ветерок, а на траве можно сесть и, если захочется, прилечь.
Сократ.
Так я вслед за тобой.
Федр.
Скажи мне, Сократ, не здесь ли где‑то, с Илиса, Борей, по преданию, похитил Орифию[1011]
?
Сократ.
Да, по преданию.
Федр.
Не отсюда ли? Речка в этом месте такая славная, чистая, прозрачная, что здесь на берегу как раз и резвиться девушкам.
c
Сократ.
Нет, то место ниже по реке на два‑три стадия, где у нас переход к святилищу Агры[1012]
: там есть и жертвенник Борею.
Федр.
Не обратил внимания. Но скажи, ради Зевса, Сократ, ты веришь в истинность этого сказания?
Сократ.
Если бы я и не верил, подобно мудрецам, ничего в этом не было бы странного – я стал бы тогда мудрствовать и сказал бы, что порывом Борея сбросило Орифию, когда она резвилась с Фармакеей[1013]
на прибрежных скалах; о такой ее кончине и сложилось предание, будто она была похищена Бореем. Или он похитил ее с холма Арея[1014]
? Ведь есть и такое предание – что она была похищена там, а не здесь.
d
Впрочем, я‑то, Федр, считаю, что подобные толкования хотя и привлекательны, но это дело человека особых способностей; трудов у него будет много, а удачи – не слишком, и не по чему другому, а из‑за того, что вслед за тем придется ему восстанавливать подлинный вид гиппокентавров, потом химер и нахлынет на него целая орава всяких горгон и пегасов и несметное скопище разных других нелепых чудовищ[1015]
.
e
Если кто, не веря в них, со своей доморощенной мудростью[1016]
приступит к правдоподобному объяснению каждого вида, ему понадобится много досуга. У меня же для этого досуга нет вовсе.
А причина здесь, друг мой, вот в чем: я никак еще не могу, согласно дельфийской надписи, познать самого себя. И по‑моему, смешно, не зная пока этого, исследовать чужое.
230
Поэтому, распростившись со всем этим и доверяя здесь общепринятому, я, как я только что и сказал, исследую не это, а самого себя: чудовище ли я, замысловатее и яростней Тифона, или же я существо более кроткое и простое и хоть скромное, но по своей природе причастное какому‑то божественному уделу? Но между прочим, друг мой, не это ли дерево, к которому ты нас ведешь?
b
Федр.
Оно самое.
Сократ.
Клянусь Герой, прекрасный уголок! Этот платан такой развесистый и высокий, а разросшаяся, тенистая верба великолепна: она в полном цвету, все кругом благоухает. И что за славный родник пробивается под платаном: вода в нем совсем холодная, можно попробовать ногой. Судя по изваяниям дев и жертвенным приношениям, здесь, видно, святилище каких‑то нимф и Ахелоя[1017]
.
c
Да если хочешь, ветерок здесь прохладный и очень приятный; по‑летнему звонко вторит он хору цикад. А самое удачное это то, что здесь на пологом склоне столько травы – можно прилечь, и голове будет очень удобно. Право, ты отличный проводник, милый Федр.
Федр.
А ты, поразительный человек, до чего же ты странен! Ты говоришь, словно какой‑то чужеземец, нуждающийся в проводнике, а не местный житель.
d
Из нашего города ты не только не ездишь в чужие страны, но, кажется мне, не выходишь даже за городскую стену[1018]
. Сократ. Извини меня, добрый мой друг, я ведь любознателен, а местности и деревья ничему не хотят меня научить, не то что люди в городе.
Впрочем, ты, кажется, нашел средство заставить меня сдвинуться с места. Помахивая зеленой веткой или каким‑нибудь плодом перед голодным животным, ведут его за собой – так и ты, протягивая мне свитки с сочинениями, поведешь меня чуть ли не по всей
Аттике и вообще куда тебе угодно.
e
Но раз уж мы сейчас пришли сюда, я, пожалуй, прилягу, а ты расположись, как тебе, по‑твоему, будет удобнее читать, и приступай к чтению[1019]
.
Федр.
Так слушай: Речь Лисия
«О моих намерениях ты знаешь, слышал уже и о том, что я считаю для нас с тобой полезным, если они осуществятся. Думаю, не будет препятствием для моей просьбы то обстоятельство, что я в тебя не влюблен:
231
влюбленные раскаиваются потом в своем хорошем отношении, когда проходит их страсть, а у невлюбленных никогда не наступит время раскаяния: их ведь ничто не вынуждает относиться хорошо – они делают это добровольно, по мере своих сил, так же как принимают лишь самые лучшие решения и в своих домашних делах.
Далее, влюбленные смотрят, какой ущерб претерпели они в своих делах из‑за любви, а в чем они преуспели; прибавив сюда исполненные ими труды, они считают, что давно уже достойным образом отблагодарили тех, кого они любят.
b
А для невлюбленных нет повода под предлогом любви пренебрегать домашними делами, перечислять свои прошлые труды или винить кого‑либо в своей размолвке с родственниками. Раз отпадает столько неприятностей, ничто не мешает им с большой готовностью делать все, чем они рассчитывают кому‑либо угодить.
c
Далее, если влюбленных стоит будто бы высоко ценить за то, что они, по их словам, чрезвычайно дружественно расположены к тем, в кого влюблены, и готовы и словом и делом навлечь на себя неприязнь посторонних, лишь бы угодить тем, кого любят, – так тут легко распознать, правду ли они говорят. Ведь в кого они впоследствии влюбятся, тех они и станут предпочитать прежним, и ясно, что в угоду новым будут плохо относиться к прежним. Вообще какой смысл доверять в подобном деле человеку, постигнутому таким несчастьем, что отвратить его не взялся бы никто, будь он даже весьма опытен?
d
Влюбленные сами соглашаются с тем, что они скорее больны, чем находятся в здравом рассудке, и знают, что плохо соображают, но не в силах с собой совладать. Как же могут они, когда к ним снова вернется рассудок, считать хорошим то, на что они решились в таком состоянии? К тому же, если бы ты стал выбирать лучшего из влюбленных, тебе пришлось бы выбирать из небольшого числа, а если бы ты стал выбирать наиболее для тебя подходящего среди прочих, выбор был бы велик.
e
Так что гораздо больше надежды встретить среди многих того, кто достоин твоей дружбы.
Если ты боишься установившегося обычая – как бы люди, проведав, не стали тебя порицать, так тут естественно, что
232
влюбленные, считая, что их собственные восторги разделяются и остальными людьми, будут превозносить себя в рассказах и с гордостью давать понять всем, что их старания были не напрасны; а невлюбленные, владея собой, вместо людской молвы изберут нечто лучшее.
Далее, многие неизбежно слышат и видят, как влюбленные сопровождают тех, в кого влюблены, делая это своим постоянным занятием; поэтому чуть только кто застанет их в беседе друг с другом, у него сейчас же возникает предположение,
b
что это их общение вызвано влечением, уже возникшим или намечающимся. А невлюбленным никто и не пытается ставить в вину их общение, в уверенности, что им необходимо бывает побеседовать по‑дружески или ради какого‑то удовольствия.
Если же тебя охватывает страх при мысли, что дружбе трудно быть постоянной, так ведь когда разлад возникает при обычных обстоятельствах, это несчастье касается обеих сторон;
c
если же только ты теряешь то, чем всего более дорожишь, – большой для тебя получится урон; значит, естественно было бы тебе опасаться именно влюбленных. Многое их огорчает, они считают, будто все совершается им во вред. Поэтому они отвращают тех, кого любят, от общения с остальными людьми, боясь, что богатые превзойдут их средствами, а образованные – обхождением; они остерегаются влияния всякого обладающего каким‑либо преимуществом.
d
Убедив тебя относиться неприязненно к таким людям, они лишают тебя друзей. Если же ты, не забывая о себе, будешь разумнее их, это поведет к размолвке. А кому не довелось влюбиться, но кто благодаря своим достоинствам добился того, в чем нуждался, тот не будет иметь ничего против людей общительных, наоборот, ему ненавистны нелюдимы: он ожидает с их стороны презрение, а от общительных людей – пользу.
e
Поэтому гораздо больше надежды, что из их отношений возникнет дружба, а не вражда.
Далее, многих влюбленных привлекает тело еще до того, как они узнали характер и проверили остальные свойства, поэтому им неясно, захотят ли они оставаться друзьями и тогда, когда прекратится их влечение.
233
А что касается невлюбленных, которые испытали это и ранее, будучи между собой друзьями, то невероятно, чтобы их дружба уменьшилась от того, что им было приятно испытать, – напротив, это останется памятным знаком и залогом будущего.
Следует ожидать, что ты и сам станешь лучше, если послушаешься меня, а не какого‑нибудь влюбленного. Те ведь, не считаясь с высшим благом, одобряют все, что бы ни говорилось и ни делалось, отчасти потому, что боятся вызвать неприязнь, отчасти же потому, что им самим страсть мешает разобраться.
b
Вот ведь что являет любовь: кто в ней несчастлив, тех она заставляет считать мучением даже то, что вовсе не причиняет огорчений другим, а кто счастлив, тех она вынуждает хвалить то, что не заслуживает даже считаться удовольствием. Поэтому следует скорее жалеть тех, в кого влюбляются, чем завидовать им.
Если ты меня послушаешься, я, общаясь с тобой, прежде всего стану служить не мгновенному удовольствию, но и будущей пользе.
c
Я не дам себя одолеть влюбленности, но буду владеть собой; по пустякам не стану относиться к тебе с резкой враждебностью и даже в случае чего‑нибудь важного лишь немножко посержусь; я извиню нечаянные провинности и попытаюсь предотвратить умышленные; все это признаки долговечной дружбы.
Если тебе представляется, что не может возникнуть крепкой дружбы, когда нет влюбленности, то тебе надо обратить внимание, что
d
мы не ценили бы тогда ни наших сыновей, ни отцов и матерей и не приобрели бы верных друзей, которые и стали‑то нам друзьями не из‑за такого рода влечения, но в силу других привычек.
Далее, раз надо особенно угождать тем, кому это требуется, тогда и в других случаях следует оказывать помощь не тем, кто благополучен, а тем, кто бедствует, потому что, избавившись от величайших зол, такие люди будут особенно благодарны. Раз так, то и при личных расходах стоит приглашать не друзей, а просителей и нуждающихся в пище:
e
они с великой радостью будут это ценить, будут ходить за тобой, стоять у твоих дверей, усердно тебя благодарить и желать тебе всяких благ.
Но пожалуй, следует угождать не всякому, кому это требуется, а тем, кто всего более может отблагодарить, и не просителям только, но лишь тем, кто этого достоин.
234
Это не те, кому лишь бы насладиться расцветом твоей молодости, а те, кто уделит тебе от своих благ, когда ты постареешь; не те, кто, добившись своего, станут хвастаться перед людьми, а те, кто стыдливо будет хранить перед всеми молчание; не те, кто лишь ненадолго займутся тобой, а те, что останутся на всю жизнь неизменно твоими друзьями; не те, кто, чуть только прекратится их влечение, будут искать предлог для враждебности, а те, кто обнаружит свою добродетель как раз тогда, когда минет твой расцвет.
b
Итак, помни о сказанном, подумай еще и о том, что влюбленных увещевают друзья, считая, что в их затеях есть что‑то плохое, а невлюбленных никто из их близких никогда не корил, что они замышляют что‑то себе во вред.
Возможно, ты спросишь меня, советую ли я тебе уступать всем невлюбленным. Думаю, что и влюбленный не посоветует тебе так относиться ко всем влюбленным.
c
Ведь если он держится такого взгляда, он не заслуживает даже этой равной для всех благосклонности, да и тебе, при всем желании, невозможно в одинаковой мере утаиться от остальных. Между тем, от этого не должно быть никакого вреда, а лишь польза для обоих.
Так вот, я полагаю, что сказанного достаточно, если же ты желаешь дополнений и находишь пропуски, тогда задавай вопросы».
Как тебе кажется, Сократ, это сочинение? Не правда ли, все превосходно сказано, особенно в смысле выражений?
d
Сократ.
Чудесно, друг мой, я прямо поражен. И ты тому причиной, Федр: глядя на тебя, я видел, как ты, читая, прямо‑таки наслаждался этим сочинением. Считая, что ты больше, чем я, знаешь толк в таких вещах, я следовал за тобой, а следуя за тобой, я приходил в неистовый восторг вместе с тобой, удивительный мой человек.
Федр.
Ну, ты уж, кажется, шутишь.
Сократ.
Тебе кажется, что я шучу? Разве я не говорю серьезно?
e
Федр.
Конечно, нет, Сократ. Но, по правде, скажи, ради Зевса, покровителя дружбы, неужели ты думаешь, что кто‑нибудь другой из эллинов мог бы сказать об этом предмете иначе, больше и полнее?
Сократ.
Что же? Значит, нам с тобой надо одобрить это сочинение также и за то, что его творец высказал в нем должное, а не только за то, что каждое выражение там тщательно отточено, ясно и четко? Раз надо, приходится уступить в угоду тебе, хотя я, по моему ничтожеству, всего этого не заметил.
235
Я сосредоточил свое внимание только на его красноречии, а остальное, я думаю, и сам Лисий признал бы недостаточным. По‑моему, Федр, – если только ты не возражаешь – он повторяет одно и то же по два, по три раза, словно он не слишком располагал средствами, чтобы об одном и том же сказать многое, – или, возможно, это было для него неважно. Мне показалось мальчишеством, как он выставляет напоказ свое умение выражать одно и то же то так, то иначе – и в обоих случаях превосходно.
b
Федр.
Ты говоришь пустяки, Сократ. Как раз это‑то и есть в его сочинении, и притом всего более: он ничего не упустил из того, что в предмете его речи достойно упоминания. Сравнительно с тем, что он высказал, никто никогда не смог бы сказать ничего полнее и достойнее.
Сократ.
В этом я уже не смогу согласиться с тобой: ведь древние мудрые мужи и жены, высказывавшиеся и писавшие об этом, изобличат меня, если в угоду тебе я уступлю.
c
Федр.
Кто ж это такие? И где ты слышал что‑нибудь лучшее?
Сократ.
Сейчас я не могу так сразу ответить. Но ясно, что я от кого‑то слышал, не то от прекрасной Сапфо, не то от мудрого Анакреонта[1020]
, не то от других писателей. А почему я так говорю? Грудь моя, чудесный друг, полна, я чувствую, что могу сказать не хуже Лисия, но по‑другому. А так как сам от себя я ничего такого не мог придумать – я в этом уверен, сознавая свое невежество, – то остается, по‑моему, заключить, что я из каких‑то чужих источников, по слуху, наполнился наподобие сосуда, но по своей тупости позабыл, как и от кого я что слышал.
d
Федр.
Это, благороднейший друг мой, ты прекрасно сказал. От кого и как ты слышал – не говори мне, хоть бы я и просил. Исполни только то, о чем ты говоришь: обещай сказать иначе, лучше и не меньше того, что в этом свитке, и не делая оттуда заимствований, а я тебе обещаю, по примеру девяти архонтов, посвятить в Дельфы золотое во весь рост изображение – не только мое, е но и твое[1021]
.
e
Сократ.
До чего же ты мил, Федр, и воистину ты золотой, если думаешь, будто я утверждаю, что Лисий во всем ошибся и что можно все сказать по‑другому. Такое не случается, думаю я, даже с самым скверным писателем. Например, хотя бы то, чего касается это сочинение. Кто же, говоря, что надо больше уступать невлюбленному, чем влюбленному, упустит, по‑твоему, похвалу разумности одного и порицание безрассудству другого?
236
Это ведь неизбежно, и разве тут скажешь иное? Думаю, что такие вещи надо допустить и простить говорящему. В подобных случаях нужно хвалить не изобретение, а изложение; где же [доводы] не так неизбежны и трудно их подыскать, там кроме изложения следует хвалить и изобретение.
Федр.
Соглашаюсь с тем, что ты говоришь, потому что, мне кажется, это было тобой сказано правильно.
b
Так я и сделаю: позволю тебе исходить из того, что влюбленного скорее можно признать больным, чем невлюбленного; если же в остальном ты скажешь иначе, чем у Лисия, полнее и более ценно, тогда стоять твоему кованому изваянию в Олимпии рядом со священным приношением Кипселидов[1022]
!
Сократ.
Ты, Федр, принял всерьез, что я напал на твоего любимца, подтрунивая над тобой, и думаешь, будто я в самом деле попытаюсь равняться с его мудростью и скажу что‑нибудь иное, более разнообразное?
c
Федр.
Здесь, дорогой мой, ты попался в ту же ловушку! Говори как умеешь, больше тебе ничего не остается, иначе нам придется, как в комедиях, заняться тяжким делом препирательств. Поберегись и не заставляй меня повторить твой же прием: «если я, Сократ, не знаю Сократа, то я забыл и самого себя» или «он хотел говорить, но ломался». Сообрази, что мы отсюда не уйдем, прежде чем ты не выскажешь того, что у тебя, как ты выразился, в груди.
d
Мы здесь одни, кругом безлюдье, я посильнее и помоложе – по всему этому внемли моим словам и не доводи дела до насилия, говори лучше по доброй воле!
Сократ.
Но, милый Федр, не смешно ли, если я, простой человек, стану вдруг наобум состязаться с настоящим творцом!
Федр.
Знаешь что? Перестань рисоваться передо мной. У меня, пожалуй, припасено кое‑что: стоит мне это сказать, и ты будешь принужден заговорить.
Сократ.
Так ни в коем случае не говори!
Федр.
Нет, я непременно скажу, и мое слово будет клятвой. Клянусь тебе – но кем, однако? Кем из богов?
Ну, хочешь, вот этим платаном?
e
Право же, если ты мне не произнесешь речи перед вот этим самым деревом, я никогда не покажу и не сообщу тебе никакой и ничьей речи!
Сократ.
Ох, негодный! Нашел ведь как заставить любителя речей выполнить твое требование!
Федр.
Да что с тобой? Почему ты все увертываешься?
Сократ.
Уже нет, после такой твоей клятвы. Разве я способен отказаться от такого угощения!
237
Федр.
Так начинай.
Сократ.
Знаешь, что я сделаю?
Федр.
Что?
Сократ.
Я буду говорить, закрыв лицо, чтобы при взгляде на тебя не сбиваться от стыда и как можно скорее проговорить свою речь.
Федр.
Лишь бы ты говорил, а там делай что хочешь. Первая речь Сократа
Сократ.
Так вот, сладкоголосые Музы – зовут ли вас так по роду вашего пения или в честь музыкального племени лигуров[1023]
, – «помогите мне» поведать то. к чему принуждает меня этот превосходный юноша, чтобы его друг, и ранее казавшийся ему мудрым, показался бы ему теперь таким еще более!
b
Жил себе мальчик, вернее, подросток, красоты необычайной, и в него были влюблены очень многие. Один из них был лукав: влюбленный не меньше, чем кто другой, он уверил его в том, будто вовсе и не влюблен. И как‑то раз, домогаясь своего, он стал убеждать его в этом самом, – будто невлюбленному надо скорее уступить, чем влюбленному. А говорил он вот как:
c
«Во всяком деле, юноша, надо для правильного его обсуждения начинать с одного и того же: требуется с знать, что же именно подвергается обсуждению, иначе неизбежны сплошные ошибки. Большинство людей и не замечает, что не знает сущности того или иного предмета: словно она им уже известна, они не уславливаются о ней в начале рассмотрения; в дальнейшем же его ходе это, естественно, сказывается: они противоречат и сами себе и друг другу. Пусть же с нами не случится то, в чем мы упрекаем других. Раз перед тобой и передо мной стоит вопрос, с кем лучше дружить, с влюбленным или с невлюбленным,
d
нам надо условиться об определении того, что такое любовь и в чем ее сила, а затем, имея это в виду и ссылаясь на это, мы займемся рассмотрением, приносит ли она пользу или вред.
Что любовь есть некое влечение, ясно всякому. А что и невлюбленные тоже имеют влечение к красавцам, это мы знаем. Чем же, по‑нашему, отличается влюбленный от невлюбленного? Следует обратить внимание, что в каждом из нас есть два каких‑то начала, управляющие нами и нас ведущие; мы следуем за ними, куда бы они ни повели; одно из них врожденное, это – влечение к удовольствиям, другое – приобретенное нами мнение относительно нравственного блага и стремления к нему.
e
Эти начала в нас иногда согласуются, но бывает, что они находятся в разладе и верх берет то одно, то другое. Когда мнение о благе разумно сказывается в поведении и своею силою берет верх, это называют рассудительностью.
238
Влечение же, неразумно направленное на удовольствия и возобладавшее в нас своею властью, называется необузданностью. Впрочем, для необузданности есть много названий, ведь она бывает разной и сложной: тот ее вид, которому доведется стать отличительным, и дает свое название ее обладателю, хотя бы оно было и некрасиво и не стоило бы его носить. Так, пристрастие к еде, взявшее верх над пониманием высшего блага и остальными влечениями, будет чревоугодием, и кто им отличается, получает как раз это прозвание.
b
А если кем самовластно правит пристрастие к опьянению, и только оно его и ведет, – понятно, какое прозвище он получит. И в остальных случаях то же самое: название берется от соответствующего влечения, постоянно преобладающего, – это очевидно».
Ради чего все это было сказано, пожалуй, ясно; во всяком случае, сказанное яснее несказанного. Ведь влечение, которое вопреки разуму возобладало над мнением, побуждающим нас к правильному [поведению], и которое свелось к наслаждению красотой,
c
а кроме того, сильно окрепло под влиянием родственных ему влечений к телесной красоте и подчинило себе все поведение человека, – это влечение получило прозвание от своего могущества, вот почему и зовется оно любовью.
Но, милый Федр, не кажется ли тебе, как и мне, что я испытываю какое‑то божественное состояние?
Федр.
И даже очень, Сократ: вопреки обыкновению, тебя подхватил какой‑то поток.
d
Сократ.
Так слушай меня в молчании. В самом деле, место это какое‑то божественное, так что не удивляйся, если во время своей речи я, возможно, не раз буду охвачен нимфами – даже и сейчас моя речь звучит как дифирамб[1024]
.
Федр.
Ты совершенно прав.
Сократ.
Причиной этому, однако, ты. Но слушай остальное – а то как бы это наитие не покинуло меня; впрочем, это зависит от бога, а нам надо в нашей речи снова вернуться к тому мальчику.
Так‑то, милый мой! То, что подлежит нашему обсуждению, уже указано и определено. Не упуская этого из виду, поговорим об остальном:
e
какую пользу или какой вред получит, по всей вероятности, от влюбленного и от невлюбленного тот, кто им уступает? Человек, подчиняющийся влечению, раб наслаждения, непременно делает своего любимца таким, каким он ему будет всего приятнее. Кто болен, тому приятно все, что ему не противится, а что сильнее его или ему равно, то ненавистно.
239
Любящий добровольно не переносит, чтобы его любимец превосходил его или был ему равен, но всегда старается сделать его слабее и беспомощнее. Невежда слабее мудрого, трус – храбреца, неспособный говорить – речистого, тупица – остроумного. Такие или еще большие недостатки в духовном складе любимца, неизбежно ли возникающие или присущие ему от природы, услаждают влюбленного, он даже старается их развить, только бы не лишиться мгновенного наслаждения.
b
Влюбленный неизбежно ревнив, и, отстраняя своего любимца от многих других видов общения, притом полезных, благодаря которым тот всего более бы мог возмужать, он причиняет ему великий вред, но еще несравненно больший, если не дает приобщиться к тому, от чего любимец всего более мог бы стать разумным; а ведь именно такова божественная философия, к которой влюбленный и близко его не подпускает, боясь, как бы тот не стал им пренебрегать. Придумывает он и многое другое, чтобы его любимец ничего не знал и ни на что не глядел, кроме как на него, и этим был бы ему в высшей степени приятен, хотя бы для самого юноши это было и крайне вредно. Значит, попечения и общество человека, охваченного любовью, никак не могут быть полезными для духовного склада юноши.
c
Вслед за тем надо посмотреть, каково будет состояние тела и уход за ним у того, чьим повелителем станет человек, непременно стремящийся к удовольствию, а не к благу, и мы увидим, что он ищет не юношу крепкого сложения, а неженку, выросшего не на ясном солнце, а в густой тени, не знакомого с мужскими трудами и сухим потом, но знакомого с изысканным, немужественным образом жизни,
d
прибегающего к искусственным прикрасам и уборам за недостатком собственной красоты и занимающегося всем остальным, что с этим сопряжено. Это ясно, и не стоит дольше об этом распространяться. Отметив здесь это главное, перейдем к остальному: ведь на войне и в других важных случаях подобное тело внушает неприятелю отвагу, а друзьям и самим влюбленным – опасения.
e
Поскольку это ясно, оставим это в стороне и поговорим лучше о следующем: какую, по‑нашему, пользу или какой вред принесет общение с влюбленным и его попечение достоянию [любимца]? Здесь ясно всякому, а особенно самому влюбленному, что всего более он желал бы, чтобы его любимец был лишен самого дорогого, верного и божественного достояния: он предпочел бы, чтобы тот лишился отца, матери, родственников и друзей, потому что он считает их всех докучливыми хулителями этой столь сладостной для него близости.
240
Кто обладает состоянием – золотом или другим имуществом, – того он будет считать неподатливым, и, если тот даже поддастся, он будет думать, что такого нелегко будет удержать. Поэтому влюбленный неизбежно досадует, если его любимец обладает состоянием, и радуется, если тот его теряет. Желая как можно дольше пользоваться тем, что ему сладостно, влюбленный хотел бы, чтобы его любимец как можно дольше оставался безбрачным, бездетным, бездомным.
b
Есть тут и много других дурных сторон, но некий гений примешал к большинству из них мимолетное удовольствие. Льстец, например, это страшное чудовище и великая пагуба, однако природа примешала к лести какое‑то удовольствие, очень тонкое. Можно порицать и гетеру, ибо и она вредна, и многое другое в подобного рода существах и занятиях, однако в повседневной жизни они бывают очень приятны. Влюбленный же для своего любимца, кроме того что вреден, еще и всего несноснее при каждодневном общении.
c
По старинной пословице, сверстник радует сверстника[1025]
. Думаю, что равенство возраста ведет к равным удовольствиям и вследствие сходства порождает дружбу. Впрочем, даже общение со сверстниками вызывает иногда пресыщение; между тем навязчивость признается тягостной для всякого и во всем. Что же до несходства, так оно чрезвычайно велико между влюбленным и его любимцем. Когда они вместе, старшему не хочется покидать младшего ни днем, ни ночью:
d
его подстрекает неотступный яростный овод, суля все время наслаждения его зрению, слуху, осязанию; каждым ощущением ощущает он своего любимого, так что с удовольствием готов ему усердно служить. А в утешение какое удовольствие доставит возлюбленному влюбленный, заставляя того провести с ним ровно столько же времени? Разве тот не дойдет до крайней степени отвращения, видя уже немолодое лицо, отцветшее, как и все остальное, о чем неприятно даже слышать упоминание, не только что быть постоянно вынужденным соприкасаться на деле.
e
И все время над ним неусыпный надзор, его всячески ото всех стерегут, он слышит неуместную, преувеличенную похвалу, но точно так же и упреки, невыносимые и от трезвого, а от пьяного, кроме того что невыносимые, еще и постыдные из‑за своей излишней и неприкрытой откровенности.
Пока кто влюблен, он вреден и надоедлив, когда же пройдет его влюбленность, он становится вероломным. Много наобещав, надавав множество клятв и истратив столько же просьб, он едва‑едва мог заставить своего любимца в чаянии будущих благ терпеть его общество – настолько оно было тому тягостно.
241
Теперь он должен расплачиваться: вместо влюбленности и неистовства его властелинами сделались ум и рассудительность, между тем его любимец, не заметив происшедшей перемены, требует от него прежней благосклонности, напоминает все, что было сделано и сказано, и разговаривает с ним так, словно это все тот же человек. От стыда тот не решается сказать, что стал другим и что не знает, как выполнить клятвы и обещания, данные им, когда он был под властью прежнего безрассудства.
b
Теперь к нему вернулись ум и рассудительность, так что он не способен стать снова похожим на то, чем он был прежде, то есть стать тем же самым, хотя бы он все еще совершал то же самое. Вот почему прежний влюбленный вынужден отречься и бежать: игральный черепок выпал другой стороной, и влюбленный, сделав крутой поворот, обращается в бегство. А прежний любимец вынужден, негодуя и проклиная, преследовать его, не поняв с самого начала, что никогда не надо уступать влюбленному, который наверняка безрассуден, но лучше уступать тому, кто не влюблен, да зато в здравом уме.
c
Иначе придется ему поддаться человеку неверному, сварливому, завистливому, противному, вредному для имущества, вредному и для состояния тела, а еще гораздо более вредному для воспитания души, ценнее которого поистине нет ничего ни у людей, ни у богов. Все это надо учесть, мой мальчик, и понимать, что дружба влюбленного возникает не из доброжелательства, но словно ради насыщения пищей: как волки ягнят, любят влюбленные мальчиков[1026]
.
d
Так‑то, Федр, позволь больше не занимать тебя моими рассуждениями – на этом я закончу свою речь.
Федр.
А я думал, что это только ее половина и что ты столько же скажешь и о невлюбленном – о том, что надо скорее уступать ему, и укажешь на его хорошие стороны. Ты же, Сократ, почему‑то остановился.
e
Сократ.
Не заметил ли ты, дорогой мой, что у меня уже зазвучали эпические стихи, а не дифирамбы, хоть я только то и делал, что порицал? Если же я начну хвалить того, другого, что же я, по‑твоему, буду делать? Знаешь ли ты, что я буду наверняка вдохновлен нимфами, которым ты не без умысла меня подбросил? Лучше уж я выражу все одним словом: тот, другой, хорош всем тем, что прямо противоположно свойствам, за которые мы порицали первого. Стоит ли об этом долго говорить?
242
Достаточно сказано о них обоих: пусть с моим сказом будет то, чего он заслуживает, а я удаляюсь – перейду на тот берег речки, пока ты не принудил меня к чему‑нибудь большему.
Федр.
Только не прежде, Сократ, как спадет жара. Разве ты не видишь, что уже наступает полдень, который называют недвижным[1027]
? Переждем, побеседуем еще о том, что было сказано, а как станет, быть может, прохладнее, мы и пойдем.
Сократ.
По части речей ты, Федр, божественный и прямо‑таки чудесный человек! Я думаю, что из всех речей, появившихся за время твоей жизни, никто не сочинил их больше, чем ты, –
b
либо ты сам произносил их, либо принуждал к этому каким‑нибудь образом других; за исключением фиванца Симмия[1028]
, всех остальных ты намного превзошел. Вот и сейчас, кажется, по твоей вине я скажу речь!
Федр.
Это еще не объявление войны. Но что за речь и почему?
Сократ.
Лишь только собрался я, мой друг, переходить речку, мой гений подал мне обычное знамение, – а оно всегда удерживает меня от того, что я собираюсь сделать:
c
мне будто послышался тотчас же какой‑то голос, не разрешавший мне уйти, прежде чем я не искуплю некий свой проступок перед божеством. Я хоть и прорицатель, но довольно неважный, вроде как плохие грамотеи – лишь поскольку это достаточно для меня самого. Так вот, я уже ясно понимаю свой проступок – ведь и душа, друг мой, есть нечто вещее: еще когда я говорил ту свою речь, меня что‑то тревожило и я как‑то смущался: а вдруг я, по выражению Ивика, нерадение о богах
d
…сменяю на почесть людскую[1029]
.
Теперь же я чувствую, в чем мой проступок.
Федр.
О чем ты говоришь?
Сократ.
Ужасную, Федр, ужасную речь ты и сам принес, и меня вынудил сказать.
Федр.
Как так?
Сократ.
Нелепую и в чем‑то даже нечестивую – а какая речь может быть еще ужаснее?
Федр.
Никакая, если только ты прав.
Сократ.
Да как же? Разве ты не считаешь Эрота сыном Афродиты и неким богом?
Федр.
Действительно, так утверждают.
Сократ.
Но не Лисий и не ты в той речи, которую ты произнес моими устами, околдованными тобою. Если же Эрот бог или как‑то божествен –
e
а это, конечно, так, – то он вовсе не зло, между тем в обеих речах о нем, которые только что у нас были, он представлен таким. Этим они обе погрешили перед Эротом, вдобавок при их недомыслии в них столько лоску, что хотя в них не утверждалось ничего здравого и истинного, однако они кичливо притязали на значительность,
243
лишь бы провести каких‑то людишек и прославиться среди них. Да, мой друг, мне необходимо очиститься. Для погрешающих против священных сказаний есть одно древнее очищение. Гомер его не знал, а Стесихор знал: лишившись зрения за поношение Елены, он не был так недогадлив, как Гомер, но понял причину и, будучи причастен Музам, тотчас же сочинил:
Не верно было слово это,
На корабли ты не всходила,
b
В Пергам троянский не плыла, –
а сочинив всю так называемую «Покаянную песнь», он сразу же прозрел[1030]
. Так вот в этом деле я буду умнее их: прежде чем со мной приключится что‑нибудь за поношение Эрота, я попытаюсь пропеть ему покаянную песнь уже с непокрытой головой, а не закрываясь от стыда, как раньше.
Федр.
Для меня, Сократ, нет ничего приятнее этих твоих слов.
c
Сократ.
Ты, конечно, понимаешь, добрый мой Федр, насколько бесстыдно были сказаны обе те речи – и моя и та, что ты прочел по свитку. Если бы какому‑нибудь благородному человеку, кроткого нрава, влюбленному или в прошлом любившему такого же человека, довелось услышать, как мы утверждали, что влюбленные из‑за пустяков проникаются сильной враждой и тогда недоброжелательно относятся к своим любимцам и им вредят, – разве он, по‑твоему, не подумал бы, что слышит речи людей, воспитывавшихся где‑то среди моряков и не видавших никогда любви свободнорожденного человека, и разве он согласился бы с нашей хулою Эрота?
d
Федр.
Пожалуй, нет, клянусь Зевсом, Сократ!
Сократ.
И вот, устыдившись такого человека и убоявшись самого Эрота, я страстно желаю смыть с себя чистою речью всю эту морскую соленую горечь, заполнившую наш слух. Советую и Лисию как можно скорее написать, что, исходя из тех же побуждений, надо больше угождать влюбленному, чем невлюбленному.
Федр.
Поверь, это так и будет. Если ты скажешь похвальное слово влюбленному, я непременно заставлю и Лисия в свою очередь написать сочинение о том же самом.
e
Сократ.
Верю, пока ты останешься таким, как теперь.
Федр.
Так начинай смелее!
Сократ.
А где же у меня тот мальчик, к которому я обращался с речью? Пусть он и это выслушает, а то, не выслушав, он еще поспешит уступить тому, кто его не любит.
Федр.
Он возле тебя, совсем близко, всегда, когда ты захочешь. Вторая речь Сократа
244
Сократ.
Так вот, прекрасный юноша, заметь себе: первая речь была речью Федра, сына Питокла, мирринусийца, а то, что я собираюсь сказать, будет речью Стесихора, сына Евфема, гимерейца. Он гласит так:
Неверно было слово это, –
будто при наличии влюбленного следует уступать скорее невлюбленному только из‑за того, что влюбленный впадает в неистовство, а невлюбленный всегда рассудителен. Если бы неистовство было попросту злом, то это было бы сказано правильно. Между тем величайшие для нас блага возникают от неистовства, правда, когда оно уделяется нам как божий дар[1031]
.
b
Прорицательница в Дельфах и жрицы в Додоне[1032]
в состоянии неистовства сделали много хорошего для Эллады – и отдельным лицам и всему народу, а будучи в здравом рассудке, – мало или вовсе ничего. И если мы стали бы говорить о Сивилле[1033]
и других, кто с помощью божественного дара прорицания множеством предсказаний многих направил на верный путь, мы бы потратили много слов на то, что всякому ясно и так. Но вот на что стоит · сослаться: те из древних, кто устанавливал значения слов, не считали неистовство (μανία) безобразием или позором – иначе они не прозвали бы «маническим» (μανική) то прекраснейшее искусство, посредством которого можно судить о будущем.
c
Считая его прекрасным, когда оно проявляется по божественному определению, они его так и прозвали, а наши современники, по невежеству вставив букву «тау», называют его «мантическим» (μαντική)[1034]
. А гадание о будущем, когда люди, находящиеся в полном рассудке, производят его по птицам и другим знамениям, в которых, словно нарочно, заключаются для человеческого ума (ονησις) и смысл (νους), и знания (ιστορία), древние назвали «ойоноистикой» (οίονοϊστική), а люди нового времени кратко называют «ойонистикой» (οίωνιστική), с омегой ради пышности.
d
Так вот, насколько прорицание совершеннее и ценнее птицегадания – тут и название лучше и само дело, – настолько же, по свидетельству древних, неистовство, которое у людей от бога, прекраснее рассудительности, свойства человеческого.
Избавление от болезней, от крайних бедствий, от тяготевшего издревле гнева богов бывало найдено благодаря неистовству, появившемуся откуда‑то в некоторых семействах и дававшему прорицания, кому это требовалось.
e
Неистовство разрешалось в молитвах богам и служении им, и человек, охваченный им, удостаивался очищения и посвящения в таинства, становясь неприкосновенным на все времена для окружающих зол, освобождение от которых доставалось подлинно неистовым и одержимым.
245
Третий вид одержимости и неистовства – от Муз, он охватывает нежную и непорочную душу, пробуждает ее, заставляет выражать вакхический восторг в песнопениях и других видах творчества и, украшая несчетное множество деяний предков, воспитывает потомков. Кто же без неистовства, посланного Музами, подходит к порогу творчества в уверенности, что он благодаря одному лишь искусству станет изрядным поэтом, тот еще далек от совершенства: творения здравомыслящих затмятся творениями неистовых.
b
Вот сколько – и еще больше – могу я привести примеров прекрасного действия неистовства, даруемого богами. Так что не стоит его бояться, и пусть нас не тревожит и не запугивает никакая речь, утверждающая, будто следует предпочитать рассудительного друга тому, кто охвачен порывом. Пусть себе торжествуют победу те, кто докажет к тому же, что не на пользу влюбленному и возлюбленному ниспосылается богами любовь, –
c
нам надлежит доказать, наоборот, что подобное неистовство боги даруют для величайшего счастья. Такому доказательству наши искусники не поверят, зато поверят люди мудрые. Прежде всего надо вникнуть в подлинную природу божественной и человеческой души, рассмотрев ее состояния и действия. Начало же доказательства следующее.
Всякая душа бессмертна[1035]
. Ведь вечнодвижущееся бессмертно. А у того, что сообщает движение другому и приводится в движение другим, это движение прерывается, а значит, прерывается и жизнь. Только то, что движет само себя, раз оно не убывает, никогда не перестает и двигаться и служить источником и началом движения для всего остального, что движется.
d
Начало же не имеет возникновения. Из начала необходимо возникает все возникающее, а само оно ни из чего не возникает. Если бы начало возникло из чего‑либо, оно уже не было бы началом. Так как оно не имеет возникновения, то, конечно, оно и неуничтожимо. Если бы погибло начало, оно никогда не могло бы возникнуть из чего‑либо, да и другое из него, так как все должно возникать из начала. Значит, начало движения – это то, что движет само себя.
e
Оно не может ни погибнуть, ни возникнуть, иначе бы все небо и вся Земля, обрушившись, остановились и уже неоткуда было бы взяться тому, что, придав им движение, привело бы к их новому возникновению.
Раз выяснилось, что бессмертно все движимое самим собою, всякий без колебания скажет то же самое о сущности и понятии души. Ведь каждое тело, движимое извне, – неодушевлено, а движимое изнутри, из самого себя, – одушевлено, потому что такова природа души. Если это так и то, что движет само себя, есть не что иное, как душа, из этого необходимо следует, что душа непорождаема и бессмертна.
246
О ее бессмертии достаточно этого. А об ее идее надо сказать вот что: какова она – это всячески требует божественного и пространного изложения, а чему она подобна – это поддается и человеческому, более сжатому; так мы и будем говорить.
Уподобим душу соединенной силе крылатой парной упряжки и возничего. У богов и кони и возничие все благородны и происходят от благородных, а у остальных они смешанного происхождения.
b
Во‑первых, это наш повелитель правит упряжкой, а затем, и кони‑то у него – один прекрасен, благороден и рожден от таких же коней, а другой конь – его противоположность и предки его – иные. Неизбежно, что править нами – дело тяжкое и докучное.
Попробуем сказать и о том, как произошло название смертного и бессмертного существа. Всякая душа ведает всем неодушевленным, распространяется же она по всему небу, принимая порой разные образы. Будучи совершенной и окрыленной, она парит в вышине и правит миром,
c
если же она теряет крылья, то носится, пока не натолкнется на что‑нибудь твердое, – тогда она вселяется туда, получив земное тело, которое благодаря ее силе кажется движущимся само собой; а что зовется живым существом, – все вместе, то есть сопряжение души и тела, получило прозвание смертного.
О бессмертном же нельзя судить лишь по одному этому слову. Не видав и мысленно не постигнув в достаточной мере бога, мы рисуем себе некое бессмертное существо,
d
имеющее душу, имеющее и тело, причем они нераздельны на вечные времена. Впрочем, тут, как угодно богу, так пусть и будет и так пусть считается.
Мы же коснемся причины утраты крыльев, почему они отпадают у души. Причина здесь, видимо, такая: крылу от природы свойственна способность подымать тяжелое в высоту, туда, где обитает род богов. А изо всего, что связано с телом, душа больше всего приобщилась к божественному –
e
божественное же прекрасно, мудро, доблестно и так далее; этим вскармливаются и взращиваются крылья души, а от всего противоположного – от безобразного, дурного – она чахнет и гибнет.
Великий предводитель на небе, Зевс, на крылатой колеснице едет первым, все упорядочивая и обо всем заботясь. За ним следует воинство богов и гениев, выстроенное в одиннадцать отрядов;
247
одна только Гестия[1036]
не покидает дома богов, а из остальных все главные боги, что входят в число двенадцати, предводительствуют каждый порученным ему строем.
В пределах неба есть много блаженных зрелищ и путей, которыми движется счастливый род богов; каждый из них свершает свое, а [за ними] следует всегда тот, кто хочет и может, – ведь зависть чужда сонму богов.
b
Отправляясь на праздничный пир, они поднимаются к вершине по краю поднебесного свода, и уже там их колесницы, не теряющие равновесия и хорошо управляемые, легко совершают путь; зато остальные двигаются с трудом, потому что конь, причастный злу, всей тяжестью тянет к земле и удручает своего возничего, если тот плохо его вырастил. От этого душе приходится мучиться и крайне напрягаться.
Души, называемые бессмертными, когда достигнут вершины, выходят наружу и останавливаются на небесном
c
хребте; они стоят, небесный свод несет их в круговом движении, и они созерцают то, что за пределами неба.
Занебесную область не воспел никто из здешних поэтов, да никогда и не воспоет по достоинству. Она же вот какова (ведь надо наконец осмелиться сказать истину, особенно когда говоришь об истине): эту область занимает бесцветная, без очертаний, неосязаемая сущность, подлинно существующая, зримая лишь кормчему души – уму; на нее‑то и направлен истинный род знания.
d
Мысль бога питается умом и чистым знанием, как и мысль всякой души, которая стремится воспринять надлежащее, узрев [подлинное] бытие, хотя бы и ненадолго, ценит его, питается созерцанием истины и блаженствует, пока небесный свод не перенесет ее по кругу опять на то же место. При этом кругообороте она созерцает самое справедливость, созерцает рассудительность, созерцает знание – не то знание, которому присуще е возникновение и которое как иное находится в ином, называемом нами сейчас существующим,
e
но подлинное знание, содержащееся в подлинном бытии. Насладившись созерцанием всего того, что есть подлинное бытие, душа снова спускается во внутреннюю область неба и приходит домой. По ее возвращении возничий ставит коней к яслям, задает им амброзии и вдобавок поит нектаром.
248
Такова жизнь богов. Что же до остальных душ, то у той, которая всего лучше последовала богу и уподобилась ему, голова возничего поднимается в занебесную область и несется в круговом движении по небесному своду; но ей не дают покоя кони, и она с трудом созерцает бытие. Другая душа то поднимается, то опускается – кони рвут так сильно, что она одно видит, а другое нет. Вслед за ними остальные души жадно стремятся кверху, но это им не под силу, и они носятся по кругу в глубине, топчут друг друга, напирают, пытаясь опередить одна другую.
b
И вот возникает смятение, борьба, от напряжения их бросает в пот. Возничим с ними не справиться, многие калечатся, у многих часто ломаются крылья. Несмотря на крайние усилия, всем им не достичь созерцания [подлинного] бытия, и, отойдя, они довольствуются мнимым пропитанием.
c
Но ради чего так стараются узреть поле истины, увидеть, где оно? Да ведь как раз там, на лугах, пастбище для лучшей стороны души, а природа крыла, поднимающего душу, этим и питается. Закон же Адрастеи[1037]
таков: душа, ставшая спутницей бога и увидевшая хоть частицу истины, будет благополучна вплоть до следующего кругооборота, и, если она в состоянии совершать это всегда, она всегда будет невредимой. Когда же она не будет в силах сопутствовать и видеть, но, постигнутая какой‑нибудь случайностью, исполнится забвения и зла и отяжелеет, а отяжелев, утратит крылья и падет на землю, тогда есть закон, чтобы при первом рождении не вселялась она ни в какое животное.
d
Душа, видевшая всего больше, попадает в плод будущего поклонника мудрости и красоты или человека, преданного Музам и любви; вторая за ней – в плод царя, соблюдающего законы, в человека воинственного или способного управлять; третья – в плод государственного деятеля, хозяина, добытчика; четвертая – в плод человека, усердно занимающегося упражнением или врачеванием тела; пятая по порядку будет вести жизнь прорицателя или человека, причастного к таинствам;
e
шестой пристанет подвизаться в поэзии или другой какой‑либо области подражания; седьмой – быть ремесленником или земледельцем; восьмая будет софистом или демагогом; девятая – тираном. Во всех этих призваниях тот, кто проживет, соблюдая справедливость, получит лучшую долю, а кто ее нарушит – худшую.
Но туда, откуда она пришла, никакая душа не возвращается в продолжение десяти тысяч лет – ведь она не окрылится раньше этого срока,
249
за исключением души человека, искренне возлюбившего мудрость или сочетавшего любовь к ней с влюбленностью в юношей: эти души окрыляются за три тысячелетних круговорота, если три раза подряд изберут для себя такой образ жизни, и на трехтысячный год отходят. Остальные же по окончании своей первой жизни подвергаются суду, а после приговора суда одни отбывают наказание, сошедши в подземные темницы, другие же, кого Дике[1038]
облегчила от груза и подняла в некую область неба, ведут жизнь соответственно той, какую они прожили в человеческом образе.
b
На тысячный год и те и другие являются, чтобы получить себе новый удел и выбрать себе вторую жизнь – кто какую захочет. Тут человеческая душа может получить и жизнь животного, а из того животного, что было когда‑то человеком, душа может снова вселиться в человека; но душа, никогда не видавшая истины, не примет такого образа, ведь человек должен постигать [ее] в соответствии с идеей, исходящей от многих чувственных восприятий, но сводимой рассудком воедино.
c
А это есть припоминание[1039]
того, что некогда видела наша душа, когда она сопутствовала богу, свысока глядела на то, что мы теперь называем бытием, и поднималась до подлинного бытия. Поэтому по справедливости окрыляется только разум философа: у него всегда по мере его сил память обращена на то, чем божествен бог. Только человек, правильно пользующийся такими воспоминаниями, всегда посвящаемый в совершенные таинства, становится подлинно совершенным.
d
И так как он стоит вне человеческой суеты и обращен к божественному, большинство, конечно, станет увещевать его, как помешанного, – ведь его исступленность скрыта от большинства.
Вот к чему пришло все наше рассуждение о четвертом виде неистовства: когда кто‑нибудь смотрит на здешнюю красоту, припоминая при этом красоту истинную, он окрыляется, а окрылившись, стремится взлететь; но, еще не набрав сил, он наподобие птенца глядит вверх, пренебрегая тем, что внизу, – это и есть причина его неистового состояния.
e
Из всех видов исступленности эта – наилучшая уже по самому своему происхождению, как для обладающего ею, так и для того, кто ее с ним разделяет. Причастный к такому неистовству любитель прекрасного называется влюбленным. Ведь, как уже сказано, всякая человеческая душа по своей природе бывала созерцательницей бытия, иначе она не вселилась бы в это живое существо.
250
Припоминать то, что там, на основании того, что есть здесь, нелегко любой душе: одни лишь короткое время созерцали тогда то, что там; другие, упав сюда, обратились под чужим воздействием к неправде и на свое несчастье забыли все священное, виденное ими раньше. Мало остается таких душ, у которых достаточно сильна память. Они всякий раз, как увидят что‑нибудь, подобное тому, что было там, бывают поражены и уже не владеют собой, а что это за состояние, они не знают, потому что недостаточно в нем разбираются.
b
В здешних подобиях нет вовсе отблеска справедливости, воздержности и всего другого, ценного для души, но, подходя к этим изображениям, кое‑кому, пусть и очень немногим, все же удается, хотя и с трудом, разглядеть при помощи наших несовершенных органов, к какому роду относится то, что изображено.
Сияющую красоту можно было видеть тогда, когда мы вместе со счастливым сонмом видели блаженное зрелище, одни – следуя за Зевсом, а другие – за кем‑нибудь другим из богов, и приобщались к таинствам,
c
которые можно по праву назвать самыми блаженными и которые мы совершали, будучи сами еще непорочными и не испытавшими зла, ожидавшего нас впоследствии. Допущенные к видениям непорочным, простым, неколебимым и счастливым, мы созерцали их в свете чистом, чистые сами и еще не отмеченные, словно надгробием, той оболочкой, которую мы теперь называем телом и которую не можем сбросить, как улитка – свой домик[1040]
.
Благодаря памяти возникает тоска о том, что было тогда, – вот почему мы сейчас подробно говорили об этом.
d
Как мы и сказали, красота сияла среди всего, что там было; когда же мы пришли сюда, мы стали воспринимать ее сияние всего отчетливее посредством самого отчетливого из чувств нашего тела – зрения, ведь оно самое острое из них. Но разумение недоступно зрению, иначе разумение возбудило бы необычайную любовь, если бы какой‑нибудь отчетливый его образ оказался доступен зрению; точно так же и все остальное, что заслуживает любви. Только одной красоте выпало на долю быть наиболее зримой и привлекательной.
e
Человек, очень давно посвященный в таинства или испорченный, не слишком сильно стремится отсюда туда, к красоте самой по себе: он видит здесь то, что носит одинаковое с нею название, так что при взгляде на это он не испытывает благоговения, но, преданный наслаждению, пытается, как четвероногое животное, покрыть и оплодотворить; он не боится наглого обращения и не стыдится гнаться за противоестественным наслаждением.
251
Между тем человек, только что посвященный в таинства, много созерцавший тогда все, что там было, при виде божественного лица, хорошо воспроизводящего [ту] красоту или некую идею тела, сперва испытывает трепет, на него находит какой‑то страх, вроде как было с ним и тогда; затем он смотрит на него с благоговением, как на бога, и, если бы не боялся прослыть совсем неистовым, он стал бы совершать жертвоприношения своему любимцу, словно кумиру или богу. А стуит тому на него взглянуть, как он сразу меняется, он как в лихорадке, его бросает в пот и в необычный жар.
b
Восприняв глазами истечение красоты[1041]
, он согревается, а этим укрепляется природа крыла: от тепла размягчается вокруг ростка все, что ранее затвердело от сухости и мешало росту; благодаря притоку питания, стержень перьев набухает, и они начинают быстро расти от корня по всей душе – ведь она вся была искони пернатой.
c
Пока это происходит, душа вся кипит и рвется наружу. Когда прорезываются зубы, бывает зуд и раздражение в деснах – точно такое же состояние испытывает душа при начале роста крыльев: она вскипает и при этом испытывает раздражение и зуд, рождая крылья.
Глядя на красоту юноши, она принимает в себя влекущиеся и истекающие оттуда частицы – недаром это называют влечением[1042]
: впитывая их, она согревается, избавляется от муки и радуется.
d
Когда же она вдалеке от него, она сохнет: отверстия проходов, по которым пробиваются перья, ссыхаются, закрываются, и ростки перьев оказываются взаперти. Запертые внутри вместе с влечением, они бьются наподобие пульса, трут и колют, ища себе выхода – каждый росток отдельно для себя, – так что душа, вся изнутри исколотая, мучается и терзается, но все же, храня память о прекрасном, радуется.
Странность такого смешения ее терзает, в недоумении она неистовствует, и от исступления не может она ни спать ночью, ни днем оставаться на одном месте.
e
В тоске бежит она туда, где думает увидеть обладателя красоты. При виде его влечение разливается по ней, и то, что было ранее заперто, раскрывается: для души это передышка, когда прекращаются уколы и муки, в это время вкушает она сладчайшее удовольствие.
252
По доброй воле она никогда от него не откажется, ее красавец для нее дороже всех; тут забывают и о матерях, и о братьях, и о всех приятелях, и потеря – по нерадению – состояния ей также нипочем. Презрев все обычаи и приличия, соблюдением которых щеголяла прежде, она готова рабски служить своему желанному и валяться где попало, лишь бы поближе к нему – ведь помимо благоговения перед обладателем красоты она обрела в нем единственного исцелителя величайших страданий.
b
Состояние, о котором у меня речь, прекрасный мой мальчик, люди зовут Эротом, а боги – ты, наверное, улыбнешься новизне прозвания: думаю, это кто‑то из гомеридов приводит из отвергаемых песен два стиха об Эроте, причем один из них очень дерзкий и не слишком складный; поют же их так:
Смертные все прозвали его Эротом крылатым,
Боги ж – Птеротом, за то, что расти заставляет он крылья[1043]
.
c
Этому можно верить, можно и не верить. Как бы то ни было, но причина такого состояния влюбленных именно в этом.
Если Эротом охвачен кто‑нибудь из спутников Зевса, он в силах нести и более тяжелое бремя этого тезки крыла. Служители же Арея[1044]
, вместе с ним совершавшие кругооборот, бывают склонны к убийству, если их одолел Эрот и они вдруг решат, что их чем‑то обижает тот, в кого они влюблены; они готовы принести в жертву и самих себя, и своего любимца.
d
Соответственно обстоит дело и с каждым богом: в сонме кого кто был, тот того и почитает и по мере сил подражает ему и в своей жизни, пока еще не испорчен и пока живет здесь в первом своем рождении, и в том, как он ведет себя и общается со своим возлюбленным и с остальными людьми.
Каждый выбирает среди красавцев возлюбленного себе по нраву и, словно это и есть Эрот, делает из него для себя кумира и украшает его, словно для священнодействий.
e
Спутники Зевса ищут Зевсовой души в своем возлюбленном: они смотрят, склонен ли он по своей природе быть философом и вождем, и, когда найдут такого, влюбляются и делают все, чтобы он таким стал. Если раньше они этим не занимались, то теперь они за это берутся, собирают сведения откуда только могут и учатся сами.
253
Они стремятся выследить и найти в самих себе природу своего бога и добиваются успеха, так как принуждены пристально в этого бога всматриваться. Становясь прикосновенными ему при помощи памяти, они в исступлении воспринимают от него обычаи и нравы, насколько может человек быть причастен богу. Считая, что всем этим они обязаны тому, в кого влюблены, они еще больше его ценят; черпая у Зевса, словно вакханки, и изливая почерпнутое в душу любимого, они делают его как можно более похожим на своего бога.
b
Те же, кто следовал за Герой, ищут юношу царственных свойств и, найдя такого, ведут себя с ним точно так же.
Спутники Аполлона и любого из богов, идя по стопам своего бога, ищут юношу с такими же природными задатками, как у них самих, и, найдя его, убеждают его подражать их богу, как это делают они сами. Приучая любимца к стройности и порядку, они, насколько это кому по силам, подводят его к занятиям и к идее своего бога. Они не обнаруживают ни зависти, ни низкой вражды к своему любимцу, но всячески стараются сделать его похожим на самих себя и на бога, которого почитают.
c
Если истинно влюбленные осуществят так, как я говорю, ту, к чему они усердно стремятся, то их усердие и посвященность в таинства оказываются прекрасными и благодетельными для того, кого взял себе в друзья его неистовый от любви друг. Пленение же избранника происходит следующим образом.
В начале этой речи мы каждую душу разделили на три вида: две части ее мы уподобили коням по виду, третью – возничему. Пусть и сейчас это будет так.
d
Из коней, говорим мы, один хорош, а другой нет. А чем хорош один и плох другой, мы не говорили, и об этом надо сказать сейчас. Так вот, один из них прекрасных статей, стройный на вид, шея у него высокая, храп с горбинкой, масть белая, он черноокий, любит почет, но при этом рассудителен и совестлив; он друг истинного мнения, его не надо погонять бичом, можно направлять его одним лишь приказанием и словом.
e
А другой – горбатый, тучный, дурно сложен, шея у него мощная, да короткая, он курносый, черной масти, а глаза светлые, полнокровный, друг наглости и похвальбы, от косм вокруг ушей он глухой и еле повинуется бичу и стрекалам.
Когда перед взором возничего предстает нечто достойное любви, чувство горячит ему всю душу и его терзают зуд и жала возбуждения,
254
тот конь, что послушен возничему, одолеваемый своей обычной стыдливостью, сдерживает свой бег, чтобы не наскочить на любимого. А другого коня возничему уже не свернуть ни стрекалом, ни бичом: он вскачь несется изо всех сил. С ним мучение и его сотоварищу по упряжке, и возничему, он принуждает их приступить к любимцу с намеками на соблазнительность любовных утех.
b
Оба они сперва сопротивляются, негодуя, потому что их принуждают к ужасным и беззаконным делам. В конце же концов, так как беде нет предела, они подаются туда, куда он их тянет, уступают и соглашаются выполнить его веления.
Вот они уже близко от любимого и видят его сверкающий взор. При взгляде на него память возничего несется к природе красоты и снова видит ее, воздвигшуюся вместе с рассудительностью на чистом и священном престоле, а увидев, устрашается, от благоговейного стыда падает навзничь
c
и тем самым неизбежно натягивает вожжи так сильно, что оба коня заваливаются назад – один охотно, так как он не противится, но другой, наглый, – совсем против воли. Отпрянув назад, один конь от стыда и потрясения в душе обливается потом, а другой, чуть стихнет боль от узды и падения, едва переведя дух, начинает в гневе браниться, поносить и возничего, и сотоварища по упряжке
d
за то, что те из трусости и по отсутствию мужества покинули строй вопреки уговору. И снова он принуждает их подойти против воли и с трудом уступает их просьбам отложить это до другого раза.
С наступлением назначенного срока он напоминает им об этом, а они делают вид, будто забыли. Он пускает в ход силу, ржет, тащит, принуждая приступить к любимцу с теми же речами. Чуть только они приблизятся к нему, он изгибается, вытягивает хвост и, закусив удила, бесстыдно тянет вперед.
e
Возничий, еще более испытывая прежнее состояние, откидывается назад, словно от бегового барьера, изо всех сил натягивает узду между зубами наглого коня, в кровь ранит ему злоречивый его язык и челюсти, пригнетая его голени и бедра к земле и причиняя ему боль. После того как дурной конь часто испытает это же самое и отбросит наглость, он смиренно следует намерениям своего возничего и при виде красавца погибает от страха. Тогда и получается, что душа влюбленного следует за любимцем со стыдом и боязнью.
255
Тот, кто не прикидывается влюбленным, а подлинно это переживает, чтит его всячески как богоравного. Да и сам юноша по своей природе – друг почитателю. Если раньше его осуждали его школьные товарищи или еще кто‑нибудь, говоря, что постыдно сближаться с влюбленным, и потому он отталкивал влюбленного, то с течением времени юный возраст и неизбежность приведут его к этому общению.
b
Ведь нет такого определения судьбы, чтоб дурной дурному был другом, а хороший хорошему – нет. Когда юноша допустит к себе влюбленного, вступит с ним в разговор и общение, близко увидит его благосклонность, он бывает поражен: он замечает, что дружба всех других его друзей и близких, вместе взятых, ничего не значит в сравнении с его боговдохновенным другом. Он постепенно сближается с влюбленным, соприкасаясь с ним в гимнасиях и в других собраниях,
c
и тогда поток того истечения, которое Зевс, влюбленный в Ганимеда[1045]
, назвал влечением, обильно изливаясь на влюбленного, частью проникает в него, а частью, когда он уже переполнен, вытекает наружу. Как дуновение или звук, отраженные гладкой и твердой поверхностью, снова несутся туда, откуда они исходили, так и поток красоты снова возвращается в красавца чрез очи,
d
то есть тем путем, по которому ему свойственно проникать в душу, теперь уже окрыленную; он орошает проходы крыльев, вызывает их рост и наполняет любовью душу возлюбленного.
Он любит, но не знает, что именно. Он не понимает своего состояния и не умеет его выразить; наподобие заразившегося от другого глазной болезнью, он не может найти ее причину – от него утаилось, что во влюбленном, словно в зеркале, он видит самого себя; когда тот здесь, у возлюбленного, как и у него самого, утихает боль, когда его нет, возлюбленный тоскует по влюбленному так же, как тот по нему: у юноши это всего лишь подобие, отображение любви, называет же он это, да и считает, не любовью, а дружбой.
e
Как и у влюбленного, у него тоже возникает желание – только более слабое – видеть, прикасаться, целовать, лежать вместе, и в скором времени он, естественно, так и поступает. Когда они лежат вместе, безудержный конь влюбленного находит, что сказать возничему, и просит хоть малого наслаждения в награду за множество мук.
256
Зато конь любимца не находит, что сказать; в волнении и смущении обнимает тот влюбленного, целует, ласкает его, как самого преданного друга, а когда они лягут вместе, он не способен отказать влюбленному в его доле наслаждения, если тот об этом попросит. Но товарищ по упряжке вместе с возничим снова противятся этому, стыдясь и убеждая.
Если победят лучшие духовные задатки человека, его склонность к порядку в жизни и к философии, то влюбленный и его любимец блаженно проводят здешнюю жизнь в единомыслии, владея собой и не нарушая скромности,
b
поработив то, из‑за чего возникает испорченность души, и дав свободу тому, что ведет к добродетели. После смерти, став крылатыми и легкими, они одерживают победу в одном из трех поистине олимпийских состязаний[1046]
, а большего блага не может дать человеку ни человеческий здравый смысл, ни божественное неистовство.
Если же они будут вести более грубую жизнь, чуждую философии и исполненную честолюбия, тогда, возможно,
c
их безудержные кони, застав души врасплох – в минуту ли опьянения или просто беззаботности, – сведут их вместе и заставят их выбрать и свершить то, что превозносится большинством как самый блаженный удел. А свершив это, они и впредь будут к этому прибегать, хотя и нечасто, потому что это не согласуется с их общим духовным складом. Они тоже дружны, хотя и не так, как те, первые, и не расстаются не только пока влюблены,
d
но и тогда, когда это пройдет, считая, что, раз они дали друг другу величайшие клятвы в верности, их уже нельзя нарушать и идти на ссору. При кончине они, хотя и бескрылые, покидают тело, уже полные стремления окрылиться, так что они тоже получают немалую награду за свое любовное неистовство. Ведь нет такого закона, чтобы сходили во мрак и странствовали под землей те, кто уже вступил на путь поднебесного странствия, – напротив, им назначена светлая жизнь и дано быть счастливыми, вместе странствовать и благодаря любви стать одинаково окрыленными, когда придет срок[1047]
.
e
Вот сколько божественных даров даст тебе, мой мальчик, дружба влюбленного. А близость с человеком, в тебя не влюбленным, разбавленная здравым смыслом смертных, руководствующаяся расчетливостью смертных, порождающая в душе милого низменный образ мыслей, восхваляемый большинством как добродетель, приведет только к тому, что душа будет девять тысяч лет бессмысленно слоняться по земле и под землей.
257
Вот, милый Эрот, дар тебе и возмещение: прекраснейшая и наилучшая покаянная песнь[1048]
– в меру наших сил. Это из‑за Федра пришлось ее пропеть, да еще в особо поэтических выражениях. Если ты прощаешь мне прежнюю речь и тебе приятна эта, будь благосклонен и милостив: не отнимай у меня и не губи в гневе дарованное тобой же искусство любви. Дай, чтоб я стал дороже красавцам, чем до сих пор.
b
Если в прежней речи мы с Федром сказали что‑нибудь тебе не созвучное, вини в этом Лисия: он отец той речи. Отврати его от таких речей, обрати его к философии, как уже обратился к ней его брат Полемарх[1049]
, чтобы этот поклонник Лисия не колебался более, как сейчас, но посвятил бы всю свою жизнь Эроту и философским речам! Теория красноречия на основе учения о душе
c
Федр.
Я молюсь вместе с тобой, Сократ: раз так для нас лучше, пусть так и сбудется! А речи твоей я уже давно удивляюсь – насколько красивее она у тебя вышла, чем первая. Я даже опасаюсь, как бы Лисий не показался мне мелким, если бы он пожелал противопоставить ей какую‑нибудь другую речь. Да и в самом деле, удивительный ты человек, недавно один из наших государственных мужей бранил Лисия и попрекал, а ругая, все время называл его сочинителем речей[1050]
. Быть может, Лисий из самолюбия воздержится теперь у нас от писательства.
d
Сократ.
Ох, юноша, смешные вещи ты говоришь! Ты совсем ошибаешься насчет твоего приятеля, если думаешь, что он так пуглив. По‑твоему, и тот, кто его бранил, действительно высказывал порицание?
Федр.
Так казалось, Сократ. Ты и сам знаешь, что люди влиятельные и почитаемые в городе стесняются писать речи и оставлять после себя сочинения, боясь, как бы молва не назвала их потом софистами.
e
Сократ.
Ты забыл, Федр, что сладостная излучина получила свое название от большой излучины на Ниле[1051]
. Кроме этой излучины ты не замечаешь и того, что как раз государственные мужи, много о себе воображающие, особенно любят писать речи и оставлять после себя сочинения. Написав какую‑нибудь речь, они так ценят тех, кто ее одобряет, что на первом месте упоминают, кто и в каком случае их одобрил.
Федр.
Как ты говоришь, не понимаю?
258
Сократ.
Разве ты не знаешь, что в начале каждого государственного постановления указывается прежде всего, кто его одобрил?
Федр.
То есть?
Сократ.
«Постановил» – так ведь говорится – «совет», или «народ», или они оба; «такой‑то внес предложение» – здесь составитель речи с большой важностью и похвалой называет свою собственную особу, затем он переходит к изложению, выставляя напоказ перед теми, кто его одобрил, свою мудрость, причем иногда его сочинение получается чрезвычайно пространным. Это ли, по‑твоему, не записанная речь?
b
Федр.
Да, конечно.
Сократ.
И вот, если его предложение будет принято, творец речи уходит из театра, радуясь[1052]
. Если же оно будет отвергнуто, если он потерпит неудачу в сочинении речей, и его речь не будет достойна записи, тогда горюет и он сам и его приятели.
Федр.
Конечно.
Сократ.
Очевидно, они не презирают этого занятия, но, напротив, восхищаются им.
Федр.
И даже очень.
c
Сократ.
А если появится такой способный оратор или царь, что, обладая могуществом Ликурга, Солона, или Дария[1053]
, обессмертит себя в государстве и как составитель речей? Разве не будет он сам себя считать богоравным еще при жизни? И разве не будет то же считать и потомство, взирая на его сочинения?
Федр.
Конечно.
Сократ.
Так, по‑твоему, кто‑либо из таких людей, как бы неприятен ему ни был Лисий, стал бы порицать его за то, что он пишет?
Федр.
Из твоих слов вытекает, что это невероятно, иначе вышло бы, что он порицает то, к чему сам стремится.
d
Сократ.
Значит, всякому ясно, что писать речи само по себе не постыдно (αίσχρόν).
Федр.
А что же тогда постыдно?
Сократ.
По‑моему, постыдно говорить и писать не так, как следует, а безобразно (αίσχρως) и злонамеренно.
Федр.
Это ясно.
Сократ.
Какой же есть способ писать хорошо или, напротив, нехорошо? Надо ли нам, Федр, расспросить об этом Лисия или кого другого, кто когда‑либо писал или будет писать, – все равно, сочинит ли он что‑нибудь об общественных делах или частных, в стихах ли, как поэт, или без размера, как любой из нас?
e
Федр.
Ты спрашиваешь, надо ли? Да для чего же, по правде говоря, и жить, как не для удовольствий такого рода? Ведь не для тех же удовольствий, которым должно предшествовать страдание, – иначе их и не ощутишь, как это бывает чуть ли не со всеми телесными удовольствиями (потому‑то их по справедливости и называют рабскими).
259
Сократ.
Досуг у нас, правда, есть. К тому же цикады над нашей головой поют, разговаривают между собой, как это обычно в самый зной, да, по‑моему, они и смотрят на нас. Если они увидят, что и мы, подобно большинству, не ведем беседы в полдень, а по лености мысли дремлем, убаюканные ими, то справедливо осмеют нас, думая, что это какие‑то рабы пришли к ним в убежище и, словно овцы в полдень, спят у родника. Если же они увидят, что мы, беседуя, не поддаемся их очарованию
b
и плывем мимо них, словно мимо сирен[1054]
, они, в восхищении, пожалуй, уделят нам тот почетный дар, который получили от богов для раздачи людям.
Федр.
Что же такое они получили? Я, по‑видимому, и не слыхал об этом.
Сократ.
Не годится человеку, любящему Муз[1055]
, даже и не слыхать об этом! По преданию, цикады[1056]
некогда были людьми, еще до рождения Муз. А когда родились Музы и появилось пение, некоторые из тогдашних людей пришли в такой восторг от этого удовольствия, что среди песен они забывали о пище и питье и в самозабвении умирали.
c
От них после и пошла порода цикад: те получили такой дар от Муз, что, родившись, не нуждаются в пище, но сразу же, без пищи и питья, начинают петь, пока не умрут, а затем идут к Музам известить их, кто из земных людей какую из них почитает. Известив Терпсихору о тех, кто почтил ее в хороводах, они снискивают к ним у нее расположение;
d
у Эрато – к тем, кто почтил ее в любовных песнях, и то же с остальными Музами, соответственно виду почитания каждой из них. Самую старшую из Муз – Каллиопу – и следующую за ней – Уранию – они извещают о людях, посвятивших свою жизнь философии и почитающих то, чем ведают эти Музы. Ведь среди Муз эти две больше всех причастны небу и учениям, божественным и человеческим, потому их голос всего прекраснее. Значит, по многим причинам нам с тобой надо беседовать, а не спать в полдень.
Федр.
Конечно, будем беседовать.
e
Сократ.
Стало быть, нам предстоит рассмотреть, как мы только что и собирались сделать, от чего это зависит – говорить и писать хорошо или нехорошо.
Федр.
Очевидно.
Сократ.
Чтобы речь вышла хорошей, прекрасной, разве разум оратора не должен постичь истину того, о чем он собирается говорить?
260
Федр.
Об этом, милый Сократ, я так слышал: тому, кто намеревается стать оратором, нет необходимости понимать, чту действительно справедливо, – достаточно знать то, чту кажется справедливым большинству, которое будет судить. То же самое касается и того, что в самом деле хорошо и прекрасно, – достаточно знать, чту таковым представляется. Именно так можно убедить, а не с помощью истины.
Сократ.
«Мысль не презренная»[1057]
, Федр, раз так говорят умные люди, но надо рассмотреть, есть ли в ней смысл. Поэтому нельзя оставить без внимания то, что ты сейчас сказал.
Федр.
Ты прав.
Сократ.
Рассмотрим это следующим образом.
Федр.
Каким?
b
Сократ.
Например, я убеждал бы тебя приобрести коня, чтобы сражаться с неприятелем, причем мы с тобой оба не знали бы, что такое конь, да и о тебе я знал бы лишь то, что Федр считает конем ручное животное с большими ушами…
Федр.
Это было бы смешно, Сократ.
Сократ.
Пока еще нет, но так было бы, если бы я стал всерьез тебя убеждать, сочинив похвальное слово ослу, называя его конем, что непременно стоит завести эту скотинку не только дома, но и в походе, так как она пригодится в битве, для перевоза клади и еще многого другого.
c
Федр.
Вот это было бы совсем смешно!
Сократ.
А разве не лучше то, что смешно да мило, чем то, что страшно и враждебно?
Федр.
Это очевидно.
Сократ.
Так вот, когда оратор, не знающий, что такое добро, а что – зло, выступит перед такими же несведущими гражданами с целью их убедить, причем будет расхваливать не тень осла[1058]
, выдавая его за коня, но зло, выдавая его за добро, и, учтя мнения толпы, убедит ее сделать что‑нибудь плохое вместо хорошего, какие, по‑твоему, плоды принесет впоследствии посев его красноречия?
d
Федр.
Не очень‑то подходящие.
Сократ.
Впрочем, друг мой, не слишком ли резко мы нападаем на ораторское искусство? Оно, пожалуй, возразило бы нам: «Что за вздор вы несете, странные вы люди! Никого, кто не знает истины, я не принуждаю учиться говорить, напротив, – если мой совет что‑нибудь значит, – пусть лишь обладающий истиной приступает затем ко мне. Я притязаю вот на что: даже знающий истину не найдет помимо меня средства искусно убеждать»,
e
Федр.
Разве не было бы оно право, говоря так?
Сократ.
Согласен, если подходящие к случаю доказательства подтвердят, что оно – искусство. Мне сдается, будто я слышу, как некоторые из них подходят сюда и свидетельствуют, что красноречие не искусство, а далекий от него навык. Подлинного искусства речи, сказал лаконец, нельзя достичь без познания истины, да и никогда это не станет возможным[1059]
.
261
Федр.
Эти доказательства[1060]
необходимы, Сократ. Приведи их сюда и допроси: что и как они утверждают?
Сократ.
Придите же сюда, благородные создания, и убедите Федра, отца прекрасных детей, что, если он окажется недостаточно искушен в философии, он никогда не будет способен о чем‑либо говорить. Пусть Федр отвечает вам.
Федр.
Спрашивайте.
Сократ.
Искусство красноречия[1061]
не есть ли вообще умение увлекать души словами, не только в судах и других общественных собраниях, но и в частном быту? Идет ли речь о мелочах или о крупных делах, – оно все то же, и, к чему бы его ни применять правильно –
b
к важным ли делам или к незначительным, – оно от этого не становится ни более, ни менее ценным. Или ты об этом слышал не так?
Федр.
Клянусь Зевсом, не совсем так. Говорят и пишут искусно прежде всего для тяжб, говорят искусно и в народном собрании. А о большем я не слыхал.
Сократ.
Значит, ты слышал только о наставлениях в красноречии, которые написали в Илионе Нестор и Одиссей, чтобы занять свой досуг, а о наставлениях Паламеда[1062]
ты не слыхал?
c
Федр.
Да я, клянусь Зевсом, и о наставлениях Нестора не слыхал, если только ты не сделаешь из Горгия какого‑то Нестора, а Одиссея – из какого‑нибудь Фрасимаха и Феодора[1063]
.
Сократ.
Может быть. Но оставим их. Скажи мне, что делают на суде тяжущиеся стороны? Не спорят ли они, или назвать это как‑то иначе?
Федр.
Нет, именно так.
Сократ.
Спорят о том, что справедливо и что несправедливо?
Федр.
Да.
Сократ.
И тот, кто делает это искусно, сумеет представить одно и то же дело одним и тем же слушателям то справедливым, то, если захочет, несправедливым?
d
Федр.
И что же?
Сократ.
Да и в народном собрании одно и то же покажется гражданам иногда хорошим, а иногда наоборот.
Федр.
Это так.
Сократ.
Разве мы не знаем, как искусно говорит элейский Паламед[1064]
: его слушателям одно и то же представляется подобным и неподобным, единым и множественным, покоящимся и несущимся.
Федр.
Да, конечно.
e
Сократ.
Следовательно, искусство спора применяется не только на суде и в народном собрании, но, по‑видимому, это какое‑то единое искусство, – если уж оно искусство, – одинаково применимое ко всему, о чем бы ни шла речь; при его помощи любой сумеет уподобить все, что только можно, всему, что только можно, и вывести на чистую воду другого с его туманными уподоблениями.
Федр.
Как, как ты говоришь?
Сократ.
Тем, кто доискивается, можно, по‑моему, разъяснить это так: обмануться легче при большой или при малой разнице между вещами?
262
Федр.
При малой.
Сократ.
Переход к противоположности разве не будет менее заметен, если его совершать постепенно, чем если резко?
Федр.
Как же иначе?
Сократ.
Значит, кто собирается обмануть другого, не обманываясь сам, тот должен досконально знать подобие и неподобие всего существующего.
Федр.
Это необходимо.
Сократ.
А может ли тот, кто ни об одной вещи не знает истины, различить сходство непознанной вещи с другими вещами, будь оно малым или большим?
b
Федр.
Это невозможно.
Сократ.
Значит, ясно: у тех, кто имеет неверные мнения о существующем и поддается обману, причина их беды – какое‑то подобие между вещами.
Федр.
Да, так бывает.
Сократ.
Может ли быть, чтобы тот, кто всякий раз уводит от бытия к его противоположности, сумел искусно делать постепенные переходы на основании подобия между вещами? И сам он избежит ли ошибки, раз он не знает, что такое та или иная вещь из существующих?
Федр.
Этого никак не может быть.
c
Сократ.
Значит, друг мой, кто не знает истины, а гоняется за мнениями, у того искусство речи будет, видимо, смешным и неискусным.
Федр.
Пожалуй, так.
Сократ.
Хочешь посмотреть, что в речи Лисия, которую ты сюда принес, и в тех речах, которые мы с тобой здесь произнесли, было, по нашему слову, неискусным и что искусным?
Федр.
С превеликой охотой; а то мы сейчас говорим как‑то голословно, без достаточных примеров.
d
Сократ.
Видимо, это просто случайность, что обе речи являют пример того, как человек хотя и знает истину, но может, забавляясь в речах, завлечь своих слушателей. Я, Федр, виню в этом здешних богов. А может быть, и эти провозвестники Муз, певцы над нашей головой, вдохнули в нас этот дар – ведь я‑то, по крайней мере, вовсе не причастен к искусству речи.
Федр.
Пусть это так, как ты говоришь, но только поясни свою мысль.
Сократ.
Ну‑ка, прочти мне начало речи Лисия.
e
Федр.
«О моих намерениях ты знаешь, слышал уже и о том, что я считаю для нас с тобой полезным, если они осуществятся. Думаю, не будет препятствием для моей просьбы то обстоятельство, что я в тебя не влюблен: влюбленные раскаиваются потом…»
Сократ.
Погоди. Ведь мы хотели указать, в чем Лисий допускает погрешность и что он делает неискусно, – не так ли?
263
Федр.
Да.
Сократ.
Не ясно ли всякому, что кое с чем из этого мы согласны, а кое‑что нас возмущает?
Федр.
Кажется, я улавливаю твою мысль, но говори яснее.
Сократ.
Когда кто‑нибудь назовет железо или серебро, разве мы не мыслим все одно и то же?
Федр.
Конечно, одно и то же.
Сократ.
А если кто назовет справедливость и благо? Разве не толкует их всякий по‑своему, и разве мы тут не расходимся друг с другом и сами с собой?
Федр.
И даже очень.
b
Сократ.
Значит, кое в чем мы согласны, а кое в чем и нет.
Федр.
Да, так.
Сократ.
В чем же нас легче обмануть и где красноречие имеет большую силу?
Федр.
Видно, там, где мы блуждаем без дороги.
Сократ.
Значит, тот, кто намерен заняться ораторским искусством, должен прежде всего произвести правильное разделение и уловить, в чем признак каждой его разновидности – и той, где большинство неизбежно блуждает, и той, где этого нет.
c
Федр.
Прекрасную его разновидность, Сократ, постиг бы тот, кто уловил бы это!
Сократ.
Затем, думаю я, в каждом отдельном случае он не должен упускать из виду, но, напротив, как можно острее чувствовать, к какому роду относится то, о чем он собирается говорить.
Федр.
Конечно.
Сократ.
Так что же? Отнесем ли мы любовь к тем предметам, относительно которых есть разногласия, или нет?
Федр.
Да еще какие разногласия! Иначе как бы, по‑твоему, тебе удалось высказать о ней все то, что ты только что наговорил: она – пагуба и для влюбленного и для того, кого он любит, а с другой стороны, она – величайшее благо.
d
Сократ.
Ты совершенно прав. Но скажи еще вот что: я из‑за своего восторженного состояния не совсем помню, дал ли я определение любви в начале моей речи?
Федр.
Клянусь Зевсом, да, и притом поразительно удачное.
Сократ.
То‑то же! Насколько же, по этим твоим словам, нимфы, дочери Ахелоя, и Пан[1065]
, сын Гермеса, искуснее в речах, чем Лисий, сын Кефала! Или я ошибаюсь, или
e
Лисий в начале своей любовной речи заставил нас принять Эрота за одно из проявлений бытия – правда, такое, как ему самому было угодно, – и на этом построил всю свою речь до конца. Хочешь, мы еще раз прочтем ее начало?
Федр.
Если тебе угодно. Однако там нет того, что ты ищешь.
Сократ.
Прочти, чтобы мне услышать его самого.
Федр.
«О моих намерениях ты знаешь, слышал уже и о том, что я считаю для нас с тобой полезным, если они осуществятся.
264
Думаю, не будет препятствием для моей просьбы то обстоятельство, что я в тебя не влюблен: влюбленные раскаиваются потом в своем хорошем отношении, когда проходит их страсть».
Сократ.
У него, видно, совсем нет того, что мы ищем. Он стремится к тому, чтобы его рассуждение плыло не с начала, а с конца, на спине назад. Он начинает с того, чем кончил бы влюбленный свое объяснение с любимцем. Или я не прав, милый ты мой Федр?
b
Федр.
Действительно, Сократ, то, о чем он здесь говорит, это – заключение речи.
Сократ.
А остальное? Не кажется ли, что все в этой речи набросано как попало? Разве очевидно, что именно сказанное во‑вторых, а не другие высказывания должно непременно занимать второе место? Мне, как невежде, показалось, что этот писатель отважно высказывал все, что ему приходило в голову. Усматриваешь ли ты какую‑нибудь необходимость для сочинителей располагать все в такой последовательности, как у Лисия?
c
Федр.
Ты слишком любезен, если думаешь, что я способен так тщательно разобрать все особенности его сочинения.
Сократ.
Но по крайней мере вот что ты мог бы сказать: всякая речь должна быть составлена, словно живое существо, – у нее должно быть тело с головой и ногами, причем туловище и конечности должны подходить друг другу и соответствовать целому.
Федр.
Как же иначе?
Сократ.
Вот и рассмотри, так ли обстоит с речью твоего приятеля или иначе. Ты найдешь, что она ничем не отличается от надписи, которая, как рассказывают, была на гробнице фригийца Мидаса[1066]
.
d
Федр.
А какая это надпись и что в ней особенного?
Сократ.
Она вот какова:
Медная девушка я, на гробнице Мидаса покоюсь.
Воды доколе текут и пышно древа расцветают,
Я безотлучно пребуду на сей многослезной могиле,
Мимо идущим вещбя, что здесь Мидас похоронен.
e
Ты, я думаю, заметил, что тут все равно, какой стих читать первым, какой последним.
Федр.
Ты высмеиваешь нашу речь, Сократ?
Сократ.
Так оставим ее, чтобы тебя не сердить, хотя, по‑моему, в ней есть много примеров, на которые было бы полезно обратить внимание, но пытаться подражать им не очень‑то стоит. Перейдем к другим речам. В них было, мне кажется, нечто такое, к чему следует присмотреться тем, кто хочет исследовать красноречие.
265
Федр.
Что ты имеешь в виду?
Сократ.
Эти две речи были противоположны друг другу. В одной утверждалось, что следует угождать влюбленному, в другой – что невлюбленному.
Федр.
И очень решительно утверждалось.
Сократ.
Я думал, ты скажешь «неистово» – это было бы правдой, как раз этого я и добивался: ведь мы утверждали, что любовь есть некое неистовство. Не так ли?
Федр.
Да.
Сократ.
А неистовство бывает двух видов: одно – следствие человеческих заболеваний, другое же – божественного отклонения от того, что обычно принято.
b
Федр.
Конечно, так.
Сократ.
Божественное неистовство, исходящее от четырех богов, мы разделили на четыре части: вдохновенное прорицание мы возвели к Аполлону, посвящение в таинства – к Дионису, творческое неистовство – к Музам, четвертую же часть к Афродите и Эроту – и утверждали, что любовное неистовство всех лучше. Не знаю, как мы изобразили любовное состояние: быть может, мы коснулись чего‑то истинного, а возможно, и уклонились в сторону, но, добавив не столь уж неубедительное рассуждение, мы с должным благоговением прославили в сказочном гимне моего и твоего, Федр, владыку Эрота, покровителя прекрасных юношей.
c
Федр.
Слушать мне было наслаждение!
Сократ.
Одно постараемся из этого понять – как могло наше рассуждение от порицания перейти к похвале.
Федр.
Как же это, по‑твоему?
Сократ.
Мне кажется, все было там в сущности только шуткой, кроме одного:
d
все, что мы там случайно наговорили, – двух видов, и суметь искусно применить их возможности было бы для всякого благодарной задачей.
Федр.
Какие это виды?
Сократ.
Первый – это способность, охватывая все общим взглядом, возводить к единой идее то, что повсюду разрозненно, чтобы, давая определение каждому, сделать ясным предмет поучения. Так поступили мы только что, говоря об Эроте: сперва определили, что он такое, а затем, худо ли, хорошо ли, стали рассуждать; поэтому‑то наше рассуждение вышло ясным и не противоречило само себе.
Федр.
А что ты называешь другим видом, Сократ?
e
Сократ.
Второй вид – это, наоборот, способность разделять всё на виды, на естественные составные части, стараясь при этом не раздробить ни одной из них, как это бывает у дурных поваров: так, в обеих наших недавних речах мы отнесли неразумную часть души к какому‑то одному общему виду. Подобно тому как в едином от при‑роды человеческом теле имеется две одноименные части,
266
лишь с обозначением «левая» или «правая», так обстоит дело и с состоянием безумия, которое обе наши речи признали составляющим в нас от природы единый вид, но одна речь выделила из него часть, обращенную налево, и не остановилась на этом делении, пока не нашла там некую так называемую левую любовь, которую вполне справедливо и осудила; другая же наша речь ведет нас к правой части неистовства, одноименной с первой, и находит там некую божественную любовь, которой отдает предпочтение, и восхваляет ее как причину величайших для нас благ.
b
Федр.
Ты говоришь в высшей степени верно.
Сократ.
Я, Федр, и сам поклонник такого различения и обобщения – это помогает мне рассуждать и мыслить. И если я замечаю в другом природную способность охватывать взглядом единое и множественное, я гоняюсь
Следом за ним по пятам, как за богом[1067]
.
Правильно ли или нет я обращаюсь к тем, кто это может делать, знает бог, а называю я их и посейчас диалектиками[1068]
. Но скажи, как назвать тех, кто учился у тебя и у Лисия?
c
Или это как раз и есть то искусство речи, пользуясь которым Фрасимах и прочие и сами стали премудрыми в речах, и делают такими всех, кто только пожелает приносить им дары, словно царям?
Федр.
Люди они, правда, царственные, однако в том, о чем ты спрашиваешь, несведущие. Но мне кажется, ты правильно назвал этот вид диалектическим; а вот тот, что касается красноречия, по‑моему, все еще от нас ускользает.
d
Сократ.
Как ты говоришь? Может существовать нечто прекрасное и помимо диалектики, которое тоже относится к искусству? Во всяком случае ни мне, ни тебе нельзя этим пренебрегать и надо поговорить о том, что это такое – я имею в виду красноречие.
Федр.
Об этом очень много говорится, Сократ, в книгах, написанных об искусстве речи.
Сократ.
Хорошо, что ты напомнил. По‑моему, на первом месте, в начале речи, должно быть вступление. Ведь это ты считаешь, не правда ли, тонкостями искусства?
e
Федр.
Да.
Сократ.
На втором месте – изложение и свидетельства, на третьем месте – доказательства, на четвертом – правдоподобные выводы. А настоящий Дедал речей, тот, что родом из Византия[1069]
, называет еще подтверждение и добавочное подтверждение.
Федр.
Ты говоришь о славном Феодоре?
267
Сократ.
Конечно. И еще, утверждает он, надо применять опровержение и добавочное опровержение как при обвинении, так и при защите. А прекраснейшему Евену с Пароса[1070]
разве мы не отведем видного места? Он первый изобрел побочное объяснение и косвенную похвалу. Говорят, он, чтобы легче было запомнить, изложил свои косвенные порицания в стихах – такой искусник!
Тисий[1071]
же и Горгий пусть спокойно спят: им привиделось, будто вместо истины надо больше почитать правдоподобие; силою своего слова они заставляют малое казаться большим,
b
а большое – малым, новое представляют древним, а древнее – новым, по любому поводу у них наготове то сжатые, то беспредельно пространные речи. Услышав как‑то об этом от меня, Продик рассмеялся и сказал, что лишь он один отыскал,· в чем состоит искусство речей: они не должны быть ни длинными, ни краткими, но в меру.
Федр.
Ты всех умнее, Продик[1072]
!
Сократ.
А о Гиппии[1073]
не будем говорить? Я думаю, что одного с ним взгляда был бы и наш гость из Элей.
Федр.
Наверно.
c
Сократ.
А что нам сказать о словотворчестве Пола – о его удвоениях, изречениях и образных выражениях, обо всех этих словесах Ликимния[1074]
, подаренных Полу для благозвучия?
Федр.
А у Протагора[1075]
, Сократ, разве не было чего‑нибудь в этом же роде?
Сократ.
Какое‑то учение о правильности речи, дитя мое, и много еще хороших вещей. Но в жалобно‑стонущих речах о старости и нужде всех одолели, по‑моему, искусство и мощь халкедонца[1076]
.
d
Он умеет и вызвать гнев толпы, и снова своими чарами укротить разгневанных – так он уверяет. Потому‑то он так силен, когда требуется оклеветать или опровергнуть клевету.
Что же касается заключительной части речей, то у всех, видимо, одно мнение, только одни называют ее сжатым повторением, а другие иначе.
Федр.
Ты говоришь, что под конец нужно в главных чертах напомнить слушателям обо всем сказанном?
Сократ.
Да, по‑моему, так; но не можешь ли ты добавить еще что‑нибудь об искусстве красноречия?
Федр.
Мелочи, о них не стоит говорить.
268
Сократ.
Оставим в стороне мелочи. Лучше вот что рассмотрим при ярком свете дня: как и когда красноречие воздействует своим искусством?
Федр.
Оно действует очень сильно, Сократ, особенно в многолюдных собраниях.
Сократ.
Да, это так. Но, друг мой, взгляни и скажи, не кажется ли тебе, как и мне, что вся основа этой их ткани разлезлась?
Федр.
Объясни, как это.
Сократ.
Скажи‑ка мне, если кто обратится к твоему приятелю Эриксимаху или к его отцу Акумену[1077]
и скажет: «Я умею как‑то так воздействовать на человеческое тело, что оно по моему усмотрению может стать горячим или холодным,
b
а если мне вздумается, я могу вызвать рвоту или понос и многое другое в том же роде. Раз я это умею, я притязаю на то, чтобы быть врачом, и могу сделать врачом и другого, кому я передам это свое умение». Что бы, по‑твоему, сказали Эриксимах или Акумен ему в ответ?
Федр.
Ничего, они бы только спросили, знает ли он вдобавок, к кому, когда и в какой мере следует применять каждое из его средств?
Сократ.
А если бы он сказал: «Ничуть, но я считаю, что мой выученик сам сможет сделать то, о чем ты спрашиваешь».
c
Федр.
Они сказали бы, я думаю, что этот человек не в своем уме: он вычитал кое‑что из книг или случайно ему попались в руки лекарства, и вот он возомнил себя врачом, ничего в этом деле не смысля.
Сократ.
А если бы кто‑нибудь в свою очередь обратился к Софоклу и Еврипиду[1078]
и заявил, что умеет о пустяках сочинять длиннейшие речи, а о чем‑нибудь великом, наоборот, весьма сжатые и по своему желанию делать их то жалостными, то, наоборот, устрашающими, грозными и так далее, а также что он уверен, будто, обучая всему этому, передаст другим умение создавать трагедии?
d
Федр.
И Софокл и Еврипид, думаю я, Сократ, осмеяли бы того, кто считает, будто трагедия не есть сочетание подобных речей, но связных и составляющих единое целое.
Сократ.
Но я думаю, они не стали бы его грубо бранить. Так, знаток музыки при встрече с человеком, считающим себя знатоком гармонии только потому, что он умеет настраивать струну то выше, то ниже, не скажет грубо:
e
«Бедняга, ты, видно, рехнулся», – но, напротив, скажет очень мягко, как подобает человеку, причастному музыке: «Уважаемый, конечно, и это необходимо уметь тому, кто собирается заняться гармонией, но это не исключает того, что человек в твоем положении нимало не смыслит в гармонии: у тебя есть необходимые предварительные сведения по гармонии, но самой гармонии ты не знаешь».
Федр.
Совершенно верно.
269
Сократ.
Значит, и Софокл сказал бы тому, кто захотел бы блеснуть перед ними, что это всего лишь подступы к трагедии, а не трагическое искусство; и Акумен сказал бы, что здесь лишь подступы к врачеванию, а не само искусство.
Федр.
Разумеется.
Сократ.
А что, по нашему мнению, сделал бы сладкоречивый Адраст или хотя бы Перикл[1079]
, если бы они услыхали о только что упомянутых нами замечательных ухищрениях – о краткости, об образном способе выражения и так далее, что, как мы сказали, надо рассматривать при ярком свете дня?
b
Не были бы они раздосадованы, как мы с тобой, и не вырвалось бы у них, по неотесанности, неучтивое слово в отношении тех, кто все это пишет и учит этому под видом искусства красноречия. Или, может быть, – они ведь умнее нас – только бы нас упрекнули, сказавши: «Нечего сердиться, Федр и Сократ, надо отнестись снисходительно, если люди, не умеющие рассуждать, не способны определить, что такое искусство красноречия. Из‑за этого они, обладая лишь необходимыми предварительными сведениями, считают, будто изобрели ораторское искусство
c
и, когда преподают его другим, уверены, что передают им совершенное искусство красноречия. А говорить о каждом предмете убедительно и сочетать все в одно целое, это, по их мнению, нетрудно, и ученики сами собой должны достичь этого в своих речах».
Федр.
Ведь действительно, Сократ, именно таково искусство, которому под видом красноречия обучают эти люди и о котором они пишут.
d
Мне кажется, ты верно сказал. Но как и откуда можно научиться искусству подлинного и убедительного красноречия?
Сократ.
С этой возможностью, Федр, как и с возможностью стать совершенным борцом, дело обстоит, вероятно, – а может быть, и необходимо, – так же, как и со всем остальным: если у тебя есть природные задатки оратора, ты станешь выдающимся оратором, приложив к этому знания и упражнения. В чем из этого у тебя окажется недостаток, то и будет твоим слабым местом. Сколько здесь от искусства – ясно, по‑моему, из нашего рассмотрения, но это не обнаружится на том пути, которым следуют Лисий и Фрасимах.
Федр.
А на каком же?
e
Сократ.
Видимо, друг мой, не случайно Перикл всех превзошел в красноречии.
Федр.
Почему же?
Сократ.
Сколько ни есть великих искусств, все они, кроме того, нуждаются в тщательном исследовании природы вещей возвышенных.
270
Отсюда, видимо, как‑то и проистекает высокий образ мыслей и совершенство во всем. Этим и обладает Перикл кроме своей природной одаренности. Сблизившись с Анаксагором[1080]
, человеком, по‑моему, как раз такого склада, Перикл преисполнился познания возвышенного и постиг природу ума и мышления, о чем Анаксагор часто вел речь; отсюда Перикл извлек пользу и для искусства красноречия.
Федр.
Как ты это понимаешь?
b
Сократ.
Пожалуй, в искусстве врачевания те же самые приемы, что и в искусстве красноречия.
Федр.
Как так?
Сократ.
И тут и там нужно разбираться в природе, в одном случае – тела, в другом – души, если ты намерен пользоваться не навыком и опытом, а искусством, применяя в первом случае лекарства и питание для восстановления здоровья и сил, а во втором – беседы и надлежащие занятия, чтобы привить желательное умение убеждать и добродетель.
Федр.
Наверно, это так, Сократ.
c
Сократ.
Думаешь ли ты, что можно достойным образом постичь природу души, не постигнув природы целого?
Федр.
Если должно в чем‑то верить Асклепиаду Гиппократу[1081]
, то даже природу тела нельзя постигнуть иным путем.
Сократ.
Это он прекрасно говорит, друг мой. Однако кроме Гиппократа надо еще обратиться к разуму и посмотреть, согласен ли он с Гиппократом.
Федр.
Я полагаю.
Сократ.
Итак, посмотри, что говорит о природе Гиппократ, а что – истинный разум. Разве не так следует мыслить о природе любой вещи:
d
прежде всего, простая ли это вещь – то, в чем мы и сами хотели бы стать искусными и других умели бы делать такими, или она многовидна; затем, если это простая вещь, надо рассмотреть ее способности: на что и как она по своей природе может воздействовать или, наоборот, что и как может воздействовать на нее? Если же есть много ее видов, то надо их сосчитать и посмотреть свойства каждого (так же как в том случае, когда она едина): на что и как каждый вид может по своей природе воздействовать и что и как может воздействовать на него.
Федр.
Пожалуй, это так, Сократ.
Сократ.
Иначе рассмотрение походило бы на блуждание слепого.
e
А тому, кто причастен искусству, никак нельзя уподобляться слепому или глухому. Ясно, что, кто по правилам искусства наставляет другого в сочинении речей, тот в точности покажет сущность природы того, к чему обращена речь, – а это будет душа.
Федр.
Конечно. И что же?
271
Сократ.
И все его усилия направлены на это – ведь именно душу старается он убедить. Не так ли?
Федр.
Да.
Сократ.
Значит, ясно, что Фрасимах или кто другой, если он всерьез преподает ораторское искусство, прежде всего со всей тщательностью будет писать о душе и наглядно покажет, едина и единообразна ли она по своей природе или же у нее много видов, соответственно сложению тела. Это мы и называем показать природу [какой‑либо вещи].
Федр.
Совершенно верно.
Сократ.
Во‑вторых, он укажет, на что и как душа по своей природе воздействует и что и как воздействует на нее.
Федр.
И дальше?
b
Сократ.
В‑третьих, стройно расположив виды речей и души и их состояния, он разберет все причины, установит соответствие каждого [вида речи] каждому [виду души] и научит, какую душу какими речами и по какой причине непременно удастся убедить, а какую – нет.
Федр.
Это было бы, верно, очень хорошо.
Сократ.
Право же, друг мой, если объяснять или излагать иначе, то ни этого и вообще никогда ничего не удастся изложить ни устно, ни письменно в соответствии с правилами искусства.
c
А те, кого ты слушал, эти нынешние составители руководств по искусству речи, они плуты и только скрывают, что отлично знают человеческую душу. Так что пока они не станут говорить и писать именно этим способом, мы не поверим им, что их руководства написаны по правилам искусства.
Федр.
Какой способ ты имеешь в виду?
Сократ.
Здесь нелегко подобрать точные выражения, но я хочу указать, как надо писать, чтобы это, насколько возможно, было сделано по правилам искусства.
Федр.
Так укажи.
d
Сократ.
Поскольку сила речи заключается в воздействии на душу, тому, кто собирается стать оратором, необходимо знать, сколько видов имеет душа: их столько‑то и столько‑то, они такие‑то и такие‑то, поэтому слушатели бывают такими‑то и такими‑то. Когда это должным образом разобрано, тогда устанавливается, что есть столько‑то и столько‑то видов речей и каждый из них такой‑то. Таких‑то слушателей по такой‑то причине легко убедить в том‑то и том‑то такими‑то речами, а такие‑то потому‑то и потому‑то с трудом поддаются убеждению.
e
Кто достаточно все это продумал, тот затем наблюдает, как это осуществляется и применяется на деле, причем он должен уметь остро воспринимать и прослеживать, иначе он не прибавит ничего к тому, что он еще раньше слышал, изучая красноречие. Когда же он будет способен определять, какими речами какой человек даст себя убедить, тогда при встрече с таким человеком он сможет распознать его и дать себе отчет, что вот как раз тот человек и та природа, о которой прежде шла речь.
272
Теперь она на самом деле предстала перед ним, и к ней надо вот так применить такие‑то речи, чтобы убедить ее в том‑то. Сообразив все это, он должен учесть время, когда ему удобнее говорить, а когда и воздержаться: все изученные им виды речей – сжатую речь, или жалостливую, или возбуждающую – ему следует применять вовремя и кстати: только тогда, и никак не ранее, его искусство будет разработано прекрасно и совершенно.
b
Если же, произнося речь, сочиняя или обучая, он упустит хоть что‑нибудь из этого, а между тем станет утверждать, что придерживается правил искусства, прав будет тот, кто ему не поверит. «Что же, Федр и Сократ, – скажет, пожалуй, такой сочинитель, – таково ваше мнение? А разве нельзя как‑нибудь иначе понимать то, что называют искусством красноречия?»
Федр.
Невозможно иначе, Сократ, хотя дело это, видимо, не малое.
Сократ.
Ты прав. Именно поэтому нужно, поворачивая каждую речь то так, то этак, смотреть, не найдется ли какой‑нибудь более легкий и короткий путь к искусству красноречия,
c
чтобы не идти понапрасну долгим и тернистым путем, когда можно избрать короткий и ровный. Если же ты, слушавший Лисия и других, можешь оказать нам какую‑то помощь, то попытайся припомнить и изложить то, что ты слышал.
Федр.
Можно было бы попытаться, но сейчас я не расположен.
Сократ.
Хочешь, я скажу тебе одну вещь, которую слышал от тех, кто занимается этим делом?
Федр.
Что именно?
Сократ.
Есть же поговорка, Федр, что стоит иногда повторить и слова волка[1082]
.
d
Федр.
Так ты это и сделай.
Сократ.
Итак, они утверждают, что в этом деле вовсе не надо заноситься так высоко и пускаться в длинные рассуждения. По их мнению, – и как мы уже сказали в начале этого рассуждения, – тому, кто собирается стать хорошим оратором, совершенно излишне иметь истинное представление о справедливых и хороших делах или о людях, справедливых и хороших по природе либо по воспитанию. В судах решительно никому нет никакого дела до истины, важна только убедительность.
e
А она состоит в правдоподобии, на чем и должен сосредоточить свое внимание тот, кто хочет произнести искусную речь. Иной раз в защитительной и обвинительной речи даже следует умолчать о том, что было в действительности, если это неправдоподобно, и говорить только о правдоподобном: оратор изо всех сил должен гнаться за правдоподобием, зачастую распрощавшись с истиной. Провести это через всю речь – вот в чем и будет состоять все искусство.
273
Федр.
Ты, Сократ, как раз коснулся того, что говорят люди, выдающие себя за знатоков красноречия. Припоминаю, что мы с тобой и раньше мимоходом касались этого, а ведь это очень важно для всех, кто занимается таким делом.
Сократ.
Но ты тщательно изучил самого Тисия, так пусть Тисий нам и скажет, согласен ли он с большинством относительно того, что такое правдоподобие.
b
Федр.
Как он может быть не согласен?
Сократ.
Вот какой случай Тисий, по‑видимому, умно придумал и искусно описал: если слабосильный, но храбрый человек побьет сильного, но трусливого, отнимет у него плащ или еще что‑нибудь, то, когда их вызовут в суд, ни одному из них нельзя говорить правду: трусу не следует признаваться, что его избил один человек, оказавшийся храбрецом. Тому же надо доказывать, что они встретились один на один,
c
и напирать на такой довод: «Как же я, вот такой, мог напасть на такого?» Сильный не признается в своей трусости, но попытается что‑нибудь соврать и тем самым, возможно, даст своему противнику повод его уличить. И в других случаях бывают искусные речи в таком же роде. Разве не так, Федр?
Федр.
Ну и что же?
Сократ.
Ох, и ловко же прикрытое искусство изобрел Тисий или кто бы там ни был другой и как бы он ни назывался! Но, друг мой, сказать ли нам ему или нет…
d
Федр.
Что?
Сократ.
А вот что: «Мы, Тисий, задолго до твоего появления говорили, бывало, что большинству людей правдоподобным кажется то, что подобно истине. А вот сейчас мы разбирали разные случаи подобия и показали, что лучше всего умеет его находить всюду тот, кто знает истину. Так что, если ты утверждаешь что‑нибудь новое относительно искусства красноречия, мы послушаем, если же нет, мы останемся при убеждении, к которому привело нас наше исследование:
e
кто не учтет природные качества своих будущих слушателей, кто не сумеет различать существующее по видам и охватывать одной идеей все единичное, тот никогда не овладеет искусством красноречия настолько, насколько это возможно для человека.
Достичь этого без усилий нельзя, и человек рассудительный предпримет такой труд не ради того, чтобы говорить и иметь дело с людьми, а для того, чтобы быть в состоянии говорить угодное богам и по мере сил своих делать все так, чтобы им это было угодно. Ведь те, кто мудрее нас с тобой, Тисий, утверждают, что человек, обладающий умом, должен заботиться о том,
274
как бы угодить не товарищам по рабству – им разве лишь между прочим, – но своим благим владыкам, потомкам благих родителей. Поэтому, если путь долог[1083]
, не удивляйся: ради великой цели надо его пройти, а вовсе не так, как ты себе представляешь. Сбудется, гласит поговорка, если кто пожелает, и это будет прекраснейший плод тех усилий».
Федр.
Прекрасно, по‑моему, сказано, Сократ, если только это кому‑то по силам.
Сократ.
Но ведь если что и придется претерпеть, взявшись за прекрасное дело, это тоже будет прекрасно.
b
Федр.
Конечно.
Сократ.
Ну что ж, довольно говорить об искусном и неискусном составлении речей!
Федр.
Пожалуй.
Сократ.
Остается разобрать, подобает ли записывать речи или нет, чем это хорошо, а чем не годится. Не так ли?
Федр.
Да.
Сократ.
Относительно речей знаешь ли ты, как всего более угодить богу делом или словом?
Федр.
Нет, а ты?
c
Сократ.
Я могу только передать, что об этом слышали наши предки, они‑то знали, правда ли это. Если бы мы сами могли доискаться до этого, разве нам было бы дело до человеческих предположений?
Федр.
Смешной вопрос! Но скажи, что ты, по твоим словам, слышал.
Сократ.
Так вот, я слышал, что близ египетского Навкратиса[1084]
родился один из древних тамошних богов, которому посвящена птица, называемая ибисом. А самому божеству имя было Тевт[1085]
.
d
Он первый изобрел число, счет, геометрию, астрономию, вдобавок игру в шашки и в кости, а также и письмена. Царем над всем Египтом был тогда Тамус, правивший в великом городе верхней области, который греки называют египетскими Фивами, а его бога – Аммоном[1086]
. Придя к царю, Тевт показал свои искусства и сказал, что их надо передать остальным египтянам. Царь спросил, какую пользу приносит каждое из них. Тевт стал объяснять, а царь, смотря по тому, говорил ли Тевт, по его мнению, хорошо или нет, кое‑что порицал, а кое‑что хвалил.
e
По поводу каждого искусства Тамус, как передают, много высказал Тевту хорошего и дурного, но это было бы слишком долго рассказывать. Когда же дошел черед до письмен, Тевт сказал: «Эта наука, царь, сделает египтян более мудрыми и памятливыми, так как найдено средство для памяти и мудрости». Царь же сказал: «Искуснейший Тевт, один способен порождать предметы искусства, а другой – судить, какая в них доля вреда или выгоды для тех, кто будет ими пользоваться.
275
Вот и сейчас ты, отец письмен, из любви к ним придал им прямо противоположное значение. В души научившихся им они вселят забывчивость, так как будет лишена упражнения память: припоминать станут извне, доверяясь письму, по посторонним знакам, а не изнутри, сами собою. Стало быть, ты нашел средство не для памяти, а для припоминания. Ты даешь ученикам мнимую, а не истинную мудрость. Они у тебя будут многое знать понаслышке, без обучения,
b
и будут казаться многознающими, оставаясь в большинстве невеждами, людьми трудными для общения; они станут мнимомудрыми вместо мудрых».
Федр.
Ты, Сократ, легко сочиняешь египетские и какие тебе угодно сказания.
Сократ.
Рассказывали же жрецы Зевса Додонского[1087]
, что слова дуба были первыми прорицаниями. Людям тех времен, – ведь они не были так умны, как вы, нынешние, – было довольно, по их простоте, слушать дуб или скалу, лишь бы только те говорили правду.
c
А для тебя, наверное, важно, кто это говорит и откуда он, ведь ты смотришь не только на то, так ли все на самом деле или иначе.
Федр.
Ты правильно меня упрекнул, а с письменами, видно, так оно и есть, как говорит тот фиванец.
Сократ.
Значит, и тот, кто рассчитывает запечатлеть в письменах свое искусство и кто в свою очередь черпает его из письмен, потому что оно будто бы надежно и прочно сохраняется там на будущее, – оба преисполнены простодушия и, в сущности, не знают прорицания Аммона,
d
раз они записанную речь ставят выше, чем напоминание со стороны человека, сведущего в том, что записано.
Федр.
Это очень верно.
Сократ.
В этом, Федр, дурная особенность письменности, поистине сходной с живописью: ее порождения стоят, как живые, а спроси их – они величаво и гордо молчат. То же самое и с сочинениями: думаешь, будто они говорят как разумные существа, но если кто спросит о чем‑нибудь из того, что они говорят, желая это усвоить, они всегда отвечают одно и то же. Всякое сочинение, однажды записанное, находится в обращении везде –
e
и у людей понимающих, и равным образом у тех, кому вовсе не подобает его читать, и оно не знает, с кем оно должно говорить, а с кем нет. Если им пренебрегают или несправедливо его ругают, оно нуждается в помощи своего отца, само же не способно ни защититься, ни помочь себе.
Федр.
И это ты говоришь очень верно.
276
Сократ.
Что же, не взглянуть ли нам, как возникает другое сочинение, родной брат первого, и насколько оно по своей природе лучше того и могущественнее?
Федр.
Что же это за сочинение и как оно, по‑твоему, возникает?
Сократ.
Это то сочинение, которое по мере приобретения знаний пишется в душе обучающегося; оно способно себя защитить и при этом умеет говорить с кем следует, умеет и промолчать.
Федр.
Ты говоришь о живой и одушевленной речи знающего человека, отображением которой справедливо можно назвать письменную речь?
b
Сократ.
Совершенно верно. Скажи мне вот что: разве станет разумный земледелец, радеющий о посеве и желающий получить урожай, всерьез возделывать летом сады Адониса ради удовольствия восемь дней любоваться хорошими всходами[1088]
? Если он и делает это иной раз, то только для забавы, ради праздника. А всерьез он сеет, где надлежит, применяя земледельческое искусство, и бывает доволен, когда на восьмой месяц созреет его посев.
c
Федр.
Конечно, Сократ, одно он будет делать всерьез, а другое – только так, как ты говоришь.
Сократ.
А человек, обладающий знанием справедливого, прекрасного, благого, – что же он. по‑нашему, меньше земледельца заботится о своем посеве?
Федр.
Ни в коем случае.
Сократ.
Значит, он не станет всерьез писать по воде чернилами, сея при помощи тростниковой палочки сочинения, не способные помочь себе словом и должным образом научить истине.
Федр.
Это было бы невероятно.
d
Сократ.
Конечно. Но вероятно, ради забавы он засеет сады письмен и станет писать; ведь когда он пишет, он накапливает запас воспоминаний для себя самого на то время, когда наступит старость – возраст забвенья, да и для всякого, кто пойдет по его следам; и он порадуется при виде нежных всходов. Между тем как другие люди предаются иным развлечениям, упиваясь пиршествами и тому подобными забавами, он вместо этого будет, вероятно, проводить время в тех развлечениях, о которых я говорю.
e
Федр.
Забава, о которой ты говоришь, Сократ, прекрасна в сравнении с теми низкими развлечениями: ведь она доступна только тому, кто умеет, забавляясь сочинением, повествовать о справедливости и обо всем прочем, что ты упоминал.
Сократ.
Так‑то это так, милый Федр, но еще лучше, по‑моему, станут такие занятия, если пользоваться искусством диалектики: взяв подходящую душу, такой человек со знанием дела насаждает и сеет в ней речи, способные помочь и самим себе и сеятелю,
277
ибо они не бесплодны, в них есть семя, которое родит новые речи в душах других людей, способные сделать это семя навеки бессмертным, а его обладателя счастливым настолько, насколько может быть человек.
Федр.
То, что ты сейчас говоришь, еще лучше.
Сократ.
Теперь, Федр, раз мы с этим согласны, мы уже можем судить и о том…
Федр.
О чем?
Сократ.
Да о том, что мы хотели рассмотреть и что привело нас к только что сказанному: надо рассмотреть упрек, сделанный нами Лисию
b
за то, что он пишет речи, да и сами речи – какие из них написаны искусно, а какие нет. А что соответствует правилам искусства и что нет, как мне кажется, уже достаточно выяснено.
Федр.
Да, кажется, но напомни, как именно.
Сократ.
Прежде всего надо познать истину относительно любой вещи, о которой говоришь или пишешь; суметь определить все соответственно с этой истиной, а дав определение, знать, как дальше подразделить это на виды, вплоть до того, что не поддается делению. Природу души надо рассматривать точно так же, отыскивая вид речи,
c
соответствующий каждому природному складу, и таким образом строить и упорядочивать свою речь; к сложной душе надо обращаться со сложными, разнообразными речами, а к простой душе – с простыми. Без этого невозможно искусно, насколько это позволяет природа, овладеть всем родом речей – ни теми, что предназначены учить, ни теми – что убеждать, как показало все наше предшествующее рассуждение.
Федр.
Да, это стало вполне очевидным.
d
Сократ.
А прекрасно или постыдно произносить а и записывать речи, и когда это дело по праву заслуживает порицания, а когда – нет, разве не выяснило сказанное несколько раньше?
Федр.
А что было сказано?
Сократ.
Если Лисий или кто другой когда‑либо написал или напишет для частных лиц либо для общества сочинение, касающееся гражданского устройства, и будет считать, что там все ясно и верно обосновано, такой писатель заслуживает порицания, все равно – выскажет его кто‑нибудь или нет.
e
Во сне ли или наяву быть в неведении относительно справедливости и несправедливости, зла и блага – это и впрямь не может не вызвать порицания, хотя бы толпа и превозносила такого человека.
Федр.
Конечно, не может.
Сократ.
Кто же считает, что в речи, написанной на любую тему, неизбежно будет много развлекательного и что никогда еще не было написано или произнесено ни одной речи, в стихах ли или нет, которая заслуживала бы серьезного отношения (ведь речи произносят подобно сказам рапсодов, то есть без исследования и поучения, имеющего целью убеждать; в сущности, лучшее, что у
278
них есть, рапсоды[1089]
знают наизусть), – так вот, такой человек находит, что только в речах назидательных, произносимых ради поучения и воистину начертываемых в душе, в речах о справедливости, красоте и благе есть ясность и совершенство, стоящие стараний. О таких речах он скажет, что они словно родные его сыновья, – прежде всего о той,
b
которую он изобрел сам, затем о ее ь потомках и братьях, заслуженно возникших в душах других людей. А с остальными сочинениями он распростится. Вот тот человек, Федр, каким мы с тобой оба желали бы стать.
Федр.
Я очень хочу того же и молюсь об этом.
Сократ.
Так довольно нам развлекаться рассуждением о речах. А ты пойди и сообщи Лисию, что мы с тобой, сойдя к источнику нимф и в святилище Муз, услыхали там голоса,
c
которые поручили нам сказать Лисию и всякому другому, кто сочиняет речи, да и Гомеру и всякому другому, кто слагал стихи для пения и не для пения, а в‑третьих, и Солону и всякому, кто писал сочинения, касающиеся гражданского устройства, в виде речей и назвал эти речи законами: если такой человек составил свои произведения, зная, в чем заключается истина, и может защитить их, когда кто‑нибудь станет их проверять, и если он сам способен устно указать слабые стороны того, что написал,
d
то такого человека следует называть не по его сочинениям, а по той цели, к которой были направлены его старания.
Федр.
Как же ты предлагаешь его называть?
Сократ.
Название мудреца, Федр, по‑моему, для него слишком громко и пристало только богу. Любитель мудрости – философ или что‑нибудь в этом роде – вот что больше ему подходит и более ладно звучит.
Федр.
Да, это очень подходит.
Сократ.
А значит, того, кто не обладает чем‑нибудь более ценным, чем то, что он сочинил или написал, кто долго вертел свое произведение то так то этак,
e
то склеивая его части, то их уничтожая, ты по справедливости назовешь либо поэтом, либо составителем речей или законов?
Федр.
Конечно.
Сократ.
Это вот ты и сообщи своему приятелю.
Федр.
А ты? Как ты поступишь? Нельзя ведь обойти и твоего приятеля.
Сократ.
Какого?
Федр.
Красавца Исократа[1090]
. Ему ты что объявишь, Сократ? Как нам его назвать?
279
Сократ.
Исократ еще молод, Федр, но мне хочется сказать, что я предвижу для него.
Федр.
Что же?
Сократ.
Мне кажется, что по своим природным задаткам он выше Лисия с его речами, да и по своему душевному складу он благороднее. Поэтому не будет ничего удивительного, если, повзрослев, он в речах – пока что он только пробует в них силы – превзойдет всех, когда‑либо ими занимавшихся, больше, чем теперь превосходит всех юношей. Кроме того, если он не удовлетворится этим, какой‑то божественный порыв увлечет его к еще большему. В разуме этого человека, друг мой, природой заложена какая‑то любовь к мудрости.
b
Вот что объявляю я от имени здешних богов моему любимцу Исократу, а ты объяви то, что было сказано, Лисию, раз уж он твой любимец.
Федр.
Так и будет. Но пойдем, жара уже спала.
Сократ.
Разве не следует помолиться перед уходом?
Федр.
Конечно, надо.
Сократ.
Милый Пан и другие здешние боги, дайте мне стать внутренне прекрасным[1091]
! А то, что у меня есть извне, пусть будет дружественно тому, что у меня внутри.
c
Богатым пусть я считаю мудрого, а груд золота пусть у меня будет столько, сколько ни унести, ни увезти никому, кроме человека рассудительного. Просить ли еще о чем‑нибудь, Федр? Но мне, такой молитвы достаточно.
Федр.
Присоедини и от меня ту же молитву. Ведь у друзей все общее[1092]
.
Сократ.
Пойдем.
Перевод А. Н. Егунова.
В кн.: Платон. Собр. соч. в 4‑х томах. Том 2. М.: «Мысль», 1993
XXII. ТЕЭТЕТ
Евклид, Терпсион, Сократ, Феодор, Теэтет
142
Евклид.
Ты только что из деревни, Терпсион, или уже давно?
Терпсион.
Пожалуй, давно. А ведь я тебя искал на площади и все удивлялся, что не мог найти.
Евклид.
Меня не было в городе.
Терпсион.
А где же ты был?
Евклид.
Я заходил в гавань, а туда как раз привезли Теэтета по пути из Коринфского лагеря[1093]
в Афины.
Терпсион.
Привезли? Живого или мертвого?
b
Евклид.
Живого, но еле‑еле. Он очень плох – и от многих ран, и еще больше оттого, что его сломила эта новая болезнь, вспыхнувшая в войске.
Терпсион.
Уж не дизентерия ли?
Евклид.
Да.
Терпсион.
Что ты говоришь? Какой человек под угрозой!
Евклид.
Безупречный человек, Терпсион. Вот и сейчас я только что слышал, как многие высоко превозносили его военные доблести.
Терпсион.
Ничего странного, было бы гораздо удивительнее, если бы он был не таков. Но что же он с не остановился здесь, в Мегарах?
c
Евклид.
Он торопился домой. Я‑то уж, разумеется, и просил его и увещевал всячески, но он не захотел. И вот, уже проводив его и возвращаясь назад, я вспомнил и удивился, как пророчески говорил Сократ кроме всего прочего и об этом человеке. Кажется, незадолго до своей смерти Сократу случилось встретиться с ним, тогда еще подростком; так вот, общаясь и беседуя с ним, он приходил в большой восторг от его одаренности.
d
Когда я был в Афинах, Сократ слово в слово передал мне те беседы, которые он вел с ним, – весьма достойные внимания – и, между прочим, сказал, что, судя по всему, этот мальчик непременно прославится, коли достигнет зрелого возраста.
Терпсион.
Он был прав, как видно. Однако что это были за беседы? Ты не мог бы их пересказать?
Евклид.
Так вот, наизусть, клянусь Зевсом, конечно, нет. Но я записал все это по памяти тогда же, сразу по приезде домой.
143
Впоследствии, вспоминая на досуге что‑то еще, я вписывал это в книгу, и к тому же всякий раз, бывая в Афинах, я снова спрашивал у Сократа то, чего не помнил, а дома исправлял. Так что у меня теперь записан почти весь этот разговор.
Терпсион.
Да, я уже и прежде слышал это от тебя и, признаюсь, всегда задерживался здесь именно с намерением попросить тебя показать эти записи. Послушай, а что мешает нам проделать это теперь? Я пришел из деревни и как раз мог бы отдохнуть.
b
Евклид.
Да ведь и я проводил Теэтета до самого Эрина[1094]
, так что тоже отдохнул бы не без удовольствия. Однако пойдем, и, пока мы будем отдыхать, этот вот мальчик нам почитает.
Терпсион.
Правильно.
Евклид.
Вот эта рукопись, Терпсион. Весь разговор я записал не так, будто Сократ мне его пересказывает, а так. как если бы он сам разговаривал с тем, кто был при этой беседе. По его словам, это были геометр Феодор и Теэтет.
c
А чтобы в записи не мешали такие разъяснения, как: «а я заметил» или «на это я сказал», – когда говорит Сократ, либо о собеседнике: «он подтвердил» или «он не согласился», – я написал так, будто они просто беседуют сами между собой, а всякие подобные пометки убрал.
Терпсион.
Да, так это и делается, Евклид.
Евклид.
Ну, мальчик, возьми книгу и читай.
Сократ.
Если бы меня особенно заботила Кирена[1095]
, Феодор, я бы расспросил тебя и о ней и о ее жителях,
d
например есть ли там среди юношей кто‑нибудь, кто бы ревностно предавался геометрии или какой‑нибудь другой премудрости. Но я люблю их меньше, чем вот этих, и более желал бы знать, какие юноши здесь у нас подают надежды. Я и сам слежу за этим, сколько могу, и спрашиваю у других, с кем, как я вижу, молодые люди охотно общаются. А ведь к тебе далеко не мало их приходит, да это и справедливо: кроме прочих достоинств их привлекает твоя геометрия.
e
И я узнал бы с удовольствием, не попадался ли тебе кто‑то заслуживающий внимания.
Феодор.
Да, Сократ, мне не стыдно сказать, а тебе, я думаю, услышать, какого подростка встретил я среди ваших граждан. И если бы он был хорош собой, то я, пожалуй, побоялся бы говорить слишком пылко, чтобы не показалось, будто я неравнодушен к нему: нет, в самом деле, не укоряй меня – он не то чтобы прекрасной наружности и скорее даже похож на тебя своим вздернутым носом и глазами навыкате, разве что черты эти у него не так выражены. Поэтому я говорю без страха.
144
Знай же, что из всех, кого я когда‑либо встречал – а приходили ко мне многие, – ни в ком не замечал я таких удивительно счастливых задатков. С легкостью усваивать то, что иному трудно, а с другой стороны, быть кротким, не уступая вместе с тем никому в мужестве, – я не думал, что такое вообще может случаться, да и не вижу таких людей. Действительно, в ком столь же остры ум, сообразительность и память, как у этого юноши, те по большей части впечатлительны и норовисты, они носятся стремительно, как порожние триеры,
b
и по природе своей скорее неистовы, чем мужественны; а более уравновешенные, те как‑то вяло подходят к учению, их отягощает забывчивость. Этот же подходит к учению и любому исследованию легко, плавно и верно, так спокойно, словно бесшумно вытекающее масло, – и я удивляюсь, как в таком возрасте можно этого достичь.
Сократ.
Отрадно слышать. У кого же из граждан такой сын?
c
Феодор.
Имя‑то я слышал, да не помню. Но вот подходят юноши – средний, я вижу, как раз наш, а с ним его товарищи – только что они вместе натирались маслом там, в портике[1096]
, а теперь, натеревшись, они, по‑моему, идут сюда. Посмотри же, не узнаешь ли ты его.
Сократ.
Узнаю. Это сын сунийца[1097]
Евфрония, человека как раз такого, друг мой, каким ты описал мне этого юношу; к тому же тот был человек весьма уважаемый и оставил очень большое состояние. А вот имени мальчика я не знаю.
d
Феодор.
Его зовут Теэтет, Сократ! Что же до состояния, то, кажется, его расстроили всевозможные опекуны. Впрочем, щедрость и благородство в денежных делах – также одно из удивительных свойств этого юноши.
Сократ.
Судя по твоим словам, это благородный человек. Вели ему присесть здесь с нами.
Феодор.
Будь по‑твоему. Теэтет, подойди‑ка сюда, к Сократу.
Сократ.
Это для того, Теэтет, чтобы я мог разглядеть самого себя – что за лицо у меня. Дело в том, что Феодор говорит, будто я на тебя похож.
e
Впрочем, если бы у нас с тобой в руках были лиры, а он бы сказал, что они одинаково настроены, то поверили бы мы ему сразу же или еще посмотрели бы, знает ли он музыку, чтобы так говорить?
Теэтет.
Посмотрели бы.
Сократ.
И если бы нашли, что знает, то поверили бы? А если бы нашли, что к Музам он не причастен, то нет?
Теэтет.
Верно.
145
Сократ.
Так и теперь, полагаю, если подобие лиц хоть сколько‑нибудь нас занимает, следует посмотреть, живописец ли тот, кто это утверждает, или нет.
Теэтет.
По‑моему, да.
Сократ.
А Феодор – живописец?
Теэтет.
Нет, насколько я знаю.
Сократ.
И не геометр?
Теэтет.
Как раз геометр, Сократ.
Сократ.
И знает астрономию, счет, музыку и все то, что нужно для образования?
Теэтет.
Мне кажется, да.
Сократ.
Значит, если он утверждает, что мы схожи какими‑то свойствами тела, – в похвалу ли он это говорит или в порицание, – то вовсе не стоит принимать это во внимание.
Теэтет.
Пожалуй, нет.
b
Сократ.
А если он чью‑то душу похвалит за добродетель и мудрость? Не стоит ли его слушателю приглядеться к тому, кого он похвалил, а последнему в свою очередь постараться показать себя?
Теэтет.
Конечно же стоит.
Сократ.
В таком случае, любезный Теэтет, самое время тебе показать себя, а мне – посмотреть, потому что, признаюсь, Феодор многих хвалил мне и в нашем городе и в чужих городах, но никого никогда не хвалил он так, как сегодня тебя.
Теэтет.
Ах, если бы так! Но не в шутку ли он это говорил, Сократ?
c
Сократ.
Ну, это не похоже на Феодора. Однако, хотя бы ты даже и подозревал, что он шутит, все же от своего обещания теперь не отступай, чтобы не принуждать его к присяге, – ведь его еще ни разу не уличили во лжесвидетельстве. Ты же смело оставайся при своем решении.
Теэтет.
Что же, придется так и сделать, раз ты настаиваешь.
Сократ.
Вот и скажи мне, ты учишься у Феодора геометрии?
Теэтет.
Я – да.
d
Сократ.
И астрономии, и гармонии, и счету?
Теэтет.
Стараюсь, по крайней мере.
Сократ.
Вот и я тоже, мой мальчик, стараюсь учиться и у него и у других, кого считаю знатоками таких вещей. Что‑то я уже знаю в достаточной мере, а вот одна малость приводит меня в затруднение, и я хотел бы рассмотреть это вместе с тобой и твоими друзьями. Вот скажи мне, учиться – это значит становиться мудрее в том деле, которому учишься?
Теэтет.
А разве нет?
Сократ.
А мудрецы, я думаю, мудры благодаря мудрости?
Теэтет.
Да.
e
Сократ.
А это отличается чем‑то от знания?
Теэтет.
Что именно?
Сократ.
Мудрость. Разве мудрецы – не знатоки чего‑то?
Теэтет.
Что ты имеешь в виду?
Сократ.
Одно ли и то же знание и мудрость?
Теэтет.
Да.
Сократ.
Вот это как раз и приводит меня в затруднение, и я не вполне способен сам разобраться, что же такое знание. Нет ли у вас желания потолковать об этом?
146
Что скажете? Кто из вас ответил бы первым? Если он ошибется – да и всякий, кто ошибется, – пусть сидит на осле, как это называется у детей при игре в мяч[1098]
. А тот, кто победит, ни разу не ошибившись, тот будет нашим царем и сможет задавать вопросы по своему усмотрению. Что же вы молчите? Или я веду себя дико, Феодор? Так ведь сам я люблю беседу, а потому и вас стараюсь заставить разговориться и получить удовольствие от беседы друг с другом.
b
Феодор.
Нет, Сократ. Вовсе не дико. Но все‑таки ты сам вели кому‑нибудь из мальчиков отвечать тебе. Я‑то к такой беседе не привык и уже не в том возрасте, чтобы привыкать. А им как раз следует преуспеть в этом и еще во многом другом. Ведь правда, что молодым все дается. Поэтому, уж как ты начал с Теэтета, так и не отпускай его и ему задавай свои вопросы. Знание частное и общее
c
Сократ.
Ты слышишь, Теэтет, что говорит Феодор? Ослушаться его, я думаю, ты не захочешь. Нельзя ведь, чтобы младший не повиновался наставлениям мудрого мужа. Поэтому скажи честно и благородно, что, по‑твоему, есть знание?
Теэтет.
Мне некуда деваться, Сократ, раз уж вы велите отвечать. Но уж если я в чем ошибусь, вы меня поправите.
Сократ.
Разумеется, если только сможем.
Теэтет.
Итак, мне кажется, что и то, чему кто‑то может научиться у Феодора, – геометрия и прочее, что ты только что перечислял, – есть знания и, с другой стороны, ремесло сапожника и других ремесленников – все они и каждое из них есть не что иное, как знание.
d
Сократ.
Вот благородный и щедрый ответ, друг мой! Спросили у тебя одну вещь, а ты даешь мне много замысловатых вещей вместо одной простой.
Теэтет.
Что ты хочешь этим сказать, Сократ?
Сократ.
Может статься, и ничего, но все же я попытаюсь разъяснить, что я думаю. Когда ты называешь сапожное ремесло, ты имеешь в виду знание того, как изготовлять обувь?
Теэтет.
Да, именно это.
e
Сократ.
А когда ты называешь плотницкое ремесло? Конечно, знание того, как изготовлять деревянную утварь?
Теэтет.
Не что иное и в этом случае.
Сократ.
А не определяешь ли ты в обоих случаях то, о чем бывает знание?
Теэтет.
Ну да.
Сократ.
А ведь вопрос был не в том, о чем бывает знание или сколько бывает знаний. Ведь мы задались этим вопросом не с тем, чтобы пересчитать их, но чтобы узнать, что такое знание само по себе. Или я говорю пустое?
Теэтет.
Нет, ты совершенно прав.
147
Сократ.
Взгляни же еще вот на что. Если бы кто‑то спросил нас о самом простом и обыденном, например о глине – что это такое, а мы бы ответили ему, что глина – это глина у горшечников, и глина у печников, и глина у кирпичников, – разве не было бы это смешно?
Теэтет.
Пожалуй, да.
Сократ.
И прежде всего потому, что мы стали бы полагать, будто задавший вопрос что‑то поймет из нашего ответа: «Глина – это глина», стоит только нам
b
добавить к этому: «глина кукольного мастера» или какого угодно еще ремесленника. Или, по‑твоему, кто‑то может понять имя чего‑то, не зная, что это такое?
Теэтет.
Никоим образом.
Сократ.
Значит, он не поймет знания обуви, не ведая, что такое знание [вообще]?
Теэтет.
Выходит, что нет.
Сократ.
Значит, и сапожного знания не поймет тот, кому неизвестно знание? И все прочие искусства.
Теэтет.
Так оно и есть.
Сократ.
Стало быть, смешно в ответ на вопрос, что есть знание, называть имя какого‑то искусства. Ведь с вопрос состоял не в том, о чем бывает знание.
c
Теэтет.
По‑видимому, так.
Сократ.
Кроме того, там, где можно ответить просто и коротко, проделывается бесконечный путь. Например, на вопрос о глине можно просто и прямо сказать, что глина – увлажненная водой земля, а уж у кого в руках находится глина – это оставить в покое.
Теэтет.
Теперь, Сократ, это кажется совсем легким. И я даже подозреваю, что ты спрашиваешь о том, к чему мы сами накануне пришли в разговоре, – я и вот этот Сократ, твой тезка[1099]
.
d
Сократ.
Что же это такое, Теэтет?
Теэтет.
Вот Феодор объяснял нам на чертежах нечто о сторонах квадрата, [площадь которого выражена продолговатым числом], налагая их на трехфутовый и пятифутовый [отрезки] соответственно и доказывая, что по длине они несоизмеримы с однофутовым [отрезком]; и так перебирая [эти отрезки] один за другим, он дошел до семнадцатифутового[1100]
. Тут его что‑то остановило. Поскольку такого рода отрезков оказалось бесчисленное множество, нам пришло в голову попытаться найти какое‑то их единое [свойство], с помощью которого мы могли бы охарактеризовать их все.
e
Сократ.
Ну, и нашли вы что‑нибудь подобное?
Теэтет.
Мне кажется, нашли. Взгляни же и ты.
Сократ.
Говори, говори.
Теэтет.
Весь [ряд] чисел разделили мы надвое: одни числа можно получить, взяв какое‑то число равное ему число раз. Уподобив это равностороннему четырехугольнику, мы назвали такие числа равносторонними и четырехугольными.
Сократ.
Превосходно.
148
Теэтет.
Другие числа стоят между первыми, например три, пять и всякое другое число, которое нельзя получить таким способом, а лишь взяв большее число меньшее число раз или взяв меньшее число большее число раз. Эти другие числа мы назвали продолговатыми, представив большее и меньшее число как стороны продолговатого четырехугольника.
Сократ.
Прекрасно. А что же дальше?
Теэтет.
Всякий отрезок, который при построении на нем квадрата дает площадь, выраженную равносторонним числом, мы назвали длиной, а всякий отрезок, который дает разностороннее продолговатое число, мы назвали [несоизмеримой с единицей] стороной квадрата, потому что такие отрезки соизмеримы первым не по длине, а лишь по площадям, которые они образуют. То же и для объемных тел.
b
Сократ.
Выше всяких похвал, дети мои. Так что, я полагаю, Феодор не попадет под закон о лжесвидетельстве.
Теэтет.
И все же, Сократ, на твой вопрос о знании я не смог бы ответить так же, как о стороне и диагонали квадрата, хотя мне и кажется, что ты ищешь нечто подобное. И поэтому Феодор все‑таки оказывается лжецом.
c
Сократ.
Что же получается? Если бы, похвалив тебя за быстроту в беге, кто‑то сказал, что не встречал никого столь же быстрого среди юношей, а ты бы в состязании уступил другому бегуну, в расцвете сил и более резвому, – то скажи, разве меньше правды стало бы в его похвалах?
Теэтет.
Не думаю.
Сократ.
А исследовать знание, как я только что здесь говорил, – это, по‑твоему, пустяк и не относится к самым высоким предметам?
Теэтет.
Клянусь Зевсом, я думаю, что к высочайшим.
d
Сократ.
А поэтому возьми на себя смелость и не думай, что для слов Феодора не было оснований. Лучше постарайся всеми возможными способами добраться прежде всего до смысла самого знания – что же это такое.
Теэтет.
Если бы дело было в одном старании, Сократ!
Сократ.
Итак, вперед! Ведь только что ты прекрасно повел нас. Попытайся же и множество знаний выразить в одном определении, подобно тому как, отвечая на вопрос о [несоизмеримых с единицей] сторонах квадрата, ты все их многообразие свел к одному общему виду.
e
Теэтет.
Признаюсь, Сократ, до меня доходили те вопросы, что ты задаешь, и я не раз принимался это рассматривать, но ни сам я никогда еще не был удовлетворен своим ответом, ни от других не слышал такого истолкования, какого ты требуешь. Правда, я еще не потерял надежды.
Сократ.
Твои муки происходят оттого, что ты не пуст, милый Теэтет, а скорее тяжел.
Теэтет.
Не знаю, Сократ. Но я рассказываю о том, что испытываю.
149
Сократ.
Забавно слушать тебя. А не слыхал ли ты, что я сын повитухи – очень опытной и строгой повитухи[1101]
, Фенареты?
Теэтет.
Это я слышал.
Сократ.
А не слышал ли ты, что и я промышляю тем же ремеслом?
Теэтет.
Нет, никогда.
Сократ.
Знай же, что это так, но только не выдавай меня никому. Ведь я, друг мой, это свое искусство скрываю. А кто по неведению не разумеет этого, те рассказывают тем не менее, что‑де я вздорнейший человек и люблю всех людей ставить в тупик. Приходилось тебе слышать такое?
b
Теэтет.
Да.
Сократ.
А сказать тебе причину?
Теэтет.
Конечно.
Сократ.
Поразмысли‑ка, в чем состоит ремесло повитухи, и тогда скорее постигнешь, чего я добиваюсь. Ты ведь знаешь, что ни одна из них не принимает у других, пока сама еще способна беременеть и рожать, а берется за это дело лишь тогда, когда сама рожать уже не в силах.
Теэтет.
Конечно.
Сократ.
А виновницей этого называют Артемиду[1102]
, поскольку она, сама не рожая, стала помощницей родов.
c
Однако нерожавшим она не позволила принимать, ибо человеку не под силу преуспеть в искусстве, которое ему чуждо. Поэтому повитухами она сделала женщин, неплодных уже по возрасту, почтив таким образом в них свое подобие.
Теэтет.
Это правильно.
Сократ.
А разве не правильно, что распознавать беременных тоже должны не кто иные, как повитухи?
Теэтет.
Разумеется, правильно.
Сократ.
Притом повитухи дают зелья и знают заговоры, могут возбуждать родовые муки или по желанию смягчать их, а ту, что с трудом рожает, заставить родить, а или если найдут нужным, то выкинуть.
d
Теэтет.
Это так.
Сократ.
А ты не заметил за ними вот чего: ведь они же и сватать горазды, поскольку умудрены в том, какой женщине с каким мужем следует сойтись, чтобы родить наилучших детей.
Теэтет.
Нет, я этого не знал.
e
Сократ.
Тогда знай, что этим они гордятся больше, чем отсечением пуповины. Ибо – заметь: будет ли, по‑твоему, это одно и то же искусство – выхаживать и собирать плоды земли и, с другой стороны, знать, в какую землю какой саженец посадить или какое семя посеять?
Теэтет.
Бесспорно, одно и то же.
Сократ.
А для женщины, друг мой, разные будут ремесла повитухи и свахи?
Теэтет.
Похоже, что нет.
150
Сократ.
В том‑то и дело. Однако у нас часты случаи неправильного и неумелого сватовства мужчины и женщины, имя которому сводничество. Вот из‑за него‑то повитухи, как особы священные, избегают сватовства, опасаясь навлечь на себя вину, тогда как, по существу, одним повитухам уместно и подобает сватать.
Теэтет.
Очевидно.
Сократ.
Таково ремесло повитухи, однако моему делу оно уступает. Ибо женщинам не свойственно рожать иной раз призраки, а иной раз истинное дитя, – а вот это распознать было бы нелегко.
b
Если бы это случалось, то великая и прекрасная обязанность – судить, истинный родился плод или нет, стала бы делом повитух. Или ты не находишь?
Теэтет.
Нахожу.
Сократ.
В моем повивальном искусстве почти все так же, как и у них, – отличие, пожалуй, лишь в том, что я принимаю у мужей, а не у жен и принимаю роды души[1103]
, а не плоти. Самое же великое в нашем искусстве –
c
то, что мы можем разными способами допытываться, рождает ли мысль юноши ложный призрак или же истинный и полноценный плод. К тому же и со мной получается то же, что с повитухами: сам я в мудрости уже неплоден, и за что меня многие порицали, – что‑де я все выспрашиваю у других, а сам никаких ответов никогда не даю, потому что сам никакой мудрости не ведаю, – это правда. А причина вот в чем: бог[1104]
понуждает меня принимать, роды же мне воспрещает. Так что сам я не такой уж особенный мудрец, и самому мне не выпадала удача произвести на свет настоящий плод – плод моей души.
d
Те же, что приходят ко мне, поначалу кажутся мне иной раз крайне невежественными, а все же по мере дальнейших посещений и они с помощью бога удивительно преуспевают и на собственный и на сторонний взгляд. И ясно, что от меня они ничему не могут научиться, просто сами в себе они открывают много прекрасного, если, конечно, имели, и производят его на свет. Повития же этого виновники – бог и я. И вот откуда это видно:
e
уже многие юноши по неведению сочли виновниками всего этого самих себя и, исполнившись презрения ко мне, то ли сами по себе, то ли по наущению других людей ушли от меня раньше времени. И что же? Ушедши от меня, они и то, что еще у них оставалось, выкинули, вступивши в дурные связи, и то, что я успел принять и повить, погубили плохим воспитанием. Ложные призраки стали они ценить выше истины, так что в конце концов оказались невеждами и в собственных и в чужих глазах. Одним из них оказался Аристид, сын Лисимаха[1105]
, было и много других.
151
Когда же они возвращались обратно и вновь просили принять их, стараясь изо всех сил, то некоторым мой гений запрещал приходить, иным же позволял, и те опять делали успехи. Еще нечто общее с роженицами испытывают они в моем присутствии: днями и ночами они страдают от родов и не могут разрешиться даже в большей мере, чем те, – а мое искусство имеет силу возбуждать или останавливать эти муки.
b
Так я с ними и поступаю. Но иногда, Теэтет, если я не нахожу в них каких‑либо признаков беременности, то, зная, что во мне они ничуть не нуждаются, я из лучших побуждений стараюсь сосватать их с кем‑то и, с помощью бога, довольно точно угадываю, от кого бы они могли понести. Многих таких юношей я отдал Продику, многих – другим мужам, мудрым и боговдохновенным.
Потому, славный юноша, так подробно я все это тебе рассказываю, что ты, как я подозреваю, – вот и он того же мнения – страдаешь, вынашивая что‑то в себе. Доверься же мне как сыну повитухи, который и сам владеет этим искусством, и, насколько способен, постарайся ответить на мои вопросы.
c
И если, приглядываясь к твоим рассуждениям, я сочту что‑то ложным призраком, изыму это и выброшу, то не свирепей, пожалуйста, как роженицы из‑за своих первенцев. Дело в том, дорогой мой, что многие уже и так на меня взъярились и прямо кусаться были готовы, когда я изымал у них какой‑нибудь вздор. Им даже в голову не приходило, что я это делаю из самых добрых чувств. Они не ведают, что ни один бог не замышляет людям зла,
d
да и я ничего не делаю злонамеренно, просто я не вправе уступать лжи и утаивать истинное. Поэтому давай уж, Теэтет, еще раз попытайся разобраться, что же такое есть знание. А что‑де ты не способен, этого никогда не говори. Ведь если угодно будет богу и если ты сам соберешься с духом, то окажешься способен. Знание не есть чувственное восприятие
Теэтет.
Конечно, Сократ, раз уж ты приказываешь, стыдно не приложить всех стараний и не высказать, кто что думает. По‑моему, знающий что‑то ощущает то, что знает, и, как мне теперь кажется, знание – это не что иное, как ощущение[1106]
.
e
Сократ.
Честно и благородно, мой мальчик. Так и следует делать – говорить то, что думаешь. Однако давай вместе разберемся, подлинное что‑то родилось или же пустой призрак. Итак, ты говоришь, что знание есть ощущение?
Теэтет.
Да.
152
Сократ.
Я подозреваю, что ты нашел неплохое толкование знания. Однако так же толковал это и Протагор. Другим, правда, путем он нашел то же самое. Ведь у него где‑то сказано: «Мера всех вещей – человек, существующих, что они существуют, а несуществующих, что они не существуют»[1107]
. Ты ведь это читал когда‑нибудь?
Теэтет.
Читал, и не один раз. Сократ. Так вот, он говорит тем самым, что‑де какой мне кажется каждая вещь, такова она для меня и есть, а какой тебе, такова же она в свою очередь для тебя. Ведь человек – это ты или я, не так ли? Теэтет. Да, он толкует это так.
Сократ.
А мудрому мужу, разумеется, не подобает болтать вздор. Так что последуем за ним.
b
Разве не бывает иной раз, что дует один и тот же ветер, а кто‑то мерзнет при этом, кто‑то – нет? И кто‑то не слишком, а кто‑то – сильно?
Теэтет.
Еще как!
Сократ.
Так скажем ли мы, что ветер сам по себе холодный или нет, или поверим Протагору, что для мерзнущего он холодный, а для немерзнущего – нет?
Теэтет.
Приходится поверить.
Сократ.
Ведь это каждому так кажется?
Теэтет.
Да.
Сократ.
А «кажется» – это и значит ощущать?
Теэтет.
Именно так.
c
Сократ.
Стало быть, то, что кажется, и ощущение – одно и то же, во всяком случае когда дело касается тепла и тому подобного. Каким каждый человек ощущает нечто, таким, скорее всего, оно и будет для каждого.
Теэтет.
Видимо, так.
Сократ.
Выходит, ощущение – это всегда ощущение бытия, и как знание оно непогрешимо.
Теэтет.
Очевидно.
Сократ.
Тогда, клянусь Харитами[1108]
, Протагор был премудр и эти загадочные слова бросил нам, всякому сброду, ученикам же своим втайне рассказал истину.
d
Теэтет.
Как тебя понять, Сократ?
Сократ.
Я поведаю тебе это рассуждение, оно немаловажно: [Протагор утверждает], будто ничто само по себе не есть одно, ибо тут не скажешь ни чту оно есть, ни каково оно; ведь если ты назовешь это большим, оно может показаться и малым, если назовешь тяжелым – легким и так далее, поскольку‑де ничто одно не существует как что‑то или как какое‑то, но из порыва, движения и смешения одного с другим возникают все те вещи, про которые мы говорим, что они существуют, хотя и говорим неверно, ибо ничто никогда не есть, но всегда е становится.
e
И в этом по очереди сходились все мудрецы, кроме Парменида[1109]
: и Протагор, и Гераклит, и Эмпедокл, а из поэтов – величайшие в каждом роде поэзии: в комедии – Эпихарм, в трагедии – Гомер, который, упоминая «…отца бессмертных Океана и матерь Тефису», объявляет все порождением потока и движения. Или тебе не кажется, что он так считает?
Теэтет.
Мне кажется, так.
153
Сократ.
А кто сумеет не стать посмешищем, выступая против такого лагеря и такого военачальника, как Гомер?
Теэтет.
Это нелегкое дело, Сократ.
Сократ.
То‑то же. К тому же это достаточно подтверждают и вот такие признаки: впечатление существования и становления производится движением, напротив, покой делает всё несуществующим и мертвым. Ведь тепло и огонь, который порождает и упорядочивает все прочее, сам возникает из порыва и трения. Так же и всякое движение вообще. Или происхождение огня не таково?
b
Теэтет.
Разумеется, таково.
Сократ.
И живые существа тоже рождаются из движения?
Теэтет.
Как же иначе?
Сократ.
А если взять наше тело? Разве не расстраивают его состояние покой и бездействие, тогда как упражнение и движение – укрепляют?
Теэтет.
Да.
Сократ.
А душевное состояние? Разве душа не укрепляется и не улучшается, обогащаясь науками во время прилежного обучения, поскольку оно есть движение, – тогда как от покоя, то есть от беспечности и нерадивости, и новому не обучается, да и выученное забывает?
c
Теэтет.
Еще как.
Сократ.
Стало быть, движение, будь то в душе или в теле, благо, а покой – наоборот?
Теэтет.
Видимо.
Сократ.
Тогда я прибавлю еще безветрие и затишье и тому подобное – то, что загнивает и гибнет от покоя и сохраняется от противоположного. А в довершение всего я притяну сюда еще и золотую цепь, которая, по словам Гомера, есть не что иное, как Солнце[1110]
.
d
Он объясняет также, что, пока есть Солнце и круговое движение, все существует и сохраняется и у богов и у людей. А если бы вдруг это стало как вкопанное, то все вещи погибли бы и, как говорится, все перевернулось бы вверх дном.
Теэтет.
И мне кажется, Сократ, что он объясняет это именно так, как ты его толкуешь.
Сократ.
Итак, славный юноша, попробуй уразуметь вот что. Прежде всего, что касается наших глаз: ведь то, что ты называешь белым цветом, не есть что‑то инородное, вне твоих глаз, но ведь и в глазах его тоже нет, и ты не назначишь ему какого‑либо определенного места, ибо тогда, оказавшись как бы в строю, оно пребывало бы на месте, а не оказывалось бы в становлении.
e
Теэтет.
Как это?
Сократ.
Будем исходить из того недавнего рассуждения, что ничто не существует само по себе как одно, – и тогда черное, белое и любой другой цвет представится нам возникающим благодаря тому, что глаз обращается на приближающееся движение,
154
а все то, что мы называем цветом, не есть ни обращающееся, ни предмет обращения, – это нечто особое, возникающее посредине между тем и другим. Или ты будешь настаивать, что каким тебе кажется каждый цвет, таков же он и для собаки, и для любого другого живого существа?
Теэтет.
Клянусь Зевсом, я – нет.
Сократ.
То‑то. А другому человеку что бы то ни было разве представляется таким же, как и тебе? Будешь ли ты настаивать на этом или скорее признаешь, что и для тебя самого это не будет всегда одним и тем же, поскольку сам ты не всегда чувствуешь себя одинаково?
Теэтет.
Я скорее склоняюсь ко второму, чем к первому.
b
Сократ.
Далее, если бы мы измерили или потрогали что‑то и оно оказалось бы большим, или белым, или теплым, то, попав к кому‑либо другому, оно не стало бы другим, во всяком случае если бы само не изменилось. А с другой стороны, если бы то, что мы измерили и потрогали, действительно было бы всем этим, то оно не становилось бы другим от приближения другой вещи или от каких‑либо ее изменений, поскольку само не претерпело никаких изменений. А вот мы, мой друг, принуждены делать какие‑то чудные и потешные утверждения с легкой руки Протагора и всех тех, кто заодно с ним.
Теэтет.
Что ты хочешь этим сказать? И к чему это?
c
Сократ.
Возьми небольшой пример и тогда поймешь, чего я добиваюсь. Представь, что у нас есть шесть игральных костей. Если мы к ним приложим еще четыре, то сможем сказать, что их было в полтора раза больше, чем тех, что мы приложили, а если прибавим двенадцать, то скажем, что их было вполовину меньше. Иные же подсчеты здесь недопустимы. Или ты допустил бы?
Теэтет.
Я – нет.
Сократ.
Что же в таком случае? Если Протагор или кто‑нибудь другой спросит тебя, Теэтет, может ли что‑то сделаться больше размером или числом и в то же время не увеличиться, что ты ответишь?
Теэтет.
Если бы нужно было ответить, как сейчас мне это представляется, то я бы сказал, что не может.
d
Но если бы меня спросили об этом во время прежнего нашего рассуждения, то тогда, стараясь не противоречить себе, я сказал бы, что может.
Сократ.
Вот это чудесно, друг мой, клянусь Герой! Однако если ты ответишь, что может, то получится, видимо, почти по Еврипиду: язык наш не в чем упрекнуть, ну а вот сердце есть в чем[1111]
.
Теэтет.
Правда.
Сократ.
Дело в том, что если бы мы с тобой были великими мудрецами, изведавшими все глубины сердца, и нам от избытка премудрости оставалось бы только ловить друг друга на софистических подвохах, то, сойдясь для такого поединка, мы могли бы отражать одно рассуждение другим.
e
На самом же деле, поскольку мы люди простые, давай‑ка прежде разберем предмет наших размышлений сам по себе – все ли у нас согласуется между собой или же нет?
Теэтет.
И я очень хотел бы этого.
Сократ.
Вот и я тоже. А когда так, то давай прежде всего спокойно – ведь в досуге у нас нет недостатка, – не давая воли раздражению, в самом деле проверим самих себя:
155
каковы же эти наши внутренние видения? В первую очередь, я думаю, мы договоримся, что ничто не становится ни больше, ни меньше, будь то объемом или числом, пока оно остается равным самому себе. Не так ли?
Теэтет.
Так.
Сократ.
Во‑вторых, то, к чему ничего не прибавляли и от чего ничего не отнимали, никогда не увеличивается и не уменьшается, но всегда остается равным себе.
Теэтет.
Разумеется.
b
Сократ.
Стало быть, в‑третьих, мы примем, что чего не было раньше и что появилось уже позднее, то не может существовать, минуя возникновение и становление?
Теэтет.
По крайней мере, это представляется так.
Сократ.
Вот эти три допущения и сталкиваются друг с другом в нашей душе, когда мы толкуем об игральных костях или когда говорим, что я в своем возрасте, когда уже не растут ни вверх ни вниз, в какой‑то год то был выше тебя, то вскоре стал ниже, причем от моего роста ничего не убавилось, просто ты вырос.
c
Ведь получается, что я стал позже тем, чем не был раньше, пропустив становление. А поскольку нельзя стать не становясь, то, не потеряв ничего от своего роста, я не смог бы стать меньше. И с тысячью тысяч прочих вещей дело обстоит так же, коль скоро мы примем эти допущения. Ты успеваешь за мной, Теэтет? Мне сдается, ты не новичок в подобных делах.
Теэтет.
Клянусь богами, Сократ, все это приводит меня в изумление, и, сказать по правде, иногда, когда я пристально вглядываюсь в это, у меня темнеет в глазах.
d
Сократ.
А Феодор, как видно, неплохо разгадал твою природу, милый друг. Ибо как раз философу свойственно испытывать такое изумление[1112]
. Оно и есть начало философии, и тот, кто назвал Ириду дочерью Тавманта, видно, знал толк в родословных. Однако ты уже уяснил, каким образом это относится к тому, что толковал Протагор, или нет?
Теэтет.
Кажется, нет.
Сократ.
А скажешь ли ты мне спасибо, если вместе с тобой я стану открывать истину, скрытую в рассуждениях одного мужа, а вернее сказать, даже многих именитых мужей?
e
Теэтет.
Как не сказать! Разумеется, скажу.
Сократ.
Оглянись же как следует, дабы не подслушал нас кто‑нибудь из непосвященных. Есть люди, которые согласны признать существующим лишь то, за что они могут цепко ухватиться руками, действиям же или становлениям, как и всему незримому, они не отводят доли в бытии[1113]
.
156
Теэтет.
Но, Сократ, ты говоришь о каких‑то твердолобых упрямцах.
Сократ.
Да, дитя мое, они порядком невежественны. Но есть и другие, более искушенные. Вот их‑то тайны я и собираюсь тебе поведать. Первоначало, от которого зависит у них все, о чем мы сегодня толковали, таково: всё есть движение, и кроме движения нет ничего. Есть два вида движения, количественно беспредельные: свойство одного из них – действие, другого – страдание.
b
Из соприкосновения их друг с другом и взаимодействия возникают бесчисленные пары: с одной стороны, ощутимое, с другой – ощущение, которое возникает и появляется всегда вместе с ощутимым. Эти ощущения носят у нас имена зрения, слуха, обоняния, чувства холода или тепла. Сюда же относится то, что называется удовольствиями, огорчениями, желаниями, страхами, и прочие ощущения, множество которых имеют названия, а безымянным и вовсе нет числа. Ощутимые же вещи сродни каждому из этих ощущений:
c
всевозможному зрению – всевозможные цвета, слуху – равным же образом звуки и прочим ощущениям – прочее ощутимое, возникающее совместно с ними. Разумеешь ли, Теэтет, что дает нам это предположение (μύδος) для нашего прежнего рассуждения? Или нет?
Теэтет.
Не очень хорошо, Сократ.
Сократ.
Однако приглядись, не бьет ли оно в ту же цель? Ведь она означает, что все это, как мы и толковали, движется, и движению этому присуща быстрота и медленность. Поэтому то, что движется медленно, движется на одном месте или в направлении к близлежащим вещам, то же, что возникает от этого, получается более медленным.
d
А что движется быстро, движется в направлении к удаленным вещам, и то, что от этого возникает, получается более быстрым. Ибо оно несется, и в этом порыве заключается природа его движения. Поэтому как только глаз, приблизившись к чему‑то ему соответствующему, порождает белизну и сродное ей ощущение – чего никогда не произошло бы, если бы каждое из них сошлось с тем, что ему не соответствует, – тотчас же они несутся в разные стороны: зрение – к глазам, а белизна – к цвету соучастника этого рождения.
e
Глаз наполняется зрением и видит, становясь не просто зрением, но видящим глазом, что же касается второго родителя, то он, наполнившись белизной, уже становится в свою очередь не белизной, но белым предметом – будь то дерево, камень или любая вещь, выкрашенная в этот цвет. Так же и прочее: жесткое, теплое и все остальное, коль скоро мы будем понимать это таким же образом, не может существовать само по себе, о чем мы в свое время уже говорили,
157
но все разнообразие вещей возникает от взаимного общения и движения, причем невозможно, как говорится, твердо разграничить, чту здесь действующее, а чту страдающее. Ибо нет действующего, пока оно не встречается со страдающим, как нет и страдающего, пока оно не встретится с действующим. При этом, сойдясь с одним, что‑то оказывается действующим, а сойдясь с другим – страдающим. Так что из всего того, о чем мы с самого начала рассуждали, ничто не есть само по себе, но все всегда возникает в связи с чем‑то, а [понятие] «существовать» нужно отовсюду изъять,
b
хотя еще недавно мы вынуждены были им пользоваться по привычке и по невежеству. Ибо эти мудрецы утверждают, что не должно допускать таких выражений, как «нечто», «чье‑то», «мое», «это», «то», и никакого другого имени, выражающего неподвижность. В согласии с природой вещей должно обозначать их в становлении, созидании, гибели и изменчивости. Поэтому, если бы кто‑то вздумал остановить что‑либо с помощью слова, он тотчас же был бы изобличен. Так нужно рассматривать и каждую часть, и собрание многих частей, каковое, как они полагают,
c
представляют собой человек и камень, каждое живое существо и каждый вид. Ну что, Теэтет, способен ли ты получить удовольствие и наслаждение от этих рассуждений?
Теэтет.
Не знаю, Сократ. Я даже не могу сообразить, свое ли мнение ты высказываешь или испытываешь меня.
Сократ.
Ты запамятовал, друг мой, что я ничего не знаю и ничего из этого себе не присваиваю, – я уже неплоден и на все это не способен. Нынче я принимаю у тебя, для того и заговариваю тебя и предлагаю отведать зелья всяких мудрецов, пока не выведу на свет твое собственное решение.
d
Когда же оно выйдет на свет, тогда мы и посмотрим, чахлым оно окажется или полноценным и подлинным. Однако теперь мужественно и твердо, благородно и смело ответь мне, что ты думаешь о том, что я хочу у тебя спросить.
Теэтет.
Ну что же, спрашивай.
Сократ.
Итак, скажи мне еще раз, нравится ли тебе утверждение, что все вещи, о которых мы рассуждали, не существуют как нечто, но всегда лишь становятся добрыми, прекрасными и так далее?
Теэтет.
По крайней мере, пока я слушаю тебя, это рассуждение представляется мне очень толковым и вполне приемлемым в таком виде.
e
Сократ.
Тогда не оставим без внимания и остального. Остались же у нас сновидения и болезни, особенно же помешательства, которые обычно истолковывают как расстройство зрения, слуха или какого‑нибудь другого ощущения. Ты ведь знаешь, что во всех этих случаях недавно разобранное утверждение как раз опровергается,
158
так как в высшей степени ложны наши ощущения, рожденные при этом, и то, что каждому кажется каким‑то, далеко не таково на самом деле, но совсем напротив, из того, что кажется, ничто не существует.
Теэтет.
Это сущая правда, Сократ.
Сократ.
Итак, мой мальчик, какое же еще остается у кого‑либо основание полагать, что знание есть ощущение и что каждая вещь для каждого такова, какой она ему кажется?
Теэтет.
Я уже боюсь, Сократ, отвечать, что мне нечего сказать, после того как ты выговорил мне за такие речи.
b
Однако, по правде сказать, я не мог бы спорить, что в помешательстве или в бреду люди не заблуждаются, воображая себя кто богом, а кто как бы летающей птицей.
Сократ.
Не подразумеваешь ли ты здесь известного спора о сне и яви?
Теэтет.
Какого такого спора?
Сократ.
Я думаю, что ты слышал упоминания о нем: когда задавался вопрос, можно ли доказать, что мы вот в это мгновение спим и все, что воображаем, видим во сне или же мы бодрствуем и разговариваем друг с другом наяву.
c
Теэтет.
В самом деле, Сократ, трудно найти здесь какие‑либо доказательства: ведь одно повторяет другое, как антистрофа строфу. Ничто не мешает нам принять наш теперешний разговор за сон, и, даже когда во сне нам кажется, что мы видим сны, получается нелепое сходство этого с происходящим наяву.
Сократ.
Ты видишь, что спорить не так уж трудно, тем более что спорно уже то, сон ли это или явь, а поскольку мы спим и бодрствуем равное время, в нашей душе всегда происходит борьба:
d
мнения каждого из двух состояний одинаково притязают на истинность, так что в течение равного времени мы называем существующим то одно, то – другое и упорствуем в обоих случаях одинаково.
Теэтет.
Именно так и происходит.
Сократ.
Стало быть, такой же вывод мы должны сделать и для болезней и помешательств с той только разницей, что время не будет здесь равным.
Теэтет.
Правильно.
Сократ.
Ведь истина не определяется большим или меньшим временем?
e
Теэтет.
Это было бы совсем смешно.
Сократ.
А другие, ясные доказательства истинности одного из этих мнений мог бы ты привести?
Теэтет.
Думаю, что нет.
Сократ.
Тогда выслушай от меня, что сказали бы об этом те, кто утверждает, будто любое мнение всегда истинно для мнящего так. Рассуждают они, думаю я, следующим образом. Скажи, Теэтет, спрашивают они, нечто во всех отношениях иное разве будет иметь те же самые свойства, что и отличная от него вещь? И давай не будем принимать, что в каком‑то отношении оно тождественно [этой вещи], а в каком‑то – иное. Я спрашиваю об ином в целом.
159
Теэтет.
В случае если это совсем иное, невозможно, чтобы оно было тождественно [другой вещи] либо по своим свойствам, либо в чем угодно другом.
Сократ.
И необходимо согласиться, что оно будет также неподобно той вещи?
Теэтет.
Мне кажется, да.
Сократ.
Итак, если что‑то вдруг окажется чему‑то подобным или неподобным либо тождественным или иным, то скажем ли мы, что тождественное подобно, а иное – неподобно?
Теэтет.
Непременно.
Сократ.
А раньше мы утверждали, что действующее так же многочисленно и беспредельно, как и страдающее.
Теэтет.
Да.
Сократ.
И что одно, сойдясь с другим, произведет не тождественное другому, а иное.
b
Теэтет.
Разумеется.
Сократ.
Так давай потолкуем обо мне и о тебе и обо всем другом на тот же лад. Возьмем, с одной стороны, здорового Сократа, а с другой – Сократа больного. Скажем ли мы, что тот подобен этому или что неподобен?
Теэтет.
Ты хочешь сказать, больной Сократ в целом подобен ли здоровому Сократу в целом?
Сократ.
Ты прекрасно меня понял: именно это я хочу сказать.
Теэтет.
Конечно, неподобен.
Сократ.
Стало быть, это иной Сократ, раз он неподобен тому?
Теэтет.
Непременно.
Сократ.
То же ты можешь сказать и о спящем и обо всем прочем, что мы сегодня разобрали?
c
Теэтет.
Именно так.
Сократ.
Значит, все, что по своей природе может что‑то производить, сталкиваясь со здоровым Сократом, будет взаимодействовать с одним человеком, а когда я болен, то как бы с другим?
Теэтет.
А разве нет?
Сократ.
И в обоих случаях я, страдающий, и то, действующее, произведем разные следствия?
Теэтет.
Например?
Сократ.
Когда я здоров и пью вино, оно мне кажется приятным и сладким.
Теэтет.
Так.
Сократ.
Ведь, как мы уже договорились, действующее и страдающее произвели сладость и ощущение, одновременно несущиеся в разные стороны:
d
ощущение, предназначенное для страдающего, делает язык ощущающим, а сладость, направляясь к вину, заставляет его и быть сладким и казаться.
Теэтет.
Разумеется, ведь об этом мы уже договорились.
Сократ.
Когда же я болен, то, по правде говоря, вино, во‑первых, застает уже не того же самого человека, потому что оно приближается к неподобному.
Теэтет.
Да.
e
Сократ.
Стало быть, выпитое вино и такой Сократ вместе произведут уже иное: для языка – ощущение горечи, а для вина – возникающую и несущуюся горечь, и вино станет уже не горечью, но горьким, а я – не ощущением, но ощущающим?
Теэтет.
Совершенно верно.
Сократ.
И, ощущая таким образом, я уже не стану ничем иным[1114]
: ибо от других вещей – другое ощущение, делающее отличным и другим самого ощущающего,
160
равно как и действующее на меня, сойдясь с другим и произведя другое, никогда не сможет остаться таким же, поскольку, производя от другого другое, оно станет другим.
Теэтет.
Это так.
Сократ.
И я не остаюсь таким же, как был, и вино не будет таким, как было.
Теэтет.
В том‑то и дело.
Сократ.
Ведь когда я становлюсь ощущающим, я непременно должен что‑то ощущать, ибо, ничего не ощущая, ощущающим стать невозможно.
b
Так же и что‑то становится сладким или горьким или еще каким‑то для кого‑то, поскольку сладкое не может стать сладким ни для кого.
Теэтет.
Разумеется.
Сократ.
И нам остается, если мы существуем или становимся, существовать и становиться друг для друга, коль скоро какая‑то необходимость связывает наше существование, но не связывает его ни с кем‑то другим, ни с нами самими. Поэтому‑то нам и остается быть связанными друг с другом, так что если кто скажет «нечто есть», то он должен добавить, для чего «есть», от чего «есть» и в отношении к чему «есть», и то же самое, если он говорит «становится».
c
Само же по себе что‑то существующее или становящееся ни сам он не должен называть, ни другому позволять это делать – так требует рассуждение, которое мы разобрали.
Теэтет.
Безусловно, Сократ.
Сократ.
Стало быть, если действующее на меня существует для меня, а не для кого‑то другого, то и ощущаю его только я, а другой – нет?
Теэтет.
А как же иначе?
Сократ.
Следовательно, мое ощущение истинно для меня, поскольку всегда принадлежит моей сущности, и, согласно Протагору, я судья всем существующим для меня вещам, что они существуют, и несуществующим, что они не существуют.
Теэтет.
По‑видимому.
d
Сократ.
Так если суд мой непогрешим и я не ошибаюсь в своих мыслях о существующем и становящемся, как же могу я не знать того, что ощущаю? Теэтет. Никак не можешь.
Сократ.
Стало быть, ты превосходно сказал, что знание есть не что иное, как ощущение, и это совпадает с утверждениями тех, кто вслед за Гомером, Гераклитом и всем этим племенем полагает, будто все течет, словно река, или вслед за Протагором, мудрейшим из мудрецов, считает мерой всех вещей человека, или вслед за Теэтетом, что ощущение данных, в данном состоянии пребывающих людей и становится знанием[1115]
.
e
Ну как, Теэтет, не сказать ли нам, что это и есть тобой порожденное, а мною принятое детище? Как ты считаешь?
Теэтет.
Приходится сказать, Сократ. Сократ. Каково бы оно ни оказалось, но произвели мы его, как видишь, не без труда. А после родов его полагается обнести вокруг очага[1116]
и толком рассмотреть, не обманывает ли нас недостойное воспитания пустое и ложное порождение.
161
Но может быть, ты думаешь, что в любом случае его нужно воспитывать, а не выбрасывать? Или ты все‑таки сумеешь сдержаться, глядя, как его изобличат, и не будешь слишком негодовать, если отберут у тебя этого первенца?
Феодор.
Теэтет сумеет сдержаться, Сократ. Не такой уж он упрямец. Но скажи, ради богов, разве опять что‑нибудь не так?
Сократ.
Экий же ты любитель потолковать, если и меня по доброте своей почитаешь каким‑то мешком, из которого я без труда могу извлечь любое рассуждение и заявить, что все это не так.
b
Ты не вникаешь в то, что происходит, а ведь ни одно рассуждение не исходит от меня, но все они – от моих собеседников. Я же ничего не знаю, кроме самой малости: какое рассуждение у какого мудреца нужно взять и как следует рассмотреть. Вот и теперь я все выпытываю у него, а самому мне сказать нечего.
Феодор.
Тебе лучше знать, Сократ. Поступай как хочешь.
Сократ.
Знаешь ли, Феодор, чему дивлюсь я в твоем друге Протагоре?
c
Феодор.
Чему?
Сократ.
Те его слова, что каким каждому что‑то представляется, таково оно и есть, мне очень нравятся. А вот началу этого изречения я удивляюсь: почему бы ему не сказать в начале своей «Истины», что мера всех вещей – свинья, или кинокефал[1117]
, или что‑нибудь еще более нелепое среди того, что имеет ощущения, чтобы тем пышнее и высокомернее было начало речи, доказывающей, что мы‑то ему чуть ли не как богу дивимся за его мудрость, а он по разуму своему ничуть не выше головастика, не то что кого‑либо из людей.
d
Ты не согласен, Феодор? Ведь если для каждого истинно то, что он представляет себе на основании своего ощущения, если ни один человек не может лучше судить о состоянии другого, чем он сам, а другой не властен рассматривать, правильны или ложны мнения первого, но – что мы уже повторяли не один раз – если каждый будет иметь мнение только сам о себе и всякое такое мнение будет правильным и истинным, то с какой же стати, друг мой, Протагор оказывается таким мудрецом, что даже считает себя вправе учить других за большую плату,
e
мы же оказываемся невеждами, которым следует у него учиться, – если каждый из нас есть мера своей мудрости? Как тут не сказать, что этими словами Протагор заискивает перед народом. Я не говорю уже о себе и своем повивальном искусстве – на нашу долю пришлось достаточно насмешек, – но я имею в виду вообще всякие занятия диалектикой.
162
Дело в том, что рассматривать и пытаться взаимно опровергать наши впечатления и мнения – все это пустой и громкий вздор, коль скоро каждое из них – правильное и если истинна «Истина» Протагора, а не скрывает в своей глубинной сути некоей насмешки.
Феодор.
Этот человек – мой друг, Сократ; ты и сам это только что сказал. Поэтому я не решился бы, согласившись с тобой, изобличать Протагора, но и с тобой я не хотел бы разойтись во мнении. Так что уж лучше возьми опять Теэтета. Мне кажется, он и теперь прилежно слушает тебя.
b
Сократ.
Если бы в Лакедемоне, Феодор, ты зашел в палестру и увидел бы, что другие, иной раз и тщедушные, ходят там раздетыми[1118]
, разве ты не счел бы, что и тебе не дулжно скрывать своего вида и надо раздеться?
Феодор.
Но почему ты думаешь, что если бы они и предложили мне это, я бы послушался? Я попросил бы их, как теперь вас, позволить мне только наблюдать и не тащить меня в гимнасий, чтобы я, уже утративший гибкость членов, состязался с молодым и гибким борцом.
c
Сократ.
Ну, Феодор, если тебе это любо, то и я тому не враг, как говорят любители пословиц. Приходится опять обратиться к мудрому Теэтету. Прежде всего, Теэтет, растолкуй мне то, что мы сегодня уже разобрали: разве не странно тебе, как и мне, что ни с того ни с сего ты оказался ничуть не ниже в мудрости любого из людей и богов? Или, по‑твоему, Протагорова мера к богам относится в меньшей степени, чем к людям?
Теэтет.
Клянусь Зевсом, по‑моему, нет, и я очень удивлен, что ты спрашиваешь об этом. Все время, пока мы рассматривали, в каком смысле утверждают, будто
d
то, что каждому представляется, таково для него и есть, каким представляется, это утверждение казалось мне правильным. А теперь как будто бы вышло наоборот.
Сократ.
Ты еще молод, милый мальчик, остро воспринимаешь и поддаешься на всякие разглагольствования. На твой вопрос Протагор или кто‑то за него ответил бы: «Благородные юноши и старцы, это вы разглагольствуете, усевшись в кружок и замешивая в дело богов, а ведь я‑то их исключаю из своих рассуждений и книг, не касаясь того, существуют они или не существуют[1119]
;
e
вы же повторяете то, что нравится толпе: дескать, ужасно, если в мудрости ни один из людей ничем не отличается от любой скотины. И вместо того чтобы приводить неопровержимые доказательства, вы довольствуетесь вероятностью, а ведь если бы Феодор или какой‑либо другой геометр стал пользоваться ею в геометрии, грош была бы ему цена». Вот теперь уже вы с Феодором смотрите, можете ли вы пользоваться правдоподобием и вероятностью в столь важных рассуждениях?
163
Теэтет.
Нет, Сократ, ни ты, ни мы не признали бы это правильным.
Сократ.
В таком случае, видимо, надо идти иным путем, следуя сказанному вами с Феодором.
Теэтет.
Да, конечно, иным.
Сократ.
Тогда давайте посмотрим, тождественны ли знание и ощущение или различны. Ведь к этому было направлено все наше рассуждение и ради этого мы сдвинули всю эту нелепую громаду. Не правда ли?
Теэтет.
Разумеется.
b
Сократ.
Итак, давайте договоримся: то, что мы ощущаем зрением или слухом, все это мы одновременно и познаем? Например, если мы будем слушать речь чужеземцев, не зная языка, то скажем ли мы, что не слышим того, что они произносят, или что и слышим и знаем, о чем они говорят? И также, не зная их письма, будем ли мы утверждать, глядя на буквы, что их не видим или же что знаем их, поскольку видим?
Теэтет.
По крайней мере, Сократ, мы бы сказали, что знаем то, что мы в них видим и слышим. Во втором случае это очертания и цвет букв – их мы видим и знаем; а в первом – высота или низкость звуков:
c
мы ее слышим, и тем самым она нам известна. Того же, чему обучают грамматики и переводчики, мы не ощущаем ни зрением, ни слухом и не знаем.
Сократ.
Прекрасно, Теэтет; не стоит больше и спорить с тобой об этом, а то ты возгордишься. Взгляни лучше вот на какой довод и подумай, как нам его опровергнуть.
Теэтет.
Какой же?
d
Сократ.
А вот: если кто спросит, возможно ли, чтобы кто‑то, что‑то узнав и сохраняя это в памяти, не знал бы того самого, что помнит, в то самое мгновение, когда он помнит? Но, видно, я слишком многословен, а спросить я хотел вот что: может ли быть кому‑то неизвестным то, что он постиг и помнит?
Теэтет.
Как это, Сократ? Ты говоришь что‑то несуразное.
Сократ.
Вероятно, я несу вздор? Но ты посмотри: разве ты не утверждаешь, что видеть – значит ощущать и что зрение есть ощущение?
Теэтет.
Да, утверждаю.
e
Сократ.
Но из этого разве не следует, согласно недавнему рассуждению, что видящий что‑либо тотчас становится знающим это?
Теэтет.
Да.
Сократ.
Дальше. Называешь ли ты что‑либо памятью?
Теэтет.
Да.
Сократ.
Памятью ни о чем или о чем‑то?
Теэтет.
Конечно, о чем‑то.
Сократ.
А разве не о том, что кто‑то постиг или ощутил?
Теэтет.
Ну и что из этого?
Сократ.
Если кто‑нибудь что‑то видел, он ведь иногда вспоминает это?
Теэтет.
Вспоминает.
Сократ.
Даже если закроет глаза? Или в этом случае сразу же забывает?
Теэтет.
Мне страшно согласиться с этим, Сократ.
164
Сократ.
Однако придется, чтобы осталось в силе наше прежнее рассуждение. Иначе оно отпадает.
Теэтет.
Клянусь Зевсом, что‑то здесь есть, но я плохо это разумею. Скажи, в чем тут дело.
Сократ.
Слушай. Мы говорим, что видящий что‑то сразу становится знающим то, что он видит, ибо мы признали, что зрение, ощущение и знание – одно и то же.
Теэтет.
Разумеется.
Сократ.
Увидевший же и узнавший то, что видит, ведь и закрыв глаза, помнит это, но уже не видит. Не так ли?
Теэтет.
Так.
b
Сократ.
А «не видит» – значит «не знает», коль скоро «видит» означает «знает»?
Теэтет.
Правда.
Сократ.
Так разве не выходит, что, зная нечто и еще помня об этом, он уже не знает этого, поскольку не видит. А мы уже говорили, что было бы несуразно, если бы так случилось.
Теэтет.
Совершенно верно.
Сократ.
Очевидно, выходит что‑то невозможное, если допустить, что знание и ощущение – одно и то же.
Теэтет.
Похоже, что так.
Сократ.
Стало быть, нужно признать, что они различны?
Теэтет.
Боюсь, что да.
c
Сократ.
Что же тогда такое знание? Как видно, придется начать рассуждение сызнова. И что же, Теэтет, нам предпринять?
Теэтет.
В каком направлении?
Сократ.
Мне кажется, мы, отскочивши от нашего предмета, как трусливые петухи, издаем победный клич прежде победы.
Теэтет.
Как это?
Сократ.
Мы похожи на завзятых спорщиков[1120]
. когда, не договорившись о словах, пытаемся победить в доказательстве, подменив их значение, и при этом утверждаем, что мы‑де не спорщики, а философы, сами не замечая, как делаем то же самое, что и эти искушенные в спорах мужи.
d
Теэтет.
Я все еще не понимаю, что ты хочешь сказать.
Сократ.
Я попытаюсь объяснить, что я имею в виду. Ведь мы спрашивали, может ли кто‑то не знать того, что он постиг и помнит, а в ответ привели пример человека, который что‑то видел и с закрытыми глазами помнит это, хотя уже и не видит. Тем самым мы показали, что помнящий в то же время не ведает [того, что помнит], а это невозможно. Таким образом погибает Протагоров, а также и твой миф о знании, что оно и ощущение – одно и то же.
e
Теэтет.
Очевидно.
Сократ.
А вот и нет, я думаю. По крайней мере, мой друг, если бы жив был отец первого из этих мифов, он бы всячески его защищал. Мы же совсем затолкали бедного сироту. И даже опекуны, оставленные Протагором, не желают вступиться, хотя один из них – Феодор – вот здесь рядом. Боюсь, что справедливости ради нам самим придется защищать его.
165
Феодор.
Помилуй, Сократ: это не я, а скорее Каллий[1121]
, сын Гиппоника, его опекун. Я же, пожалуй, из тех, кто отошел от отвлеченных рассуждений и склонился к геометрии. И все же я буду тебе благодарен, если ты вступишься за него.
Сократ.
Хорошо, Феодор. Но ты хотя бы следи за моим заступничеством. Ведь можно было бы договориться до вещей, еще более ужасных, чем [рассмотренные] недавно, если не обращать внимания на значение слов, как мы по большей части привыкли делать, соглашаясь или возражая. К тебе я буду держать речь или к Теэтету?
b
Феодор.
К нам обоим. А уж отвечать пусть будет младший. Ему не так стыдно ошибиться.
Сократ.
Итак, я буду разбирать самый сложный вопрос, примерно следующего рода: может ли один и тот же человек, зная что‑то, не знать того, чту он знает?
Феодор.
Так как же мы ответим, Теэтет?
Теэтет.
Я, по крайней мере, думаю, что это невозможно.
Сократ.
Вовсе нет, если ты будешь считать, что видеть – это и есть знать. Например, что ты скажешь, если какой‑нибудь смельчак припрет тебя к стенке хитрым вопросом и, закрыв тебе рукой один глаз, пожелает узнать, видишь ли ты свой плащ закрытым глазом?
c
Теэтет.
Скажу, думаю я, что не вижу этим, но тем, другим, вижу.
Сократ.
Стало быть, ты одновременно и видишь и не видишь то же самое?
Теэтет.
В каком‑то смысле да.
Сократ.
Я не о том, скажет он, говорю и не спрашиваю, в каком смысле. Я спрашиваю: можешь ли ты не знать того, что знаешь? Теперь же выясняется, что ты, видя, не видишь. А ты согласился, что видеть есть знать, а не видеть – не знать. Из всего этого сам заключи, что у тебя получается.
Теэтет.
Получается, что вывод противоположен тому, что я предполагал.
d
Сократ.
Пожалуй, еще в большем затруднении ты окажешься, дорогой мой, если тебя спросят, можно ли одно и то же знать отчетливо и расплывчато, вблизи – знать, а издали – нет, знать основательно и слегка? И тысячу других вопросов какой‑нибудь наемный пелтаст[1122]
, искушенный в речах, метнет в тебя из засады, как только ты станешь утверждать, что знание и ощущение – одно и то же. Вторгаясь то в область слуха, то обоняния, то в область других ощущений,
e
он изобличит тебя, загонит в тупик и не отпустит, пока ты не оценишь его завидной мудрости, будучи связан по рукам и ногам, и, угодив в его сети, не откупишься от него деньгами по цене, на какой вы сойдетесь. Но ты, пожалуй, скажешь: а все же, какую речь произнесет Протагор в защиту своих [положений]? Не попытаться ли мне ее воспроизвести?
Теэтет.
Да, конечно.
Сократ.
Я думаю, он соберет воедино все доводы, что мы приводили в его защиту, и, не скрывая своего к нам презрения, скажет так:
166
«Этот честный Сократ, когда ребенок[1123]
, напуганный вопросом, может ли один и тот же человек одно и то же помнить и вместе с тем не знать, со страху ответил, что нет, ибо не мог предвидеть последствий, – этот Сократ выставил меня таким образом в своих речах на посмешище. Дело же обстоит так, легкомысленный ты человек, что, когда ты с помощью вопросов исследуешь мои положения и спрошенный отвечает так, как ответил бы я, и при этом ошибается, оказываюсь опровергнут я, а когда он отвечает иначе [,чем ответил бы я], опровергнут оказывается он сам.
b
И ты думаешь, кто‑то с тобой согласится, что память об испытанных ощущениях тождественна тем, которые были тогда, когда он их испытывал, в то время как больше он их уже не испытывает? Далеко не так. Или кто‑то решится признать, что одно и то же может быть известно и неизвестно одному и тому же человеку? Или если он побоится признать это, то, думаешь, он уступит тебе в том, что изменившийся – тот же самый человек, что и до изменения? Более того, что это тот человек, а не те, бесконечно возникающие, – коль скоро происходят изменения, – если уж надо избегать западни, расставляемой друг другу с помощью имен?
c
Нет, любезнейший, скажет он, честно выступи против моих рассуждений и, если можешь, уличи меня в том, что не особые у каждого из нас возникают ощущения; или если они особые, то из этого вовсе не следует, что кажущееся кому‑то возникает только для него одного, а если нужно сказать о чем‑то «есть», то это должно «быть» только для того, кому это кажется.
Поминая же свинью и кинокефала, ты не только сам поступаешь по‑свински, но и слушателей склоняешь так же вести себя по отношению к моим сочинениям, а это не делает тебе чести.
d
Я же утверждаю, что истина такова, как у меня написано: мера существующего или несуществующего есть каждый из нас. И здесь‑то тысячу раз отличается один от другого, потому что для одного существует и ему кажется одно, а для другого – другое. И я вовсе не отрицаю мудрости или мудрого мужа. Просто мудрецом я называю того, кто кажущееся кому‑то и существующее для кого‑то зло так преобразует, чтобы оно казалось и было для того добром.
e
И не выискивай ошибок в моих выражениях, а постарайся яснее постигнуть смысл моих речей. А сделай это так: вспомни, как раньше вы рассуждали, что больному еда кажется и бывает для него горькой, а здоровому кажется и для него есть прямо противоположное. И ни одного из них не следует делать более мудрым, ибо это невозможно.
167
И осуждать их нельзя, что‑де больной – неуч, раз он утверждает такое, а здоровый – мудр, раз утверждает обратное. Просто надо изменить худшее состояние на лучшее, ибо одно из них – лучше. То же касается и воспитания: из худшего состояния надо приводить человека в лучшее. Но врач производит эти изменения с помощью лекарств, а софист – с помощью рассуждений.
Впрочем, никому еще не удалось заставить человека, имеющего ложное мнение, изменить его впоследствии на истинное, ибо нельзя иметь мнение о том, что не существует, или отличное от того, что испытываешь: последнее всегда истинно.
b
Но я полагаю, что тот, кто из‑за дурного состояния души имеет мнение, соответствующее этому состоянию, благодаря хорошему состоянию может изменить его и получить другое, и вот эту‑то видимость некоторые по неопытности называют истинной, я же скажу, что одно лучше другого, но ничуть не истиннее.
И я далек от того, любезный Сократ, чтобы сравнивать мудрецов с лягушками. Напротив, я сравниваю их с врачами там, где дело касается тела, и с земледельцами – там, где растений. Ибо я полагаю, что и эти последние создают для растений, когда какое‑то из них заболевает,
c
вместо дурных ощущений хорошие, здоровые и вместе с тем истинные, а мудрые и хорошие ораторы делают так, чтобы не дурное, а достойное представлялось гражданам справедливым: ведь что каждому городу представляется справедливым и прекрасным, то для него и есть таково, пока он так считает. Однако мудрец вместо каждой дурной вещи заставляет достойную и быть и казаться городам справедливой. На том же самом основании и софист, способный так же воспитать своих учеников, мудр и заслуживает от них самой высокой платы.
d
Итак, одни бывают мудрее л
других и в то же время ничье мнение не бывает ложным, и, хочешь ты того или нет, тебе придется допустить, что ты мера, ибо только так остается в силе мое рассуждение.
Если же ты хочешь оспорить это с самого начала, то оспаривай, но рассуждай последовательно. Если тебе нравится путь вопросов, спрашивай, ибо разумному человеку следует не избегать этого, а всячески это поощрять. Но соблюдай одно правило: пусть твои вопросы не будут обидными.
e
Верх непоследовательности – заявляя о своем стремлении к добродетели, быть несправедливым в своих рассуждениях. А несправедливость получается тогда, когда забывают, что по‑иному строится спор, по‑иному рассуждение. В первом случае допустимо и подшучивать и сбивать с толку чем и как только можешь, во втором же следует рассуждать серьезно, поправлять своего собеседника, указывая ему лишь на те промахи, которые он допустил по своей вине или по вине своих прежних учителей.
168
Если ты будешь поступать таким образом, то в своих недоумениях и затруднениях твои собеседники будут винить не тебя, а лишь себя самих и будут искать твоих бесед и твоей дружбы, разлюбив себя и убегая от самих себя в философию, чтобы стать другими людьми и покончить с тем, чем они были прежде. Если же ты, как и большинство, будешь поступать наоборот, то и получится все наоборот и у тебя, и у твоих собеседников: вместо философов, когда они станут старше, ты произведешь на свет ненавистников этого занятия.
b
А если ты послушаешься моего прежнего совета, то без неприязни и запальчивости, но как можно благожелательнее рассмотри, что же на самом деле я имею в виду, когда объявляю, что все движется и что то, чту каждый мнит, то оно и есть, будь то для одного человека, будь то для целого города. И уже потом суди, то же самое или различное есть знание и ощущение, а не так, как ты делал недавно, пользуясь ходячими выражениями, с помощью которых большинство людей, выдергивая их откуда попало, доставляют друг другу всяческие затруднения».
c
Вот так, Феодор, я вступился за твоего друга по мере моих слабых сил. Если бы сам он был жив, он лучше защитил бы свое учение.
Феодор.
Ты шутишь, Сократ; ведь ты оказал сильную поддержку этому человеку.
Сократ.
Прекрасно, друг мой. А скажи, не заметил ли ты, что, когда Протагор только что держал речь а и порицал нас за то, что, толкуя с детьми,
d
мы используем для опровержения его положений робость ребенка, он тем самым, отвергая всякие забавы и требуя уважения к своей мере всех вещей, велел нам с тобой серьезно отнестись к его рассуждению?
Феодор.
Как было не заметить, Сократ!
Сократ.
Ну и что? Прикажешь послушаться его?
Феодор.
И даже очень.
Сократ.
Ты видишь, что, кроме тебя, всё это дети. Если послушаться этого человека, то надо нам с тобой задавать друг другу вопросы и отвечать,
e
если мы хотим серьезно отнестись к этому его рассуждению, и пусть он впредь не сможет нас упрекнуть в том, что мы превратили исследование его рассуждения в детскую забаву.
Феодор.
Но разве Теэтет не уследит за разбором рассуждения лучше многих тех, у кого уже длинные бороды?
Сократ.
Во всяком случае, не лучше тебя, Феодор. И не думай, что я должен надрываться, защищая твоего покойного друга, а ты и пальцем не пошевельнешь.
169
Давай‑ка и ты, милейший, последи некоторое время за нашим рассуждением, пока мы не узнаем, тебе ли быть мерой чертежей, или все, подобно тебе, достаточно для себя сильны в астрономии и в прочих областях, в которых ты не без причины выделяешься.
Феодор.
В твоем присутствии, Сократ, нелегко уклониться от ответа. Однако, как видно, я обольщался, полагая, что ты не станешь меня принуждать и, подобно лакедемонянам, позволишь мне не раздеваться. Ты же, по‑моему, приближаешься скорее к Скирону[1124]
.
b
Ведь в Лакедемоне предлагают или раздеться или уйти, а ты, мне кажется, поступаешь скорее как Антей[1125]
: не отпускаешь пришельца, пока не заставишь его раздеться и померяться с тобой силой в рассуждениях.
Сократ.
Ты превосходно изобразил мою болезнь, Феодор. Однако я еще покрепче тех. Ибо со мной встречались тысячи Гераклов и Тесеев[1126]
, сильных в рассуждениях, и хотя я здорово бывал бит, но никогда не отступал – столь страшная любовь обуяла меня к подобным занятиям. Так что уж и ты не откажись померяться со мной на пользу и мне и себе.
c
Феодор.
Не буду больше спорить: веди меня куда хочешь. Во всяком случае, я обязан нести тот жребий, что ты мне назначишь, и терпеливо выслушивать твои опровержения. Но предоставляю я тебе себя лишь в тех пределах, которые ты сам определил.
Сократ.
С меня достаточно и этого. Но следи внимательно за тем, чтобы наши рассуждения как‑нибудь незаметно не зазвучали по‑детски, а не то нас снова кто‑нибудь в этом упрекнет.
d
Феодор.
Да я уж постараюсь, насколько хватит сил.
Сократ.
Итак, еще раз начнем с того, за что мы уже принимались прежде, и посмотрим, правы или не правы мы были, негодуя на это рассуждение, поскольку оно делает каждого обладателем самодовлеющего разума. Ведь Протагор согласился с нами, что некоторые люди выделяются своей способностью различать лучшее и худшее и что они‑то и есть мудрецы. Не так ли?
Феодор.
Да.
Сократ.
Однако если бы не мы, а он сам, присутствуя здесь, согласился, чтобы ему помогли, можно было бы к этому больше не возвращаться в поисках оснований.
e
На самом же деле кто‑то, пожалуй, решит, что мы неправомочны давать за него согласие. Поэтому лучше уж договориться об этом как можно яснее: ведь многое будет зависеть от того, так мы это решим или иначе.
Феодор.
Ты прав.
Сократ.
Поэтому его согласие мы возьмем не у посредников, а из собственного его рассуждения, как из ближайшего источника.
170
Феодор.
Каким образом?
Сократ.
А вот каким: он говорит, чту каждый мнит, существует для того, кто это мнит?
Феодор.
Да, он это говорит.
Сократ.
Так вот и мы, Протагор, толкуем о мнениях человека, более того – всех людей, и заявляем, что нет человека, который не считал бы в чем‑то себя мудрее других, а в чем‑то – других мудрее себя. И в величайших опасностях, когда люди бедствуют на войне, от болезней или в открытом море, как на богов уповают они на правителя в каждом из этих дел, почитая их своими спасителями, которые выделяются не чем иным, как своим знанием.
b
И весь наш человеческий мир полон тем, что, с одной стороны, одни ищут учителей и руководителей для себя и других существ, а также их дел, иные же полагают себя способными либо учить, либо руководить. И что мы можем сказать кроме того, что во всех этих случаях сами люди считают, что среди них бытуют и мудрость и невежество?
Феодор.
Ничего, кроме этого.
Сократ.
И разве не считают они мудрость истинным пониманием, а невежество – ложным мнением?
c
Феодор.
А то как же?
Сократ.
Тогда как же нам быть, Протагор, с твоим рассуждением? Сказать, что людские мнения всегда истинны или что иной раз истинны, а иной раз – ложны? Ведь так или иначе из обоих [утверждений] следует, что отнюдь не всегда их мнения истинны, но встречаются как те, так и другие. А теперь посмотри, Феодор, не захочет ли кто‑нибудь из сподвижников Протагора или ты сам настаивать на том, что ни один человек не считает другого невеждой, а мнения его – ложными?
Феодор.
Но это было бы невероятно, Сократ.
d
Сократ.
Однако к этому неизбежно сводится утверждение, что мера всех вещей – человек.
Феодор.
Каким образом?
Сократ.
Если ты, составив себе о чем‑то суждение, объявишь мне свое мнение об этом, то пусть даже оно будет истинным для тебя, как того требует рассуждение Протагора, – нам‑то или другим нельзя разве судить о твоем суждении? Или мы всегда будем почитать его истинным? И разве не препираются с тобой всякий раз тысячи людей, имея противоположные мнения и полагая, что ты судишь и думаешь ложно?
e
Феодор.
Клянусь Зевсом, Сократ, им нет числа, как говорит Гомер, – людям, что доставляют мне неприятности[1127]
.
Сократ.
Так что же? Ты ведь не захочешь, чтобы мы утверждали, будто в таком случае перед собой ты высказываешь истинное мнение, а перед тысячами других – ложное?
Феодор.
Похоже, что это необходимо следует из нашего рассуждения.
Сократ.
Но что же вытекает отсюда для самого Протагора? Неизбежно вот что: если ни сам он не думал, что мера всех вещей – человек, ни толпа – а она так и не думает, – то тогда никому не нужна та истина, которую он написал;
171
если же сам он все‑таки так думал, но толпа не разделяла его мнения, то, как известно, смотря по тому, кого будет больше – тех, кто не разделяет его мнения, или тех, кто разделяет, оно не будет или будет [истинным].
Феодор.
Неизбежно, если мнения каждого достаточно, чтобы быть или не быть [истине].
Сократ.
И вот что занятнее всего: ведь он признает истинным и то мнение, которое полагает его собственное мнение ложным, коль скоро соглашается, что всякое мнение бывает лишь о том, что существует.
Феодор.
Верно.
Сократ.
Так не придется ли ему признать, что его собственное мнение ложно, если он согласится с тем, что мнение тех, кто считает его ложным, – истинно?
b
Феодор.
Неизбежно.
Сократ.
А прочие разве признают, что они заблуждаются?
Феодор.
Нет, конечно.
Сократ.
А он в свою очередь разве не согласится, что их мнение истинно, исходя из того, что он написал? Феодор. Очевидно, согласится. Сократ. Итак, будут оспариваться все выдвинутые Протагором [положения], более того, с этим согласится он сам, признав, что мнение тех, кто утверждает противоположное, истинно; и тогда сам же Протагор вынужден будет признать, что ни собака, ни первый попавшийся человек не есть мера ни для одной непознанной вещи. Не так ли?
c
Феодор.
Так.
Сократ.
Следовательно, поскольку все ее оспаривают, Протагорову «Истину», она ни для кого не может быть истинной – ни для кого‑либо другого, ни для него самого.
Феодор.
Уж слишком, Сократ, мы наскакиваем на моего друга.
Сократ.
Но еще не ясно, мой милый, не проскочили ли мы мимо правды. Ведь ему как старшему подобает быть мудрее нас.
d
Что, если он воспрянет сейчас во весь рост[1128]
? Пожалуй, он уличит меня и тебя, сказав, что я много болтаю, а ты соглашаешься, а потом, погрузившись обратно, исчезнет? Однако, каковы бы мы ни были, нам необходимо на себя полагаться и высказывать каждый раз то, что нам представляется. Вот и теперь, не сказать ли нам прежде всего, что любой согласится с тем, что один бывает мудрее другого, а бывает и невежественнее?
Феодор.
По крайней мере, я такого мнения.
e
Сократ.
И не сказать ли нам также, что это рассуждение Протагора сильнее всего там, где он утверждает (как мы это наметили ему в помощь), что большинство вещей, какими представляются, таковы для каждого и есть: теплые, сухие, сладкие и все в таком же роде; но если уж он должен в чем‑то признать отличие одного существа от другого, то он охотно подтвердит, что там, где речь идет о здоровье или болезни, ни одна женщина, ни один ребенок или дикий зверь не способны излечить себя с полным знанием того, что для них здорово, и что именно в этом, если уж в чем‑то, один имеет перед другим преимущество.
Феодор.
И мне так кажется.
172
Сократ.
Если же взять государственные дела, то что каждый город сочтет для себя прекрасным или постыдным, справедливым или несправедливым, священным или нет и утвердит это как законное, то и будет для него таковым поистине, и здесь уж ни один человек не будет мудрее другого человека, ни город – города. А вот что касается определения полезного или неполезного для города, то здесь – если уж придется Протагору согласиться – он признает, что с точки зрения истины один член Совета[1129]
отличается от другого, как отличаются и мнения разных городов, и едва ли он отважился бы сказать, что,
b
в чем бы город ни полагал свою пользу, в том, скорее всего, она и будет заключаться. Что же касается того, о чем я только что сказал, – справедливого или несправедливого, священного или нечестивого, то протагоровцам угодно настаивать, что ничто из этого не имеет по природе своей сущности, но становится таким поистине лишь тогда, когда представляется таким в общем мнении, и на такой срок, на какой это мнение сохраняется. И сколько людей ни перетолковывало всячески рассуждение Протагора, они так или иначе приходили к этой же мудрости. Видишь, Феодор, чем дальше, тем более важные с вопросы встают перед нами.
c
Феодор.
А разве у нас есть недостаток в досуге, Сократ?
Сократ.
Это верно. И в иные времена и теперь мне не раз приходило на ум, любезный друг, что не случайно люди, большую часть своего времени проводящие в занятиях философией, выступая в суде, вызывают смех[1130]
.
Феодор.
Что ты хочешь этим сказать? Сократ. Вероятно, если сравнить тех юношей, что толкаются в судах и тому подобных местах, с теми, что проводят время в философии и ученых беседах, то воспитание первых будет рабским перед свободным воспитанием вторых.
d
Феодор.
Почему?
Сократ.
Потому, что у последних, как ты выразился, никогда не бывает недостатка в досуге и своим рассуждениям они предаются в тишине и на свободе. Вот мы сегодня переходим уже к третьему рассуждению – так же и они, если какой‑нибудь побочный вопрос более придется им по душе, чем основной, не заботятся о том, долго или коротко придется им рассуждать, лишь бы только дойти до сути. Первым же всегда недосуг, их подгоняют водяные часы[1131]
,
e
не позволяя им держать речь о чем любо, их связывает противник и зачитываемый иск, сверх которого ничего нельзя говорить. Речи же свои они держат, как раб за раба – перед господином, что восседает со своим законом в руке, да и тяжбы у них никогда не об отвлеченном предмете, но всегда о себе самом, и нередко дело идет о жизни и смерти.
173
От всего этого люди становятся ожесточенными и хитрыми (они знают, как польстить господину речью и угодить делом), с мелкой и кривой душой. Величие, прямоту и независимость с малых лет у них отняло рабство, принудившее их к коварству, угрозами и страхом отравившее нежные еще души, и, кто не сумел вооружиться сознанием истины и права, те не перенесли всего этого, но, обратившись вскоре ко лжи и взаимным обидам,
b
совершенно согнулись и сломились, и теперь, превратившись из детей во взрослых людей, они, совсем не имея разума, почитают себя искусными и мудрыми. Что до этих, то они таковы, Феодор. Что же до людей из нашего хора, то, если угодно, поговорим и о них. Или же оставим их в покое, обратившись к нашему рассуждению, чтобы не слишком злоупотреблять отступлениями и той свободой бесед, о которой мы только что говорили?
Феодор.
Ни в коем случае, Сократ. Давай поговорим и о них. Ибо ты очень хорошо сказал, что не мы, люди такого хора, подчиняемся своим рассуждениям,
c
но они служат нам как рабы, и каждое из них дожидается того часа, когда нам заблагорассудится его завершить: ведь мы не поэты и над нами нет ни судьи, ни зрителя со своими оценками и поучениями.
Сократ.
Ну что ж, если тебе угодно, давай поговорим о корифеях, ибо что можно сказать о тех, кто философией занимается без особого рвения?
d
Эти же с ранней юности не знают дороги ни на агору, ни в суд, ни в Совет, ни в любое другое общественное собрание, Законов и постановлений, устных и письменных, они в глаза не видали и слыхом не слыхали. Они не стремятся вступить в товарищества для получения должностей, сходки и пиры и ночные шествия с флейтистками даже и во сне им не могут присниться. Хорошего ли рода кто из граждан или дурного, у кого какие неприятности из‑за родителей, от мужей или от жен – все это более скрыто от такого человека, чем сколько, по пословице, мер воды в море[1132]
.
e
Ему не известно даже, что он этого не знает. Ибо воздерживается он от этого вовсе не ради почета, но дело обстоит так, что одно лишь тело его пребывает и обитает в городе, разум же, пренебрегши всем этим как пустым и ничтожным, парит надо всем, как у Пиндара[1133]
, меря просторы земли, спускаясь под землю и воспаряя выше небесных светил, всюду испытывая природу любой вещи в целом и не опускаясь до того, что находится близко.
174
Феодор.
Что ты имеешь в виду, Сократ?
Сократ.
Я имею в виду Фалеса[1134]
, Феодор. Рассказывают, что когда он, наблюдая небесные светила и заглядевшись наверх, упал в колодец, то какая‑то фракиянка, миловидная и бойкая служанка, посмеялась над ним, что‑де он стремится знать, что на небе, того же, что рядом и под ногами, не замечает. Эта насмешка относится ко всем, кто проводит свой век в занятиях философией.
b
В самом деле, от такого человека скрыто не только что делает его ближайший сосед, но чуть ли и не то, человек он или еще какая‑то тварь. А между тем он доискивается, что же такое человек и что подобает творить или испытывать его природе в отличие от других, и крайне этим озабочен. Ну как, теперь ты постигаешь, о чем я говорю?
Феодор.
Да, и ты говоришь правду.
Сократ.
Так вот, такой человек, общаясь с кем‑то лично или выступая на людях, – например, как мы прежде говорили, когда ему приходится в суде или где‑нибудь еще толковать о том, что у него под ногами и перед глазами, – вызывает смех не только у фракиянок,
c
но и у прочего сброда, на каждом шагу по неопытности попадая в колодцы и тупики, и за эту ужасную нескладность слывет придурковатым. Когда дело доходит до грубой ругани, он не умеет никого уязвить, задев за живое, потому что по своей беспечности не знает ни за кем ничего дурного, и в растерянности своей кажется смешным.
d
Когда же иные начинают при нем хвалить других или превозносить себя, то он, не притворно, а искренне забавляясь всем этим, обнаруживает свою простоту и производит впечатление дурака. Славословия тиранам или царям он слушает так, как если бы хвалили пастухов, тех, что пасут свиней, овец или коров, за богатый удой, с той только разницей, что людской скот, как он считает, пасти и доить труднее и хлопотливее; При этом, считает он, пастырь, учредивший свой загон на холме за прочной стеной,
e
по недостатку досуга неизбежно бывает ничуть не менее дик и необразован, чем те пастухи. Когда же наш философ слышит, что кто‑то прикупил тысячи плетров [земли] или же приобрел еще более удивительные сокровища, то для него, привыкшего обозревать всю землю, это – самая малость. Если же воспевают знатный род, что‑де кто‑то насчитывает семь колен богатых предков, то он считает это сомнительной похвалой недалеких людей,
175
которые по своей необразованности не могут охватить взором все страны и все времена и сообразить, что у каждого были несметные тысячи дедов и прадедов, среди которых не раз случались богачи и нищие, цари и рабы, варвары и эллины у кого угодно. Ему кажется нелепым и пустяшным, когда кто‑то гордится списком в двадцать пять предков и возводит свой род к Гераклу и Амфитриону,
b
потому что и Амфитрионов предок в двадцать пятом колене был таков, какая выпала ему участь, равно как и предок этого предка в пятидесятом колене, и ему смешна и людская несообразительность и неспособность расстаться с суетностью неразумной души. Во всех этих случаях такой человек бывает высмеян большинством, которому кажется, что он слишком много на себя берет, хотя не знает простых вещей и теряется в любых обстоятельствах.
Феодор.
Именно так и бывает, Сократ.
c
Сократ.
Когда же, друг мой, он кого‑нибудь повлек бы ввысь и кто‑нибудь от вопросов «какую я тебе – или ты мне – причинил несправедливость?» пожелал бы перейти к созерцанию того, чту есть справедливость или несправедливость сама по себе и чем они отличаются от всего прочего и друг от друга, а от вопросов о том, счастлив ли царь своим золотом, – к рассмотрению того, каково в целом царское и человеческое счастье или несчастье и каким образом человеческой природе надлежит добиваться одного или избегать другого,
d
– и тогда‑то мелкому человечку с лукавой и сутяжной душой придется отдать себе отчет во всех подобных вещах, он явит совсем противоположный образ. Свисая с головокружительной высоты и взирая сверху вниз, страдая в таком положении с непривычки, теряясь и бормоча что‑то, этот, однако, не возбуждает смеха ни у фракиянок, ни у прочего темного люда, ибо они того не замечают, а забавляет это всех тех, кто получил воспитание, противоположное этому, рабскому.
e
Таков характер каждого из них, Феодор, – одного, воспитанного в подлинном свободном досуге (его ты зовешь философом), которому не зазорно казаться простодушным, и он не придает значения, если вдруг ему случится оказаться на рабской службе, своему неумению собрать поклажу, сварить обед или произнести льстивые речи, и другого, который все это умеет исполнять точно и проворно, зато не знает, как подобает свободному человеку перебросить через плечо плащ[1135]
или, уловив гармонию речей, достойно воспеть счастливую жизнь богов и людей.
176
Феодор.
Если бы твои слова, Сократ, всех могли убедить так же, как и меня, больше мира и меньше зла стало бы среди людей.
Сократ.
Но зло неистребимо, Феодор, ибо непременно всегда должно быть что‑то противоположное добру. Среди богов зло не укоренилось[1136]
, а смертную природу и этот мир посещает оно по необходимости. Потому‑то и следует пытаться как можно скорее убежать отсюда туда.
b
Бегство – это посильное уподобление богу, а уподобиться богу – значит стать разумно справедливым и разумно благочестивым. Однако, добрейший мой, не так‑то легко убедить большинство, что вовсе не по тем причинам, по каким оно считает нужным избегать подлости и стремиться к добродетели, следует об одном радеть, а о другом – нет, чтобы казаться не дурным, а добрым человеком. Это, как говорится, бабушкины сказки.
c
Истина же гласит так: бог никоим образом не бывает несправедлив, напротив, он как нельзя более справедлив, и ни у кого из нас нет иного способа уподобиться ему, нежели стать как можно более справедливым. Вот здесь‑то и проявляются истинные возможности человека, а также ничтожество его и бессилие. Ибо знание этого есть мудрость и подлинная добродетель, а незнание – невежество и явное зло. Прочие же мнимые возможности и премудрости оборачиваются грубостью в делах государственного правления и пошлостью в искусствах.
d
Поэтому людям несправедливым и неблагочестивым в словах и поступках лучше всего не позволять искусно злоупотреблять своей злокозненностью, ибо они кичатся своим позором и не предполагают даже услышать, что они – вздорный люд, то есть бремя земли, а не благоспасаемая опора отечества. По правде сказать, чем меньше они предполагают быть тем, что они есть, тем больше становятся такими, какими не предполагают быть. Ведь они не знают, в чем состоит наказание за несправедливость, а уж это следовало бы знать прежде всего. Оно не заключается вопреки ходячему мнению в побоях или смерти, от которых иной раз страдают и те, кто не совершил никакой несправедливости, – оно в том, чего избежать невозможно.
e
Феодор.
Что ты имеешь в виду?
Сократ.
В жизни, мой милый, есть два образца: вознагражденного благочестия и наказанного безбожия, но, не замечая этого по глупости, по крайнему неразумию, они даже не подозревают, чему уподобляются из‑за своих несправедливых поступков и от чего удаляются.
177
За это они и несут справедливое возмездие, ведя именно тот образ жизни, которому они уподобляются. Но скажи мы им, что если они не изменят своих наклонностей, то и после смерти не примет их свободный от зол край, а будут они и там вечно иметь подобие своему образу жизни, дурные в обществе дурных, – я не сомневаюсь, что ловкачи и проходимцы будут слушать нас как каких‑то безумцев.
Феодор.
Вот именно, Сократ.
b
Сократ.
Это мне известно, друг мой. Причем с ними со всеми происходит одно и то же: когда они бывают вынуждены всесторонне обсуждать, чту именно они порицают, и они намерены, как положено мужчинам, не убегать сразу же, а какое‑то время постоять за свои убеждения, тогда, любезнейший, они в конце концов отрекаются от своих же слов, вся их риторика блекнет и они уже ничем не отличаются от детей. Однако давай оставим это, поскольку и так уже у нас получилось с отступление,
c
иначе, растекаясь все шире, оно поглотит наше первоначальное рассуждение; давай возвратимся к прежнему, если ты не возражаешь.
Феодор.
Но такие вещи, Сократ, я слушаю с не меньшим удовольствием, ибо в моем возрасте легче следить за этим. Впрочем, если тебе угодно, вернемся обратно.
Сократ.
Не вернуться ли нам к тому месту нашей беседы, где мы говорили, что те, кто бытие полагает в движении и утверждает, что представляющееся каждому всегда таково и есть для того, кому оно представляется, по поводу всего прочего, и в не меньшей степени по поводу справедливого, охотно настаивали бы на том,
d
что то из узаконенного городом, чту представляется ему справедливым, скорее всего и будет для него справедливым, пока оно остается в силе. Что же касается добра, то тут уж ни у кого не хватит мужества утверждать, будто и полезным будет то, что узаконит для себя город, полагая это полезным, и что оно будет таковым все то время, пока узаконено, – разве что у того, кто ведет речь лишь о полезном по имени. Иначе это было бы издевательством над тем, о чем мы рассуждаем. Не так ли?
Феодор.
Конечно.
e
Сократ.
Пусть же не об имени идет речь, но рассматривается вещь, названная этим именем.
Феодор.
Да, пусть.
Сократ.
Но, называя что‑то полезным, каждый город, вероятно, к этому и направляет свои установления, и все законы, насколько хватает разумения и сил, он делает как можно более для себя полезными. Или, издавая законы, он имеет в виду что‑то другое?
178
Феодор.
Ни в коем случае.
Сократ.
И всякий раз это удается или во многом каждый город и ошибается?
Феодор.
Я думаю, что и ошибается.
Сократ.
Тем более можно будет с этим согласиться, если кто‑то поставит вопрос обо всем виде, к которому относится полезное, – а к нему относится и полезное на будущее время. Ведь мы устанавливаем законы, с тем чтобы они были полезными в последующие времена, что с полным правом можно назвать «будущее».
b
Феодор.
Конечно.
Сократ.
Далее, давай зададим такой вопрос Протагору или кому‑нибудь другому из тех, кто заодно с ним: «Ты говоришь, Протагор, что человек – мера всего, и белого, и тяжелого, и легкого, и всего подобного, поскольку, имея в самом себе мерило этих вещей и полагая их такими, как он их воспринимает, он полагает также, что они для него поистине существуют». Не так ли?
Феодор.
Так.
c
Сократ.
«Значит, – скажем мы, – Протагор, ей имеет мерило в себе и для будущих вещей, и, какие бы предположения он на их счет ни сделал, таковыми вещи и станут для предположившего? Возьмем, например, теплое: если какой‑то невежда предположит, что у него будет горячка и будет жар, а другой человек, врач, предположит противное, то согласно какому из мнений свершится будущее? Согласно обоим? И для врача не будет ни жара, ни горячки, а для него самого и то и другое?»
Феодор.
Это было бы смешно.
Сократ.
Я все‑таки думаю, что в отношении будущей сладости или терпкости вина верх возьмет мнение земледельца, а не кифариста.
d
Феодор.
Еще бы!
Сократ.
И наоборот, о будущей дисгармонии или гармонии не может лучше музыканта судить учитель гимнастики, если покажется ему, учителю, в будущем что‑нибудь гармоничным.
Феодор.
Никоим образом.
Сократ.
Значит, и когда готовится пир, тот, кто собирается есть, не будучи знатоком поварского искусства, не составит себе более верного мнения о предстоящем удовольствии, чем повар? ибо мы спорим не о том,
e
что в настоящем или прошедшем есть или было кому‑то приятным, но о том, чему только предстоит таковым казаться и быть: так вот в этом случае сам ли себе каждый наилучший судья, или ты, Протагор, лучше, нежели кто‑нибудь из простых людей, предскажешь, что для каждого из нас будет убедительно в суде?
Феодор.
Еще бы, Сократ. Уж здесь‑то он обещает сильно отличиться от всех.
179
Сократ.
Клянусь Зевсом, мой милый, никто не искал бы его бесед за большие деньги, если бы он не внушал всем к нему приходящим, что ни один гадатель и никто другой не может лучше него судить о том, каким покажется и будет будущее.
Феодор.
Совершенно верно.
Сократ.
Но и законодательство и польза обращены к будущему, и любой согласится, что неизбежно город, издающий законы, часто допускает промах в отношении высшей пользы.
Феодор.
Разумеется.
b
Сократ.
Значит, и мы можем с полным правом сказать твоему учителю, что он непременно должен признать одного человека более мудрым, чем другой, и что тот, мудрейший, и есть мера, – мне же, невежде, нет никакой необходимости становиться мерой, как к тому принуждала меня недавно произнесенная за него речь: хочешь – не хочешь, а будь ею.
Феодор.
Мне кажется, Сократ, это как раз наиболее уязвимая часть его рассуждения, уязвимого, впрочем, и там, где он наделяет решающей силой мнения других, а те, оказывается, вовсе и не считают его рассуждения истинными.
c
Сократ.
Это рассуждение, Феодор, уязвимо со всех сторон, ибо не всякое мнение всякого человека истинно. А вот чувственные наши восприятия, с которыми связаны ощущения и соответствующие им мнения, изобличить как неистинные, пожалуй, труднее. Но может быть, я несу вздор. Дело в том, что они бывают неопровержимы, и правы те, кто говорит, что они отчетливы и суть знания, и наш Теэтет удачно заметил, что ощущение и знание – это одно и то же.
d
А потому, как побуждает нас произнесенная за Протагора речь, следует подойти ближе к этому несущемуся бытию и, постучав, посмотреть, раздастся ли звук целого или надтреснутого сосуда[1137]
. Спор из‑за этого бытия – не пустое дело и не между малым числом людей.
Феодор.
Далеко не пустое. В Ионии он разгорелся повсюду, и друзья Гераклита решительно возглавили хор сторонников этого рассуждения.
Сократ.
Тем более, милый Феодор, следует с самого начала посмотреть, как они ставят этот вопрос.
e
Феодор.
Разумеется. Так вот, Сократ, что касается этих гераклитовцев и, как ты говоришь, гомеровцев, а также более древних, то с самими эфесцами[1138]
, кичащимися своей опытностью, разговаривать не легче, чем с разъяренными слепнями. Прямо как стоит в их писании, они вечно несутся, а задержаться на предмете исследования или вопросе, спокойно и чинно отвечать или спрашивать менее всего им присуще.
180
Скорее можно сказать, что это им и вовсе не свойственно – покоя для них не существует. А если ты кого‑нибудь о чем‑либо спросишь, то они обстреляют тебя, вытаскивая, как из колчана, одно загадочное речение за другим, и если ты захочешь уловить смысл сказанного, то на тебя обрушится то же, только в переиначенном виде, и ты с ними никогда ни к чему не придешь. Да и между собою им это не удается, благо они вовсю остерегаются,
b
как бы не оказалось чего‑либо прочного в их рассуждениях или в их собственных душах, считая, как мне кажется, это застоем. А с ним они страшно воюют и по возможности отовсюду его изгоняют.
Сократ.
Может быть, Феодор, ты видел этих мужей в споре и не заставал их в мирной беседе – ты ведь не водишь с ними дружбы. Но своим ученикам, думаю я, из которых они хотели бы сделать свое подобие, они на досуге как раз излагают что‑то в этом роде.
Феодор.
Каким ученикам, чудак! Ведь у них никто не становится учеником другого – они объявляются сами собой, по вдохновению,
c
и один другого почитает невеждой. Так что от них, повторяю, ни худом ни добром не добьешься толку, и придется нам самим рассмотреть этот вопрос.
Сократ.
Ты чинно рассудил. А разве мы не извлекли уже этот вопрос из древней поэзии, где он был скрыт от большинства, –
d
вопрос о том, что все ведет свое происхождение от рек Океана и Тефии[1139]
и ничего не стоит? Нашли мы его и у позднейших, а стало быть, мудрейших, которые скрытое разъясняют таким образом, чтобы, слушая их, даже сапожники могли постигнуть их мудрость и избавиться от печального заблуждения, будто какие‑то вещи стоят, а какие‑то движутся, но, усвоив, что движется все, прониклись бы к этим людям почтением. Да, чуть было не забыл, Феодор, ведь есть и другие, которые со своей стороны провозгласили противоположное, а именно что «настоящее имя всего –
e
Неподвижность», не говоря уж о том, что вразрез с теми утверждали Мелиссы и Пармениды[1140]
, – что‑де все есть единое и само в себе неподвижно, не имея пространства, где оно могло бы двигаться. Как же нам быть теперь, друг мой, со всем этим? Ибо, понемногу продвигаясь вперед, мы незаметно оказались на середине между теми и другими,
181
и если не сумеем спастись бегством, то поплатимся.тем, что нас, как во время игры в палестре, схватят и начнут тянуть в разные стороны – кто перетянет через среднюю черту. Поэтому, мне кажется, нам следует прежде отдельно рассмотреть тех, с кого мы начали, то есть этих «текучих». Если окажется, что в их утверждениях есть толк, то к ним мы и присоединимся, постаравшись убежать от других. Если же нам покажется, что более правы эти «неподвижники», тогда мы побежим к ним, прочь от двигающих неподвижное.
b
Но если нам покажется, что обе стороны не говорят ничего ладного, тогда мы попадем в смешное положение, считая дельными себя, слабосильных, и лишая чести наидревнейших и наимудрейших мужей. Итак, смотри, Феодор, стоит ли подвергать себя такой опасности?
Феодор.
Нам не следует уклоняться, Сократ, от рассмотрения утверждений каждой из сторон.
Сократ.
Уж если ты так желаешь, придется рассмотреть. Рассмотрение движения, как мне кажется, нужно начать с того, чту именно они имеют в виду, говоря, что все движется.
c
Я хочу сказать: об одном виде движения они толкуют или, как мне представляется, о двух? Впрочем, пусть это кажется не одному мне, а раздели‑ка и ты со мной это мнение, чтобы уж страдать нам обоим, если придется. Растолкуй мне, пожалуйста, когда что‑то меняет одно место на другое или вращается в том же самом, ты называешь это движением?
Феодор.
Я – да.
Сократ.
Так вот, пусть это будет один вид движения. Когда же что‑то, оставаясь на месте, стареет, или становится из белого черным или из мягкого – твердым,
d
или претерпевает еще какое‑либо иное изменение, то не подобает ли это назвать другим видом движения?
Феодор.
Думаю, что это необходимо.
Сократ.
Итак, я утверждаю, что видов движения два: изменение и перемещение.
Феодор.
Правильно.
Сократ.
Сделав такое различение, обратимся к тем, кто утверждает, что все движется, с вопросом: движется ли все обоими способами, то есть и перемещается и изменяется, или же одно что‑нибудь – обоими способами, а другое – одним?
e
Феодор.
Клянусь Зевсом, не знаю, что и сказать. Я думаю, они‑то стали бы утверждать, что [все движется] сразу обоими способами.
Сократ.
По крайней мере, если бы нет, друг мой, то перед ними оказались бы и движущиеся и стоящие вещи, и уже ничуть не более правильно было бы сказать, что все движется, нежели что все стоит.
Феодор.
Вот именно.
Сократ.
Стало быть, если все должно двигаться и неподвижность ничему не присуща, то все всегда должно двигаться всевозможными [видами] движения.
182
Феодор.
Непременно.
Сократ.
Взгляни же у них и вот на что: разве не говорили мы, что возникновение теплоты, белизны и чего бы то ни было другого они объясняют так, что каждое из этого одновременно с ощущением быстро движется между действующим и страдающим, причем страдающее становится уже ощущающим, а не ощущением, а действующее – имеющим качество, а не качеством? Вероятно, тебе кажется странным это слово «качество» и ты не понимаешь его собирательного смысла, но все же выслушай все по порядку.
b
Ведь действующее не бывает ни теплотой, ни белизной, но становится теплым или белым, равно как и всем прочим. Ты ведь помнишь, как прежде мы толковали, что единое само по себе есть ничто – не действующее и не страдающее, но из взаимного сочетания того и другого родятся ощущение и ощутимое, и последнее становится имеющим качество, а первое – ощущающим.
Феодор.
Помню. Как не помнить!
c
Сократ.
Поэтому не будем вникать, так или иначе рассуждают они о прочих вещах, а сосредоточим внимание на одном вопросе: все движется и течет, говорите вы? Не так ли?
Феодор.
Да.
Сократ.
Следовательно, [движется и течет] обоими видами движений, которые мы разобрали, то есть перемещаясь и изменяясь?
Феодор.
А как же иначе, если движение будет полным?
Сократ.
Значит, если бы все это только перемещалось, а не менялось, то мы могли бы сказать, каково то, что, перемещаясь, течет. Или ты не находишь?
Феодор.
Это так.
d
Сократ.
А поскольку даже и белизна того, что течет, не остается постоянной, но изменяется (так что одновременно происходит и течение этой белизны, и превращение ее в другой цвет, чтобы, таким образом, все это не задерживалось), то разве можно в таком случае дать имя какому‑либо цвету так, чтобы называть его правильно?
Феодор.
Что бы тут такое придумать, Сократ? Разве что тоже что‑нибудь текучее, коль скоро все это от говорящего всегда ускользает?
Сократ.
А что мы скажем о каком‑либо ощущении, например о зрении или слухе? Задерживаются ли они когда‑либо в [акте] зрения или слуха?
e
Феодор.
Не должны бы, коль скоро все движется.
Сократ.
Значит, «видеть» следует говорить не больше, чем «не видеть», – и то же самое относится ко всякому другому ощущению, если все всевозможным образом движется.
Феодор.
Выходит.
Сократ.
А ведь и ощущение есть знание, как говорили мы с Теэтетом.
Феодор.
Да, так было сказано.
Сократ.
Следовательно, на вопрос о знании мы отвечали бы не более о знании, чем о незнании.
183
Феодор.
Видимо.
Сократ.
Это было бы прекрасной поправкой к нашему ответу, если бы мы стремились доказать, что все движется: таким образом наш ответ оказался бы точным. Выяснилось же, по‑видимому, что коль скоро все движется, то любой ответ – о чем бы ни спрашивалось – будет одинаково правильным, раз он будет означать, что дело и так и не так обстоит, или, если угодно, становится (чтобы уж вместе со словом не привносить остановки).
Феодор.
Ты правильно говоришь.
Сократ.
За исключением того, Феодор, что я сказал «так» и «не так». «Так» не следует говорить, ибо
b
в нем еще нет движения; не выражает движения и «не так». Приверженцам этого учения нужно учредить другую какую‑то речь, поскольку в настоящее время у них нет слов для своих положений, есть разве только выражение «вообще никак». Вот это своей неопределенностью как раз бы им подошло.
Феодор.
Это действительно самый подходящий для них способ выражения.
Сократ.
Стало быть, Феодор, с твоим другом покончено и мы никак не можем с ним согласиться, что
c
мера всех вещей – любой человек, даже и какой‑нибудь неразумный. Не согласимся мы и с тем, что, согласно учению о всеобщем движении, знание есть ощущение, если только наш Теэтет не понимает это как‑то иначе.
Феодор.
Прекрасно сказано, Сократ. И раз с этим докончено, то и меня тебе нужно отпустить, поскольку уговор был отвечать тебе лишь до тех пор, пока речь будет идти о Протагоре.
Теэтет.
Но не прежде, Феодор, чем вы с Сократом разберете, как вы недавно наметили, учение тех, кто утверждает, что все стоит.
d
Феодор.
Не молод ли ты, Теэтет, учить старших нарушать соглашения? Приготовься лучше сам отвечать Сократу на остальные вопросы!
Теэтет.
Если только он захочет. Однако с большим удовольствием я послушал бы о том, что я имею в виду.
Феодор.
Вызывать Сократа на разговор – это все равно что звать ездока в чистое поле. Так что спрашивай – и услышишь.
Сократ.
Что до первого наказа Теэтета, то, мне кажется, Феодор, я его не послушаюсь.
e
Феодор.
А почему не послушаться?
Сократ.
Я побаиваюсь вторгаться слишком дерзко даже в область Мелисса и других, утверждающих, что все едино и неподвижно, однако страшнее их всех мне один Парменид. Он внушает мне, совсем как у Гомера, «и почтенье, и ужас»[1141]
. Дело в том, что еще очень юным я встретился с ним[1142]
, тогда уже очень старым, и мне открылась во всех отношениях благородная глубина этого мужа.
184
Поэтому я боюсь, что и слов‑то его мы не поймем, а уж тем более подразумеваемого в них смысла. Да и самое главное, ради чего строится все наше рассуждение о знании, – чту оно такое – обернется невидимкой под наплывом речений, если кто им доверится. Между тем, вопрос, который мы поднимаем, – это непреодолимая громада: если коснуться его мимоходом, он незаслуженно пострадает, если же уделить ему достаточно внимания, это затянет наш разговор и заслонит вопрос о знании. Нам не следует допускать ни того ни другого, а постараться с помощью повивального искусства разрешить Теэтета от бремени мыслей о знании.
b
Феодор.
Ну, если тебе это кажется правильным, так и надлежит поступить.
Сократ.
Так вот что предстоит тебе рассмотреть, Теэтет, в связи со сказанным. Ты отвечал, что ощущение есть знание. Не так ли?
Теэтет.
Да.
Сократ.
Значит, если бы кто‑то спросил тебя: чем видит человек белое и черное, чем он слышит высокий и низкий звук? Я думаю, ты сказал бы: глазами и ушами.
Теэтет.
Конечно.
c
Сократ.
Непринужденное обращение со словами и выражениями без тщательного их отбора, по большей части, не считается неблагородным, напротив, скорее обратное говорит о недостатке свободного воспитания, и все же есть случаи, когда бывает необходимо, как и сейчас, отклонить твой ответ как неправильный. Суди сам, какой ответ правильнее: глаза – это то, чем мы смотрим или посредством чего мы смотрим? Также и уши – это то, чем мы слышим или посредством чего мы слышим?
Теэтет.
Мне кажется, Сократ, в обоих случаях это скорее то, посредством чего мы ощущаем, нежели чем.
d
Сократ.
Было бы ужасно, дитя мое, если бы у нас, как у деревянного коня[1143]
, было по многу ощущений, а не сводились бы они все к одной какой‑то идее, будь то душа или как бы ее там ни назвать, которой мы как раз и ощущаем ощутимое, пользуясь прочими [органами чувств] как орудиями.
Теэтет.
Да, это мне больше нравится, чем прежнее.
Сократ.
Так ради чего я для тебя это все уточняю? Если мы чем‑то одним и тем же улавливаем, с помощью глаз – белое и черное, а с помощью других чувств –
e
что‑то другое, то отнесешь ли ты все это, если тебя спросят, к телу? Пожалуй, лучше тебе самому это рассудить, давая ответы, нежели мне усердствовать за тебя. Скажи: то, с помощью чего ты ощущаешь теплое, жесткое, легкое, сладкое, – все это ты отнесешь к телу или к чему‑то иному?
Теэтет.
Нет, ни к чему иному не отнесу.
Сократ.
А не пожелаешь ли ты согласиться, что ощутимое посредством одних способностей невозможно
185
ощущать посредством других, например ощутимое для слуха – посредством зрения, а ощутимое для зрения – посредством слуха?
Теэтет.
Как же не пожелать!
Сократ.
Значит, если бы ты размышлял сразу о том и о другом, ты не мог бы ощущать то и другое сразу то с помощью одного из этих органов, то с помощью другого?
Теэтет.
Конечно, нет.
Сократ.
Значит, размышляя сразу о звуке и о цвете ты прежде всего установишь, что их два?
Теэтет.
Конечно.
Сократ.
Затем, что один отличается от другого и тождествен самому себе?
b
Теэтет.
Как же иначе?
Сократ.
И что оба они составляют два, а каждое из них – одно?
Теэтет.
И это тоже.
Сократ.
А затем сможешь рассмотреть, неподобны они или подобны друг другу?
Теэтет.
Вероятно.
Сократ.
А посредством чего стал бы ты все это о них мыслить? Ведь общего между ними нельзя уловить ни с помощью зрения, ни с помощью слуха. Вот еще доказательство моих слов: если бы можно было рассмотреть, солоны ли они оба или нет, то, знаю я, ты не постоишь за ответом и скажешь, с помощью чего это можно сделать. И оказывается, это не зрение и не слух, а что‑то иное.
c
Теэтет.
Что же иное, кроме способности [ощущать] с помощью языка?
Сократ.
Прекрасно. Но с помощью чего эта способность открывает тебе общее во всех вещах (в том числе и в тех, что ты называешь «бытием» или «небытием»), а также то, что мы сегодня о них выясняли? Какие ты отведешь всему этому органы, с помощью которых ощущало бы каждую вещь наше ощущающее начало?
Теэтет.
Ты толкуешь о бытии и небытии, о подобии и неподобии, о тождестве и различии, а также, определяются ли они одним или иным каким‑то числом.
d
Ясно, что твой вопрос относится и к четному или нечетному, и ко всему тому, что отсюда следует, – с помощью какой части тела ощущаем мы это душой?
Сократ.
Превосходно поспеваешь ты за мной, Теэтет! Это как раз то, о чем я спрашиваю.
Теэтет.
Но клянусь Зевсом, Сократ, мне нечего сказать, кроме, прежде всего, того, что, по‑моему, нет никакого особого органа для этих вещей, как для других, и что душа сама по себе, как мне кажется, наблюдает общее во всех вещах.
e
Сократ.
Ты прекрасен, Теэтет, вовсе не урод, как говорил про тебя Феодор. Ибо кто говорит прекрасно, тот прекрасен и добр. И ты сделал не только прекрасное, но и благое дело, ибо избавил меня от пространного разъяснения, коль скоро для тебя очевидно, что одни вещи душа наблюдает сама по себе, а другие – с помощью телесных способностей. Именно таково было мое мнение, и я хотел, чтобы ты его со мной разделил.
186
Теэтет.
Но все это очевидно.
Сократ.
Какому же из двух [родов вещей] приписываешь ты сущность? Ведь она в наибольшей степени присуща всему.
Теэтет.
Я приписываю ее тому, к чему душа устремляется сама по себе.
Сократ.
И подобному и неподобному? И тождественному и различному?
Теэтет.
Да.
Сократ.
Ну а прекрасному и дурному или доброму и злому?
Теэтет.
Мне кажется, что душа более всего рассматривает сущность вот этих вещей в их взаимном соотношении, сравнивая в самой себе настоящее и прошедшее с будущим.
b
Сократ.
Пусть так. А правда ли, что жесткость жесткого она ощущает через прикосновение, равно как и мягкость мягкого?
Теэтет.
Да.
Сократ.
О сущности же того и другого – что они собой представляют – и об их взаимной противоположности, а также в свою очередь о сущности этой противоположности пытается у нас судить сама душа, то и дело возвращаясь к ним и сравнивая их между собой.
Теэтет.
Разумеется.
c
Сократ.
Не правда ли, людям и животным от природы присуще с самого рождения получать впечатления, которые через тело передаются душе, а вот размышления о сущности и пользе всего этого появляются с трудом, долгое время спустя, после многих стараний и учения, если вообще это приходит?
Теэтет.
Совершенно верно.
Сократ.
А можно ли постигнуть истину того, сущности чего ты не постиг?
Теэтет.
Нельзя.
Сократ.
А будет ли кто‑то знатоком того, истины чего он не постиг?
d
Теэтет.
Как это возможно, Сократ?
Сократ.
Значит, не во впечатлениях заключается знание, а в умозаключениях о них, ибо, видимо, именно здесь можно схватить сущность и истину, там же – нет.
Теэтет.
Очевидно.
Сократ.
Скажешь ли ты про столь различные вещи, что это – одно и то же?
Теэтет.
Это было бы несправедливо.
Сократ.
Каким же [общим] именем ты все это назовешь – слух, зрение, обоняние, охлаждение, согревание?
e
Теэтет.
Я бы сказал – ощущением. Как же иначе?
Сократ.
Стало быть, все это ты будешь называть ощущением?
Теэтет.
Это необходимо.
Сократ.
А этим ощущением, как мы говорили, истину схватить нельзя, равно как и сущность?
Теэтет.
Стало быть, нельзя.
Сократ.
Выходит, и знание нельзя?
Теэтет.
Выходит, что так.
Сократ.
Значит, Теэтет, знание и ощущение никогда не будут тождественны.
Теэтет.
Видимо, нет, Сократ. И теперь мне стало совершенно ясно, что знание есть нечто иное, нежели ощущение.
187
Сократ.
Однако не для того мы начинали рассуждать, чтобы найти, чту не есть знание, а чтобы найти, чту оно есть. Тем не менее мы настолько продвинулись вперед, чтобы искать его вовсе не в ощущении, а в том имени, которое душа носит тогда, когда сама по себе занимается рассмотрением существующего.
Теэтет.
Но я думаю, Сократ, что это называется «составлять себе мнение».
b
Сократ.
Ты правильно думаешь, милый, и теперь, зачеркнув все прежнее, посмотри с самого начала, не увидишь ли ты чего‑либо большего, после того как сделал такие успехи. И скажи еще раз, что же такое есть знание? Знание не есть только правильное мнение
Теэтет.
Сказать, что это всякое мнение, Сократ, нельзя, поскольку бывает и ложное мнение. Пожалуй, знание – это истинное мнение: таков пусть и будет мой ответ. Если же в ходе рассуждения это не станет очевидным, как сегодня уже бывало, то мы попытаемся истолковать это как‑то иначе.
Сократ.
Только смелее следует рассуждать, Теэтет, и не отвечать так робко, как раньше. Если мы будем так поступать, то одно из двух: либо мы найдем то, что ищем, либо уж не будем считать, что знаем то, чего вовсе не знаем.
c
Впрочем, и этой наградой не стоит пренебрегать. Вот и теперь, что ты говоришь? Что поскольку есть два вида мнений: одно – истинное, другое – ложное, то знание ты определяешь как мнение истинное?
Теэтет.
Я – да, ибо теперь для меня это очевидно.
Сократ.
А не стоит ли нам возвратиться к рассмотрению мнения?
Теэтет.
Что ты имеешь в виду?
d
Сократ.
Как уже и не раз прежде, теперь меня беспокоит то обстоятельство, что я всегда крайне затрудняюсь объяснить себе самому или другому, что же это за свойство такое и каким образом оно у нас возникает.
Теэтет.
Какое именно свойство?
Сократ.
Свойство иметь о чем‑то ложное мнение. Вот и теперь я смотрю с недоумением и думаю, не оставить ли нам это и не избрать ли иной путь рассмотрения, нежели тот, на который мы встали несколько раньше.
Теэтет.
Почему бы и нет, Сократ, если ты находишь это необходимым? Ведь только что вы с Феодором недурно толковали, что досуга нашего ничто не стесняет.
e
Сократ.
Ты кстати вспомнил об этом, ибо как раз теперь самое время снова взять след. Ведь лучше сделать немного, но хорошо, чем много, но не довести до конца.
Теэтет.
А в чем дело?
Сократ.
Ну как в чем? Что мы здесь толкуем? Утверждаем ли мы, что ложное мнение существует во всех случаях, так что всегда у кого‑то из нас оно ложное, у другого же истинное, и что так якобы установлено от природы?
Теэтет.
Давай так и скажем.
188
Сократ.
А обо всем вместе и о каждом порознь разве не свойственно нам знать либо не знать? Ибо учение и забывание как промежуточное между этими двумя [состояниями] я в настоящий момент опускаю, поскольку к данному рассуждению это не относится.
Теэтет.
Но ведь ничего другого, Сократ, не остается по отношению к каждой вещи, кроме как либо знать, либо не знать.
Сократ.
А тот, кто имеет мнение, разве не будет неизбежно иметь его либо о чем‑то из того, что он знает, либо из того, чего он не знает?
Теэтет.
Неизбежно.
b
Сократ.
И невозможно знающему не знать то, что он знает, равно как незнающему – знать то, чего он не знает.
Теэтет.
Как же иначе?
Сократ.
Значит, тот, кто имеет ложное мнение, принимает нечто ему известное не за то, что оно есть, но за что‑то другое из того, что он знает, и, таким образом, зная то и другое, не знает ни того ни другого?
Теэтет.
Но это невозможно, Сократ.
Сократ.
Или же то, что он не знает, он считает чем‑то другим из того, что он не знает, иначе говоря, не знающему ни Теэтета, ни Сократа может прийти в голову, что Сократ – это Теэтет или что Теэтет – это Сократ?
c
Теэтет.
Каким же образом?
Сократ.
Но ведь и вовсе невозможно, чтобы известное кто‑то почитал тем, чего он не знает, и, напротив, неизвестное – тем, что он знает.
Теэтет.
Это было бы чудовищно.
Сократ.
Но как же еще можно иметь ложное мнение? Ведь вне всего этого вряд ли возможно иметь мнение, коль скоро все вещи мы либо знаем, либо не знаем; при таких условиях, очевидно, никак нельзя иметь ложное мнение.
Теэтет.
Ты совершенно прав.
Сократ.
Получается, нам в наших поисках нужно отправляться не от знания или незнания, но от бытия или небытия.
d
Теэтет.
Что ты хочешь сказать?
Сократ.
Не проще ли сказать, что тот, кто имеет мнение о чем‑то как о несуществующем, непременно имеет ложное мнение, как бы ни был он богат разумом.
Теэтет.
И это похоже на правду, Сократ.
Сократ.
Так как же быть? Что мы ответим, Теэтет, на такой вопрос: «Возможно ли для кого‑нибудь то, о чем мы говорим, и может ли кто‑либо из людей иметь мнение о несуществующем, будь то по отношению к какой‑то вещи, будь то о нем самом по себе?» Очевидно, мы скажем на это: «Возможно, когда думающий думает неистинно». Так ли мы скажем?
e
Теэтет.
Так.
Сократ.
Стало быть, и в других случаях бывает что‑то подобное?
Теэтет.
Когда?
Сократ.
Когда кто‑то что‑либо видит, но не видит ничего.
Теэтет.
Возможно ли это?
Сократ.
Но если он видит что‑то одно, то он видит нечто существующее. Или ты полагаешь, что оно может быть и среди несуществующего?
Теэтет.
Я этого не думаю.
Сократ.
Стало быть, видящий что‑то одно видит существующее?
Теэтет.
Очевидно.
189
Сократ.
Значит, и слышащий что‑то слышит существующее, по крайней мере если он слышит что‑то одно?
Теэтет.
Да.
Сократ.
И прикасающийся к чему‑то прикасается к чему‑то одному и тем самым к существующему?
Теэтет.
И это так.
Сократ.
Ну а тот, кто имеет о чем‑то мнение, разве не имеет мнение о чем‑то одном?
Теэтет.
Непременно.
Сократ.
А имеющий мнение о чем‑то одном, разве имеет его не о существующем?
Теэтет.
Согласен, о существующем.
Сократ.
Значит, имеющий мнение о несуществующем мнит ничто?
Теэтет.
Очевидно, ничто.
Сократ.
Но тот, кто мнит ничто, вообще не имеет мнения?
Теэтет.
Пожалуй, это ясно.
b
Сократ.
Значит, нельзя мнить несуществующее ни относительно вещей, ни безотносительно к ним?
Теэтет.
Очевидно, нет.
Сократ.
Итак, ложное мнение – это нечто иное, нежели мнение о несуществующем.
Теэтет.
Похоже, что иное.
Сократ.
Значит, ни согласно теперешнему, ни согласно прежнему нашему исследованию у нас не бывает ложного мнения.
Теэтет.
Выходит, что не бывает.
Сократ.
А не назвать ли нам все это вот как?..
Теэтет.
Как?
Сократ.
Давай назовем мнение, оказывающееся ложным, иномнением, – когда кто‑нибудь, принимая одну вещь за другую и смешивая их в разуме, утверждает, что она существует.
c
Таким образом, он всегда мнит существующее, однако одно вместо другого, и, поскольку относительно рассматриваемого он все‑таки ошибается, справедливо можно сказать, что у него ложное мнение.
Теэтет.
По‑моему, ты сказал совершенно правильно. Ведь если кто‑то вместо прекрасного мнит безобразное или, наоборот, вместо безобразного – прекрасное, тот имеет поистине ложное мнение.
Сократ.
Мне теперь ясно, Теэтет, что передо мной у тебя нет ни почтения, ни страха.
Теэтет.
Но почему же?!
d
Сократ.
Я думаю, ты считаешь меня неспособным придраться к этому твоему «поистине ложному» и спросить: можно ли быть медленно быстрым или тяжело легким или чем‑либо иным, противоположным самому себе, не в соответствии с собственной природой, а в соответствии с противоположной? Я прощаю тебе эту дерзость, чтобы ты не напрасно дерзал. Так тебе нравится утверждать, что ложное мнение есть заблуждение?
Теэтет.
Мне – да.
Сократ.
Значит, по твоему мнению, можно мыслить что‑то одно как нечто другое, а не как это самое?
Теэтет.
Конечно, можно.
Сократ.
Стало быть, когда чей‑то разум это делает, он неизбежно мыслит либо обе эти вещи вместе, либо каждую из двух?
e
Теэтет.
Неизбежно. Либо вместе, либо по очереди.
Сократ.
Прекрасно. Но то ли ты называешь «мыслить», что и я?
Теэтет.
А что называешь так ты?
Сократ.
Я называю так рассуждение, которое душа ведет сама с собою о том, что она наблюдает. Объясняю тебе это как человек, который сам ничего не знает. Я воображаю, что, мысля, она делает не что иное, как рассуждает, сама себя спрашивая и отвечая, утверждая и отрицая.
190
Когда же она, медленнее или живее уловив что‑то, определяет это и более не колеблется, – тогда мы считаем это ее мнением. Так что, по мне, иметь мнение – значит рассуждать, а мнение – это словесное выражение, но без участия голоса и обращенное не к кому‑то другому, а к самому себе, молча. А тебе как кажется?
Теэтет.
Так же.
Сократ.
Значит, когда кто‑то мнит одно вместо другого, он, видимо, утверждает про себя, что одно есть другое.
Теэтет.
Как же иначе?
b
Сократ.
Припомни, не говорил ли ты когда‑нибудь про себя, что прекрасное скорее всего есть безобразное, а несправедливое – справедливое, или, самое главное, не принимался ли ты убеждать себя, что‑де одно – это скорее всего другое? Или же совсем наоборот – даже и во сне ты не отваживался себе сказать, что нечетное на самом деле есть четное, или что‑либо еще в этом роде?
Теэтет.
Ты прав.
c
Сократ.
А думаешь, кто‑то другой, в здравом ли уме или в исступлении, отважится усердно твердить самому себе и себя убеждать, что бык непременно есть лошадь или что два – это единица!
Теэтет.
Клянусь Зевсом, я этого не думаю.
Сократ.
Тогда, если рассуждать про себя и значит мнить, то никто, рассуждая о двух вещах, составляя себе о них мнение и охватывая их душой, не скажет и не будет мнить, что одно есть другое. И тебе нужно оставить речь [о другом]. Ибо я снова повторяю, что никто не мнит, будто безобразное прекрасно или еще что‑нибудь в этом роде.
d
Теэтет.
Я оставляю это и одобряю то, что ты говоришь.
Сократ.
Стало быть, имеющему мнение об обеих вещах невозможно мнить, что одно есть другое.
Теэтет.
Видимо.
Сократ.
Но ведь, имея мнение лишь об одном из двух, а о другом – нет, он и вовсе никогда не станет мнить, что одно есть другое.
Теэтет.
Ты прав. Иначе он вынужден был бы коснуться и того, о чем он не имеет мнения.
Сократ.
Следовательно, заблуждение невозможно ни для того, кто имеет мнение об обеих вещах, ни для того, кто имеет его об одной из двух.
e
Поэтому если бы кто‑то определил ложное мнение как мнение об ином, он ничего бы этим не сказал. Итак, ни в этом случае, ни в прежних наше мнение не оказывается ложным.
Теэтет.
Похоже, что нет.
Сократ.
И все же, Теэтет, если окажется, что не бывает ложного мнения, нам придется признать много нелепого.
Теэтет.
Например?
Сократ.
Я не скажу тебе, пока не попытаюсь рассмотреть это со всех сторон. Ведь мне было бы стыдно за нас, если бы, оказавшись в тупике, мы вынуждены были бы допустить то, о чем я говорю. Если же мы найдем выход и получим свободу,
191
тогда мы сможем сказать, что другие находятся в сходном положении, и так избавиться от насмешек. Но если мы сами будем спотыкаться на каждом шагу, то, думаю я, нам придется, смирившись, довериться своему рассуждению – пусть оно кидает и вертит нас, словно пловцов, как ему вздумается. Итак, слушай, какой еще выход я нахожу для нас в наших поисках.
Теэтет.
Говори же.
Сократ.
Я не стал бы утверждать, что мы были правы, согласившись, будто невозможно кому‑то известное представлять себе неизвестным и таким образом обмануться. Напротив, некоторым образом это возможно.
b
Теэтет.
Не имеешь ли ты в виду того, что я и тогда еще подозревал, когда мы говорили, что бывает нечто в таком роде: я, зная Сократа, но видя издали другого, незнакомого мне человека, принимаю его за Сократа, которого я знаю. В таких вот случаях бывает то, о чем ты говоришь.
Сократ.
Вот потому‑то не отказаться ли нам от этого [предположения], поскольку оно заставляет нас не знать того, что мы знаем?
Теэтет.
Ну что ж, давай откажемся.
Сократ.
И давай будем исходить не из этого предположения, а из другого, и, может быть, нам улыбнется удача, а может быть, и наоборот.
c
Однако мы очутились в таком положении, когда приходится прощупать наше рассуждение со всех сторон. Смотри же, дело ли я говорю. Может ли тот, кто прежде чего‑то не знал, научиться этому впоследствии?
Теэтет.
Конечно, может.
Сократ.
А затем и другому и третьему?
Теэтет.
Почему бы и нет?
Сократ.
Так вот, чтобы понять меня, вообрази, что в наших душах есть восковая дощечка; у кого‑то она побольше, у кого‑то поменьше, у одного – из более чистого воска, у другого – из более грязного или у некоторых он более жесткий, а у других помягче, но есть у кого и в меру.
d
Теэтет.
Вообразил.
Сократ.
Скажем теперь, что это дар матери Муз, Мнемосины[1144]
, и, подкладывая его под наши ощущения и мысли, мы делаем в нем оттиск того, что хотим запомнить из виденного, слышанного или самими нами придуманного, как бы оставляя на нем отпечатки перстней.
e
И то, что застывает в этом воске, мы помним и знаем, пока сохраняется изображение этого, когда же оно стирается или нет уже места для новых отпечатков, тогда мы забываем и больше уже не знаем.
Теэтет.
Пусть так.
Сократ.
Стало быть, знающий это и рассматривающий что‑то из того, что он видит и слышит, может ли таким вот образом составить себе ложное мнение?
Теэтет.
Каким же это?
Сократ.
Принимая известное иной раз за известное, иной раз за неизвестное. Ведь прежде мы плохо сделали, признав это невозможным.
Теэтет.
Как же ты это объясняешь теперь?
192
Сократ.
По поводу этого надо дать следующее объяснение, определив, что невозможно: [1] зная что‑то и имея в душе соответствующий отпечаток, но не ощущая этого, принять это за нечто другое, что ты также знаешь и отпечаток чего имеешь, но что ты не ощущаешь; [2] известное принять за то, чего не знаешь и отпечатка чего не имеешь; [3] неизвестное принять за неизвестное; [4] неизвестное принять за известное; [5] ощущаемое принять за другое ощущаемое; [6] ощущаемое принять за что‑то неощущаемое;
b
[7] неощущаемое принять за неощущаемое; [8] неощущаемое принять за ощущаемое; [9] известное и ощущаемое и имеющее соответствующий ощущению знак считать другим известным, ощущаемым и имеющим соответствующий ощущению знак; это еще более невозможно, чем все прежнее, – если только это бывает; [10] известное и ощущаемое, имея правильный отпечаток, принять за [другое] известное, равно как [11] известное и ощущаемое, при тех же условиях, принять за [другое] ощущаемое;
c
[12] неизвестное и неощущаемое принять за [другое] неизвестное и неощущаемое; [13] неизвестное и неощущаемое принять за неизвестное; [14] неизвестное и неощущаемое принять за неощущаемое. Все это отличается невозможностью в каждом таком случае иметь ложное мнение. Остаются только вот какие случаи, если где‑то это бывает возможным.
Теэтет.
Какие же? Разве что из них я пойму тебя скорее. Пока что я не поспеваю за тобой.
Сократ.
Случаи, когда то, что знаешь, принимаешь за нечто другое из того, что знаешь и ощущаешь; либо неизвестное, но ощущаемое, или же и известное и ощущаемое за другое известное и ощущаемое.
d
Теэтет.
Теперь я еще больше отстал от тебя.
Сократ.
Тогда вот что выслушай еще раз. Зная Феодора и внутренне помня, каков он, и зная таким же образом Теэтета, разве не могу я иной раз видеть вас самих, а иногда и нет, иной раз прикасаться к вам, а когда‑то – нет, либо слышать или же ощущать другим каким‑нибудь чувством, а иной раз не иметь от вас никакого ощущения, однако при этом помнить и ничуть не хуже вас про себя знать?
e
Теэтет.
Разумеется.
Сократ.
Итак, из того, что я хочу объяснить, прежде всего усвой, что можно не ощущать известного, равно как и ощущать.
Теэтет.
Верно.
Сократ.
Стало быть, и неизвестное часто можно не ощущать, но часто – только ощущать.
Теэтет.
Возможно и это.
193
Сократ.
Смотри же, не станет ли теперь понятнее. Сократ знаком и с Феодором, и с Теэтетом, но не видит ни одного из них и не получает другого какого‑либо от них ощущения. При этом он никогда не мог бы внутренне себе представить, что Теэтет – это Феодор. Дело я говорю или нет?
Теэтет.
Ты прав.
Сократ.
Итак, это было первое из того, о чем я говорил.
Теэтет.
Да, первое.
Сократ.
Теперь второе: зная одного из вас, а другого – не зная и не ощущая ни того ни другого, я никогда не счел бы того, кого знаю, тем, кого не знаю.
Теэтет.
Правильно.
b
Сократ.
В‑третьих, не зная и не ощущая ни одного из вас, я не счел бы одного из мне неизвестных за другого мне неизвестного. Проследи так же все остальное, как бы прослушав эго заново, и ни в одном из этих случаев я никогда не составлю себе ложного мнения о тебе или о Феодоре, независимо от того, знаю или не знаю я обоих или одного знаю, а другого – нет. И так же с ощущениями, если только ты за мной поспеваешь.
Теэтет.
Поспеваю.
Сократ.
Итак, остается следующее: ложное мнение бывает в том случае, когда, зная и тебя, и Феодора, имея на той знакомой нам восковой дощечке как бы отпечатки ваших перстней, но недостаточно отчетливо видя вас обоих издали,
c
я стараюсь придать каждому его знак в соответствии с моим зрительным ощущением и приспособить его к старому следу, чтобы таким образом получилось узнавание. И если мне это не удается, и, как, обуваясь, путают башмаки, так же и я зрительное ощущение от каждого из них прикладываю к чужому знаку или, как в зеркале,
d
путаю правое и левое и ошибаюсь, тогда‑то и получается заблуждение, а тем самым – ложное мнение.
Теэтет.
Похоже на то, Сократ. Диву даюсь, как ты толкуешь свойство [ложного] мнения.
Сократ.
И еще вот. Я знаю обоих, а одного из них вдобавок еще ощущаю, другого же – нет; в этом случае я провожу узнавание не в соответствии с ощущением, – об этом я говорил недавно, и тогда ты не понимал.
Теэтет.
Да, тогда я не понимал.
e
Сократ.
Я же говорил о том, что, зная и ощущая одного и проводя его узнавание в соответствии с получаемым от него ощущением, никто не примет его за кого‑то из тех, кого он знает и ощущает и чье узнавание он тоже проводит в соответствии с ощущением. Так ли было?
Теэтет.
Да.
Сократ.
Оставался же тот случай, о котором мы толкуем теперь, говоря, что ложное мнение появляется тогда,
194
когда, зная и видя обоих или ощущая их другим каким‑либо ощущением, кто‑то распределяет знаки обоих не в соответствии с ощущениями, но, как плохой стрелок, не попадает в цель и ошибается; это и называется, стало быть, ложным мнением.
Теэтет.
Похоже на то.
Сократ.
Итак, когда для одного из знаков ощущение налицо, а для другого – нет, знак же отсутствующего ощущения прилаживается к тому ощущению, которое присутствует, все это обманывает разум. Одним словом, по поводу неизвестного и никогда не ощущавшегося не может быть,
b
видимо, ни обмана, ни ложного мнения, ежели только теперь мы рассуждаем здраво. Что же касается известного и ощущаемого, то в нем самом вращается и кружится мнение, становясь истинным или ложным: то, что прямо и непосредственно сопоставляет отпечатлеваемое и уже бывший отпечаток, – это истинное мнение, а криво и косвенно – ложное.
Теэтет.
Ну разве это не прекрасное рассуждение, Сократ?
c
Сократ.
Еще не то скажешь, когда услышишь следующее. Ведь иметь истинное мнение – прекрасно, а заблуждаться – постыдно.
Теэтет.
А как же иначе?
Сократ.
И вот что, как говорят, происходит отсюда. Если в чьей‑то душе воск глубок, обилен, гладок и достаточно размят, то проникающее сюда через ощущения отпечатывается в этом, как говорил Гомер, сердце души, а «сердце» (κέαρ)[1145]
у Гомера не случайно звучит почти так же, как воск (κηρός), и возникающие у таких людей знаки бывают чистыми, довольно глубокими и тем самым долговечными.
d
Как раз эти люди лучше всего поддаются обучению, и у них же наилучшая память, они не смешивают знаки ощущений и всегда имеют истинное мнение. Ведь отпечатки их четки, свободно расположены, и они быстро распределяют их соответственно существующему (так это называют), и этих людей зовут мудрецами. Или тебе это не по душе?
Теэтет.
Чрезвычайно по душе.
e
Сократ.
Когда же это сердце, которое воспел наш премудрый поэт, космато[1146]
или когда оно грязно и не из чистого воска и либо слишком рыхло, либо твердо, то у кого оно рыхлое, те хоть и понятливы, но оказываются забывчивыми, те же, у кого твердое, – наоборот; у кого же воск негладкий, шершаво‑каменистый, смешанный с землей и навозом, у тех получаются неясные отпечатки. Неясны они и у тех, у кого жесткие восковые дощечки, ибо в них нет глубины, и у тех, у кого они чересчур мягки,
195
ибо отпечатки, растекаясь, становятся неразборчивыми. Если же ко всему тому у кого‑то еще и маленькая душонка, то, тесно наползая один на другой, они становятся еще того неразборчивее. Все эти люди бывают склонны к ложному мнению. Ибо когда они что‑то видят, слышат или обдумывают, они, медлительные, не в силах к каждому быстро отнести ему соответствующее и, распределяя неправильно, по большей части и видят, и слышат, и мыслят превратно. Про таких говорят, что они заблуждаются относительно существующего, и называют их неучами.
b
Теэтет.
Ты прав, как никто, Сократ.
Сократ.
Итак, скажем ли мы, что у нас бывают ложные мнения?
Теэтет.
Решительно.
Сократ.
А истинные тоже?
Теэтет.
И истинные.
Сократ.
Итак, будем считать, что мы пришли к достаточно твердому соглашению и у нас, безусловно, бывают оба этих мнения?
Теэтет.
В высшей степени так.
Сократ.
Пожалуй, страшно, Теэтет, и поистине неприятно быть праздным болтуном.
Теэтет.
Как так? К чему ты это сказал?
c
Сократ.
Досадуя на свою тупость и порядочную болтливость. Ну как еще это можно назвать, когда кто‑то и так и этак растягивает свои рассуждения и по лености не может ни принять хоть одно, ни от него отказаться?
Теэтет.
Да, но тебе‑то на что досадовать?
Сократ.
Я не только досадую, но и боюсь, что не сумею отчитаться, если кто‑то спросит меня: «Сократ, ты нашел, что ложное мнение возникает не от взаимодействия ощущений и не в мыслях самих по себе,
d
но от соприкосновения ощущения с мыслью?» Полагаю, я с самодовольным видом подтвержу это, как некое прекрасное открытие, сделанное нами.
Теэтет.
Мне, по крайней мере, кажется, Сократ, что ничего постыдного в только что изложенном нет.
Сократ.
«Значит, ты утверждаешь, – скажет он, – что человека, которого мы только мыслим, но не видим, мы никогда не сочтем лошадью, которую в свою очередь мы тоже не видим и не осязаем, и никак иначе не ощущаем, а только мыслим?» Я думаю, мне придется согласиться.
Теэтет.
И правильно сделаешь.
e
Сократ.
«Что же, – скажет он, – одиннадцать, которое всего только кем‑то мыслится, никогда нельзя будет счесть за двенадцать, которое тоже лишь мыслится?» Давай‑ка отвечай!
Теэтет.
Но я отвечу, что, когда видишь или осязаешь, можно принять одиннадцать за двенадцать, но мысленно такое представление об этих числах невозможно.
196
Сократ.
Что же? Думаешь, если кто‑то будет рассматривать про себя пять и семь, – не воображать себе пять и семь человек или что‑то еще в этом роде, но рассматривать сами числа пять и семь, которые, как мы говорили, суть знаки, запечатленные на дощечке из воска, и по поводу которых нельзя составить себе ложного представления, – так вот, спрашивая себя, сколько же это будет вместе, какой‑то человек, подумавши, скажет, что одиннадцать, а какой‑то – что двенадцать? Или все и подумают и скажут, что двенадцать?
b
Теэтет.
Клянусь Зевсом, нет! Многие скажут, что одиннадцать. Если же кто‑то будет рассматривать бульшие числа, то и ошибка будет больше. Ведь ты, я думаю, скорее говоришь о всяком числе.
Сократ.
Ты правильно думаешь. И заметь, тогда происходит вот что: те самые оттиснутые в воске двенадцать принимаются за одиннадцать.
Теэтет.
Пожалуй, так.
Сократ.
Итак, не возвращаемся ли мы к прежнему рассуждению? Ведь испытывающий нечто известное принимает это за другое, также известное, а это, как мы говорили, невозможно;
c
так мы и вынуждены были признать, что ложного мнения не бывает, чтобы не заставлять одного и того же человека одновременно и знать и не знать одно и то же.
Теэтет.
Ты совершенно прав.
Сократ.
Итак, нужно объявить, что ложное мнение – это нечто иное, нежели отход мысли от ощущения. Иначе мы никогда не заблуждались бы в области мысли как таковой. А так получается, что либо не бывает ложного мнения, либо можно не знать известного. Что из этого ты выбираешь?
Теэтет.
Трудный выбор ты предлагаешь, Сократ.
d
Сократ.
Однако боюсь, наше рассуждение не допускает ни того ни другого. Впрочем, надо дерзать до конца: что, если нам отбросить стыд?
Теэтет.
Каким образом?
Сократ.
Пожелав ответить, чту такое есть знание.
Теэтет.
Что же в этом бесстыдного?
Сократ.
Тебе, как видно, и невдомек, что с самого начала наше рассуждение было поиском знания; ведь мы не знали, что это такое.
Теэтет.
Нет, я понимаю.
Сократ.
А по‑твоему, это не бесстыдство, не. зная знания, объяснять, что значит «знать»? Дело в том, Теэтет, что мы давно уже нарушаем чистоту рассуждения.
e
Уже тысячу раз мы повторили: «познаём» и «не познаём», «знаем» или «не знаем», как будто бы понимая друг друга, а меж тем, что такое знание, мы так еще и не узнали. Если хочешь, то и теперь, в этот самый миг, мы опять употребляем слова «не знать» и «понимать», как будто бы уместно ими пользоваться, когда именно знания‑то мы и лишены.
Теэтет.
Но каким образом ты будешь рассуждать, Сократ, избегая этих слов?
197
Сократ.
Никаким, пока я – это я. Если бы я был завзятым спорщиком или если бы такой муж здесь присутствовал, то и он приказал бы нам избегать этого и упрекнул бы меня за мои речи. Но поскольку мы люди маленькие, то хочешь, я возьму на себя смелость сказать, что такое «знать»? Мне кажется, какая‑то польза в этом была бы.
Теэтет.
Ради Зевса, отважься. Даже если ты и не воздержишься от тех слов, то все равно получишь полное прощение.
Сократ.
Итак, слыхал ли ты, как теперь толкуют это самое «знать»?
Теэтет.
Может быть, и слыхал, однако сейчас не припоминаю.
b
Сократ.
Говорят, что это значит «обладать знанием».
Теэтет.
Верно.
Сократ.
Значит, мы не много изменим, если скажем «приобретать знание»?
Теэтет.
А чем, по‑твоему, второе отличается от первого?
Сократ.
Возможно, ничем. Однако выслушай, что мне здесь представляется, и проверь вместе со мной.
Теэтет.
Если только смогу.
Сократ.
Мне кажется все же, что «обладание» и «приобретение» – не одно и то же. Например, если кто‑то, купив плащ и будучи его владельцем, не носит его, то мы не сказали бы, что он им обладает, но сказали бы, что он его приобрел.
Теэтет.
Верно.
c
Сократ.
Смотри же, может ли приобретший знание не иметь его? Например, если кто‑нибудь, наловив диких птиц, голубей или других, стал бы кормить их дома, содержа в голубятне, ведь в известном смысле можно было бы сказать, что он всегда ими обладает, поскольку он их приобрел. Не так ли?
Теэтет.
Да.
Сократ.
В другом же смысле он не обладает ни одной [из пойманных] птиц, но лишь властен когда угодно подойти, поймать любую, подержать и снова отпустить, поскольку в домашней ограде он сделал их ручными. И он может делать так столько раз, сколько ему вздумается.
d
Теэтет.
Это так.
Сократ.
Опять‑таки, как прежде мы водрузили в душе неведомо какое восковое сооружение, так и теперь давай еще раз построим в каждой душе нечто вроде голубятни для всевозможных птиц, где одни будут жить стаями отдельно от других, другие же либо небольшими стайками, либо поодиночке, летая среди остальных как придется.
e
Теэтет.
Считай, что построили. И что же дальше?
Сократ.
Следует сказать, что, пока мы дети, эта клетка бывает пустой – ведь под птицами я разумею знания, тот же, кто приобрел знание, запирает его в эту ограду, и мы скажем, что он выучил или нашел предмет, к которому относилось это знание, и что в этом‑то знание и состоит.
Теэтет.
Пусть будет так.
198
Сократ.
Впоследствии, когда вздумается, он опять ловит знание и, поймавши, держит, а потом снова отпускает, – смотри сам, какими это нужно назвать словами: теми же, что и раньше, когда он приобретал [знание], или другими. И вот откуда ты яснее постигнешь, что я имею в виду. Ведь арифметику ты относишь к искусствам?
Теэтет.
Да.
Сократ.
Предположи, что арифметика – это охота за всевозможными знаниями четного и нечетного.
Теэтет.
Предположил.
Сократ.
С помощью своего искусства тот, кто его передает, думаю я, и сам держит прирученными знания чисел, и обучает им других.
b
Теэтет.
Да.
Сократ.
И передающего [знания] мы называем учителем, принимающего их – учеником, а содержащего приобретенные [знания] в своей голубятне – знатоком?
Теэтет.
Именно так.
Сократ.
Обрати же внимание на то, что из этого следует. Не тот ли знаток арифметики, кто знает все числа? Ведь в душе у него присутствуют знания всех чисел.
Теэтет.
Ну и что?
c
Сократ.
Значит, в любое время он может либо про себя пересчитывать эти числа, либо сосчитать какие‑то внешние предметы, поскольку они имеют число?
Теэтет.
А как же иначе?
Сократ.
И мы предположим, что считать – это не что иное, как смотреть, какое число может получиться?
Теэтет.
Так.
Сократ.
Значит, кто исследует то, что знает, кажется как бы незнающим, а мы уже договорились, что он знает все числа. Тебе случалось слышать о подобных несообразностях?
Теэтет.
О, да.
d
Сократ.
В нашем сравнении с приобретением и охотой за голубями мы говорили, что охота была двоякая: до приобретения с целью приобрести и после приобретения, чтобы взять в руки и подержать то, что давно уже приобретено. Не так ли и знаток имеет те знания и знает то, что он давно уже изучил, и может снова изучить то же самое, вновь схватывая и удерживая в руках знание каждой вещи, которое он давно приобрел, но не имел в своем разуме наготове?
Теэтет.
Правильно.
e
Сократ.
Только что я тебя спрашивал, каким выражением нужно воспользоваться, говоря о тех случаях, когда знаток арифметики, собираясь считать, а знаток грамматики – читать, вновь стал бы узнавать от себя, знающего, то, что он знает?
Теэтет.
Но это нелепо, Сократ.
Сократ.
Но можем ли мы сказать, что он читает или считает неизвестное, если признаем, что он знает все буквы и любое число?
199
Теэтет.
Да и это бестолково.
Сократ.
Не хочешь ли ты, чтобы мы сказали, что нам дела нет до того, куда заблагорассудится кому потащить слова «знать» и «учиться», коль скоро мы определили, что одно дело – приобретать знания, а другое – ими обладать? И не утверждаем ли мы, что невозможно, чтобы кто‑то не приобрел того, что он приобрел, так что никогда уже не может получиться, что кто‑то не знает того, что он знает, ложное же мнение, напротив, составить себе об этом возможно.
b
Дело в том, что можно и не иметь какого‑то знания и, охотясь за порхающими вокруг знаниями, по ошибке принять одно за другое. Так, например, можно принять одиннадцать за двенадцать, поймав у себя самого знание одиннадцати вместо двенадцати, как дикого голубя вместо ручного.
Теэтет.
Твои слова не лишены смысла.
Сократ.
Когда ты схватываешь то, что собирался схватить, тогда ты не ошибаешься и имеешь мнение о существующем, так? Значит, бывает истинное мнение и ложное и ничто из того,
c
на что мы досадовали прежде, не становится нам поперек дороги. Пожалуй, ты со мной согласишься. Или как ты поступишь?
Теэтет.
Соглашусь.
Сократ.
Ну что ж, от одного мы избавились: от незнания известного. Ведь приобретенное остается приобретенным, заблуждаемся мы или нет. Однако более страшным кажется мне другое.
Теэтет.
Что же?
Сократ.
Возникновение ложного мнения от подмены знаний.
Теэтет.
Как это?
d
Сократ.
Прежде всего так, что имеющий знание о чем‑то не ведает этого не по неведению, а из‑за своего знания. Затем бывает, что одно представляется другим, а другое – первым. И разве не получится страшная бессмыслица, когда при наличии знания душе ничего не известно и все неведомо? Ничто не мешает заключить на этом основании, что при неведении можно знать, а при слепоте – видеть, коль скоро знание заставляет кого‑то не знать.
e
Теэтет.
Но может быть, нехорошо, Сократ, что только знания представляли мы себе в виде птиц, – нужно было и незнания пустить летать вместе с ними в душе, и тогда охотящийся схватывал бы то знание, то незнание одного и того же; ложное представлял бы себе с помощью незнания, а с помощью знания – истинное.
Сократ.
Ну как не похвалить тебя, Теэтет! Однако посмотри еще раз, что ты сказал, и пусть будет так, как ты говоришь: схвативший незнание будет, по‑твоему, мнить ложно. Не так ли?
200
Теэтет.
Да.
Сократ.
Он, конечно, не будет считать, что он ложно мнит.
Теэтет.
Как это?
Сократ.
Наоборот, он будет считать, что его мнение истинно, и как знаток будет распоряжаться тем, в чем он заблуждается.
Теэтет.
Именно так.
Сократ.
Стало быть, он будет считать, что поймал и имеет знание, а не незнание.
Теэтет.
Ясно.
Сократ.
Итак, после долгого пути мы вернулись в прежний тупик. И тот наш изобличитель скажет со смехом: «Почтеннейшие, разве тот, кто знает и то и другое, и знание и незнание, –
b
разве он примет одно известное за другое, также известное? Или не знающий ни того ни другого разве представит себе одно неизвестное вместо другого? Или зная одно, но не зная другого, разве примет он известное за неизвестное? Или неизвестное он сочтет за известное? Или вы опять мне скажете, что бывают в свою очередь знания знаний и незнаний, которые он приобрел и содержит в каких‑то там
c
смехотворных голубятнях или восковых слепках и знает их с тех пор, как приобрел, даже если и не имеет их наготове в душе? И таким образом вы неизбежно будете тысячу раз возвращаться к одному и тому же, не делая ни шагу вперед». Что же мы ответим на это, Теэтет?
Теэтет.
Но клянусь Зевсом, Сократ, я не знаю, что сказать.
Сократ.
Разве не справедливо, дитя мое, упрекает он нас в этой речи, указывая, что неправильно исследовать ложное мнение раньше, чем знание, отложив это последнее в сторону?
d
А ведь нельзя познать первое, пока еще недостаточно понятно, чту же есть знание.
Теэтет.
Сейчас, Сократ, необходимо согласиться с твоими словами.
Сократ.
Итак, пусть кто‑то еще раз сначала спросит: что есть знание? Ведь мы пока не отказываемся от этого вопроса?
Теэтет.
Вовсе нет, если только ты не отказываешься.
Сократ.
Скажи, как нам лучше всего отвечать, чтобы меньше противоречить самим себе?
e
Теэтет.
Как мы прежде пытались, Сократ. Ничего другого я не вижу.
Сократ.
А как это было?
Теэтет.
Сказать, что знание – это истинное мнение. По крайней мере, истинное мнение безошибочно, и то, что с ним связано, бывает прекрасным и благим.
Сократ.
Переводя кого‑нибудь вброд, Теэтет, проводник говорит: «Река сама покажет»[1147]
. Так и здесь если мы продолжим исследование, то само искомое по ходу дела откроет нам возникающие препятствия, если же мы будем стоять на месте, мы ничего не узнаем.
201
Теэтет.
Ты прав. Давай посмотрим дальше.
Сократ.
Итак, это не требует долгого рассмотрения, поскольку есть целое искусство, которое указывает тебе, что знание вовсе не есть истинное мнение.
Теэтет.
Как? И что же это за искусство?
Сократ.
Искусство величайших мудрецов, которых называют риторами и знатоками законов. Дело в том, что они своим искусством не поучают, но, убеждая, внушают то мнение, которое им угодно. Или ты почитаешь их такими великими учителями,
b
что не успеет утечь вся вода, как они досконально изложат всю истину тем, кто не присутствовал в то время, когда кого‑то грабили или еще как‑то притесняли?
Теэтет.
Я вовсе этого не думаю; но они убеждают.
Сократ.
А убеждать – не значит ли это, по‑твоему, внушить мнение?
Теэтет.
Как же иначе?
Сократ.
Разве не бывает, что судьи, убежденные, что знать что‑либо можно, только если ты видел это сам, иначе же – нет, в то же время судят об этом по слуху, получив истинное мнение, но без знания?
c
При этом убеждение их правильно, если они справедливо судят.
Теэтет.
Разумеется.
Сократ.
По крайней мере, мой милый, если бы истинное мнение и знание были одним и тем же, то без знания даже самый проницательный судья не вынес бы правильного решения. На самом же деле, видимо, это разные вещи. Знание не есть правильное мнение с объяснением
Теэтет.
Сейчас я вспомнил, Сократ, то, что слышал от кого‑то, но потом забыл: он говорил, что знание – это истинное мнение с объяснением, а мнение без объяснения находится за пределами знания.
d
Что не имеет объяснения, то непознаваемо – так он это называл, – а то, что его имеет, познаваемо.
Сократ.
Ты прекрасно говоришь. Но скажи, как он различал это познаваемое и непознаваемое – одно ли и то же слышали об этом ты и я.
Теэтет.
Но я не знаю, восстановлю ли я это в памяти. Вот если бы говорил кто‑то другой, мне сдается, я мог бы следить за ним.
Сократ.
Ну что же, слушай мой сон вместо своего. Мне сдается, я тоже слышал от каких‑то людей, что именно те первоначала,
e
из которых состоим мы и все прочее, не поддаются объяснению. Каждое из них само по себе можно только назвать, но добавить к этому ничего нельзя – ни того, что оно есть, ни того, что его нет.
202
Ибо в таком случае ему приписывалось бы бытие или небытие, а здесь нельзя привносить ничего, коль скоро высказываются только о нем одном и к нему не подходит ни «само», ни «то», ни «каждое», ни «одно», ни «это», ни многое другое в том же роде. Ведь все эти распространенные слова, хотя и применяются ко всему, все же отличаются от того, к чему они прилагаются. Если бы это первоначало можно было выразить и оно имело бы свой внутренний смысл, его надо было бы выражать без посторонней помощи.
b
На самом же деле ни одно из этих начал невозможно объяснить, поскольку им дано только называться, носить какое‑то имя. А вот состоящие из этих первоначал вещи и сами представляют собою некое переплетение, и имена их, также переплетаясь, образуют объяснение, сущность которого, как известно, в сплетении имен. Таким образом, эти начала необъяснимы и непознаваемы, они лишь ощутимы. Сложенное же познаваемо, выразимо и доступно истинному мнению. Поэтому, если кто составляет себе истинное мнение о чем‑то без объяснения, его душа владеет истиной, но не знанием этой вещи;
c
ведь кто не может дать или получить объяснение чего‑то, тот этого не знает. Получивший же объяснение может все это познать и в конце концов иметь это в качестве знания. Так ли рассказывали тебе это сновидение или иначе?
Теэтет.
В точности так.
Сократ.
Значит, тебе нравится утверждение, что истинное мнение с объяснением есть знание?
Теэтет.
Положительно нравится.
d
Сократ.
В таком случае, Теэтет, мы в этот день и час завладели тем, в поисках чего толпы мудрецов давно состарились, прежде чем это найти?
Теэтет.
По‑моему, Сократ, то, что мы высказали, прекрасно.
Сократ.
Похоже, что это так. Ибо какое может быть знание без объяснения и правильного мнения? Впрочем, кое‑что в сказанном мне не нравится.
Теэтет.
Что именно?
Сократ.
То, что с виду сказано наиболее складно: что‑де начала непознаваемы, а род сложенного познаваем.
e
Теэтет.
Разве это неправильно?
Сократ.
Это еще нужно узнать. А заложниками того, что мы сказали, будут у нас примеры, которыми пользовался тот, кто все это говорил.
Теэтет.
Какие же?
Сократ.
Буквы и слоги письма. Или, по‑твоему, не их имел в виду говоривший то, о чем мы толкуем?
Теэтет.
Нет, именно их.
203
Сократ.
Давай‑ка проверим их снова, более того, проверим самих себя – так или не так мы обучились грамоте. Прежде всего: слоги поддаются объяснению, а буквы необъяснимы?
Теэтет.
Пожалуй, да.
Сократ.
Вот и мне так кажется. Поэтому, если кто‑то спросит о первом слоге «Сократ», вот так: «Теэтет, скажи, что такое „Со“?», что ты ответишь?
Теэтет.
Что это сигма и омега.
Сократ.
Это и есть твое объяснение слога?
Теэтет.
Да, именно.
b
Сократ.
Тогда дай такое же объяснение сигмы.
Теэтет.
Но разве можно назвать начала начал? Ведь сигма, Сократ, совсем безгласная, это какой‑то шум, род свиста в гортани. А вот бета в свою очередь – это и не звук, и не шум, да и большинство букв тоже. Поэтому очень хорошо сказано, что они необъяснимы. Из них только семь наиболее отчетливых имеют звучание[1148]
– смысла же не имеет ни одна.
Сократ.
Что же, мой друг, здесь мы достигли относительно знания ясности.
Теэтет.
По‑видимому.
c
Сократ.
Итак, мы правильно указали, что буква непознаваема, а слог – познаваем?
Теэтет.
По крайней мере, похоже на то.
Сократ.
А скажи, за слог мы принимаем две буквы или когда их больше двух, то все? Или же одну какую‑то идею, возникающую при их сложении?
Теэтет.
Мне кажется, все вместе.
Сократ.
Взгляни же на эти две: сигму и омегу. Обе составляют первый слог моего имени. Разве не это знает тот, кто знает этот слог?
d
Теэтет.
Как же иначе?
Сократ.
Значит, он знает сигму и омегу?
Теэтет.
Да.
Сократ.
Как же так? Каждую из двух он не знает и, не зная ни одной, вдруг узнает обе?
Теэтет.
Но это совсем не имеет смысла, Сократ.
Сократ.
Но если необходимо узнать каждую из двух, коль скоро кто‑то собирается узнать обе, то необходимо предварительно узнать все буквы[1149]
, чтобы потом узнать слог, и, таким образом, наше великолепное рассуждение ускользает из рук.
e
Теэтет.
И совсем неожиданно.
Сократ.
Значит, плохо мы его стерегли. Ведь, пожалуй, следовало бы за слог принять не [совокупность] букв, а какой‑то возникающий из них единый зримый вид, имеющий свою собственную единую идею, отличную от букв.
Теэтет.
Разумеется. И скорее всего, это более вероятно, чем первое.
Сократ.
Давай же не будем малодушно предавать это великое и возвышенное учение.
Теэтет.
Давай не будем.
204
Сократ.
И, как мы только что сказали, пусть одна возникшая из сложения отдельных букв идея и будет слогом, как в письме, так и во всем прочем.
Теэтет.
Разумеется.
Сократ.
Поэтому частей у нее быть не должно.
Теэтет.
Почему?
Сократ.
Потому что если есть части, то целое неизбежно есть совокупность этих частей. Или ты возникающее из частей целое толкуешь как единый вид, отличный от совокупности частей?
Теэтет.
Я – да.
b
Сократ.
А всё и целое, по‑твоему, – одно и то же или разное?
Теэтет.
Мне это не ясно, но раз уж ты велишь отвечать с усердием, то рискну сказать, что разное.
Сократ.
Твое усердие правильно, Теэтет, а вот правилен ли ответ – нужно посмотреть.
Теэтет.
Конечно, нужно.
Сократ.
Итак, по теперешнему рассуждению, целое отличается от всего?
Теэтет.
Да.
Сократ.
А есть ли различие между всем и совокупностью [частей]? Например, когда мы говорим: «один, два, три, четыре, пять, шесть», или «дважды три, трижды два», или «четыре и два; три, два и один», – называем ли мы во всех случаях одно и то же или разные вещи?
c
Теэтет.
Одно и то же.
Сократ.
Отличное от шести?
Теэтет.
Нет.
Сократ.
Стало быть, каждое из сочетаний вместе давало шесть?
Теэтет.
Да.
Сократ.
Но, называя совокупность [частей], разве мы не называем всё?
Теэтет.
Непременно.
Сократ.
Иначе говоря, это не что иное, как шесть?
Теэтет.
Не что иное.
d
Сократ.
Значит, для того, что состоит из чисел, названия «всё» и «всё вместе» означают одно и то же?
Теэтет.
Очевидно.
Сократ.
Мы можем сказать об этом так: число, обозначающее плетр, и самый плетр тождественны. Не правда ли?
Теэтет.
Да.
Сократ.
То же и о стадии?
Теэтет.
Да.
Сократ.
И о численности войска и самом войске? И подобным же образом обо всем остальном? Ибо все число составляет всю суть каждой вещи.
Теэтет.
Да.
Сократ.
А числа каждой вещи – это не что иное, как ее части?
e
Теэтет.
Не что иное.
Сократ.
Но все, что имеет части, и есть совокупность частей?
Теэтет.
Очевидно.
Сократ.
Но можно признать, что совокупность частей и есть всё, коль скоро все число будет всем.
Теэтет.
Так.
Сократ.
Значит, целое не есть совокупность частей, иначе, будучи совокупностью частей, оно было бы всем.
Теэтет.
Видимо, нет.
Сократ.
Но часть, как таковая, есть ли она часть чего‑то другого, а не целого?
Теэтет.
Она часть всего.
205
Сократ.
Ты храбро отбиваешься, Теэтет. Но если это всё ничего не потеряло, то оно и останется этим же всем?
Теэтет.
Непременно.
Сократ.
А целое не есть ли то же самое, если у него нигде ничего не отнято? Если же у чего‑нибудь что‑то отнято, то оно не есть ни всё, ни целое, поскольку они тождественны и из одного и того же происходят.
Теэтет.
Теперь мне кажется, что всё и целое ничем друг от друга не отличаются.
Сократ.
Итак, мы говорили, что там, где есть части, целое и всё будут совокупностью частей.
Теэтет.
Вот именно.
b
Сократ.
Вернемся к тому, что я недавно хотел показать. Если слог не то же, что буквы, то и эти буквы неизбежно не будут его частями, иначе он был бы тождествен своим буквам и познаваем в той же степени, что они?
Теэтет.
Так.
Сократ.
Значит, во избежание этого мы считали его отличным от них?
Теэтет.
Да.
Сократ.
Что же? Если буквы – не части слога, то можешь ли ты указать какие‑то другие части слога, которые не были бы буквами?
Теэтет.
Никоим образом, Сократ. Если уж признавать какие‑то части слога, то смешно, отбросив одни начала, отправляться в поиски за другими.
c
Сократ.
Разумеется, Теэтет. Согласно этому нашему рассуждению, слог, видимо, есть какая‑то единая, не имеющая частей идея.
Теэтет.
Видимо.
Сократ.
Помнишь, мой друг, как немного раньше мы одобрили и приняли положение, что первоначала, из которых состоит все прочее, необъяснимы, поскольку каждое из них само по себе частей не имеет, и неправильно было бы прилагать к нему слова «есть» или «это», как отличные от него и ему чуждые? Именно эта причина и делает их необъяснимыми и непознаваемыми.
Теэтет.
Помню.
d
Сократ.
И есть ли здесь другая какая‑нибудь причина, кроме той, что эти первоначала просты и неделимы? Я, по крайней мере, не вижу другой причины.
Теэтет.
Кажется, другой и нет.
Сократ.
Так не относится ли и слог к тому же виду, коль скоро он не имеет частей и есть единая идея?
Теэтет.
Безусловно, относится.
Сократ.
Значит, если слог есть совокупность букв и представляет собой нечто целое, буквы же – его части, то одинаково познаваемы и выразимы будут и слоги и буквы, коль скоро совокупность частей оказалась тождественной целому.
e
Теэтет.
Да, именно.
Сократ.
Если же слог един и неделим, то одинаково неопределимы и непознаваемы будут слог и буква. Ибо одна и та же причина приведет к одинаковому результату.
Теэтет.
Ничего не могу возразить.
Сократ.
Следовательно, мы не согласились бы, если бы кто‑нибудь утверждал, что слог познаваем и выразим, а буква – наоборот?
Теэтет.
Нет, если мы будем верны нашему рассуждению.
206
Сократ.
А с другой стороны? Не примешь ли ты скорее противоположное утверждение, правоту которого ты мог осознать, обучаясь грамоте?
Теэтет.
Какое именно?
Сократ.
Ведь, обучаясь, ты только и делал, что старался различить каждую букву самое по себе на взгляд и на слух, чтобы при чтении и письме тебя не затрудняло их расположение?
Теэтет.
Ты говоришь сущую правду.
Сократ.
А в совершенстве обучиться у кифариста разве не значило для тебя уметь следить за каждым звуком и определять, от какой струны он исходит?
b
А что звуки – буквы музыки, это всякий согласится повторить.
Теэтет.
Не иначе.
Сократ.
И если бы на основании постигнутых нами букв и слогов нужно было судить о прочих, то мы сказали бы, что род букв дает гораздо более ясное познание и более основательное, чем слоги, и позволяет достичь совершенства в любом виде учения. И если бы кто‑то утверждал, что слог познаваем, а буква по своей природе непознаваема, то мы подумали бы, что он волей‑неволей впадает в детство.
Теэтет.
Несомненно.
c
Сократ.
Здесь, мне кажется, можно было бы привести и другие доказательства. Но как бы нам не забыть об исходном утверждении. Рассмотрим, что это, собственно, значит: объяснение вместе с истинным мнением оказывается совершенным знанием.
Теэтет.
Это следует рассмотреть.
Сократ.
Скажи, чту можно было бы подразумевать под объяснением? Сдается мне, что речь идет об одном из трех.
Теэтет.
Из каких же трех?
d
Сократ.
Первое, пожалуй, вот что: [объяснять – значит] выражать свою мысль звуками с помощью глаголов и имен, причем мнение как в зеркале или в воде отражается в потоке, изливающемся из уст. Или объяснение представляется тебе иначе?
Теэтет.
Мне – так. По крайней мере, про действующего так мы говорим: он объясняет.
Сократ.
Значит, всякий может это делать быстрее или медленнее – показывать, что он мнит по поводу каждой вещи, коль скоро он не глух и не нем от рождения. Таким образом, сколько людей ни имеет правильное
e
мнение, все они обнаруживают это посредством объяснения, и ни у кого еще правильное мнение не возникло помимо знания.
Теэтет.
Ты прав.
Сократ.
Не будем же легкомысленно осуждать того, кто предложил рассматривать знание так, как мы теперь это делаем, за то, что он будто бы ничего не сказал. Ведь может статься, он имел в виду совсем не это, но то, что на вопрос о каждой вещи можно дать ответ при помощи начал.
207
Теэтет.
Что ты имеешь в виду, Сократ?
Сократ.
Например, Гесиод говорит, что в повозке сто деревянных частей[1150]
. Я не в состоянии их назвать, да и ты, я думаю, тоже. Но достаточно и того, если на вопрос, что такое повозка, мы сможем назвать колеса, оси, кузов, поручни, ярмо.
Теэтет.
Вполне достаточно.
b
Сократ.
А может быть, он нашел бы нас смешными, если бы на вопрос о твоем имени мы стали выговаривать его по складам и, хотя мы имеем о нем верное представление и произношение, сочли бы себя знатоками грамматики, располагающими грамматически точным объяснением имени Теэтета. Ведь нельзя говорить о чем‑либо со знанием дела, прежде чем не определишь каждую вещь при помощи начал, имея при этом истинное мнение, как это было уже сказано раньше.
Теэтет.
Да, это было сказано.
c
Сократ.
Так и о повозке мы имеем правильное мнение, но лишь тот, кто способен уяснить ее сущность с помощью ста частей, присоединивши [к мнению] и это умение, присоединяет к истинному мнению объяснение и вместо имеющего мнение становится искусным знатоком сущности повозки, определив целое с помощью начал.
Теэтет.
И ты находишь это благом, Сократ?
Сократ.
Только если и ты так находишь, мой друг, и если ты допускаешь, что описание каждой вещи с помощью начал [букв] и есть ее объяснение, а описание по слогам или еще бульшими частями – отсутствие такового. Но подтверди это, чтобы мы вместе подвергли это рассмотрению.
d
Теэтет.
Я охотно это допускаю.
Сократ.
Считаешь ли ты кого‑либо знатоком чего‑то, если он одно и то же относит то к одному, то к другому или если об одном и том же он имеет то одно, то другое мнение?
Теэтет.
Клянусь Зевсом, я – нет.
Сократ.
А не припоминаешь ли ты, с чего ты и другие начинали изучение букв?
Теэтет.
Ты имеешь в виду, что к одному и тому же слогу мы относили то одну, то другую букву или одну и ту же букву ставили то в подобающий, а то и в иной слог?
e
Сократ.
Я имею в виду это.
Теэтет.
Нет, клянусь Зевсом, я этого не забыл и не считаю знатоками тех, кто так поступает.
Сократ.
Но что же? Если в одно и то же время кто‑нибудь, письменно изображая имя «Теэтет» (Θεαίτητος), подумает, что следует написать тету (Θ) и эпсилон (ε), и так и напишет, а с другой стороны, принимаясь писать имя «Феодор» (Θεόδωρος), напишет тау (Т) и эпсилон (ε), подумав, что так и следует, скажем ли мы, что он знает первый слог ваших имен?
208
Теэтет.
Но мы только что согласились, что поступающий так не знаток.
Сократ.
А что мешает ему так же поступить со вторым и с третьим и с четвертым слогом?
Теэтет.
Ничто.
b
Сократ.
Значит, у него бывает правильное мнение в соединении с побуквенным описанием, когда он пишет имя Теэтет по порядку?
Теэтет.
Ясно же.
Сократ.
Значит, еще не будучи знатоком, он уже ь имеет правильное мнение, как мы говорим.
Теэтет.
Да.
Сократ.
И вместе с правильным мнением он имеет объяснение, поскольку он применял побуквенное описание, а этот путь мы и назвали объяснением.
Теэтет.
Правда.
Сократ.
Выходит, бывает правильное мнение с объяснением, которое нельзя назвать знанием.
Теэтет.
Боюсь, что да.
Сократ.
Как видно, мы обогатились еще одним сном, считая, что располагаем наиболее истинным объяснением знания. Или не будем винить себя раньше времени?
c
Может быть, его нужно определять не так, а с помощью третьего способа: ведь мы говорили, что только один из трех способов имел в виду тот, кто определил знание как правильное мнение с объяснением.
Теэтет.
Ты прав. Действительно, один способ еще остался. Первый был как бы изображением мысли в звуке, второй – недавно разобранный способ перехода от начал к целому, а что же третье? Как ты скажешь?
Сократ.
Как сказали бы многие: [объяснять] – значит иметь какой‑либо знак, по которому искомую вещь можно было бы отличить от всего остального.
Теэтет.
Можешь ты мне дать пример [объяснения] какой‑либо вещи?
d
Сократ.
Например, если угодно, о Солнце достаточно будет, по‑моему, сказать, что оно самое яркое из всего, что движется в небе вокруг Земли.
Теэтет.
Разумеется.
Сократ.
Подумай же, ради чего это сказано. Не о том ли мы только что толковали, что, если подметить отличительный признак отдельной вещи – чем она отличается от прочих вещей, – тем самым, как говорят некоторые, можно найти объяснение этой вещи? А пока ты касаешься только общего, у тебя будет объяснение лишь того, что обще вещам.
e
Теэтет.
Понимаю. И мне кажется, что прекрасно назвать это объяснением.
Сократ.
Кто соединяет с правильным мнением отличительный признак вещи, тот и окажется знатоком того, о чем он прежде имел лишь мнение.
Теэтет.
Так мы и скажем.
Сократ.
И вот теперь, когда я оказался уже совсем близко, словно перед картиной того, о чем я толковал, я не понимаю ни капли. А издали мне казалось, будто я рассуждал не без толку.
Теэтет.
В чем же дело?
209
Сократ.
Скажу, если смогу. Если я имею правильное мнение о тебе, то, присоединив к нему еще касающееся тебя объяснение, я узнаю тебя, если же нет – останусь с одним только мнением.
Теэтет.
Да.
Сократ.
Объяснение же было истолкованием твоего отличительного признака?
Теэтет.
Так.
Сократ.
Когда же я всего лишь имел мнение, я не схватывал мыслью ничего из того, чем ты отличаешься от других?
Теэтет.
Видимо, нет.
Сократ.
Значит, я мыслил что‑то общее, что тебе присуще ничуть не больше, чем кому‑то другому?
b
Теэтет.
Безусловно.
Сократ.
Так скажи, ради Зевса, чем же больше в таком случае я имел мнение о тебе, нежели о ком‑то другом? Предположи, что я мыслил, что существует вот этот Теэтет, который есть человек, с носом, глазами, ртом и прочими членами тела. Разве такая мысль заставила бы меня мыслить Теэтета скорее, чем Феодора или – по пословице – последнего из мисийцев[1151]
?
Теэтет.
А как же быть?
c
Сократ.
Но если я мыслю не только имеющего нос и глаза, но курносого и с глазами навыкате, то больше ли я мыслю тебя, нежели себя самого и всех в таком же роде?
Теэтет.
Ничуть.
Сократ.
И не прежде, думаю я, составится у меня мнение о Теэтете, чем когда эта твоя курносость даст мне какой‑то отличительный признак в сравнении с любой другой, какую я видел, курносостью, и так же обстоит со всеми остальными твоими членами: если я завтра тебя встречу, этот отличительный признак напомнит мне тебя и внушит мне правильное о тебе мнение.
d
Теэтет.
Ты совершенно прав.
Сократ.
Значит, правильное мнение о каждой вещи касается и отличительного признака?
Теэтет.
Очевидно.
Сократ.
Тогда что бы еще могло значить это присоединение объяснения к правильному мнению? Ведь крайне смешным оказывается наставление, предписывающее примыслить, чем что‑то отличается от прочего.
Теэтет.
Почему?
Сократ.
Потому что оно наказывает нам составить себе правильное мнение [о вещах], – чем они отличаются от других вещей, в то время как мы уже имеем правильное мнение о них на основе отличия их от других,
e
И сколько бы мы ни толкли подобным образом воду в ступе, это ничего не даст нам для этого наставления, которое справедливее назвать приказом слепого, ибо наказывать присоединить то, чем мы уже обладаем, чтобы постигнуть то, о чем мы имеем мнение, – это воистину ослепление.
Теэтет.
Скажи, к чему же сводились эти твои вопросы?
Сократ.
Если присоединить объяснение [к правильному мнению] означало бы знать, а не иметь мнение об отличительном признаке, то это было бы приятнейшим из всех положений о знании. Ведь узнать – значит, видимо, получить знание, не так ли?
201
Теэтет.
Да.
Сократ.
Значит, как видно, на вопрос, что есть знание, можно ответить, что это правильное мнение со знанием отличительного признака. Ведь присоединение объяснения заключалось именно в этом.
Теэтет.
Похоже, что так.
Сократ.
Вот уж простодушны мы были бы, если бы, исследуя знание, мы говорили, что это правильное мнение со знанием будь то отличительного признака, будь то чего другого. И выходит, Теэтет, что ни ощущение, ни правильное мнение, ни объяснение в связи с правильным мнением, пожалуй, не есть знание.
b
Теэтет.
Видимо, нет.
Сократ.
И мы все еще беременны знанием и мучимся им, милый друг, или уже все родили на свет?
Теэтет.
Клянусь Зевсом, с твоей легкой руки я сказал больше, чем в себе носил.
Сократ.
И все это наше повивальное искусство признает мертворожденным и недостойным воспитания?
Теэтет.
Решительно все. Заключение. Метод Сократа
c
Сократ.
Итак, если ты соберешься родить что‑то другое, Теэтет, и это случится, то после сегодняшнего упражнения плоды твои будут лучше; если же ты окажешься пуст, то меньше будешь в тягость окружающим, будешь кротким и рассудительным и не станешь считать, что знаешь то, чего ты не знаешь. Ведь мое искусство умеет добиваться только этого, а больше ничего, да я и не знаю ничего из того, что знают прочие великие и удивительные мужи, сколько их есть и сколько их было. А повивальное это искусство я и моя мать получили в удел от бога, она – для женщин, я – для благородных юношей, для тех, кто прекрасен.
d
Теперь же я должен идти в царский портик по тому обвинению, что написал на меня Мелет[1152]
. Утром, Феодор, мы опять здесь встретимся.
Перевод Т. В. Васильевой.
В кн.: Платон. Собр. соч. в 4‑х томах. Том 2. М.: «Мысль», 1993
XXIII. СОФИСТ
Феодор, Сократ, Чужеземец из Элей, Теэтет
216
Феодор.
Согласно с вчерашним договором, Сократ, мы и сами пришли, как и следовало, да вот и некоего чужеземца из Элей родом с собою ведем, друга последователей Парменида и Зенона, истинного философа.
Сократ.
Уж не ведешь ли ты, Феодор, сам того не зная, не чужеземца, но некоего бога, по слову Гомера[1153]
, который рассказывает, что боги, а особенно бог – покровитель чужеземцев,
b
бывают вожатыми у тех, кто имеет правую совесть, чтобы наблюдать как своеволие, так и законные действия людей? Так вот, может быть, это и за тобою следует кто‑то из всемогущих богов, некий бог‑обличитель, чтобы наблюдать и обличать нас, людей, неискусных в речах.
Феодор.
Не таков нравом, Сократ, этот чужеземец, он скромнее тех, кто занимается спорами, и представляется мне вовсе не богом, но скорее человеком божественным: ведь так я называю всех философов.
c
Сократ.
Прекрасно, мой друг. На самом деле, по‑видимому, различать этот род немногим, так сказать, легче, чем род богов, ибо люди эти «обходят города»[1154]
, причем другим, по невежеству, кем только они ни кажутся: не мнимые, но истинные философы, свысока взирающие на жизнь людей, они одним представляются ничтожными, другим – исполненными достоинства; при этом их воображают то политиками, то софистами,
d
а есть и такие, которые мнят их чуть ли не вовсе сумасшедшими. Поэтому я охотно порасспросил бы у нашего гостя, если это ему угодно, кем считали и как называли этих людей обитатели его мест.
217
Феодор.
Кого же именно?
Сократ.
Софиста, политика, философа[1155]
.
Феодор.
В чем же более всего состоит твое недоумение и как ты замыслил о том расспросить?
Сократ.
Вот в чем: считали ли те всё это чем‑то одним, двумя или же, различая, согласно трем названиям, три рода, они к каждому из этих названий относили и отдельный род?
Феодор.
По моему мнению, он не откажет рассмотреть это; не так ли, чужеземец?
b
Чужеземец.
Это так: вам, Феодор, нет отказа, да и сказать‑то не трудно, что они признают три рода; однако дать каждому из них ясное определение, чту именно он такое, дело немалое и нелегкое.
Феодор.
Воистину, Сократ, по счастливой случайности ты как раз затронул вопросы, близкие тому, о чем мы расспрашивали его, прежде чем сюда прийти. А он и тогда отвечал нам то же, что теперь тебе: он говорит, что об этих‑то вещах наслушался достаточно и твердо их помнит.
c
Сократ.
Так, чужеземец, не откажи нам в первом одолжении, о котором мы тебя просим. Скажи‑ка нам вот что: как ты привык – сам в длинной речи исследовать то, что желаешь кому‑нибудь показать, или путем вопросов, как это, например, делал в своих великолепных рассуждениях Парменид, чему я был свидетель, когда был молодым, а тот уже преклонным старцем[1156]
?
d
Чужеземец.
С тем, Сократ, кто беседует мирно, не раздражаясь, легче рассуждать, спрашивая его, в противном же случае лучше делать это самому.
Сократ.
Так ты можешь выбрать себе в собеседники из присутствующих кого пожелаешь: все будут внимать тебе спокойно. Но если ты послушаешься моего совета, то выберешь кого‑нибудь из молодых, например вот этого Теэтета или же кого‑то из остальных, если кто тебе по душе.
Чужеземец.
Стыд берет меня, Сократ, находясь теперь с вами впервые, вести беседу не постепенно, слово за словом, но произнося длинную, пространную, непрерывную речь, обращаясь к самому себе или же к другому, словно делая то напоказ.
e
Ведь в действительности то, о чем зашла теперь речь, не так просто, как, может быть, понадеется кто‑то, судя по вопросу, но нуждается в длинном рассуждении. С другой стороны, не угодить в этом тебе и другим, особенно же после того, что ты сказал, кажется мне неучтивым и грубым.
218
Я вполне одобряю, чтобы собеседником моим был именно Теэтет, как потому, что и сам я с ним уже раньше вел разговор, так и оттого, что ты меня теперь к этому побуждаешь.
Теэтет.
Сделай же так, чужеземец, и, как сказал Сократ, ты угодишь всем.
Чужеземец.
Кажется, об этом не приходится более говорить. Что ж, после всего этого моя речь, по‑видимому, должна быть обращена к тебе. Если же для тебя из‑за обширности исследования что‑то окажется обременительным, вини в том не меня, но вот этих твоих друзей.
b
Теэтет.
Я с своей стороны думаю, что в таком случае я не сдамся; а случись что‑либо подобное, то мы возьмем в помощники вот этого Сократа, Сократова тезку[1157]
, моего сверстника и сотоварища по гимнастическим упражнениям, которому вообще привычно трудиться вместе со мной. Первоначальные частичные определения софиста
Чужеземец.
Ты хорошо говоришь, но об этом уж ты сам с собой поразмыслишь во время исследования, вместе же со мною тебе надо сейчас начать исследование, как мне кажется, прежде всего с софиста, рассматривая и давая объяснение, чту он такое.
c
Ведь пока мы с тобою относительно него согласны в одном только имени, а то, что мы называем этим именем, быть может, каждый из нас про себя понимает по‑своему, меж тем как всегда и во всем дулжно скорее с помощью объяснения соглашаться относительно самой вещи, чем соглашаться об одном только имени без объяснения. Однако постигнуть род того, что мы намерены исследовать, а именно что такое софист, не очень‑то легкое дело. С другой стороны, если что‑нибудь важное дулжно разрабатывать как следует, то здесь все в древности были согласны, что надо упражняться на менее важном и более легком прежде, чем на самом важном.
d
Итак, Теэтет, я советую это и нам, раз мы признали, что род софиста тяжело уловить: сначала на чем‑либо другом, более легком, поупражняться в способе его исследования, если только ты не можешь указать какой‑нибудь иной, более удобный путь.
Теэтет.
Нет, не могу.
Чужеземец.
Итак, не желаешь ли ты, чтобы мы, обращаясь к чему‑либо незначительному, попытались сделать это образцом для более важного?
e
Теэтет.
Да.
Чужеземец.
Так что же предложить нам – хорошо известное, а вместе с тем и маловажное, но допускающее объяснение ничуть не меньше, чем что‑либо важное? Например, рыбак, удящий рыбу, – не есть ли он нечто всем известное и заслуживающее не очень‑то большого внимания?
Теэтет.
Это так.
219
Чужеземец.
Однако я надеюсь, что он укажет нам путь исследования и объяснение, небесполезное для того, чего мы желаем.
Теэтет.
Это было бы хорошо.
Чужеземец.
Давай же начнем с него следующим образом. Скажи мне: предположим ли мы, что он знаток своего дела, или же скажем, что он в нем неискусен, но обладает другой способностью?
Теэтет.
Уж меньше всего можно признать, что он неискусен.
Чужеземец.
Но ведь все искусства распадаются на два вида.
Теэтет.
Как так?
Чужеземец.
Земледелие и всевозможный уход за всяким смертным телом, далее – все то, что относится к составному и сделанному,
b
то есть к тому, что мы называем утварью, а затем подражательные искусства – все это с полным правом можно бы назвать одним именем.
Теэтет.
Как это и каким?
Чужеземец.
В отношении всего, чего прежде не существовало, но что кем‑либо потом вызывается к жизни, мы говорим: о том, кто это делает, – «он творит», а о том, чту сделано – «его творят».
Теэтет.
Верно.
Чужеземец.
Но ведь то, что мы сейчас рассмотрели, относится по своим свойствам именно сюда.
Теэтет.
Конечно.
Чужеземец.
Итак, будем называть все это, выражаясь кратко, творческим искусством.
c
Теэтет.
Пусть будет так.
Чужеземец.
С другой стороны – целый ряд наук и знаний, а также искусства дельца, борца и охотника, так как все они ничего не творят, но занимаются тем, что отчасти словами и действиями подчиняют своей власти то, что есть и что возникает, отчасти не позволяют этого делать другим. Наиболее подходящим было бы назвать все эти части в совокупности неким искусством приобретения.
Теэтет.
Да, это было бы подходящим.
d
Чужеземец.
Когда, таким образом, все искусства а распадаются на приобретающие и творческие, то к каким, Теэтет, мы причислим искусство удить рыбу?
Теэтет.
Разумеется, к приобретающим.
Чужеземец.
Но разве не два есть вида приобретающего искусства? Одно из них – искусство обмена по обоюдному соглашению посредством даров, найма и продажи, а другое – искусство подчинения себе всего делом или словом: не будет ли этот последний вид искусством подчинять?
Теэтет.
Так, по крайней мере, явствует из сказанного.
Чужеземец.
Что же? Искусство подчинять – не разделить ли его на две части?
Теэтет.
Как?
Чужеземец.
Причислив все явное в нем к искусству борьбы, а все тайное – к искусству охоты.
e
Теэтет.
Согласен.
Чужеземец.
Но конечно, было бы неразумным не разделить искусство охоты на две части.
Теэтет.
Скажи, как?
Чужеземец.
Различая в нем, с одной стороны, охоту за одушевленным родом [вещей], а с другой – за неодушевленным.
Теэтет.
Как же иначе? Если только существуют те и другие.
220
Чужеземец.
Ну как же не существуют? Охоту за неодушевленными [вещами], не имеющую названия, за исключением некоторых частей водолазного искусства и немногих других подобных, мы должны оставить в стороне, а охоту за одушевленными существами назвать охотою за животными.
Теэтет.
Пусть будет так.
Чужеземец.
Но не справедливо ли указать два вида охоты за животными и один из них – за животными на суше, распадающийся на много видов и названий, – наименовать охотой за обитающими на суше, а все виды охоты за плавающими животными – охотою за обитателями текучей среды?
Теэтет.
Конечно.
b
Чужеземец.
Но ведь мы видим, что один разряд плавающих имеет крылья, а другой живет в воде?
Теэтет.
Как же не видеть?
Чужеземец.
Вся охота за родом крылатых у нас называется птицеловством.
Теэтет.
Конечно, называется так.
Чужеземец.
А охота за живущими в воде почти вся называется рыболовством.
Теэтет.
Да.
Чужеземец.
Что же? Эту охоту в свою очередь не разделить ли мне на две главные части?
Теэтет.
На какие?
Чужеземец.
Одна производит ловлю прямо с места сетями, а другая – посредством удара.
Теэтет.
Как называешь ты их и в чем различаешь одну от другой?
c
Чужеземец.
Одну – так как все то, что имеет целью задержать что‑либо, заграждает этому выход, как бы его окружая, – уместно назвать заграждением…
Теэтет.
Конечно.
Чужеземец.
А садки, сети, невода, тенета и тому подобное можно ли назвать иначе как заграждениями?
Теэтет.
Никак.
Чужеземец.
Стало быть, эту часть ловли назовем заградительной или еще как‑нибудь в этом роде.
Теэтет.
Да.
d
Чужеземец.
А вид ловли, отличный от первого, который производится с помощью ударов крюками и трезубцами, надо назвать одним общим именем – ударной охоты. Или кто‑нибудь, Теэтет, назовет это лучше?
Теэтет.
Не станем заботиться об имени. Ведь и это вполне удовлетворяет.
Чужеземец.
Но та часть ударной охоты, которая происходит ночью при свете огня, у самих охотников получила, думаю я, название огневой.
Теэтет.
Совершенно верно.
Чужеземец.
Вся же дневная часть, с крюками и трезубцами, называется крючковой.
e
Теэтет.
Да, это называется так.
Чужеземец.
Одна часть этой крючковой охоты, когда удар направлен сверху вниз, потому что при ней главным образом идут в ход трезубцы, носит, думаю я, название охоты с трезубцами.
Теэтет.
Так, по крайней мере, называют ее некоторые.
Чужеземец.
Но остается еще один, так сказать, единственный вид.
Теэтет.
Какой?
Чужеземец.
Такой, когда ударяют крюком в направлении, противоположном первому, причем не в любое место, куда попало, как это бывает при охоте с трезубцами,
221
но каждый раз в голову и рот рыбы, которую ловят; затем она извлекается снизу вверх с помощью удилищ из прутьев и тростника. Каким именем, Теэтет, скажем мы, надо это назвать?
Теэтет.
Я полагаю, что теперь найдено именно то, что мы недавно поставили своей задачей исследовать.
b
Чужеземец.
Теперь, значит, мы с тобой не только согласились о названии рыболовного искусства, но и получили достаточное объяснение самой сути дела. Оказалось, что половину всех вообще искусств составляет искусство приобретающее; половину приобретающего – искусство покорять; половину искусства покорять – охота; половину охоты – охота за животными; половину охоты за животными – охота за живущими в текучей среде; нижний отдел охоты в текучей среде – все вообще рыболовство; половину рыболовства составляет ударная охота; половину ударной охоты – крючковая; половина же этой последней – лов, при котором добыча извлекается после удара снизу вверх, – есть искомое нами ужение, получившее название в соответствии с самим делом.
c
Теэтет.
Во всяком случае, это достаточно выяснено.
Чужеземец.
Ну так не попытаться ли нам по этому образцу найти и что такое софист?
Теэтет.
Конечно.
Чужеземец.
Но ведь первым вопросом было: должно ли считать удильщика‑рыболова человеком обыкновенным, или же он знаток своего дела?
Теэтет.
Да, таков был первый вопрос.
Чужеземец.
А теперь, Теэтет, сочтем ли мы нашего софиста человеком обыкновенным или же во всех отношениях истинным знатоком?
d
Теэтет.
Обыкновенным – ни в коем случае. Я ведь понимаю, что ты считаешь: тот, кто носит это имя, должен, во всяком случае, таким и быть.
Чужеземец.
Выходит, нам следует признать его знатоком своего дела.
Теэтет.
Но каким бы это?
Чужеземец.
Или, ради богов, мы не знаем, что один из этих мужей сродни другому?
Теэтет.
Кто кому?
Чужеземец.
Рыболов‑удильщик – софисту[1158]
.
Теэтет.
Каким образом?
Чужеземец.
Оба они представляются мне в некотором роде охотниками.
e
Теэтет.
Но какой охотой занимается другой? Про одного ведь мы говорили.
Чужеземец.
Мы только что разделили всю охоту надвое, отделив ее водную часть от сухопутной.
Теэтет.
Да.
Чужеземец.
И мы рассмотрели всю ту ее часть, которая касается плавающих, сухопутную же оставили без подразделения, сказав, что она многовидна.
222
Теэтет.
Совершенно верно.
Чужеземец.
Таким образом, до сих пор софист и удильщик‑рыболов вместе занимаются приобретающим искусством.
Теэтет.
Это, по крайней мере, правдоподобно.
Чужеземец.
Но они расходятся, начиная с охоты за живыми существами: один идет к морю, рекам и озерам, чтобы охотиться за обитающими в них животными.
Теэтет.
Как же иначе?
Чужеземец.
А другой – к земле и неким другим потокам, к изобильным лугам богатства и юности, покорять обитающие там существа.
b
Теэтет.
Что ты имеешь в виду?
Чужеземец.
В сухопутной охоте бывают две главные части.
Теэтет.
Какие?
Чужеземец.
Одна – охота за ручными, другая – за дикими животными.
Теэтет.
Разве существует охота за ручными животными?
Чужеземец.
Если только человек ручное животное. Считай, впрочем, как тебе угодно: либо что вообще не существует ручных животных, либо что есть какое‑то другое ручное животное, а человек – животное дикое; или, может быть, ты скажешь, что человек – ручное животное, но не признаешь никакой охоты за людьми? Что из всего этого тебе понравится, это ты нам и определи.
c
Теэтет.
Но я думаю, чужеземец, что мы ручные животные, и утверждаю, что существует охота за людьми.
Чужеземец.
Так разделим же и охоту за ручными животными надвое.
Теэтет.
На каком основании?
Чужеземец.
Да определив разбой, увод в рабство, тиранию и военное искусство – все в целом как одно, а именно как охоту насильственную.
Теэтет.
Прекрасно.
Чужеземец.
С другой стороны, судейское искусство, искусство говорить всенародно и искусство обхождения, также все в целом, определим как некое искусство убеждать.
d
Теэтет.
Верно.
Чужеземец.
Назовем же два рода искусства убеждать.
Теэтет.
Какие?
Чужеземец.
Один – искусство убеждать в частной беседе, а другой – всенародно.
Теэтет.
Конечно, бывает тот и другой вид.
Чужеземец.
Но в свою очередь частная охота не бывает ли, с одной стороны, требующей вознаграждения, а с другой – приносящей дары?
Теэтет.
Не понимаю.
Чужеземец.
Видно, ты еще не обратил внимания на охоту влюбленных.
Теэтет.
В каком отношении?
e
Чужеземец.
В том, что за кем влюбленные охотятся, тем они делают подарки.
Теэтет.
Ты говоришь сущую правду.
Чужеземец.
Ну, так пусть этот вид будет называться любовным искусством.
Теэтет.
Уж конечно.
Чужеземец.
А тот вид получения вознаграждения, при котором вступают в общение с кем‑либо для того, чтобы ему угодить, и при этом всегда приманкою делают удовольствие, а в награду добиваются единственно лишь пропитания для себя в виде лести, все мы, думаю я, могли бы назвать своего рода искусством услаждающим.
223
Теэтет.
Да и как не назвать?
Чужеземец.
А когда объявляют, что вступают в общение с другим ради добродетели, но в награду требуют деньги, не справедливо ли назвать этот род получения наград другим именем?
Теэтет.
Конечно!
Чужеземец.
Каким же? Попытайся сказать.
Теэтет.
Да это ясно: мне кажется, что мы дошли до софиста. Назвав этот род так, я дал ему, думаю, надлежащее имя.
b
Чужеземец.
Согласно, Теэтет, с теперешним нашим объяснением, выходит, что охота, принадлежащая к искусствам приобретения, подчинения, охоты, охоты на животных, сухопутной охоты, охоты за людьми, за отдельными лицами, к искусству продавать за деньги, к мнимому воспитанию – иными словами, охота за богатыми и славными юношами должна быть названа софистикою[1159]
.
Теэтет.
Совершенно верно.
Чужеземец.
Посмотрим еще и вот с какой стороны: ведь то, что мы теперь исследуем, принадлежит не к маловажному искусству,
c
но к искусству весьма разностороннему, так что оно и в прежних наших утверждениях казалось не тем родом, за который мы его теперь признаем, но иным.
Теэтет.
Каким образом?
Чужеземец.
Приобретающее искусство у нас было двоякого вида: одна часть заключала в себе охоту, другая – обмен.
Теэтет.
Да, было так.
Чужеземец.
Назовем же далее два вида обмена: один – царственный, другой – торговый.
Теэтет.
Назовем это так.
Чужеземец.
Но мы и торговлю разделим надвое.
d
Теэтет.
Каким образом?
Чужеземец.
Различая, с одной стороны, торговлю тех, кто продает собственные изделия, а с другой – меновую торговлю, в которой обмениваются чужие изделия.
Теэтет.
Ну конечно.
Чужеземец.
Что же? Меновая торговля внутри города, которая составляет почти половину всей меновой торговли, не называется ли мелочной?
Теэтет.
Да.
Чужеземец.
А обмен между городами посредством купли и продажи не есть ли торговля крупная?
Теэтет.
Почему же нет?
Чужеземец.
Но разве мы не обратили внимания, что одна часть крупной торговли продает и обменивает на деньги то, чем питается и в чем имеет нужду тело, а другая – то, чем питается и в чем имеет нужду душа?
e
Теэтет.
Что ты имеешь в виду?
Чужеземец.
Того вида торговли, который касается души, мы, быть может, не знаем, но о другом‑то имеем понятие.
Теэтет.
Да.
224
Чужеземец.
Мы скажем затем, что все музыкальное искусство, которое все время перевозится из города в город, покупается там и тут, а также живопись, фокусничество и многие другие нужные для души вещи, ввозимые и продаваемые частью для забавы, а частью для серьезных занятий, в отношении того, кто их ввозит и ими торгует, могут не меньше, чем торговля пищей и питьем, вполне оправдать имя купца.
Теэтет.
Ты говоришь совершенно верно.
Чужеземец.
Так не назовешь ли ты тем же именем и того, кто скупает знания и, переезжая из города в город, обменивает их на деньги?
b
Теэтет.
Несомненно, так.
Чужеземец.
А в этой торговле духовными товарами не должно ли по всей справедливости назвать одну часть ее искусством показа, а другую, правда не менее забавную, чем первая, но представляющую собой не что иное, как торговлю знаниями, не следует ли назвать каким‑нибудь именем, сродным самому делу?
Теэтет.
Несомненно, следует.
Чужеземец.
Так ту часть этой торговли знаниями, которая имеет дело с познанием всех прочих искусств, должно назвать одним именем, а ту, которая имеет дело с добродетелью, – другим.
c
Теэтет.
Как же иначе?
Чужеземец.
Название «торговля искусствами», конечно, подошло бы к той, которая имеет дело со всем остальным, а для другой, имеющей дело с добродетелью, ты сам потрудись сказать имя.
Теэтет.
Да какое же другое имя можно назвать, не делая ошибки, помимо того, что исследуемое нами теперь – это софистический род?
Чужеземец.
Никакого другого назвать нельзя. Давай же возьмем в совокупности все это и скажем, что, во‑вторых, софистика оказалась искусством приобретать, менять, продавать, торговать вообще, торговать духовными товарами, а именно рассуждениями и знаниями, касающимися добродетели[1160]
.
d
Теэтет.
Именно так.
Чужеземец.
В‑третьих, я думаю, что, если кто‑нибудь поселится в городе и станет отчасти покупать, а отчасти сам изготовлять и продавать знания об этих самых вещах и поставит себе целью добывать себе этим средства к жизни, ты не назовешь его каким‑либо иным именем, помимо того, о котором только что было сказано.
Теэтет.
Почему бы и не назвать так?
e
Чужеземец.
Стало быть, и тот род приобретающего искусства, который занимается меной и продажей чужих или собственных изделий, в обоих случаях, коль скоро оно занимается продажей познаний о таких вещах, ты, очевидно, всегда будешь называть софистическим.
Теэтет.
Несомненно. Ведь надо быть последовательным в рассуждении.
Чужеземец.
Посмотрим еще, не походит ли исследуемый нами теперь род на что‑либо подобное.
225
Теэтет.
На что именно?
Чужеземец.
Частью приобретающего искусства у нас была борьба.
Теэтет.
Конечно, была.
Чужеземец.
Так не будет лишним разделить ее на две части.
Теэтет.
Скажи, на какие?
Чужеземец.
Допустим, что одна из них – состязание, а другая – сражение.
Теэтет.
Так.
Чужеземец.
Допустим также, что той части сражения, где выступает тело против тела, довольно уместно и подобает дать какое‑нибудь название… ну, например, применение силы.
Теэтет.
Да.
b
Чужеземец.
А той, где слова выступают против слов, какое другое, Теэтет, можно дать имя, как не спор?
Теэтет.
Никакого.
Чужеземец.
Но ту часть [борьбы], которая имеет дело со спорами, надо считать двоякой.
Теэтет.
Как?
Чужеземец.
Поскольку она происходит всенародно и длинные речи выступают против длинных речей, и притом по вопросам о справедливости и несправедливости, это – судебное прение.
Теэтет.
Да.
Чужеземец.
Напротив, ту, которая относится к частным беседам и распадается на вопросы и ответы, имеем ли мы обыкновение называть иначе, чем искусством прекословия?
Теэтет.
Нет, вовсе не имеем.
Чужеземец.
А вся та часть искусства прекословия, которая заключается в препирательстве по поводу обыденных дел
c
и проявляется в этом просто и безыскусственно, хотя и должна считаться отдельным видом – таким признало ее наше рассуждение, – однако не получила наименования от тех, кто жил прежде, да и от нас теперь недостойна его получить.
Теэтет.
Это правда. Ведь она распадается на слишком малые и разнообразные части.
Чужеземец.
Но ту, в которой есть искусство и состоит она в препирательстве о справедливом и несправедливом и обо всем остальном, не привыкли ли мы называть искусством словопрения?
Теэтет.
Как же нет?
Чужеземец.
Но одна часть искусства словопрения истребляет деньги, а другая – наживает их.
d
Теэтет.
Совершенно верно.
Чужеземец.
Так попытаемся же сказать имя, каким должно называть каждую.
Теэтет.
Да, это нужно.
Чужеземец.
Я полагаю, что та часть этого искусства, которая ради удовольствия подобного времяпрепровождения заставляет пренебрегать домашними делами и способ выражения которой вызывает у большинства слушателей неудовольствие, называется – это мое мнение – не иначе как болтовней.
Теэтет.
Конечно, она называется как‑нибудь так.
e
Чужеземец.
А противоположную этой часть, наживающую деньги от частных споров, попытайся теперь назвать ты.
Теэтет.
Да что ж другое и на этот раз можно сказать, не делая ошибки, кроме того, что опять, в четвертый раз, появляется тот же самый удивительный, преследуемый нами софист?
226
Чужеземец.
Так, стало быть, как показало исследование, и на этот раз софист, видно, есть не что иное, как род [людей], наживающих деньги при помощи искусств словопрения, прекословия, спора, сражения, борьбы и приобретения[1161]
.
Теэтет.
Совершенно верно.
Чужеземец.
Видишь, как справедливо говорят, что зверь этот пестр и что, по пословице, его нельзя поймать одной рукой.
Теэтет.
Значит, надо обеими.
b
Чужеземец.
Конечно, надо, и по возможности следует делать так, чтобы преследование его велось неотступно. Например, вот так. Скажи мне: называем ли мы как‑то некоторые занятия рабов?
Теэтет.
И даже многие. Но о каких именно из этих названий ты спрашиваешь?
Чужеземец.
Например, о таких: мы говорим «процеживать», «просеивать», «провеивать», «отделять».
Теэтет.
Как же иначе?
Чужеземец.
И сверх того еще «чесать», «прясть», «ткать"» существует и множество других подобных названий, относящихся, как мы знаем, к искусствам. Не правда ли?
Теэтет.
Что же ты спрашиваешь и желаешь разъяснить по поводу этих примеров?
c
Чужеземец.
Все искусства вообще, о которых было сказано, думаю я, называются разделяющими.
Теэтет.
Да.
Чужеземец.
По моему мнению, так как все это сводится к одному искусству, то надо бы удостоить его и одним именем.
Теэтет.
Каким же?
Чужеземец.
Это – искусство различать.
Теэтет.
Пусть будет так.
Чужеземец.
Посмотри‑ка: не могли ли бы мы каким‑нибудь образом в свою очередь усмотреть два его вида?
Теэтет.
Слишком же скорого ты требуешь от меня соображения.
d
Чужеземец.
Но ведь в упомянутых искусствах различения одно может отличать худшее от лучшего, другое – подобное от подобного же.
Теэтет.
Теперь, когда это сказано, мне так кажется.
Чужеземец.
Для одного из этих различений я не знаю ходячего имени, а для другого, которое лучшее оставляет, а худшее устраняет, знаю.
Теэтет.
Скажи, какое?
Чужеземец.
Всякое подобное различение, думаю я, у всех носит название некоего очищения.
Теэтет.
Да, это так называется.
e
Чужеземец.
Но не заметит ли каждый, что очистительный вид искусства в свою очередь двоякий?
Теэтет.
Да, на досуге, быть может, и заметит. Я ж» пока не вижу.
Чужеземец.
И однако, многие виды очищений, касающиеся тел, следует обозначить одним именем.
Теэтет.
Какие и каким?
Чужеземец.
Прежде всего, очищения у живых существ всего того, что находится у них внутри тел и что правильно выделяется, очищаясь благодаря гимнастике и врачеванию;
227
затем, очищения всего внешнего, о чем и говорить неловко, совершающиеся при помощи банного искусства; наконец, очищения неодушевленных тел, о которых до мелочей заботится валяльное и все вообще искусство украшения, получившее множество имен, кажущихся смешными,
Теэтет.
И даже очень.
Чужеземец.
Без сомнения, так, Теэтет. Однако методу нашего исследования искусство омывать губкой подлежит не меньше, но и не больше, чем искусство приготовлять лекарства, хотя бы одно из них приносило нам очищением малую пользу, а другое – великую.
b
Ведь этот метод, пытаясь с целью приобретения знания уразуметь сродное и несродное во всех искусствах, ценит ради этого все их одинаково, и, поскольку они подобны между собой, не считает одни смешнее других; он вовсе не находит, что тот, кто объясняет охоту на примере предводительства войсками, почтеннее того, кто поясняет ее на примере ловли вшей, хотя в большинстве случаев считает первого напыщеннее. Да вот и теперь ты спросил, каким именем нам назвать все те способности, удел которых очищать как неодушевленное, так и одушевленное тело, и для этого метода совершенно безразлично, какое выражение покажется самым благопристойным,
c
лишь бы оно, оставив в стороне очищения души, объединило собою то, что очищает все остальное. Ведь теперь он пытается отделить очищение мысли от остальных очищений, если только мы понимаем, чего он желает.
Теэтет.
Я понял и соглашаюсь, что существует два вида очищения, из которых один касается души и отличен от того, который касается тела.
Чужеземец.
Превосходно. Выслушай от меня и следующее: сделай попытку опять разделить то, о чем мы говорим, надвое.
d
Теэтет.
Я попытаюсь делить с тобою вместе, куда бы ты меня ни направил.
Чужеземец.
Не считаем ли мы, что порочность души – это нечто отличное от ее добродетели?
Теэтет.
Как же нет?
Чужеземец.
Но ведь очищение состояло в том, чтобы выбрасывать все негодное и оставлять иное.
Теэтет.
Да, конечно.
Чужеземец.
Так стало быть, если мы найдем какой‑либо способ устранения зла из души, то, назвав его очищением, мы выразимся удачно.
Теэтет.
И даже очень.
Чужеземец.
Дулжно, однако, назвать два вида зла, относящегося к душе.
Теэтет.
Какие?
228
Чужеземец.
Один – проявляющийся как болезнь в теле, другой – как безобразие.
Теэтет.
Не понял.
Чужеземец.
Быть может, ты не считаешь болезнь и разлад одним и тем же?
Теэтет.
И на это не знаю, что мне отвечать.
Чужеземец.
Разве разлад это не раздор, возникающий вследствие какой‑либо порчи – среди того, что сродно по своей природе?
Теэтет.
Да.
Чужеземец.
А безобразие – разве это не род несоразмерности, неприглядный во всех отношениях?
b
Теэтет.
Да, именно это.
Чужеземец.
Что же? Не замечаем ли мы, что в душе людей негодных мнения находятся в раздоре с желаниями, воля – с удовольствиями, рассудок – со страданиями и все это – между собой?
Теэтет.
Весьма даже.
Чужеземец.
Но ведь все это по необходимости родственно друг другу.
Теэтет.
Как же нет?
Чужеземец.
Стало быть, называя разлад и болезнь души пороком, мы выразимся правильно.
Теэтет.
Конечно, вполне правильно.
c
Чужеземец.
Что же? Обо всех тех вещах, которые, находясь в движении и имея перед собою какую‑то цель, к достижению которой и стремятся, при каждом порыве минуют ее и ошибаются, скажем ли мы, что это случается с ними вследствие соразмерности вещи и цели или, наоборот, вследствие несоразмерности?
Теэтет.
Ясно, что вследствие несоразмерности.
Чужеземец.
Но ведь мы знаем, что всякая душа заблуждается ('αγνοονσαν) во всем не по доброй воле.
Теэтет.
Бесспорно.
d
Чужеземец.
Заблуждение же есть не что иное, как отклонение мысли, когда душа стремится к истине, но проносится мимо понимания.
Теэтет.
Несомненно.
Чужеземец.
Стало быть, заблуждающуюся ('ανόητον) душу должно считать безобразною и несоразмерною.
Теэтет.
По‑видимому.
Чужеземец.
Итак, в ней есть, видно, эти два рода зла. Один, который многие называют пороком, – это, как весьма очевидно, ее болезнь.
Теэтет.
Да.
Чужеземец.
А другой называют заблуждением[1162]
, но соглашаться с тем, что это – зло, свойственное только душе, не желают.
e
Теэтет.
Конечно, дулжно согласиться с тем, в чем е я, когда ты это недавно сказал, усомнился, а именно что есть два рода зла в душе и что трусость, своеволие и несправедливость, все вместе, надо считать гнездящейся в нас болезнью, а состояния частого и разнообразного заблуждения – безобразием[1163]
.
Чужеземец.
Не существует ли против этих двух состояний, по крайней мере для тела, неких двух искусств?
Теэтет.
Каких это?
Чужеземец.
Против безобразия – гимнастика, против болезни – врачевание?
229
Теэтет.
Это ясно.
Чужеземец.
Так не существует ли и против высокомерия, несправедливости и трусости из всех искусств по природе своей самое подходящее – карательное – правосудие?
Теэтет.
Вероятно, по крайней мере если говорить согласно с людским мнением.
Чужеземец.
Что же? А против всякого вообще заблуждения можно ли правильнее назвать другое какое‑либо искусство, кроме искусства обучать?
Теэтет.
Нет, нельзя.
Чужеземец.
Ну хорошо. Дулжно ли, однако, утверждать, что в искусстве обучать существует один род, или надо говорить, что их больше и что в этом случае самые важные в нем – два каких‑то рода? Рассмотри.
b
Теэтет.
Рассматриваю.
Чужеземец.
И мне кажется, что мы скорее всего могли бы найти их вот как.
Теэтет.
Как?
Чужеземец.
А рассмотрев, не допускает ли заблуждение внутри себя некоего разделения? Ведь будучи двояким, оно, очевидно, принуждает и искусство обучения иметь две части, по одной для каждого из своих родов.
Теэтет.
Что же? Ясно ли тебе то, чту мы теперь исследуем?
c
Чужеземец.
Мне, во всяком случае, кажется, что я вижу обособленным некий великий и тягостный вид заблуждения, равный по значению всем остальным частям заблуждения.
Теэтет.
Какой именно?
Чужеземец.
Тот, когда, не зная чего‑нибудь, люди считают себя знающими это. Отсюда, по‑видимому, у всех возникает все то, что составляет наши ошибки в мышлении.
Теэтет.
Правда.
Чужеземец.
Так именно этому одному виду заблуждения и присваивается, по моему мнению, имя невежества.
Теэтет.
Уж конечно.
Чужеземец.
Какое же, стало быть, надо дать имя той части искусства обучения, которая от него избавляет?
d
Теэтет.
Я так думаю, чужеземец, что все другое называется ремесленным обучением, а эта часть, по крайней мере здесь, у нас, именуется воспитанием.
Чужеземец.
Да и у всех почти эллинов, Теэтет, она именуется так. Но нам надо еще рассмотреть, не есть ли она уже неделимое целое, или же она допускает какое‑либо достойное названия подразделение.
Теэтет.
Конечно, это надо рассмотреть.
Чужеземец.
Так мне представляется, что и эта часть некоторым образом расчленяется.
Теэтет.
В каком отношении?
Чужеземец.
В искусстве обучения с помощью речей один путь кажется более шероховатым, другой – более гладким.
e
Теэтет.
Что же сказать нам о каждом из них?
Чужеземец.
Один путь стародавний, путь наших отцов, которым они главным образом пользовались, да многие пользуются еще и теперь в применении к сыновьям,
230
когда те в чем‑нибудь провинятся, причем их то бранят, то более кротко увещевают. Всю эту часть правильнее всего можно назвать вразумлением.
Теэтет.
Это так.
Чужеземец.
Что же касается другого, то здесь некоторые, видно, по размышлении, пришли к выводу, что всякое неведение бывает невольным и если кто считает себя мудрым, он никогда не пожелает обучаться чему‑либо из того, в чем считает себя сильным, способ же воспитывать путем вразумления при затрате большого труда приводит к малым достижениям.
Теэтет.
Они правильно полагают.
b
Чужеземец.
Поэтому‑то за устранение подобного [само]мнения они берутся другим способом.
Теэтет.
Каким же именно?
Чужеземец.
Они расспрашивают кого‑либо о том, относительно чего тот мнит, будто говорит дельно, хотя в действительности говорит пустое. Затем, так как он и ему подобные бросаются из стороны в сторону, они легко выясняют их мнения и, сводя их в своих рассуждениях воедино, сопоставляют между собой, сопоставляя же, показывают, что эти мнения противоречат друг другу касательно одних и тех же вещей, в одном и том же отношении, одним и тем же образом. Те же, видя это, сами на себя негодуют, а к другим становятся мягче и таким способом освобождаются от высокомерного и упорного самомнения,
c
и из всех освобождений об этом освобождении слушать всего приятнее, да и для того, кто его испытывает, оно бывает самым надежным. Ведь те, кто их очищает, дитя мое, полагают, подобно тому как это признали врачи, что тело может наслаждаться предлагаемой ему пищей не раньше, чем будет из него устранено все то, что этому служит помехой; то же самое они думают и относительно души. Они считают, что душа получит пользу от предлагаемых знаний не раньше, чем обличитель,
d
заставив обличаемого устыдиться и устранив мешающие знаниям мнения, сделает обличаемого чистым и таким, что он будет считать себя знающим лишь то, что знает, но не более.
Теэтет.
Во всяком случае это состояние – наилучшее и разумнейшее.
Чужеземец.
Вследствие всего этого, Теэтет, о таком обличении мы должны говорить как о величайшем и главнейшем из очищений и, с другой стороны, человека, не подвергшегося этому испытанию, если бы даже он был Великим царем[1164]
,
e
поскольку он не очищен в самом главном, должны считать невоспитанным и безобразным в том отношении, в каком следовало бы быть самым чистым и прекрасным тому, кто желает стать действительно счастливым.
Теэтет.
Безусловно, так.
Чужеземец.
Что же? Тех, кто занимается этим искусством, как нам назвать? Я ведь боюсь назвать их софистами.
231
Теэтет.
Почему же?
Чужеземец.
Как бы не приписать им слишком ценный дар.
Теэтет.
Но ведь то, что теперь сказано, походит на нечто подобное.
Чужеземец.
Да ведь и волк походит на собаку, самое дикое существо – на самое кроткое. Но человеку осмотрительному надо больше всего соблюдать осторожность в отношении подобия, так как это самый скользкий род. Впрочем, пусть будет так: ведь если определения четки даже в отношении мелочей, то никакого спора из‑за них не возникает.
b
Теэтет.
Да, вероятно, не возникает.
Чужеземец.
Так пусть же частью искусства различать будет искусство очищать, от искусства очищать пусть будет отделена часть, касающаяся души, от этой части – искусство обучать, от искусства обучать – искусство воспитывать, а обличение пустого суемудрия, представляющее собою часть искусства воспитания, пусть называется теперь в нашем рассуждении не иначе как благородною по своему роду софистикою[1165]
.
Теэтет.
Пусть называется. Однако я, поскольку обнаружилось столь многое, недоумеваю, кем же, наконец, если говорить правильно и с уверенностью, следует признать на самом деле софиста.
c
Чужеземец.
Твое недоумение естественно. Но и тот, софист, надо думать, теперь уже сильно недоумевает, куда ему, наконец, ускользнуть от нашего рассуждения. Ведь справедлива пословица, что не легко от всего увернуться[1166]
. Поэтому теперь надо посильнее на него налечь.
Теэтет.
Ты говоришь прекрасно.
Чужеземец.
Давай‑ка сначала, остановившись, как бы переведем дух и, отдыхая, поразмыслим сами с собою:
d
вот ведь сколь многовидным оказался у нас софист. Мне кажется, прежде всего мы обнаружили, что он – платный охотник за молодыми и богатыми людьми.
Теэтет.
Да.
Чужеземец.
Во‑вторых, что он крупный торговец знаниями, относящимися к душе.
Теэтет.
Именно.
Чужеземец.
В‑третьих, не оказался ли он мелочным торговцем тем же самым товаром?
Теэтет.
Да; и в‑четвертых, он был у нас торговцем своими собственными знаниями.
Чужеземец.
Ты правильно вспомнил. Пятое же попытаюсь припомнить я. Захватив искусство словопрений, он стал борцом в словесных состязаниях.
e
Теэтет.
Так и было.
Чужеземец.
Шестое спорно; при всем том мы, уступив софисту, приняли, что он очищает от мнений, препятствующих знаниям души.
Теэтет.
Совершенно верно.
232
Чужеземец.
Замечаешь ли ты, что когда у кого‑то имеется много знаний, а именуют его только по одному виду искусства, то об этом человеке возникает неверное представление. И ясно, что, если кто имеет нечеткое представление о каком‑либо искусстве, он не может себе вообразить, на что направлены все знания в этом искусстве, почему он и называет того, кто ими обладает, многими именами вместо одного.
Теэтет.
Кажется, большею частью это происходит приблизительно так.
b
Чужеземец.
Пусть же мы не испытаем по лености ничего подобного при исследовании, но примем, прежде всего, одно из сказанного о софисте; это одно, как мне кажется, более всего его отличает.
Теэтет.
Что же это за одно?
Чужеземец.
Мы где‑то признали его искусником в прекословии.
Теэтет.
Да.
Чужеземец.
Что же? Не признали ли мы, что он учит этому самому и других?
Теэтет.
Как же иначе?
Чужеземец.
Посмотрим‑ка, в спорах о чем обещают подобные люди сделать других искусными? Пусть наше исследование идет сначала примерно так.
c
Ну‑ка, делают ли они других людей способными спорить о божественных делах, скрытых от большинства?
Теэтет.
О них действительно так говорят.
Чужеземец.
А относительно земных, небесных и тому подобных очевидных явлений?
Теэтет.
Как же иначе?
Чужеземец.
И конечно, мы знаем, что, когда в частных беседах зайдет речь о возникновении и бытии, они и сами оказываются искусными в возражениях, и других делают такими же способными в этом, как они сами?
Теэтет.
Конечно.
d
Чужеземец.
А что касается законов и всего, относящегося к государству, – берутся ли они сделать других искусными спорщиками?
Теэтет.
Да ведь никто с ними, можно сказать, и не стал бы беседовать, если б они не брались.
Чужеземец.
Однако все то, что по поводу всех искусств, а также и каждого из них в отдельности должен возражать сам мастер, обнародовано для каждого желающего этому научиться в письменном виде.
Теэтет.
Ты, кажется, имеешь в виду Протагоровы сочинения о борьбе и иных искусствах[1167]
?
e
Чужеземец.
И многие другие, мой друг. Однако не представляется ли искусство прекословить какой‑то способностью, годною для любых словопрений – о чем угодно?
Теэтет.
Кажется, это искусство почти ничего не оставляет без внимания.
Чужеземец.
Но, ради богов, мой мальчик, признаешь ли ты все это возможным? Ведь вы, молодые, пожалуй, бываете тут проницательнее, мы же – слабее.
233
Теэтет.
О чем это и к чему ты все это говоришь? Я даже не понимаю этого твоего вопроса.
Чужеземец.
А о том, будто бы возможно, чтобы кто‑нибудь из людей все знал.
Теэтет.
Поистине счастливым был бы, чужеземец, наш род.
Чужеземец.
Каким же образом кто‑то, не зная сам, мог бы здраво возражать знающему?
Теэтет.
Это никоим образом невозможно.
Чужеземец.
Ну так в чем же состояло бы чудо силы софистики?
Теэтет.
В применении к чему?
b
Чужеземец.
Каким образом софисты были бы в состоянии внушить молодым людям мнение, будто они во всем наимудрейшие? Ясно ведь, что, если бы софисты не возражали правильно, или не казалось бы, что они правильно возражают, или даже если бы и создавалось такое впечатление, но они представлялись бы разумными лишь в силу этих возражений, то, говоря твоими же словами, едва ли кто‑нибудь пожелал бы у них учиться, платя им деньги.
Теэтет.
Разумеется, едва ли.
Чужеземец.
А на самом деле ведь желают?
Теэтет.
И даже очень.
c
Чужеземец.
Я думаю, они кажутся сведущими в том, чту они возражают.
Теэтет.
Как же иначе?
Чужеземец.
Но, утверждаем мы, ведь они делают это по отношению ко всему?
Теэтет.
Да.
Чужеземец.
Поэтому‑то они и кажутся ученикам мудрыми во всем.
Теэтет.
Конечно.
Чужеземец.
Не будучи в то же время таковыми. Ведь это оказалось невозможным.
Теэтет.
Как может это быть возможным?
Чужеземец.
Значит, софист оказался у нас обладателем какого‑то мнимого знания обо всем, а не истинного.
d
Теэтет.
Безусловно, и сказанное о них теперь кажется вполне правильным.
Чужеземец.
Возьмем же какой‑нибудь более ясный пример.
Теэтет.
Какой?
Чужеземец.
Вот какой… а ты постарайся ответить мне, как следует подумав.
Теэтет.
Так что же это?
Чужеземец.
Например, если бы кто‑нибудь стал утверждать, что ни говорить, ни возражать не умеет, но с помощью одного лишь искусства может создавать все вещи без исключения…
e
Теэтет.
Как ты разумеешь это «все»?
Чужеземец.
Ты уже сейчас не понимаешь, из чего исходит сказанное. Тебе кажется непонятным это «все».
Теэтет.
Конечно, нет.
Чужеземец.
Я считаю, однако, что и я и ты принадлежим ко «всему», помимо же нас все остальные животные и растения.
Теэтет.
Как ты говоришь?
Чужеземец.
Я имею в виду, если кто‑нибудь стал бы утверждать, что сотворит и меня, и тебя, и все растения…
234
Теэтет.
О каком творении ты, однако, упоминаешь? Ведь не о земледельце же будешь ты говорить, поскольку того человека ты называешь творцом также и животных.
Чужеземец.
Да, и сверх того моря, земли, неба и богов, а также всего прочего, вместе взятого; быстро творя, он каждую из этих вещей продает за весьма малые деньги.
Теэтет.
Это какая‑то шутка.
Чужеземец.
Ну а разве не шуткой надо считать, когда кто‑нибудь говорит, будто все знает и будто мог бы за недорогую плату в короткий срок и другого этому научить?
Теэтет.
Безусловно, шуткой.
b
Чужеземец.
Знаешь ли ты какой‑либо более искусный или более приятный вид шутки, чем подражание[1168]
?
Теэтет.
Нет. Ты назвал всеобъемлющий и весьма разнообразный вид, соединив все в одном.
Чужеземец.
Таким образом, о том, кто выдает себя за способного творить все с помощью одного лишь искусства, мы знаем, что он, создавая посредством живописи всевозможные подражания и одноименные с существующими вещами предметы, сможет обмануть неразумных молодых людей, показывая им издали нарисованное и внушая, будто бы он вполне способен на деле исполнить все, что они ни пожелают.
c
Теэтет.
Да, это так.
Чужеземец.
Что же теперь? Не считать ли нам, что и по отношению к речам существует какое‑то подобное искусство, с помощью которого можно обольщать молодых людей и тех, кто стоит вдали от истинной сущности вещей, речами, действующими на слух, показывая словесные призраки всего существующего? Так и достигается то, что произносимое принимают за истину, а говорящего – за мудрейшего из всех и во всем.
d
Теэтет.
Да почему и не быть какому‑либо подобному искусству?
Чужеземец.
Не бывает ли, дорогой Теэтет, необходимым для многих из слушателей, когда по прошествии достаточного времени и достижении зрелого возраста они приходят в столкновение с действительностью и становятся вынужденными под ее воздействием ясно постигнуть существующее, изменить приобретенные раньше мнения, так что великое оказывается малым,
e
легкое – трудным и все ложные представления, образованные при помощи речей, всячески опровергаются действительными делами?
Теэтет.
Конечно, насколько я в своем юном возрасте могу судить. Но думаю, что и я еще из числа стоящих поодаль [от истины].
Чужеземец.
Поэтому‑то все мы здесь постараемся, да и теперь стараемся, подвести тебя к ней как можно ближе прежде, чем ты испытаешь такие воздействия. О софисте же ты скажи мне следующее: ясно ли уже, что,
235
будучи подражателем действительности, он – словно какой‑то чародей, или мы еще пребываем в сомнении, уж не обладает ли он и в самом деле знанием обо всем том, о чем он в состоянии спорить?
Теэтет.
Да каким же образом, чужеземец? Ведь из сказанного уже теперь почти ясно, что он принадлежит к людям, занятым забавой.
Чужеземец.
Оттого‑то его и надо считать каким‑то чародеем и подражателем.
Теэтет.
Как же не считать?
b
Чужеземец.
Ну, теперь наша задача – не выпустить зверя, мы его почти уже захватили в своего рода сеть – орудие нашего рассуждения, так что он больше не убежит и от этого.
Теэтет.
От чего же?
Чужеземец.
От того, что он – из рода фокусников.
Теэтет.
Это также и мое о нем мнение.
Чужеземец.
Нами решено уже как можно скорее расчленить изобразительное искусство и, если софист, когда мы вторгнемся в область этого искусства, останется с нами лицом к лицу, схватить его по царскому слову[1169]
, передавая же его царю, объявить о добыче.
c
Если же софист как‑либо скроется в отдельных частях искусства подражания, то решено преследовать его, все время продолжая расчленять принявшую его часть, до тех пор пока он не будет пойман. Вообще, ни этому роду, ни другому какому никогда не придется хвалиться, что он смог убежать от тех, кто владеет методом преследовать как по частям, так и в целом.
Теэтет.
Ты хорошо говоришь, так и дулжно поступить.
Чужеземец.
Согласно с прежним характером членения, мне кажется, я усматриваю два вида искусства подражания.
d
Однако мне кажется, что я еще не в состоянии узнать, в каком же из них двух находится у нас искомая идея.
Теэтет.
Но сначала скажи и поясни, о каких двух видах ты говоришь.
Чужеземец.
В одном я усматриваю искусство творить образы; оно состоит преимущественно в том, что кто‑либо соответственно с длиною, шириною и глубиною образца, придавая затем еще всему подходящую окраску, создает подражательное произведение.
e
Теэтет.
Как же? Не все ли подражатели берутся делать то же самое?
Чужеземец.
Во всяком случае, не те, кто лепит или рисует какую‑либо из больших вещей. Если бы они желали передать истинную соразмерность прекрасных вещей,
236
то ты знаешь, что верх оказался бы меньших размеров, чем дулжно, низ же бульших, так как первое видимо нами издали, второе вблизи.
Теэтет.
Конечно.
Чужеземец.
Не воплощают ли поэтому художники в своих произведениях, оставляя в стороне истинное, не действительные соотношения, но лишь те, которые им кажутся прекрасными?
Теэтет.
Безусловно.
Чужеземец.
Не будет ли справедливым первое, как правдоподобное, назвать подобием?
Теэтет.
Да.
b
Чужеземец.
И относящуюся сюда часть искусства подражания не дулжно ли, как мы уже сказали раньше, назвать искусством творить образы?
Теэтет.
Пусть называется так.
Чужеземец.
А как же мы назовем то, что, с одной стороны, кажется подобным прекрасному, хотя при этом и не исходят из прекрасного, а, с другой стороны, если бы иметь возможность рассмотреть это в достаточной степени, можно было бы сказать, что оно даже не сходно с тем, с чем считалось сходным? Не есть ли то, что только кажется сходным, а на самом деле не таково, лишь призрак?
Теэтет.
Отчего же нет?
Чужеземец.
Не весьма ли обширна эта часть и в живописи, и во всем искусстве подражания?
c
Теэтет.
Как же иначе?
Чужеземец.
Не назовем ли мы вполне справедливо искусством творить призрачные подобия то искусство, которое создает не подобия, а призраки?
Теэтет.
Конечно, назовем.
Чужеземец.
Таким образом, я назвал следующие два вида изобразительного искусства: искусство творить образы и искусство создавать призрачные подобия[1170]
.
Теэтет.
Правильно. Диалектика бытия и небытия
Чужеземец.
Того же, однако, о чем я и прежде недоумевал, а именно к какому из обоих искусств дулжно отнести софиста, я и теперь еще не могу ясно видеть:
d
человек этот поистине удивителен, и его весьма затруднительно наблюдать; он и в настоящее время очень ловко и хитро укрылся в трудный для исследования вид [искусства].
Теэтет.
Кажется, да.
Чужеземец.
Но ты сознательно ли соглашаешься с этим, или же тебя, по обыкновению, увлекла к поспешному соглашению некая сила речи?
Теэтет.
К чему ты это сказал?
Чужеземец.
В действительности, мой друг, мы стоим перед безусловно трудным вопросом. Ведь являться и казаться и вместе с тем не быть, а также говорить что‑либо, что не было бы истиной, –
e
все это и в прежнее время вызвало много недоумений, и теперь тоже. В самом деле, каким образом утверждающий, что вполне возможно говорить или думать ложное, высказав это, не впадает в противоречие, постигнуть, дорогой Теэтет, во всех отношениях трудно.
237
Теэтет.
Как так?
Чужеземец.
Это смелое утверждение: оно предполагало бы существование небытия; ведь в противном случае и самая ложь была бы невозможна. Великий Парменид[1171]
, мой мальчик, впервые, когда мы еще были детьми, высказал это и до самого конца не переставал свидетельствовать о том же, постоянно говоря прозою или стихами:
Этого нет никогда и нигде, чтоб не‑сущее было;
Ты от такого пути испытаний сдержи свою мысль[1172]
.
b
Итак, Парменид свидетельствует об этом, и, что важнее всего, само упомянутое утверждение при надлежащем исследовании его раскрыло бы то же. Рассмотрим, следовательно, именно этот вопрос, если ты не возражаешь.
Теэтет.
По мне, направляйся куда хочешь, относительно же нашего рассуждения смекни, каким путем его лучше повести, и следуй этим путем сам, да и меня веди им же.
Чужеземец.
Да, так именно и нужно поступать. И вот ответь мне: отважимся ли мы произнести «полное небытие»?
Теэтет.
Отчего же нет?
Чужеземец.
Если бы, таким образом, кто‑либо из слушателей не для спора и шутки, но со всей серьезностью должен был ответить, к чему следует относить это выражение – «небытие»,
c
то чту мы подумали бы: в применении к чему и в каких случаях говорящий и сам воспользовался бы этим выражением, и указал бы на него тому, кто спрашивает?
Теэтет.
Ты ставишь трудный и, можно сказать, именно для меня почти совершенно неразрешимый вопрос.
Чужеземец.
Но по крайней мере, ясно хоть то, что небытие не должно быть отнесено к чему‑либо из существующего.
Теэтет.
Как же иначе?
Чужеземец.
А если, стало быть, не к существующему, то не будет прав тот, кто отнесет небытие к чему‑либо.
Теэтет.
Как так?
d
Чужеземец.
Но ведь для нас, видимо, ясно, что само выражение «что‑либо» мы относим постоянно к существующему. Брать его одно, само по себе, как бы голым и отрешенным от существующего, невозможно. Не так ли?
Теэтет.
Невозможно.
Чужеземец.
Подходя таким образом, согласен ли ты, что, если кто говорит о чем‑либо, тот необходимо должен говорить об этом как об одном?
Теэтет.
Да.
Чужеземец.
Ведь «что‑либо», ты скажешь, обозначает одно, «оба» – два и, наконец, «несколько» обозначает множество.
Теэтет.
Как же иначе?
e
Чужеземец.
Следовательно, говорящий не о чем‑либо, как видно, по необходимости и вовсе ничего не говорит.
Теэтет.
Это в высшей степени необходимо.
Чужеземец.
Не должно ли поэтому допустить и то, что такой человек пусть и ведет речь, однако ничего не высказывает? Более того, кто пытался бы говорить о небытии, того и говорящим назвать нельзя?
Теэтет.
В таком случае наше рассуждение стало бы предельно затруднительным.
238
Чужеземец.
Не говори так решительно. Имеется, дорогой мой, еще одно затруднение, весьма сильное и существенное. И оно касается самогу исходного начала вопроса.
Теэтет.
Что ты имеешь в виду? Скажи, не мешкая.
Чужеземец.
Соединимо ли с бытием что‑либо другое существующее?
Теэтет.
Отчего же нет?
Чужеземец.
А сочтем ли мы возможным, чтобы к небытию когда‑либо присоединилось что‑нибудь из существующего?
Теэтет.
Как это?
Чужеземец.
Всякое число ведь мы относим к области бытия?
b
Теэтет.
Если только вообще что‑нибудь следует признать бытием.
Чужеземец.
Так нам поэтому не дулжно и пытаться прилагать к небытию числовое множество или единство.
Теэтет.
Разумеется, согласно со смыслом нашего рассуждения, эта попытка была бы неправильна.
Чужеземец.
Как же кто‑либо смог бы произнести устами или вообще охватить мыслью несуществующие вещи или несуществующую вещь без числа?
Теэтет.
Ну скажи, как?
Чужеземец.
Когда мы говорим «несуществующие вещи», то не пытаемся ли мы прилагать здесь множественное число?
c
Теэтет.
Как же иначе?
Чужеземец.
Если же мы говорим «несуществующая вещь», то, напротив, не единственное ли это число?
Теэтет.
Ясно, что так.
Чужеземец.
Однако же мы признаем несправедливой и неправильной попытку прилагать бытие к небытию.
Теэтет.
Ты говоришь весьма верно.
Чужеземец.
Понимаешь ли ты теперь, что небытие само по себе ни произнести правильно невозможно, ни выразить его, ни мыслить и что оно непостижимо, необъяснимо, невыразимо и лишено смысла?
Теэтет.
Конечно.
d
Чужеземец.
Значит, я ошибся, когда утверждал недавно, что укажу на величайшее затруднение относительно него? Ведь мы можем указать другое, еще большее.
Теэтет.
Какое именно?
Чужеземец.
Как же, чудак! Или ты не замечаешь из сказанного, что и того, кто возражает против него, небытие приводит в такое затруднение, что, кто лишь примется его опровергать, бывает вынужден сам себе здесь противоречить?
Теэтет.
Как ты говоришь? Скажи яснее.
e
Чужеземец.
А по мне вовсе не стоит это яснее исследовать. Ведь, приняв, что небытие не должно быть причастно ни единому, ни многому, я, несмотря на это, все же назвал его «единым», так как говорю «небытие». Смекаешь ли?
Теэтет.
Да.
Чужеземец.
Далее, несколько раньше я утверждал также, что оно невыразимо, необъяснимо и лишено смысла. Ты следишь за мной?
Теэтет.
Слежу. Как же иначе?
239
Чужеземец.
Но, пытаясь связать бытие [с небытием], не высказал ли я чего‑то противоположного прежнему?
Теэтет.
Кажется
Чужеземец.
Далее. Связывая бытие с небытием, не говорил ли я о небытии как о едином?
Теэтет.
Да.
Чужеземец.
Ведь, называя небытие лишенным смысла, необъяснимым и невыразимым, я как бы относил все это к чему‑то единому.
Теэтет.
Как же иначе?
Чужеземец.
А мы утверждаем, что тот, кто пожелал бы правильно выразиться, не должен определять небытие ни как единое, ни как многое и вообще не должен его как‑то именовать. Ведь и через наименование оно было бы обозначено как вид единого.
Теэтет.
Без сомнения.
b
Чужеземец.
Так что же сказать тогда обо мне? Ведь пожалуй, я и прежде и теперь могу оказаться разбитым в моих обличениях небытия. Поэтому, как я уже сказал, не будем в моих словах искать правды о небытии, но давай обратимся к твоим.
Теэтет.
Что ты говоришь?
Чужеземец.
Ну, постарайся напрячь свои силы как можно полнее и крепче – ты ведь еще юноша – и попытайся, не приобщая ни бытия, ни единства, ни множества к небытию, высказать о нем что‑либо правильно.
c
Теэтет.
Поистине странно было бы, если бы я захотел попытаться это сделать, видя твою неудачу.
Чужеземец.
Ну, если тебе угодно, оставим в покое и тебя и меня. И пока мы не нападем на человека, способного это сделать, до тех пор будем говорить, что софист как нельзя более хитро скрылся в неприступном месте.
Теэтет.
Это вполне очевидно.
Чужеземец.
Поэтому если мы будем говорить, что он занимается искусством, творящим лишь призрачное, то, придравшись к этому словоупотреблению, он легко обернет наши слова в противоположную сторону,
d
спросив нас, что же мы вообще подразумеваем под отображением (εΐδωλον), называя его самого творцом отображений? Поэтому, Теэтет, надо смотреть, чту ответить дерзкому на этот вопрос.
Теэтет.
Ясно, что мы укажем на отображения в воде и зеркале, затем еще на картины и статуи и на все остальное в этом же роде.
e
Чужеземец.
Очевидно, Теэтет, софиста ты еще и не видел.
Теэтет.
Как так?
Чужеземец.
Тебе покажется, что он либо жмурится, либо совсем не имеет глаз.
Теэтет.
Почему?
Чужеземец.
Когда ты дашь ему такой вот ответ, указывая на изображения в зеркалах и на изваяния, он посмеется над твоими объяснениями, так как ты станешь беседовать с ним как со зрячим,
240
а он притворится, будто не знает ни зеркал, ни воды, ни вообще ничего зримого, и спросит тебя только о том, что следует из объяснений.
Теэтет.
Но что же?
Чужеземец.
Надо сказать, чту обще всем этим вещам, которые ты считаешь правильным обозначить одним названием, хотя назвал их много, и именуешь их все отображением, как будто они есть нечто одно. Итак, говори и защищайся, ни в чем не уступая этому мужу.
Теэтет.
Так что же, чужеземец, можем мы сказать об отображении, кроме того, что оно есть подобие истинного, такого же рода иное?
b
Чужеземец.
Считаешь ли ты такого же рода иное истинным, или к чему ты относишь «такого же рода»?
Теэтет.
Вовсе не истинным, но лишь ему подобным.
Чужеземец.
Не правда ли, истинным ты называешь подлинное бытие?
Теэтет.
Так.
Чужеземец.
Что же? Неистинное не противоположно ли истинному?
Теэтет.
Как же иначе?
Чужеземец.
Следовательно, ты подобное не относишь к подлинному бытию, если только называешь его неистинным.
Теэтет.
Но ведь вообще‑то оно существует.
Чужеземец.
Однако не истинно, говоришь ты.
Теэтет.
Конечно нет, оно действительно есть только образ.
Чужеземец.
Следовательно, то, что мы называем образом, не существуя действительно, все же действительно есть образ?
c
Теэтет.
Кажется, небытие с бытием образовали подобного рода сплетение, очень причудливое.
Чужеземец.
Как же не причудливое? Видишь, из‑за этого сплетения многоголовый[1173]
софист принудил нас против воли согласиться, что небытие каким‑то образом существует.
Теэтет.
Вижу, и очень даже.
Чужеземец.
Что же теперь? С помощью какого определения его искусства придем мы в согласие с самими собой?
Теэтет.
Почему ты так говоришь и чего ты боишься?
d
Чужеземец.
Когда мы утверждаем, что софист обманывает нас призраком и что искусство его обманчиво, не утверждаем ли мы этим, что наша душа из‑за его искусства мнит ложное? Или как мы скажем?
Теэтет.
Именно так. Что же другое мы можем сказать?
Чужеземец.
Далее, ложное мнение – это мнение, противоположное тому, что существует. Не так ли?
Теэтет.
Да, противоположное.
Чужеземец.
Ты говоришь, следовательно, что ложное мнение – это мнение о несуществующем?
Теэтет.
Безусловно.
e
Чужеземец.
Представляет ли оно собой мнение о том, что несуществующего нет или что вовсе не существующее все‑таки есть?
Теэтет.
Несуществующее должно, однако, каким‑то образом быть, если только когда‑нибудь кто‑то хоть в чем‑то малом солжет.
Чужеземец.
Что же? Не будет ли он также считать, что безусловно существующее вовсе не существует?
Теэтет.
Да.
Чужеземец.
И это тоже ложь?
Теэтет.
И это.
Чужеземец.
Следовательно, положение, что существующее не существует или что несуществующее существует, думаю, будет точно так же считаться ложным.
241
Теэтет.
Да и может ли оно быть иным?
Чужеземец.
Вероятно, не может. Но этого софист не признает. И есть ли какой‑нибудь способ толкнуть здравомыслящего человека на такую уступку, раз мы признали [в отношении небытия] то, о чем у нас шла речь раньше? Понимаем ли мы, Теэтет, что говорит софист?
Теэтет.
Отчего же и не понять? Он скажет, что, дерзнув заявить, будто есть ложь и в мнениях, и в словах, мы противоречим тому, что недавно высказали.
b
Ведь мы часто вынуждены связывать существующее с несуществующим, хотя недавно установили, что это менее всего возможно.
Чужеземец.
Ты правильно вспомнил. Но пора уже принять решение, что же нам делать с софистом? Ты видишь, сколь многочисленны и как легко возникают возражения и затруднения, когда мы разыскиваем его в искусстве обманщиков и шарлатанов.
Теэтет.
Да, очень даже вижу.
Чужеземец.
Мы разобрали лишь малую часть их, между тем как они, так сказать, бесконечны.
c
Теэтет.
Как видно, схватить софиста невозможно, раз все это так.
Чужеземец.
Что же? Отступим теперь из трусости?
Теэтет.
Я полагаю, что не следует, если мы мало‑мальски в силах его как‑то поймать.
Чужеземец.
Но ты будешь снисходителен и сообразно с только что сказанным удовольствуешься, если мы как‑то мало‑помалу выпутаемся из столь трудного рассуждения?
Теэтет.
Отчего же мне не быть снисходительным?
d
Чужеземец.
А больше того прошу тебя о следующем.
Теэтет.
О чем?
Чужеземец.
Чтобы ты не думал, будто я становлюсь в некотором роде отцеубийцей.
Теэтет.
Как так?
Чужеземец.
Защищаясь, нам необходимо будет подвергнуть испытанию учение нашего отца Парменида и всеми силами доказать, что небытие в каком‑либо отношении существует и, напротив, бытие каким‑то образом не существует.
Теэтет.
Очевидно, нечто подобное нам и придется отстаивать в рассуждении.
e
Чужеземец.
Да, по пословице, это видно и слепому[1174]
. Ведь пока это не отвергнуто нами или не принято, едва ли кто окажется в состоянии говорить о лживых словах и мнениях, – будет ли дело идти об отображениях, подражаниях и призраках или же обо всех занимающихся этим искусствах, – не противореча по необходимости самому себе и не становясь таким образом смешным.
Теэтет.
Весьма справедливо.
242
Чужеземец.
Ради этого‑то и придется посягнуть на отцовское учение или же вообще отступиться, если некий страх помешает нам это сделать.
Теэтет.
Ничто не должно нас от этого удержать. Чужеземец. Теперь я еще и в‑третьих буду просить тебя об одной малости. Теэтет. Ты только скажи.
Чужеземец.
Недавно только я говорил, что всегда теряю надежду на опровержение всего этого, вот и теперь случилось то же.
Теэтет.
Да, ты говорил.
b
Чужеземец.
Боюсь, чтобы из‑за сказанного не показаться тебе безумным, после того как я вдруг с ног встану на голову. Однако ради тебя мы все же возьмемся за опровержение учения [Парменида], если только мы его опровергнем.
Теэтет.
Так как в моих глазах ты ничего дурного не сделаешь, если приступишь к опровержению и доказательству, то приступай смело.
Чужеземец.
Ну ладно! С чего же прежде всего начать столь дерзновенную речь? Кажется мне, мой пальчик, что нам необходимо направиться по следующему пути.
Теэтет.
По какому же?
c
Чужеземец.
Прежде всего рассмотреть то, что представляется нам теперь очевидным, чтобы не сбиться с пути и не прийти легко к взаимному соглашению так, как будто нам все ясно.
Теэтет.
Говори точнее, что ты имеешь в виду.
Чужеземец.
Мне кажется, что Парменид, да и всякий другой, кто только когда‑либо принимал решение определить, каково существующее количественно и качественно, говорили с нами, не придавая значения своим словам.
Теэтет.
Каким образом?
Чужеземец.
Каждый из них, представляется мне, рассказывает нам какую‑то сказку, будто детям: один, что существующее – тройственно[1175]
и его части то враждуют друг с другом, то становятся дружными,
d
вступают в браки, рождают детей и питают потомков; другой, называя существующее двойственным – влажным и сухим или теплым и холодным, – заставляет жить то и другое вместе и сочетаться браком. Наше элейское племя, начиная с Ксенофана[1176]
, а то и раньше, говорит в своих речах, будто то, что называется «всем», – едино. Позднее некоторые ионийские и сицилийские Музы[1177]
сообразили, что всего безопаснее объединить то и другое
e
и заявить, что бытие и множественно и едино и что оно держится враждою и дружбою. «Расходящееся всегда сходится», – говорят более строгие из Муз; более же уступчивые всегда допускали, что всё бывает поочередно то единым и любимым Афродитою,
243
то множественным и враждебным с самим собою вследствие какого‑то раздора. Правильно ли кто из них обо всем этом говорит или нет – решить трудно, да и дурно было бы укорять столь славных и древних мужей. Но вот что кажется верным…
Теэтет.
Что же?
Чужеземец.
А то, что они, свысока взглянув на нас, большинство, слишком нами пренебрегли. Нимало не заботясь, следим ли мы за ходом их рассуждений или же нет, каждый из них упорно твердит свое.
b
Теэтет.
Почему ты так говоришь?
Чужеземец.
Когда кто‑либо из них высказывает положение, что множественное, единое или двойственное есть, возникло или возникает и что, далее, теплое смешивается с холодным, причем предполагаются и некоторые другие разделения и смешения, то, ради богов, Теэтет, понимаешь ли ты всякий раз, что они говорят? Я, когда был помоложе, думал, что понимаю ясно, когда кто‑либо говорил о том, чту в настоящее время приводит нас в недоумение, именно о небытии. Теперь же ты видишь, в каком мы находимся по отношению к нему затруднении.
c
Теэтет.
Вижу.
Чужеземец.
Пожалуй, мы испытываем такое же точно состояние души и по отношению к бытию, хотя утверждаем, что ясно понимаем, когда кто‑либо о нем говорит, что же касается небытия (δάτερον), то не понимаем; между тем мы в одинаковом положении по отношению как к тому, так и к другому.
Теэтет.
Пожалуй.
Чужеземец.
И обо всем прочем, сказанном раньше, нам надо выразиться точно так же.
Теэтет.
Конечно.
d
Чужеземец.
О многом мы, если будет угодно, поговорим и после, величайшее же и изначальное следует рассмотреть первым.
Теэтет.
О чем, однако, ты говоришь? Ясно ведь, ты считаешь, что сначала надо тщательно исследовать бытие: чем оказывается оно у тех, кто берется о нем рассуждать?
Чужеземец.
Ты, Теэтет, следуешь за мной прямо по пятам. Я говорю, что метод исследования нам надо принять такой, будто те находятся здесь и мы должны расспросить их следующим образом: «Ну‑ка, вы все, кто только утверждает, что теплое и холодное или другое что‑нибудь двойственное есть всё, – чту β
произносите вы о двух [началах бытия],
e
когда говорите, будто существуют они оба вместе и каждое из них в отдельности? Как нам понимать это ваше бытие? Должны ли мы, по‑вашему, допустить нечто третье кроме тех двух и считать всё тройственным, а вовсе не двойственным? Ведь если вы назовете одно из двух [начал] бытием, то не сможете сказать, что оба они одинаково существуют, так как в том и другом случае было бы единое [начало], а не двойственное».
Теэтет.
Ты говоришь верно.
Чужеземец.
«Или вы хотите оба [начала] назвать бытием?»
Теэтет.
Может быть.
244
Чужеземец.
«Но, друзья, – скажем мы, – так вы весьма ясно назвали бы двойственное единым».
Теэтет.
Ты совершенно прав.
Чужеземец.
«Так как мы теперь в затруднении, то скажите нам четко, что вы желаете обозначить, когда произносите „бытие“. Ясно ведь, что вы давно это знаете, мы же думали, что знаем, а теперь вот затрудняемся. Поучите сначала нас этому, чтобы мы не воображали, будто постигаем то, что вы говорите, тогда как дело обстоит совершенно наоборот»[1178]
.
b
Так говоря и добиваясь этого от них, а также от других, которые утверждают, что всё больше одного, неужели мы, мой мальчик, допустим какую‑либо ошибку?
Теэтет.
Менее всего.
Чужеземец.
Как же? Не дулжно ли у тех, кто считает всё единым, выведать по возможности, что называют они бытием?
Теэтет.
Конечно.
Чужеземец.
Пусть они ответят на следующее: «Вы утверждаете, что существует только единое?» «Конечно, утверждаем», – скажут они. Не так ли?
Теэтет.
Да.
Чужеземец.
«Дальше. Называете ли вы что‑нибудь бытием?»
Теэтет.
Да.
c
Чужеземец.
«То же ли самое, что вы называете. единым, пользуясь для одного и того же двумя именами? Или как?»
Теэтет.
Что же они ответят после этого, чужеземец?
Чужеземец.
Ясно, Теэтет, что для того, кто выдвигает такое предположение, не очень‑то легко ответить как на этот, так и на любой другой вопрос.
Теэтет.
Как так?
Чужеземец.
Допускать два наименования, когда считают, что не существует ничего, кроме единого, конечно, смешно.
Теэтет.
Как не смешно!
Чужеземец.
Да и вообще согласиться с говорящим, что имя есть что‑то, не имело бы смысла.
d
Теэтет.
Отчего?
Чужеземец.
Кто допускает имя, отличное от вещи, тот говорит, конечно, о двойственном.
Теэтет.
Да.
Чужеземец.
И действительно, если он принимает имя вещи за то же, что есть она сама, он либо будет вынужден произнести имя ничего, либо если он назовет имя как имя чего‑то, то получится только имя имени, а не чего‑либо другого.
Теэтет.
Так.
Чужеземец.
И единое, будучи лишь именем единого, окажется единым лишь по имени.
Теэтет.
Это необходимо.
Чужеземец.
Что же далее? Отлично ли целое от единого бытия или они признают его тождественным с ним?
e
Теэтет.
Как же они не признают, если и теперь признают?
Чужеземец.
Если, таким образом, как говорит и Парменид,
Вид его [целого] массе правильной сферы всюду подобен,
Равен от центра везде он, затем, что нисколько не больше,
Как и не меньше идет туда и сюда по закону[1179]
, –
если бытие именно таково, то оно имеет середину и края, а обладая этим, оно необходимо должно иметь части. Или не так?
Теэтет.
Так.
245
Чужеземец.
Ничто, однако, не препятствует, чтобы разделенное на части имело в каждой части свойство единого и чтобы, будучи всем и целым, оно таким образом было единым[1180]
.
Теэтет.
Почему бы и нет?
Чужеземец.
Однако ведь невозможно, чтобы само единое обладало этим свойством?
Теэтет.
Отчего же?
Чужеземец.
Истинно единое, согласно верному определению, должно, конечно, считаться полностью неделимым.
Теэтет.
Конечно, должно.
b
Чужеземец.
В противном случае, то есть будучи составленным из многих частей, оно не будет соответствовать определению.
Теэтет.
Понимаю.
Чужеземец.
Будет ли теперь бытие, обладающее, таким образом, свойством единого, единым и целым, или нам вовсе не следует принимать бытие за целое?
Теэтет.
Ты предложил трудный выбор.
Чужеземец.
Ты говоришь сущую правду. Ведь если бытие обладает свойством быть как‑то единым, то оно уже не будет тождественно единому и всё будет больше единого.
Теэтет.
Да.
c
Чужеземец.
Далее, если бытие есть целое не потому, что получило это свойство от единого, но само по себе, то оказывается, что бытию недостает самого себя.
Теэтет.
Истинно так.
Чужеземец.
Согласно этому объяснению, бытие, лишаясь самого себя, будет уже небытием.
Теэтет.
Так.
Чужеземец.
И всё снова становится больше единого, если бытие и целое получили каждое свою собственную природу.
Теэтет.
Да.
Чужеземец.
Если же целое вообще не существует, то это же самое произойдет и с бытием, и ему предстоит не быть и никогда не стать бытием.
d
Теэтет.
Отчего же?
Чужеземец.
Возникшее – всегда целое, так что ни о бытии, ни о возникновении нельзя говорить как о чем‑либо существующем, если в существующем не признавать целого.
Теэтет.
Кажется несомненным, что это так.
Чужеземец.
И действительно, никакая величина не должна быть нецелым, так как, сколь велико что‑нибудь – каким бы великим или малым оно ни было, – столь великим целым оно по необходимости должно быть.
Теэтет.
Совершенно верно.
Чужеземец.
И тысяча других вещей, каждая в отдельности, будет вызывать бесконечные затруднения у того, кто говорит, будто бытие либо двойственно, либо только едино.
e
Теэтет.
Это обнаруживает то, что и теперь почти уже ясно. Ведь одно влечет за собой другое, неся большую и трудноразрешимую путаницу относительно всего прежде сказанного.
Чужеземец.
Мы, однако, не рассмотрели всех тех, кто тщательно исследует бытие и небытие, но довольно и этого. Дальше надо обратить внимание на тех, кто высказывается по‑иному, дабы на примере всего увидеть, как ничуть не легче объяснить, что такое бытие, чем сказать, что такое небытие.
246
Теэтет.
Значит, надо идти и против этих.
Чужеземец.
У них, кажется, происходит нечто вроде борьбы гигантов из‑за спора друг с другом о бытии[1181]
.
Теэтет.
Как так?
Чужеземец.
Одни все совлекают с неба и из области невидимого на землю, как бы обнимая руками дубы и скалы. Ухватившись за все подобное, они утверждают, будто существует только то, что допускает прикосновение и осязание,
b
и признают тела и бытие за одно и то же, всех же тех, кто говорит, будто существует нечто бестелесное, они обливают презрением, более ничего не желая слышать.
Теэтет.
Ты назвал ужасных людей; ведь со многими из них случалось встречаться и мне.
Чужеземец.
Поэтому‑то те, кто с ними вступает в спор, предусмотрительно защищаются как бы сверху, откуда‑то из невидимого, решительно настаивая на том, что истинное бытие – это некие умопостигаемые и бестелесные идеи; тела же, о которых говорят первые,
c
и то, чту они называют истиной, они, разлагая в своих рассуждениях на мелкие части, называют не бытием, а чем‑то подвижным, становлением. Относительно этого между обеими сторонами, Теэтет, всегда происходит сильнейшая борьба.
Теэтет.
Правильно.
Чужеземец.
Значит, нам надо потребовать от обеих сторон порознь объяснения, чту они считают бытием.
Теэтет.
Как же мы его будем требовать?
Чужеземец.
От тех, кто полагает бытие в идеях, легче его получить, так как они более кротки, от тех же,
d
кто насильственно все сводит к телу, – труднее, да, может быть, и почти невозможно. Однако, мне кажется, с ними следует поступать так…
Теэтет.
Как?
Чужеземец.
Всего бы лучше исправить их делом, если бы только это было возможно; если же так не удастся, то мы сделаем это при помощи рассуждения, предположив у них желание отвечать нам более правильно, чем доселе. То, что признано лучшими людьми, сильнее того, что признано худшими. Впрочем, мы заботимся не о них, но ищем лишь истину.
e
Теэтет.
Весьма справедливо.
Чужеземец.
Предложи же тем, кто стал лучше, тебе отвечать, и истолковывай то, что ими сказано.
Теэтет.
Да будет так.
Чужеземец.
Пусть скажут, как они полагают: есть ли вообще какое‑либо смертное существо?
Теэтет.
Отчего же нет?
Чужеземец.
Не признают ли они его одушевленным телом?
Теэтет.
Без сомнения.
Чужеземец.
И считают душу чем‑то существующим?
247
Теэтет.
Да.
Чужеземец.
Дальше. Не говорят ли они, что одна душа – справедливая, другая – несправедливая, та – разумная, а эта – нет?
Теэтет.
Как же иначе?
Чужеземец.
И не так ли они считают, что благодаря присутствию справедливости каждая душа становится такой‑то, а из‑за противоположных качеств – противоположною?
Теэтет.
Да, и это они подтверждают.
Чужеземец.
Но то, что может присутствовать в чем‑либо или отсутствовать, непременно, скажут они, должно быть чем‑то.
Теэтет.
Они так и говорят.
b
Чужеземец.
Когда же справедливость, разумность и любая другая добродетель, а также их противоположности существуют и существует также душа, в которой все это пребывает, то признают ли они что‑либо из этого видимым и осязаемым или же все – невидимым?
Теэтет.
Пожалуй, здесь нет ничего видимого.
Чужеземец.
Что же? Неужели они утверждают, что вещи подобного рода имеют тело?
Теэтет.
Здесь они уже не решают все одинаковым образом, но им кажется, что сама душа обладает телом, в отношении же разумности и каждого из того,
c
о чем ты спросил, они не дерзают согласиться, что это вовсе не существует, и настаивать, что все это – телб.
Чужеземец.
Нам ясно, Теэтет, что эти мужи исправились. Ведь те из них, которых породила земля[1182]
, ни в чем не выказали бы робости, но всячески настаивали бы, что то, чего они не могут схватить руками, вообще есть ничто.
Теэтет.
Пожалуй, они так и думают, как ты говоришь.
Чужеземец.
Спросим, однако, их снова: если они пожелают что‑либо, хоть самое малое, из существующего признать бестелесным, этого будет достаточно.
d
Ведь они должны будут тогда назвать то, что от природы присуще как вещам бестелесным, так и имеющим тело, и глядя на что они тому и другому приписывают бытие. Быть может, они окажутся в затруднении. Однако, если что‑либо подобное случится, смотри, захотят ли они признать и согласиться с выдвинутым нами положением относительно бытия – что оно таково?
Теэтет.
Но каково же? Говори, и мы это скоро увидим.
Чужеземец.
Я утверждаю теперь, что все, обладающее по своей природе способностью (δύναμιν) либо воздействовать на что‑то другое,
e
либо испытывать хоть малейшее воздействие, пусть от чего‑то весьма незначительного и только один раз, – все это действительно существует. Я даю такое определение существующего: оно есть не что иное, как способность.
Теэтет.
Ввиду того что в настоящее время они не могут сказать ничего лучшего, они принимают это определение.
Чужеземец.
Прекрасно. Позже, быть может, и нам и им представится иное. Но для них пусть это останется у нас решенным.
248
Теэтет.
Пусть останется.
Чужеземец.
Теперь давай обратимся к другим, к друзьям идей; ты же толкуй нам и их ответы.
Теэтет.
Пусть будет так.
Чужеземец.
Вы говорите о становлении и бытии, как‑то их различая. Не так ли?
Теэтет.
Да.
Чужеземец.
И говорите, что к становлению мы приобщаемся телом с помощью ощущения, душою же с помощью размышления приобщаемся к подлинному бытию, о котором вы утверждаете, что оно всегда само себе тождественно, становление же всякий раз иное.
b
Теэтет.
Действительно, мы говорим так.
Чужеземец.
Но как нам сказать, о наилучшие из людей, чту в обоих случаях вы называете приобщением? Не то ли, о чем мы упомянули раньше?
Теэтет.
Что же?
Чужеземец.
Страдание или действие, возникающее вследствие некой силы (εκ δυνάμεως), рождающейся от взаимной встречи вещей. Быть может, Теэтет, ты и не слышишь их ответа на это, я же, пожалуй, благодаря близости с ними слышу.
Теэтет.
Какое же, однако, приводят они объяснение?
Чужеземец.
Они не сходятся с нами в том, что недавно было сказано людям земли[1183]
относительно бытия.
c
Теэтет.
В чем же именно?
Чужеземец.
Мы выставили как достаточное определение существующего то, что нечто обладает способностью страдать или действовать, хотя бы даже и в весьма малом.
Теэтет.
Да.
Чужеземец.
На это, однако, они возражают, что способность страдать или действовать принадлежит становлению, но с бытием, как они утверждают, не связана способность ни того ни другого.
Теэтет.
Разве так они говорят?
Чужеземец.
Ну а нам надо на это ответить, что мы должны яснее у них узнать, признают ли они, что душа познает, а бытие познается?
d
Теэтет.
Это они действительно говорят.
Чужеземец.
Что же? Считаете ли вы, что познавать или быть познаваемым – это действие или страдание или то и другое вместе? Или одно из них – страдание, а другое – действие? Или вообще ни то ни другое не причастно ни одному из двух [состояний]?
Теэтет.
Ясно, что ничто из двух ни тому ни другому не причастно, иначе они высказали бы утверждение, противоположное прежнему.
e
Чужеземец.
Понимаю. Если познавать значит как‑то действовать, то предмету познания, напротив, необходимо страдать. Таким образом, бытие, согласно этому рассуждению, познаваемое познанием, насколько познается, настолько же находится в движении в силу своего страдания, которое, как мы говорим, не могло бы возникнуть у пребывающего в покое.
Теэтет.
Справедливо.
Чужеземец.
И ради Зевса, дадим ли мы себя легко убедить в том, что движение, жизнь, душа и разум не причастны совершенному бытию и что бытие не живет и не мыслит, но возвышенное и чистое, не имея ума, стоит неподвижно в покое?
249
Теэтет.
Мы допустили бы, чужеземец, поистине чудовищное утверждение!
Чужеземец.
Но должны ли мы утверждать, что оно обладает умом, жизнью же нет?
Теэтет.
Как можно?!
Чужеземец.
Но, согласившись в том, что ему присущи и то и другое, станем ли мы утверждать, что они находятся у него в душе?
Теэтет.
Но каким иным образом могло бы оно их иметь?
Чужеземец.
Так станем ли мы утверждать, что, имея ум, жизнь и душу, бытие совсем неподвижно, хотя и одушевлено?
b
Теэтет.
Мне все это кажется нелепым.
Чужеземец.
Потому‑то и надо допустить, что движимое и движение существуют.
Теэтет.
Как же иначе?
Чужеземец.
Итак, Теэтет, выходит, что если существующее неподвижно, то никто нигде ничего не мог бы осмыслить.
Теэтет.
Несомненно, так.
Чужеземец.
И однако же, если мы, с другой стороны, признаем все несущимся и движущимся, то этим утверждением мы исключаем тождественное из области существующего.
Теэтет.
Каким образом?
c
Чужеземец.
Думаешь ли ты, что без покоя могли бы существовать тождественное, само себе равное и находящееся в одном и том же отношении?
Теэтет.
Никогда.
Чужеземец.
Что же далее? Понимаешь ли ты, как без всего этого мог бы где бы то ни было существовать или возникнуть ум?
Теэтет.
Менее всего.
Чужеземец.
И действительно, надо всячески словом бороться с тем, кто, устранив знание, разум и ум, в то же время каким‑то образом настойчиво что‑либо утверждает.
Теэтет.
Несомненно, так.
Чужеземец.
Таким образом, философу, который все это очень высоко ценит, как кажется, необходимо вследствие этого не соглашаться с признающими одну или много идей, будто все пребывает в покое,
d
и совершенно не слушать тех, кто, напротив, приписывает бытию всяческое движение, но надо, подражая мечте детей, чтобы все неподвижное двигалось, признать бытие и всё и движущимся и покоящимся[1184]
.
Теэтет.
Весьма справедливо.
Чужеземец.
Что же, однако? Не достаточно ли уже, как представляется, мы охватили в своем рассуждении бытие?
Теэтет.
Конечно.
Чужеземец.
Вот тебе и на, Теэтет! А я бы сказал, что именно теперь мы и познаем всю трудность исследования бытия.
e
Теэтет.
Как это? Что ты сказал?
Чужеземец.
Не замечаешь ли ты, мой милый, что мы сейчас оказались в совершенном неведении относительно бытия, а между тем нам кажется, будто мы о нем что‑то говорим.
Теэтет.
Мне кажется, да. Однако я совсем не понимаю, как мы могли незаметно оказаться в таком положении.
250
Чужеземец.
Но посмотри внимательнее: если мы теперь со всем этим соглашаемся, как бы нам по праву не предложили тех же вопросов, с которыми мы сами обращались к тем, кто признает, будто все есть теплое и холодное.
Теэтет.
Какие же это вопросы? Напомни мне.
Чужеземец.
Охотно. И я попытаюсь это сделать, расспрашивая тебя, как тогда тех, чтобы нам вместе продвинуться вперед.
Теэтет.
Это правильно.
Чужеземец.
Ну, хорошо. Не считаешь ли ты движение и покой полностью противоположными друг другу?
Теэтет.
Как же иначе?
Чужеземец.
И несомненно, ты полагаешь, что оба они и каждое из них в отдельности одинаково существуют?
b
Теэтет.
Конечно, я так говорю.
Чужеземец.
Не думаешь ли ты, что оба и каждое из них движутся, раз ты признаешь, что они существуют?
Теэтет.
Никоим образом.
Чужеземец.
Значит, говоря, что оба они существуют, ты этим обозначаешь, что они пребывают в покое?
Теэтет.
Каким же образом?
Чужеземец.
Допуская в душе рядом с теми двумя нечто третье, а именно бытие, которым как бы охватываются и движение и покой, не считаешь ли ты, окидывая одним взглядом их приобщение к бытию, что оба они существуют?
c
Теэтет.
Кажется, мы действительно предугадываем что‑то третье, а именно бытие, раз мы утверждаем, что движение и покой существуют.
Чужеземец.
Таким образом, не движение и покой, вместе взятые, составляют бытие, но оно есть нечто отличное от них.
Теэтет.
Кажется, так.
Чужеземец.
Следовательно, бытие по своей природе и не стоит, и не движется.
Теэтет.
По‑видимому.
Чужеземец.
Куда же еще должен направить свою мысль тот, кто хочет наверняка добиться какой‑то ясности относительно бытия?
Теэтет.
Куда же?
d
Чужеземец.
Я думаю, что с легкостью – никуда: ведь если что‑либо не движется, как может оно не пребывать в покое? И напротив, как может не двигаться то, что вовсе не находится в покое? Бытие же у нас теперь оказалось вне того и другого. Разве это возможно?
Теэтет.
Менее всего возможно.
Чужеземец.
При этом по справедливости надо вспомнить о следующем…
Теэтет.
О чем?
Чужеземец.
А о том, что мы, когда нас спросили, к чему следует относить имя «небытие», полностью стали в тупик. Ты помнишь?
Теэтет.
Как не помнить?
e
Чужеземец.
Неужели же по отношению к бытию мы находимся теперь в меньшем затруднении?
Теэтет.
Мне по крайней мере, чужеземец, если можно так сказать, кажется, что в еще большем.
Чужеземец.
Пусть это, однако, остается здесь под сомнением. Так как и бытие и небытие одинаково связаны с нашим недоумением, то можно теперь надеяться, что насколько одно из двух окажется более или менее ясным, и другое явится в том же виде.
251
И если мы не в силах познать ни одного из них в отдельности, то будем по крайней мере самым надлежащим образом – насколько это возможно – продолжать наше исследование об обоих вместе.
Теэтет.
Прекрасно.
Чужеземец.
Давай объясним, каким образом мы всякий раз называем одно и то же многими именами?
Теэтет.
О чем ты? Приведи пример.
Чужеземец.
Говоря об одном человеке, мы относим к нему много различных наименовании, приписывая ему и цвет, и очертания, и величину, и пороки, и добродетели, и всем этим, а также тысячью других вещей говорим, что он не только человек,
b
но также и добрый и так далее, до бесконечности; таким же образом мы поступаем и с остальными вещами: полагая каждую из них единой, мы в то же время считаем ее множественной и называем многими именами.
Теэтет.
Ты говоришь правду.
Чужеземец.
Этим‑то, думаю я, мы уготовили пир и юношам и недоучившимся старикам: ведь у всякого прямо под руками оказывается возражение, что невозможно‑де многому быть единым, а единому – многим[1185]
, и всем им действительно доставляет удовольствие не допускать, чтобы человек назывался добрым,
c
но говорить, что доброе – добро, а человек – лишь человек. Тебе, Теэтет, я думаю, часто приходится сталкиваться с людьми, иногда даже уже пожилыми, ревностно занимающимися такими вещами: по своему скудоумию они всему этому дивятся и считают, будто открыли здесь нечто сверхмудрое.
Теэтет.
Конечно, приходилось.
Чужеземец.
Чтобы, таким образом, наша речь была обращена ко всем, кто когда‑либо хоть как‑то рассуждал о бытии, пусть и этим,
d
и всем остальным, с кем мы раньше беседовали, будут предложены вопросы о том, что должно быть выяснено.
Теэтет.
Какие же вопросы?
Чужеземец.
Ставим ли мы в связь бытие с движением и покоем или нет, а также что‑либо другое с чем бы то ни было другим, или, поскольку они несмешиваемы и неспособны приобщаться друг к другу, мы их за таковые и принимаем в своих рассуждениях? Или же мы всё, как способное взаимодействовать, сведем к одному и тому же? Или же одно сведем, а другое нет? Как мы скажем, Теэтет, чту они из всего этого предпочтут?
e
Теэтет.
На это я ничего не могу за них возразить.
Чужеземец.
Отчего бы тебе, отвечая на каждый вопрос в отдельности, не рассмотреть все, что из этого следует?
Теэтет.
Ты говоришь дело.
Чужеземец.
Во‑первых, если хочешь, допустим, что они говорят, будто ничто не обладает никакой способностью общения с чем бы то ни было. Стало быть, движение и покой никак не будут причастны бытию?
252
Теэтет.
Конечно, нет.
Чужеземец.
Что же? Не приобщаясь к бытию, будет ли из них что‑либо существовать?
Теэтет.
Не будет.
Чужеземец.
Быстро, как видно, все рухнуло из‑за этого признания и у тех, кто все приводит в движение, и у тех, кто заставляет все, как единое, покоиться, и также у тех, кто связывает существующее с идеями и считает его всегда самому себе тождественным. Ведь все они присоединяют сюда бытие, говоря: одни – что [всё] действительно движется, другие же – что оно действительно существует как неподвижное.
Теэтет.
Именно так.
b
Чужеземец.
В самом деле, и те, которые всё то соединяют, то расчленяют, безразлично, соединяют ли они это в одно или разлагают это одно на бесконечное либо же конечное число начал и уже их соединяют воедино, – все равно, полагают ли они, что это бывает попеременно или постоянно, в любом случае их слова ничего не значат, если не существует никакого смешения.
Теэтет.
Верно.
Чужеземец.
Далее, самыми смешными участниками рассуждения оказались бы те, кто вовсе не допускает, чтобы что‑либо, приобщаясь к свойству другого, называлось другим.
c
Теэтет.
Как это?
Чужеземец.
Принужденные в отношении ко всему употреблять выражения «быть», «отдельно», «иное», «само по себе»[1186]
и тысячи других, воздержаться от которых и не привносить их в свои речи они бессильны, они и не нуждаются в других обличителях, но постоянно бродят вокруг, таща за собою, как принято говорить, своего домашнего врага и будущего противника, подающего голос изнутри, подобно достойному удивления Евриклу[1187]
.
d
Теэтет.
То, что ты говоришь, вполне правдоподобно и истинно.
Чужеземец.
А что, если мы у всего признаем способность к взаимодействию?
Теэтет.
Это и я в состоянии опровергнуть.
Чужеземец.
Каким образом?
Теэтет.
А так, что само движение совершенно остановилось бы, а с другой стороны, сам покой бы задвигался, если бы они пришли в соприкосновение друг с другом.
Чужеземец.
Однако высшая необходимость препятствует тому, чтобы движение покоилось, а покой двигался[1188]
.
Теэтет.
Конечно.
Чужеземец.
Значит, остается лишь третье.
Теэтет.
Да.
e
Чужеземец.
И действительно, необходимо что‑либо одно из всего этого: либо чтобы все было склонно к смешению, либо ничто, либо одно склонно, а другое нет.
Теэтет.
Как же иначе?
Чужеземец.
Первые два [предположения] были найдены невозможными.
Теэтет.
Да.
Чужеземец.
Следовательно, каждый, кто только желает верно ответить, допустит оставшееся из трех.
Теэтет.
Именно так.
Чужеземец.
Когда же одно склонно к смешению, а другое нет, то должно произойти то же самое, что и с буквами: одни из них не сочетаются друг с другом, другие же сочетаются[1189]
.
253
Теэтет.
Как же иначе?
Чужеземец.
Гласные преимущественно перед другими проходят через все, словно связующая нить, так что без какой‑либо из них невозможно сочетать остальные буквы одну с другой.
Теэтет.
Конечно.
Чужеземец.
Всякому ли известно, какие [буквы] с какими способны сочетаться, или тому, кто намерен это делать должным образом, требуется искусство?
Теэтет.
Нужно искусство.
Чужеземец.
Какое?
Теэтет.
Грамматика.
b
Чужеземец.
Дальше. Не так ли обстоит дело с высокими и низкими звуками? Не есть ли владеющий искусством понимать, какие звуки сочетаются и какие нет, музыкант, а не сведущий в этом – немузыкант?
Теэтет.
Так.
Чужеземец.
И по отношению к другим искусствам и неискусности мы найдем подобное же.
Теэтет.
Как же иначе?
Чужеземец.
Что же? Так как мы согласны в том, что и роды [вещей] находятся друг с другом в подобном же сочетании, то не с помощью ли некоего знания должен отыскивать путь в своих рассуждениях тот, кто намерен правильно указать, какие роды с какими сочетаются и какие друг друга не принимают,
c
а также, во всех ли случаях есть связь между ними, так чтобы они были способны смешиваться, и, наоборот, при разделении – всюду ли существуют разные причины разделения?
Теэтет.
Как же не нужно знания и едва ли не самого важного?
Чужеземец.
Но как, Теэтет, назовем мы теперь это знание? Или, ради Зевса, не напали ли мы незаметно для себя на науку людей свободных и не кажется ли, что, ища софиста, мы отыскали раньше философа?
Теэтет.
Что ты хочешь сказать?
d
Чужеземец.
Различать все по родам, не принимать один и тот же вид за иной и иной за тот же самый – неужели мы не скажем, что это [предмет] диалектического знания?
Теэтет.
Да, скажем.
Чужеземец.
Кто, таким образом, в состоянии выполнить это, тот сумеет в достаточной степени различить одну идею, повсюду пронизывающую многое, где каждое отделено от другого; далее, он различит, как многие отличные друг от друга идеи охватываются извне одною и, наоборот, одна идея связана в одном месте совокупностью многих, наконец, как многие идеи совершенно отделены друг от друга.
e
Все это называется уметь различать по родам, насколько каждое может взаимодействовать [с другим] и насколько нет.
Теэтет.
Истинно так.
Чужеземец.
Ты, думаю я, диалектику никому другому не припишешь, кроме как искренне и справедливо философствующему?
Теэтет.
Как может кто‑либо приписать ее другому?
Чужеземец.
Философа мы, без сомнения, найдем и теперь и позже в подобной области, если поищем; однако и его трудно ясно распознать, хотя трудность в отношении софиста иного рода, чем эта.
254
Теэтет.
Почему?
Чужеземец.
Один, убегающий во тьму небытия, куда он направляется по привычке, трудноузнаваем из‑за темноты места. Не так ли?
Теэтет.
По‑видимому.
Чужеземец.
Философа же, который постоянно обращается разумом к идее бытия, напротив, нелегко различить из‑за ослепительного блеска этой области: духовные очи большинства не в силах выдержать созерцания божественного.
b
Теэтет.
Видно, это верно в той же степени, что и то.
Чужеземец.
Таким образом, что касается философа, то мы его вскоре рассмотрим яснее[1190]
, если будем чувствовать к тому охоту; но очевидно также, что нельзя оставлять и софиста, не рассмотрев его в достаточной степени.
Теэтет.
Ты прекрасно сказал.
Чужеземец.
Таким образом, мы согласились, что одни роды склонны взаимодействовать, другие же нет и что некоторые – лишь с немногими [видами], другие – со многими, третьи же, наконец, во всех случаях беспрепятственно взаимодействуют со всеми;
c
теперь мы должны идти дальше в нашей беседе, так, чтобы нам коснуться не всех видов, дабы из‑за множества их не прийти в смущение, но избрать лишь те, которые считаются главнейшими[1191]
, и прежде всего рассмотреть, каков каждый из них, а затем, как обстоит дело с их способностью взаимодействия. И тогда, если мы и не сможем со всей ясностью постичь бытие и небытие, то, по крайней мере, не окажемся, насколько это допускает способ теперешнего исследования, несостоятельными
d
в их объяснении, если только, говоря о небытии, что это действительно небытие, нам удастся уйти отсюда невредимыми.
Теэтет.
Конечно, надо так сделать.
Чужеземец.
Самые главные роды, которые мы теперь обследуем, это – само бытие, покой и движение.
Теэтет.
Да, это самые главные.
Чужеземец.
И о двух из них мы говорим, что они друг с другом несовместимы.
Теэтет.
Несомненно.
Чужеземец.
Напротив, бытие совместимо с тем и с другим. Ведь оба они существуют.
Теэтет.
Как же иначе?
Чужеземец.
Следовательно, всего их три.
Теэтет.
Бесспорно.
Чужеземец.
Каждый из них есть иное по отношению к остальным двум и тождественное по отношению к себе самому.
e
Теэтет.
Так.
Чужеземец.
Чем же, однако, мы теперь считаем тождественное и иное? Может быть, это какие‑то два рода, отличные от тех трех, но по необходимости всегда с ними смешивающиеся? В этом случае исследование должно вестись относительно пяти существующих родов, а не трех, или же, сами того не замечая, мы называем тождественным и иным что‑то одно из тех [трех]?
255
Теэтет.
Может быть.
Чужеземец.
Но движение и покой не есть, верно, ни иное, ни тождественное?
Теэтет.
Как так?
Чужеземец.
То, что мы высказали бы сразу и о движении и о покое, не может быть ни одним из них.
Теэтет.
Почему же?
Чужеземец.
Движение тогда остановится, а покой, напротив, будет двигаться; ведь одно из этих двух, какое бы оно ни было, вступая в область обоих, заставит иное снова превратиться в противоположное своей собственной природе, поскольку оно причастно противоположному.
b
Теэтет.
Именно так.
Чужеземец.
Ведь теперь оба они причастны и тождественному и иному.
Теэтет.
Да.
Чужеземец.
Поэтому мы не должны говорить ни о движении, что оно тождественное или иное, ни о покое.
Теэтет.
Конечно, не должны.
Чужеземец.
Но не следует ли нам мыслить бытие и тождественное как нечто одно?
Теэтет.
Возможно.
Чужеземец.
Но если бытие и тождественное не означают ничего различного, то, говоря о движении и покое, что оба они существуют, мы назовем, таким образом, и то и другое, как существующее, тождественным.
c
Теэтет.
Но это невозможно.
Чужеземец.
Значит, невозможно, чтобы бытие и тождественное были одним.
Теэтет.
Похоже на это.
Чужеземец.
В таком случае, не допустим ли мы рядом с тремя видами четвертый: тождественное?
Теэтет.
Да, конечно.
Чужеземец.
Дальше. Не следует ли нам считать иное пятым [видом]? Или дулжно его и бытие мыслить как два названия для одного рода?
Теэтет.
Возможно.
Чужеземец.
Впрочем, думаю, ты согласишься, что из существующего одно считается [существующим] само по себе, другое же лишь относительно другого.
Теэтет.
Отчего же не согласиться?
d
Чужеземец.
Иное же всегда [существует лишь] по отношению к иному. Не так ли?
Теэтет.
Так.
Чужеземец.
Не совсем, если бытие и иное не вполне различаются. Если бы, однако, иное было причастно обоим видам как бытие, то одно из иного было бы иным совсем не относительно иного. Теперь же у нас попросту получилось, что то, что есть иное, есть по необходимости иное в отношении иного.
Теэтет.
Ты говоришь так, как это и обстоит на самом деле.
Чужеземец.
Следовательно, пятой среди тех видов, которые мы выбрали, надо считать природу иного.
e
Теэтет.
Да.
Чужеземец.
И мы скажем, что эта природа проходит через все остальные виды, ибо каждое одно есть иное по отношению к другому не в силу своей собственной природы, но вследствие причастности идее иного.
Теэтет.
Именно так.
Чужеземец.
Об этих пяти [видах][1192]
, перебирая их поодиночке, мы выразились бы так…
Теэтет.
Как именно?
Чужеземец.
Во‑первых, движение есть совсем иное, чем покой. Или как мы скажем?
Теэтет.
Так.
Чужеземец.
Таким образом, оно – не покой.
Теэтет.
Никоим образом.
256
Чужеземец.
Существует же оно вследствие причастности бытию?
Теэтет.
Да.
Чужеземец.
И опять‑таки движение есть иное, чем тождественное.
Теэтет.
Да.
Чужеземец.
Значит, оно – нетождественное.
Теэтет.
Конечно, нет.
Чужеземец.
Однако оно было тождественным вследствие того, что все причастно тождественному.
Теэтет.
Да, и очень.
Чужеземец.
Надо согласиться, что движение есть и тождественное и нетождественное, и не огорчаться. Ведь, когда мы назвали его тождественным и нетождественным, мы выразились неодинаково: коль скоро мы называем его тождественным, мы говорим так
b
из‑за его причастности тождественному в отношении к нему самому; если же, напротив, мы называем его нетождественным, то это происходит вследствие его взаимодействия с иным, благодаря чему, отделившись от тождественного, движение стало не этим, но иным, так что оно снова справедливо считается нетождественным.
Теэтет.
Несомненно, так.
Чужеземец.
Поэтому, если бы каким‑то образом само движение приобщалось к покою, не было бы ничего странного в том, чтобы назвать его неподвижным.
Теэтет.
Вполне справедливо, если мы согласимся, что одни роды склонны смешиваться, другие же нет.
c
Чужеземец.
К доказательству этого положения мы пришли еще раньше теперешних доказательств, когда утверждали, что так оно по природе и есть.
Теэтет.
Как же иначе?
Чужеземец.
Скажем, однако, снова: движение отлично от иного, равно как оно есть другое по отношению к тождественному и покою?
Теэтет.
Безусловно.
Чужеземец.
Стало быть, согласно настоящему объяснению, оно каким‑то образом есть и иное и не иное.
Теэтет.
Правда.
Чужеземец.
Что же дальше? Будем ли мы утверждать, что движение – иное по отношению к трем [видам], а о четвертом не скажем этого, признав в то же время, что всех видов, о которых и в пределах которых мы желаем вести исследование, – пять?
d
Теэтет.
Как же? Ведь невозможно согласиться на меньшее число, чем то, что вышло теперь.
Чужеземец.
Итак, мы смело должны защищать положение, что движение есть иное по отношению к бытию?
Теэтет.
Да, как можно смелее.
Чужеземец.
Не ясно ли, однако, что движение на самом деле есть и небытие, и бытие, так как оно причастно бытию?
Теэтет.
Весьма ясно.
Чужеземец.
Небытие, таким образом, необходимо имеется как в движении, так и во всех родах. Ведь распространяющаяся на всё природа иного, делая все иным по отношению к бытию, превращает это в небытие,
e
и, следовательно, мы по праву можем назвать всё без исключения небытием и в то же время, так как оно причастно бытию, назвать это существующим.
Теэтет.
Похоже на то.
Чужеземец.
В каждом виде поэтому есть много бытия и в то же время бесконечное количество небытия.
Теэтет.
Кажется.
Чужеземец.
Таким образом, надо сказать, что и само бытие есть иное по отношению к прочим [видам].
257
Теэтет.
Это необходимо.
Чужеземец.
И следовательно, во всех тех случаях, где есть другое, у нас не будет бытия. Раз оно не есть другое, оно будет единым; тем же, другим, бесконечным по числу, оно, напротив, не будет.
Теэтет.
Похоже, что так.
Чужеземец.
Не следует огорчаться этим, раз роды по своей природе взаимодействуют. Если же кто с этим не согласен, пусть тот опровергнет сначала наши предыдущие рассуждения, а затем также и последующие.
Теэтет.
Ты сказал весьма справедливо.
b
Чужеземец.
Посмотрим‑ка вот что.
Теэтет.
Что именно?
Чужеземец.
Когда мы говорим о небытии, мы разумеем, как видно, не что‑то противоположное бытию, но лишь иное.
Теэтет.
Как так?
Чужеземец.
Ведь если мы, например, называем что‑либо небольшим, кажется ли тебе, что этим выражением мы скорее обозначаем малое, чем равное?
Теэтет.
А как же.
Чужеземец.
Следовательно, если бы утверждалось, что отрицание означает противоположное, мы бы с этим не согласились или согласились бы лишь настолько, чтобы «не» и «нет» означали нечто другое с по отношению к рядом стоящим словам, либо, еще лучше, вещам, к которым относятся высказанные вслед за отрицанием слова.
c
Теэтет.
Несомненно, так.
Чужеземец.
Подумаем‑ка, если и тебе угодно, о следующем.
Теэтет.
О чем же?
Чужеземец.
Природа иного кажется мне раздробленной на части подобно знанию.
Теэтет.
Каким образом?
Чужеземец.
И знание едино, но всякая часть его, относящаяся к чему‑либо, обособлена и имеет какое‑нибудь присущее ей имя. Поэтому‑то и говорится о многих искусствах и знаниях.
d
Теэтет.
Конечно, так.
Чужеземец.
Поэтому и части природы иного, которая едина, испытывают то же самое.
Теэтет.
Может быть. Но каким, скажем мы, образом?
Чужеземец.
Не противоположна ли какая‑либо часть иного прекрасному?
Теэтет.
Да.
Чужеземец.
Сочтем ли мы ее безымянной или имеющей какое‑то имя?
Теэтет.
Имеющей имя; ведь то, что мы каждый раз называем некрасивым, есть иное не для чего‑либо другого, а лишь для природы прекрасного.
Чужеземец.
Ну хорошо, скажи мне теперь следующее.
e
Теэтет.
Что же?
Чужеземец.
Не выходит ли, что некрасивое есть нечто отделенное от какого‑то рода существующего и снова противопоставленное чему‑либо из существующего?
Теэтет.
Так.
Чужеземец.
Оказывается, некрасивое есть противопоставление бытия бытию.
Теэтет.
Весьма справедливо.
Чужеземец.
Что же? Не принадлежит ли у нас, согласно этому рассуждению, красивое в большей степени к существующему, некрасивое же в меньшей?
Теэтет.
Никоим образом.
258
Чужеземец.
Следовательно, надо признать, что и небольшое и самое большое одинаково существуют.
Теэтет.
Одинаково.
Чужеземец.
Не дулжно ли и несправедливое полагать тождественным справедливому в том отношении, что одно из них существует нисколько не меньше другого?
Теэтет.
Отчего же нет?
Чужеземец.
Таким же образом будем говорить и о прочем, коль скоро природа иного оказалась принадлежащей к существующему. Если же иное существует, то не в меньшей степени нужно полагать существующими и его части.
Теэтет.
Как же иначе?
Чужеземец.
Поэтому, как кажется, противопоставление природы части иного бытию есть, если позволено так сказать,
b
нисколько не меньшее бытие, чем само бытие, причем оно не обозначает противоположного бытию, но лишь указывает на иное по отношению к нему.
Теэтет.
Совершенно ясно.
Чужеземец.
Как же нам его назвать?
Теэтет.
Очевидно, это то самое небытие, которое мы исследовали из‑за софиста.
Чужеземец.
Может быть, как ты сказал, оно с точки зрения бытия не уступает ничему другому и должно смело теперь говорить, что небытие, бесспорно, имеет свою собственную природу,
c
и подобно тому, как большое было большим, прекрасное – прекрасным, небольшое – небольшим и некрасивое – некрасивым, так и небытие, будучи одним среди многих существующих видов, точно таким же образом было и есть небытие? Или по отношению к нему, Теэтет, мы питаем еще какое‑либо сомнение?
Теэтет.
Никакого.
Чужеземец.
А знаешь ли, мы ведь совсем не послушались Парменида в том, что касалось его запрета.
Теэтет.
Как так?
Чужеземец.
Стремясь в исследовании вперед, мы доказали ему больше того, что он дозволил рассматривать.
Теэтет.
Каким образом?
d
Чужеземец.
А так, ведь он где‑то сказал:
Этого нет никогда и нигде, чтоб не‑сущее было;
Ты от такого пути испытаний сдержи свою мысль.
Теэтет.
Конечно, он так сказал.
Чужеземец.
А мы не только доказали, что есть несуществующее, но и выяснили, к какому виду относится небытие. Ведь, указывая на существование природы иного и на то,
e
что она распределена по всему существующему, находящемуся во взаимосвязи, мы отважились сказать, что каждая часть природы иного, противопоставленная бытию, и есть действительно то самое – небытие.
Теэтет.
И кажется мне, чужеземец, мы сказали это в высшей степени правильно.
Чужеземец.
Пусть же никто не говорит о нас, будто мы, представляя небытие противоположностью бытия, осмеливаемся утверждать, что оно существует. Ведь о том, что противоположно бытию, мы давно уже оставили мысль решить, существует ли оно или нет, обладает ли смыслом или совсем бессмысленно.
259
Относительно же того, о чем мы теперь говорили, – будто небытие существует, – пусть нас либо кто‑нибудь в этом разубедит, доказав, что мы говорим не дело, либо, пока он не в состоянии этого сделать, пусть говорит то же, что утверждаем и мы, а именно что роды между собой перемешиваются и что в то время, как бытие и иное пронизывают всё и друг друга, само иное, как причастное бытию, существует благодаря этой причастности, хотя оно и не то, чему причастно, а иное; вследствие же того, что оно есть иное по отношению к бытию, оно – совершенно ясно – необходимо должно быть небытием.
b
С другой стороны, бытие, как причастное иному, будет иным для остальных родов и, будучи иным для них всех, оно не будет ни каждым из них в отдельности, ни всеми ими, вместе взятыми, помимо него самого, так что снова в тысячах тысяч случаев бытие, бесспорно, не существует; и все остальное, каждое в отдельности и все в совокупности, многими способами существует, многими же – нет.
Теэтет.
Это верно.
Чужеземец.
Если, однако, кто‑либо не верит этим противоречиям, то ему надо произвести исследование самому и привести нечто лучшее, чем сказанное теперь.
c
Если же он, словно измыслив что‑либо трудное, находит удовольствие в том, чтобы растягивать рассуждение то в ту, то в другую сторону, то он занялся бы делом, не стоящим большого прилежания, как подтверждает наша беседа. Ведь изобрести это и не хитро, и не трудно, а вот то – и трудно, и в такой же мере прекрасно.
Теэтет.
Что именно?
Чужеземец.
А то, что было сказано раньше: допустив все это как возможное, быть в состоянии следовать за тем, что говорится, отвечая на каждое возражение в том случае, если кто‑либо станет утверждать, будто иное каким‑то образом есть тождественное или тождественное есть иное в том смысле и отношении, в каких, будет он утверждать, это каждому из них подобает.
d
Но объявлять тождественное каким‑то образом иным, а иное – тождественным, большое малым или подобное неподобным и находить удовольствие в том, чтобы в рассуждениях постоянно высказывать противоречия, – это не истинное опровержение, здесь чувствуется новичок, который лишь недавно стал заниматься существующим.
Теэтет.
Именно так. Возможность лжи в речах и мнениях
Чужеземец.
И в самом деле, дорогой мой, пытаться отделять все от всего[1193]
и вообще‑то не годится, и обычно это свойственно человеку необразованному и нефилософу.
e
Теэтет.
Почему же?
Чужеземец.
Разъединять каждое со всем остальным означает полное уничтожение всех речей, так как речь возникает у нас в результате взаимного переплетения идей.
Теэтет.
Правда.
260
Чужеземец.
Обрати поэтому внимание, как была полезна для нас сейчас борьба с такими людьми и как хорошо, что мы заставили их допустить смешение одного с другим.
Теэтет.
В каком отношении?
Чужеземец.
А в том, что речь для нас – это один из родов существующего: лишившись ее, мы, что особенно важно, лишались бы философии. Нам теперь же надо прийти к соглашению о том, что такое речь. Если бы она была у нас отнята или ее бы совсем не существовало, мы ничего не могли бы высказать. А ведь мы бы лишились ее, если бы признали, что нет никакого смешения между чем бы то ни было.
b
Теэтет.
Это справедливо. Но я не понимаю, для чего надо согласиться относительно речи.
Чужеземец.
Быть может, ты скорее бы понял, следуя вот каким путем.
Теэтет.
Каким?
Чужеземец.
Небытие явилось у нас как один из родов, рассеянный по всему существующему.
Теэтет.
Так.
Чужеземец.
Поэтому надо теперь рассмотреть, смешивается ли оно с мнением и речью.
Теэтет.
Как так?
c
Чужеземец.
Если оно с ними не смешивается, все по необходимости должно быть истинным, если же смешивается, мнение становится ложным и речь тоже, так как мнить или высказывать несуществующее – это и есть заблуждение, возникающее в мышлении и речах.
Теэтет.
Так.
Чужеземец.
А если есть заблуждение, то существует и обман.
Теэтет.
Да.
Чужеземец.
Но если существует обман, тогда все необходимо должно быть полно отображений, образов и призраков.
Теэтет.
Как же иначе?
d
Чужеземец.
О софисте мы сказали, что, хотя он и скрылся в этой области, сам он, однако, полностью отрицал существование лжи: мол, о небытии никто не мыслит и не говорит и оно никак не при‑частно бытию.
Теэтет.
Да, так и было.
Чужеземец.
Теперь же небытие оказалось причастным бытию, так что он, пожалуй, не станет здесь спорить. Но он легко может сказать, что одни из идей причастны небытию, другие – нет и что речь и мнение как раз относятся к непричастным. Поэтому софист снова может спорить, что вовсе нет искусства, творящего отображения и призраки,
e
в области которого, как мы утверждаем, он пребывает, раз мнение и речь не взаимодействуют с небытием. Заблуждения вовсе не существует, раз не существует такого взаимодействия. Поэтому прежде всего надлежит точно исследовать, что такое речь, мнение и представление, дабы, когда они для нас станут ясными, мы увидели и их взаимодействие с небытием;
261
видя это последнее, мы сможем доказать, что заблуждение существует, доказавши же это, мы свяжем с ним софиста, если, конечно, он в нем виновен, или, оставив его на свободе, станем искать его в ином роде.
Теэтет.
Вполне справедливо, чужеземец, было вначале сказано о софисте, что род этот неуловим. У него, как кажется, полно прикрытий, и, когда он какое‑нибудь из них выставит, то приходится его преодолевать, прежде чем удастся добраться до самого софиста. Едва мы теперь одолели одно прикрытие – что, мол, небытия нет, –
b
как уже другое пущено в ход, и теперь надо доказать, что существует заблуждение и в речах и в мнениях, а вслед за этим, быть может, возникнет еще одно, а после еще и другое, и, кажется, никогда им не будет конца.
Чужеземец.
Не надо, Теэтет, терять мужества тому, кто может хоть понемножку пробираться вперед. Кто падает духом в таких случаях, что будет он делать в других, когда либо ни в чем не преуспеет, либо будет отброшен назад? Такой, по словам пословицы, едва ли когда возьмет город.
c
Теперь, мой дорогой, когда с тем, о чем ты говоришь, покончено, нами должна быть взята самая высокая стена; остальное будет легче и менее значительно.
Теэтет.
Ты прекрасно сказал.
Чужеземец.
Прежде всего, как уже сказано, возьмем‑ка речь и мнение, дабы дать себе ясный отчет: соприкасается ли с ними небытие или и то и другое безусловно истинны и ни одно из них никогда не бывает заблуждением.
Теэтет.
Правильно.
d
Чужеземец.
Давай, как мы говорили об идеях и буквах, рассмотрим таким же образом и слова, так как примерно таким путем раскрывается то, что мы теперь ищем.
Теэтет.
На что же надо обратить внимание в словах?
Чужеземец.
А вот на что: все ли они сочетаются друг с другом или ни одно из них? Или некоторые склонны к этому, другие же нет?
Теэтет.
Ясно, что одни склонны, а другие нет.
Чужеземец.
Быть может, ты думаешь так: те, что, будучи произнесены одно за другим,
e
что‑то выражают, между собой сочетаются, те же, последовательность которых ничего не обозначает, не сочетаются.
Теэтет.
Как? Что ты сказал?
Чужеземец.
То, что, как я думал, ты принял и в чем со мной согласился. У нас ведь есть двоякий род выражения бытия с помощью голоса.
Теэтет.
Как?
262
Чужеземец.
Один называется именем, другой – глаголом[1194]
.
Теэтет.
Расскажи о каждом из них.
Чужеземец.
Обозначение действий мы называем глаголом.
Теэтет.
Да.
Чужеземец.
Обозначение с помощью голоса, относящееся к тому, что производит действие, мы называем именем.
Теэтет.
Именно так.
Чужеземец.
Но из одних имен, последовательно произнесенных, никогда не образуется речь, так же и из глаголов, произнесенных без имен.
Теэтет.
Этого я не понял.
b
Чужеземец.
Очевидно, недавно согласившись со мною, ты имел в виду что‑то другое; ведь я хотел только сказать, что эти слова, высказанные в таком порядке, не представляют собою речь.
Теэтет.
Как?
Чужеземец.
Возьми, например, [глаголы] «идет», «бежит», «спит» и все прочие слова, обозначающие действие: если бы кто‑нибудь произнес их по порядку, то этим он вовсе не составил бы речи.
Теэтет.
Да и как он мог бы составить?
Чужеземец.
Таким же образом, если произносится «лев», «олень», «лошадь» и любые другие слова, обозначающие все, что производит действие, то и из их последовательности не возникает речь.
c
Высказанное никак не выражает ни действия, ни его отсутствия, ни сущности существующего, ни сущности несуществующего, пока кто‑либо не соединит глаголов с именами. Тогда все налажено, и первое же сочетание [имени с глаголом] становится тотчас же речью – в своем роде первою и самою маленькою из речей.
Теэтет.
Как ты это понимаешь?
Чужеземец.
Когда кто‑либо произносит «человек учится», то не скажешь ли ты, что это – самая маленькая и простая речь?
d
Теэтет.
Да.
Чужеземец.
Ведь в этом случае он сообщает о существующем или происходящем, или происшедшем, или будущем и не только произносит наименования, но и достигает чего‑то, сплетая глаголы с именами. Поэтому‑то мы сказали о нем, что он ведет речь, а не просто называет, и такому сочетанию дали имя речи.
Теэтет.
Верно.
Чужеземец.
Подобно тому как некоторые вещи совмещаются одна с другой, другие же нет, так же и обозначения с помощью голоса: одни не сочетаются, другие же, взаимно сочетаясь, образуют речь.
e
Теэтет.
Несомненно, так.
Чужеземец.
Теперь еще вот какая малость.
Теэтет.
Какая же?
Чужеземец.
Речь, когда она есть, необходимо должна быть речью о чем‑либо: ведь речь ни о чем невозможна.
Теэтет.
Так.
Чужеземец.
Не должна ли она иметь и какое‑то качество?
Теэтет.
Как же иначе?
Чужеземец.
Обратим‑ка теперь внимание на нас самих.
Теэтет.
Действительно, это следует сделать.
Чужеземец.
Я тебе произнесу речь, соединив предмет с действием через посредство имени и глагола; ты же скажи мне, о чем будет речь.
263
Теэтет.
Так и будет, по мере возможности.
Чужеземец.
«Теэтет сидит». Эта речь, конечно, не длинная?
Теэтет.
Нет, напротив, в меру.
Чужеземец.
Твое дело теперь сказать, о ком она и к кому относится.
Теэтет.
Очевидно, что обо мне и ко мне.
Чужеземец.
А как вот эта?
Теэтет.
Какая?
Чужеземец.
«Теэтет, с которым я теперь беседую, летит».
Теэтет.
И относительно этой речи едва ли кто скажет иначе: она обо мне и касается меня.
Чужеземец.
Мы утверждаем, что всякая речь необходимо должна быть какого‑то качества.
b
Теэтет.
Да.
Чужеземец.
Какого же качества должно теперь считать каждую из этих двух?
Теэтет.
Одну истинной, другую ложной.
Чужеземец.
Из них истинная высказывает о тебе существующее, как оно есть.
Теэтет.
Конечно.
Чужеземец.
Ложная же – нечто другое, чем существующее.
Теэтет.
Да.
Чужеземец.
Она говорит поэтому о несуществующем, как о существующем.
Теэтет.
Похоже, что так.
Чужеземец.
По крайней мере, о существующем, отличном от существующего, которое должно быть высказано о тебе. Ведь мы утверждали, что в отношении к каждому многое существует, а многое и нет.
Теэтет.
Именно так.
c
Чужеземец.
Вторая речь, которую я о тебе произнес, прежде всего в силу нашего определения, что такое речь, необходимо должна быть одною из самых коротких.
Теэтет.
Мы ведь недавно в этом согласились.
Чужеземец.
Затем, речью о чем‑либо.
Теэтет.
Так.
Чужеземец.
Если она не о тебе, то и ни о ком другом.
Теэтет.
Как это?
Чужеземец.
Ведь, не относясь ни к чему, она и вообще не была бы речью. Мы доказали, что невозможно, чтобы речью была ни к чему не относящаяся речь.
Теэтет.
Вполне справедливо.
d
Чужеземец.
Если, таким образом, о тебе говорится иное как тождественное, несуществующее – как существующее, то совершенно очевидно, что подобное сочетание, возникающее из глаголов и имен, оказывается поистине и на самом деле ложною речью.
Теэтет.
Весьма верно.
Чужеземец.
Как же теперь? Не ясно ли уже, что мышление, мнение, представление, как истинные, так и ложные, все возникают у нас в душе?
Теэтет.
Каким образом?
e
Чужеземец.
Ты это легче увидишь, если сначала узнаешь, что они такое и чем отличаются друг от друга.
Теэтет.
Говори, говори.
Чужеземец.
Не есть ли мысль и речь одно и то же[1195]
, за исключением лишь того, что происходящая внутри души беззвучная беседа ее с самой собой и называется у нас мышлением?
Теэтет.
Вполне так.
Чужеземец.
Поток же звуков, идущий из души через уста, назван речью.
Теэтет.
Правда.
Чужеземец.
И мы знаем, что в речах содержится следующее…
Теэтет.
Что же?
Чужеземец.
Утверждение и отрицание.
Теэтет.
Да, знаем.
264
Чужеземец.
Если это происходит в душе мысленно, молчаливо, то есть ли у тебя другое какое‑либо название для этого, кроме мнения?
Теэтет.
Да каким же образом?
Чужеземец.
Что же, когда подобное состояние возникает у кого‑либо не само по себе, но благодаря ощущению, можно ли правильно назвать его иначе, нежели представлением?
Теэтет.
Нельзя.
Чужеземец.
Таким образом, если речь бывает истинной и ложной и среди этого мышление явилось нам как беседа души с самою собой, мнение же – как завершение мышления, а то, что мы выражаем словом «представляется», –
b
как смешение ощущения и мнения, то необходимо, чтобы и из всего этого как родственного речи кое‑что также иногда было ложным.
Теэтет.
Как же иначе?
Чужеземец.
Замечаешь ли ты теперь, что ложное мнение и речь найдены нами раньше, чем мы предполагали, опасаясь, как бы, исследуя все это, не приняться за дело совершенно невыполнимое?
Теэтет.
Замечаю.
Чужеземец.
Не будем же падать духом и во всем остальном. Ввиду того что все это теперь стало нам ясным, вспомним о прежних делениях на виды.
c
Теэтет.
О каких?
Чужеземец.
Мы различали два вида изобразительного искусства: один – творящий образы, другой – призраки.
Теэтет.
Да.
Чужеземец.
И мы сказали, что недоумеваем, к какому из них двух отнести софиста.
Теэтет.
Так это и было.
Чужеземец.
И пока мы так недоумевали, разлился еще больший мрак, как только возникло рассуждение, ставящее все под сомнение, –
d
будто нет ни образов, ни отображений, ни призраков и потому никак, никогда и нигде не возникает ничего ложного.
Теэтет.
Ты говоришь верно.
Чужеземец.
Теперь, когда обнаружилось, что существует ложная речь и ложное мнение, освободилось место для подражаний существующему, а уж из этого возникает искусство обмана.
Теэтет.
Пожалуй.
Чужеземец.
И действительно, что софист принадлежит к одному из этих двух [искусств], мы уже признали раньше.
Теэтет.
Да.
e
Чужеземец.
Попробуем‑ка, снова разделяя надвое находящийся перед нами род, каждый раз держаться в пути правой части, имея в виду то, что относится к софисту, пока мы, пройдя мимо всего общего [между ним и другими видами] и оставив ему его собственную природу, не выставим ее напоказ прежде всего нам самим, а потом и тем, кто от природы близок такому методу исследования.
265
Теэтет.
Правильно.
Чужеземец.
Не с того ли мы начали, что различили искусства творческое и приобретающее?
Теэтет.
Да.
Чужеземец.
И не явился ли нам софист в области охоты, состязания, торговли и некоторых других видов приобретающего искусства?
Теэтет.
Конечно, так.
Чужеземец.
Теперь же, когда его захватило подражательное искусство, ясно, что сперва надо расчленить творческое искусство надвое. Ведь подражание есть какое‑то творчество; мы, однако, говорим об отображениях, а не о самих вещах. Не так ли?
b
Теэтет.
Несомненно, так.
Чужеземец.
Пусть, следовательно, будут прежде всего две части творческого искусства.
Теэтет.
Какие?
Чужеземец.
Одна – божественная, другая – человеческая.
Теэтет.
Я пока не понял.
Чужеземец.
Творческое искусство, говорили мы, – если вспомнить сказанное вначале – есть всякая способность, которая является причиной возникновения того, чего раньше не было.
Теэтет.
Да, мы это помним.
c
Чужеземец.
Станем ли мы утверждать относительно всех живых существ и растений, которые произрастают на земле из семян и корней, а также относительно неодушевленных тел, пребывающих в земле в текучем и нетекучем виде, – станем ли мы утверждать, говорю я, что все это, ранее не существовавшее, возникает затем благодаря созидательной деятельности кого‑либо иного – не бога[1196]
? Или же будем говорить, руководствуясь убеждением и словами большинства…
Теэтет.
Какими?
Чужеземец.
Что все это природа порождает в силу какой‑то самопроизвольной причины[1197]
, производящей без участия разума. Или, может быть, мы признаем, что причина эта одарена разумом и божественным знанием, исходящим от бога?
d
Теэтет.
Я, быть может, по молодости часто меняю одно мнение на другое. Однако теперь, глядя на тебя и понимая, что ты считаешь, что все это произошло от бога, я и сам так думаю.
Чужеземец.
Прекрасно, Теэтет! И если бы мы полагали, что в будущем ты окажешься в числе мыслящих иначе, то постарались бы теперь с помощью непреложно убедительной речи заставить тебя с нами согласиться. Но так как я знаю твою природу, знаю, что и без наших слов она сама собою обратится к тому, к чему, как ты утверждаешь, ее ныне влечет, то я оставляю это:
e
ведь мы напрасно потеряли бы время. Лучше я выставлю положение, что то, что приписывают природе, творится божественным искусством, то же, что создается людьми, – человеческим и, согласно этому положению, существует два рода творчества: один – человеческий, другой – божественный.
Теэтет.
Верно.
Чужеземец.
Расчлени‑ка, однако, каждый из них двух снова надвое.
Теэтет.
Как?
266
Чужеземец.
Подобно тому как ты все творческое искусство делил в ширину, раздели его теперь, напротив, в длину[1198]
.
Теэтет.
Пусть будет разделено.
Чужеземец.
Таким образом, в целом возникают четыре части: две, относящиеся к нам, – человеческие, и две к богам – божественные.
Теэтет.
Да.
Чужеземец.
Теперь они снова разделены, уже иначе: одна часть в каждом отделе собственно творческая, обе же остальные могут быть лучше всего названы изобразительными. И в силу этого творческое искусство снова делится на две части.
b
Теэтет.
Скажи, как теперь образуется каждая из них?
Чужеземец.
Мы знаем, что и мы, и другие живые существа, и то, из чего произошло все природное, – огонь, вода и им родственное – суть произведения бога, каждое из которых им создано. Или как?
Теэтет.
Так.
Чужеземец.
Каждое из них сопровождают отображения, а вовсе не сами вещи, тоже произведенные божественным искусством.
Теэтет.
Какие?
Чужеземец.
А [образы] во сне и все те [образы], которые днем называются естественными призраками: тени, когда с огнем смешивается тьма, затем двойные отображения,
c
когда собственный свет [предмета] и чужой сливаются воедино на блестящих и гладких предметах и порождают отображение, которое производит ощущение, противоречащее прежней привычной видимости.
Теэтет.
Следовательно, здесь два произведения божественного творчества: сама вещь и образ, ее сопровождающий.
Чужеземец.
Но что же с нашим искусством? Не скажем ли мы, что оно с помощью строительского мастерства воздвигает дом, а с помощью живописи нечто другое, создаваемое подобно человеческому сну для бодрствующих?
d
Теэтет.
Конечно, так.
Чужеземец.
Так же обстоит и с остальным: соответственно двум частям двояки и произведения нашего творчества: с одной стороны, говорим мы, имеется сам предмет, а с другой – его изображение.
Теэтет.
Теперь я понял значительно лучше и допускаю два вида творческого искусства, расчлененных в свою очередь надвое: согласно одному делению, это человеческое и божественное искусства, согласно же другому, произведения каждого из них состоят, с одной стороны, из самих предметов, а с другой – из некоторых подобий последних.
Чужеземец.
Вспомним‑ка теперь, что один [вид] изобразительного искусства должен быть творящим образы, а другой – призраки, если ложь действительно о есть ложь и представляет собой нечто принадлежащее по своей природе к существующему.
e
Теэтет.
Да, так было.
Чужеземец.
Не явилась ли она именно таковой? И в силу этого не будем ли мы, отбросив сомнения, считать ее теперь двух видов?
Теэтет.
Да, будем.
Чужеземец.
Разделим‑ка искусство, творящее призраки, снова надвое.
267
Теэтет.
Как?
Чужеземец.
Одно – это то, которое выполняется посредством орудий, в другом тот, кто творит призраки, сам делает себя орудием этого.
Теэтет.
Что ты имеешь в виду?
Чужеземец.
Я подразумеваю, когда кто‑либо своим телом старается явить сходство с твоим обликом или своим голосом – сходство с твоим, то этот [вид] призрачного искусства обычно называется подражанием.
Теэтет.
Да.
Чужеземец.
Называя этот [вид] подражающим, выделим его. Все остальное оставим без внимания, так как мы устали, и предоставим другому свести это воедино и дать этому какое‑то подобающее название.
b
Теэтет.
Пусть одно будет выделено, а то передано другому.
Чужеземец.
Однако, Теэтет, и первое надо считать двояким. Реши, почему?
Теэтет.
Говори ты.
Чужеземец.
Из лиц подражающих одни делают это, зная, чему они подражают, другие же – не зная. А какое различие признаем мы более важным, чем различие между знанием и незнанием?
Теэтет.
Никакое.
Чужеземец.
Подражание, недавно указанное, было, таким образом, подражанием знающих. Ведь только тот, кто знает твой облик и тебя, мог бы подражать всему этому.
Теэтет.
Как же иначе?
c
Чужеземец.
А что же с обликом справедливости и вообще всей в целом добродетели? Не примутся ли многие, не зная ее, но имея о ней какое‑то мнение, усердно стараться, чтобы проявилось то, что они принимают за живущую в них добродетель, и не станут ли, насколько возможно, на деле и на словах ей подражать?
Теэтет.
И очень даже многие.
Чужеземец.
Но не потерпят ли они все неудачу в этом стремлении казаться справедливыми, не будучи вовсе такими? Или как раз напротив?
Теэтет.
Как раз напротив.
Чужеземец.
Такого подражателя – незнающего, – думаю я, надо считать отличным от того – от знающего.
d
Теэтет.
Да.
Чужеземец.
Откуда же, однако, возьмет кто‑либо подобающее название для каждого из них? Ведь очевидно, что это трудно и разделение родов на виды в старину представлялось праздным и неразумным, устаревшим занятием, так что никто никогда и не брался делить. Поэтому и нужда в именах была не очень настоятельной. При всем том, если выразиться более смело, мы во имя различия подражание, соединенное с мнением, назовем основанным на мнении, подражание же, соединенное со знанием, – научным.
e
Теэтет.
Пусть будет так.
Чужеземец.
Теперь надо воспользоваться одним из этих названий. Ведь софист принадлежит не к знающим, а к подражающим.
Теэтет.
Да, конечно.
Чужеземец.
Рассмотрим‑ка подражателя, основывающегося на мнении, как рассматривают изделие из железа, прочно ли оно или содержит в себе какую‑то трещину.
Теэтет.
Рассмотрим.
268
Чужеземец.
А ведь у него она есть, и очень даже большая. Один из подражателей простоват и думает, будто знает то, что мнит, а облик другого из‑за его многословия возбуждает подозрение и опасение, что он не знает того, относительно чего принимает перед другими вид знатока.
Теэтет.
Конечно, есть подражатели обоих родов, о которых ты упомянул.
Чужеземец.
Поэтому, не сочтем ли мы одного простодушным, а другого – лицемерным подражателем?
Теэтет.
Это подходит.
Чужеземец.
Сочтем ли мы род этого последнего единым или двояким?
Теэтет.
Смотри ты сам.
b
Чужеземец.
Смотрю, и мне представляются каких‑то два рода: один, я вижу, способен лицемерить всенародно, в длинных речах, произносимых перед толпою, другой же в частной беседе с помощью коротких высказываний заставляет собеседника противоречить самому себе.
Теэтет.
Ты совершенно прав.
Чужеземец.
Кем же сочтем мы словообильного? Мужем ли государственным или народным витией?
Теэтет.
Народным витией.
Чужеземец.
Как же мы назовем другого? Мудрецом или софистом?
c
Теэтет.
Мудрецом его невозможно назвать: ведь мы признали его незнающим. Будучи подражателем мудреца (σοφοΰ), он, конечно, получит производное от него имя, и я почти уже понял, что он действительно должен называться во всех отношениях подлинным софистом (σοφιστήν). Итог: определение софиста
Чужеземец.
Не свяжем ли мы, однако, как и раньше, его имя воедино, сплетая нить в обратном порядке – от конца к началу.
Теэтет.
Конечно, сделаем так.
Чужеземец.
Этим именем обозначается основанное на мнении лицемерное подражание искусству, запутывающему другого в противоречиях, подражание, принадлежащее к части изобразительного искусства,
d
творящей призраки и с помощью речей выделяющей в творчестве не божественную, а человеческую часть фокусничества: кто сочтет истинного софиста происходящим из этой плоти и крови, тот, кажется, выразится вполне справедливо[1199]
.
Теэтет.
Сущая правда.
Перевод С. А. Ананьина.
В кн.: Платон. Собр. соч. в 4‑х томах. Том 2. М.: «Мысль», 1993
XXIV. ПАРМЕНИД
Кефал (рассказывает)
126
Кефал.
Когда мы прибыли в Афины из нашего родного города Клазомены[1200]
, мы встретились на площади с Адимантом и Главконом. Адимант, взяв меня за руку, сказал:
– Здравствуй, Кефал! Если тебе здесь что‑нибудь нужно, скажи, и мы сделаем, что в наших силах.
– Затем‑то я и прибыл, – ответил я, – чтобы обратиться к вам с просьбой.
– Скажи же, что тебе нужно, – сказал он.
Тогда я спросил:
b
– Как было имя вашего единоутробного брата? Сам я не помню: он был еще ребенком, когда я прежде приезжал сюда из Клазомен. С той поры, однако, прошло много времени. Отца его звали, кажется, Пирилампом.
– Совершенно верно.
– А его самого?
– Антифонтом. Но к чему, собственно, ты об этом спрашиваешь?
– Вот эти мои сограждане, – объяснил я, – большие почитатели мудрости; они слышали, что этот вот самый Антифонт часто встречался с приятелем Зенона, неким Пифодором,
c
и знает на память ту беседу, которую вели однажды Сократ, Зенон и Парменид, так как часто слышал от Пифодора ее пересказ.
– Ты говоришь совершенно верно, – сказал Адимант.
– Вот ее‑то, – попросил я, – мы и хотели бы прослушать.
– Это не трудно устроить, – ответил Адимант, – потому что Антифонт в юности основательно ее усвоил, хотя теперь‑то он, по примеру своего деда и тезки, занимается главным образом лошадьми. Но, если надо, пойдемте к нему: он только что ушел отсюда домой, а живет близко, в Мелите[1201]
.
127
После этого разговора мы пошли к Антифонту и застали его дома; он отдавал кузнецу в починку уздечку. Когда он того отпустил, братья сообщили ему о цели нашего прихода; он узнал меня, помня по моему прежнему приезду сюда, и приветствовал. А когда мы стали просить его пересказать ту беседу, он сначала отказывался, говоря, что дело это трудное, но потом стал рассказывать.
Итак, Антифонт сказал, что, по словам Пифодора, однажды приехали на Великие Панафинеи[1202]
Зенон и Парменид.
b
Парменид был уже очень стар, совершенно сед, но красив и представителен; лет ему было примерно за шестьдесят пять. Зенону же тогда было около сорока, он был высокого роста и приятной наружности; поговаривали, что он был любимцем Парменида.
c
Они остановились у Пифодора, за городской стеной, в Керамике[1203]
. Сюда‑то и пришли Сократ и с ним многие другие, желая послушать сочинения Зенона, ибо они тогда впервые были привезены им и Парменидом. Сократ был в то время очень молод. Читал им сам Зенон, Парменид же как раз отлучился; оставалось дочитать уже совсем немного, когда вошел сам Пифодор
d
и с ним Парменид и Аристотель, бывший впоследствии одним из Тридцати, и вошедшие успели еще услышать кое‑что из сочинения, но очень немногое; впрочем, сам Пифодор еще прежде слушал Зенона.
Прослушав все, Сократ попросил прочесть снова первое положение первого рассуждения и после прочтения его сказал: Основной элейский тезис
e
– Как это ты говоришь, Зенон? Если существует многое, то оно должно быть подобным и не подобным а это, очевидно, невозможно, потому что и неподобное не может быть подобным, и подобное – неподобным. Не так ли ты говоришь?
– Так, – ответил Зенон.
– Значит, если невозможно неподобному быть подобным и подобному – неподобным, то невозможно и существование многого, ибо если бы многое существовало, то оно испытывало бы нечто невозможное? Это хочешь ты сказать своими рассуждениями? Хочешь утверждать вопреки общему мнению, что многое не существует?
128
И каждое из своих рассуждений ты считаешь доказательством этого, так что сколько ты написал рассуждений, столько, по‑твоему, представляешь и доказательств того, что многое не существует? Так ли ты говоришь, или я тебя неправильно понимаю?
– Нет, – сказал Зенон, – ты хорошо схватил смысл сочинения в целом.
– Я замечаю, Парменид, – сказал Сократ, – что наш Зенон хочет быть близок тебе во всем, даже в сочинениях. В самом деле, он написал примерно то же, что и ты, но с помощью переделок старается ввести нас в заблуждение, будто он говорит что‑то другое: ты в своей поэме утверждаешь, что все есть единое, и представляешь прекрасные доказательства этого;
b
он же отрицает существование многого и тоже приводит многочисленные и веские доказательства[1204]
. Но то, что вы говорите, оказывается выше разумения нас остальных: действительно, один из вас утверждает существование единого, другой отрицает существование многого, но каждый рассуждает так, что кажется, будто он сказал совсем не то, что другой, между тем как оба вы говори те почти что одно и то же.
c
– Да, Сократ, – сказал Зенон, – но только ты не вполне постиг истинный смысл сочинения. Хотя ты, подобно лакейским щепкам[1205]
, отлично выискиваешь и выслеживаешь то, что содержится в сказанном, но прежде всего от тебя ускользает, что мое сочинение вовсе не притязает на то, о чем ты говоришь, и вовсе не пытается скрыть от людей некий великий замысел. Ты говоришь об обстоятельстве побочном. В действительности это сочинение поддерживает рассуждение Парменида
d
против тех, кто пытается высмеять его, утверждая, что если существует единое, то из этого утверждения следует множество смешных и противоречащих ему выводов. Итак, мое сочинение направлено против допускающих многое, возвращает им с избытком их нападки и старается показать, что при обстоятельном рассмотрении их положение «существует многое» влечет за собой еще более смешные последствия, чем признание существования единого. Под влиянием такой страсти к спорам я в молодости и написал это сочинение, но, когда оно было написано, кто‑то его у меня украл,
e
так что мне не пришлось решать вопрос, следует ли его выпускать в свет или нет. Таким образом, от тебя ускользнуло, Сократ, что сочинение это подсказано юношеской любовью к спорам, а вовсе не честолюбием пожилого человека. Впрочем, как я уже сказал, твои соображения недурны. Критика дуализма вещи и идеи
– Принимаю твою поправку, – сказал Сократ, – и полагаю, что дело обстоит так, как ты говоришь. Но скажи мне вот что: не признаешь ли ты, что существует сама по себе некая идея подобия и другая, противоположная ей, – идея неподобия?[1206]
129
Что к этим двум идеям приобщаемся и я, и ты, и все прочее, что мы называем многим? Далее, что приобщающееся к подобию становится подобным по причине и согласно мере своего приобщения, приобщающееся же к неподобию – таким же образом неподобным и приобщающееся к тому и другому – тем и другим вместе? И если все вещи приобщаются к обеим противоположным [идеям] и через причастность обеим оказываются подобными и неподобными между собой, то что же в этом удивительного?
b
Было бы странно, думается мне, если бы кто‑нибудь показал, что подобное само по себе становится неподобным или неподобное [само по себе] – подобным; но если мне указывают, что причастное тому и другому совмещает признаки обоих, то мне, Зенон, это вовсе не кажется нелепым, равно как если бы кто‑нибудь обнаружил, что все есть единое вследствие причастности единому и оно же, с другой стороны, есть многое вследствие причастности ко множественному. Пусть‑ка кто докажет, что единое, взятое само по себе, есть многое и, с другой стороны, что многое [само по себе] есть единое, вот тогда я выкажу изумление.
c
И по отношению ко всему другому дело обстоит так же: если бы было показано, что роды и виды испытывают сами в себе эти противоположные состояния, то это было бы достойно удивления. Но что удивительного, если кто будет доказывать, что я – единый и многий, и, желая показать множественность, скажет, что во мне различны правая и левая, передняя и задняя, а также верхняя и нижняя части, – ведь ко множественному, как мне кажется, я причастен, – желая же показать, что я един,
d
скажет, что, будучи причастен к единому, я как человек – один среди нас семерых: таким образом раскрывается истинность того и другого. Итак, если кто примется показывать тождество единого и многого в таких предметах, как камни, бревна и т. п., то мы скажем, что он приводит нам примеры многого и единого, но не доказывает ни того, что единое множественно, ни того, что многое едино, и в его словах нет ничего удивительного, но есть лишь то, с чем все мы могли бы согласиться. Если же кто‑то сделает то, о чем я только что говорил, то есть сначала установит раздельность и обособленность идей самих по себе, таких, как подобие и неподобие, множественность и единичность, покой и движение,
e
и других в этом роде, а затем докажет, что они могут смешиваться между собой и разобщаться, вот тогда, Зенон, я буду приятно изумлен. Твои рассуждения я нахожу смело разработанными, однако, как я уже сказал, гораздо более я изумился бы в том случае, если бы кто мог показать,
130
что то же самое затруднение всевозможными способами пронизывает самые идеи, и, как вы проследили его в видимых вещах, так же точно обнаружить его в вещах, постигаемых с помощью рассуждения.
Во время этой речи Пифодор думал, что Парменид и Зенон будут досадовать из‑за каждого замечания Сократа, однако они внимательно слушали его и часто с улыбкой переглядывались между собой, выказывая этим свое восхищение; когда же Сократ кончил, Парменид сказал:
b
– Как восхищает, Сократ, твой пыл в рассуждениях! Но скажи мне: сам‑то ты придерживаешься сделанного тобой различения, то есть признаешь, что какие‑то идеи сами по себе, с одной стороны, и то, что им причастно, с другой, существуют раздельно? Представляется ли тебе, например, подобие само по себе чем‑то отдельным от того подобия, которое присуще нам, и касается ли это также единого, многого и всего, что ты теперь слышал от Зенон?
– Да, – ответил Сократ.
– И таких идей, – продолжал Парменид, – как, например, идеи справедливого самого по себе, прекрасного, доброго и всего подобного?
– Да, – ответил он.
c
– Что же, идея человека тоже существует отдельно от нас и всех нам подобных – идея человека сама по себе, а также идея огня, воды? Сократ на это ответил:
– Относительно таких вещей, Парменид, я часто бываю в недоумении, следует ли о них высказаться так же, как о перечисленных выше, или иначе.
– А относительно таких вещей, Сократ, которые могли бы показаться даже смешными, как, например, волос, грязь, сор и всякая другая не заслуживающая внимания дрянь, ты тоже недоумеваешь, следует или нет для каждого из них признать отдельно существующую идею, отличную от того, к чему прикасаются наши руки?
d
– Вовсе нет, – ответил Сократ, – я полагаю, что такие вещи только таковы, какими мы их видим. Предположить для них существование какой‑то идеи было бы слишком странно. Правда, меня иногда беспокоила мысль, уж нет ли чего‑либо в этом роде для всех вещей, но всякий раз, как я к этому подхожу, я поспешно обращаюсь в бегство, опасаясь потонуть в бездонной пучине пустословия. И вот, дойдя до этого места, я снова обращаюсь к вещам, о которых мы сейчас сказали, что они имеют идеи, и занимаюсь тщательным их рассмотрением.
e
– Ты еще молод, Сократ, – сказал Парменид, – и философия еще не завладела тобой всецело, как, по моему мнению, завладеет со временем, когда ни одна из таких вещей не будет казаться тебе ничтожной; теперь же ты, по молодости, еще слишком считаешься с мнением людей. Но как бы то ни было, скажи вот что: судя по твоим словам, ты полагаешь, что существуют определенные идеи, названия которых получают приобщающиеся к ним другие вещи;
131
например, приобщающиеся к подобию становятся подобными, к великости – большими, к красоте – красивыми, к справедливости – справедливыми?
– Именно так, – ответил Сократ.
– Но каждая приобщающаяся [к идее] вещь приобщается к целой идее или к ее части? Или возможен какой‑либо иной вид приобщения, помимо этих?
– Как так? – сказал Сократ.
– По‑твоему, вся идея целиком – хоть она и едина – находится в каждой из многих вещей или дело обстоит как‑то иначе?
– А что же препятствует ей, Парменид, там находиться? – сказал Сократ.
b
– Ведь оставаясь единою и тождественною, она в то же время будет вся целиком содержаться во множестве отдельных вещей и таким образом окажется отделенной от самой себя[1207]
.
– Ничуть, – ответил Сократ, – ведь вот, например, один и тот же день[1208]
бывает одновременно во многих местах и при этом нисколько не отделяется от самого себя, так и каждая идея, оставаясь единою и тождественною, может в то же время пребывать во всем.
– Славно, Сократ, – сказал Парменид, – помещаешь ты единое и тождественное одновременно во многих местах, все равно как если бы, покрыв многих людей одною парусиною, ты стал утверждать, что единое все целиком находится над многими. Или смысл твоих слов не таков?
c
– Пожалуй, таков, – сказал Сократ.
– Так вся ли парусина будет над каждым или над одним – одна, над другим – другая ее часть?
– Только часть.
– Следовательно, сами идеи, Сократ, делимы, сказал Парменид, – и причастное им будет причастно их части и в каждой вещи будет находиться уже не вся идея, а часть ее.
– По‑видимому, так.
– Что же, Сократ, решишься ты утверждать, что единая идея действительно делится у нас на части и при этом все же остается единой?
– Никоим образом, – ответил Сократ.
d
– Смотри‑ка, – сказал Парменид, – не получится ли нелепость, если ты разделишь на части самое великость и каждая из многих больших вещей будет большой благодаря части великости, меньшей, чем сама великость?
– Конечно, получится нелепость, – ответил Сократ. – Далее, если каждая вещь примет малую часть, равенства, сделает ли ее эта часть, меньшая самого равного, равным чему‑нибудь?
– Это невозможно.
– Но, положим, кто‑нибудь из нас будет иметь часть малого: малое будет больше этой своей части; таким образом, само малое будет больше, а то, к чему прибавится отнятая от малого часть, станет меньше, а не больше прежнего.
e
– Но этого никак не может быть, – сказал Сократ.
– Так каким же образом, Сократ, – сказал Парменид, – будут у тебя приобщаться к идеям вещи, коль скоро они не могут приобщаться ни к частям [идей), ни к целым [идеям]?
– Клянусь Зевсом, – сказал Сократ, – определить это мне представляется делом совсем не легким.
– Ну, какого ты мнения о том, что я сейчас скажу?
– О чем же?
132
– Я думаю, что ты считаешь каждую идею единою по следующей причине: когда много каких‑нибудь вещей кажутся тебе большими, то, окидывая взглядом их все, ты, пожалуй, видишь некую единую и тождественную идею и на этом основании само великое считаешь единым.
– Ты прав, – сказал Сократ.
– А что, если ты таким же образом окинешь духовным взором как само великое, так и другие великие вещи, не обнаружится ли еще некое единое великое, благодаря которому все это должно представляться великим?
– По‑видимому.
– Итак, откроется еще одна идея великости, возникающая рядом с самим великим и тем, что причастно ему, а надо всем этим опять другая, благодаря которой все это будет великим. И таким образом, каждая идея уже не будет у тебя единою, но окажется бесчисленным множеством.
b
– Но, Парменид, – возразил Сократ, – не есть ли каждая из этих идей – мысль, и не надлежит ли ей возникать не в другом каком‑либо месте, а только в душе? В таком случае каждая из них была бы единою и уж не подвергалась бы тому, о чем сейчас говорилось.
– Что же, – спросил Парменид, – каждая мысль едина и не есть мысль о чем‑либо?
– Но это невозможно, – сказал Сократ. – Значит, мысль является мыслью о чем‑нибудь?
– Да.
c
– Существующем или несуществующем?
– Существующем.
– Не мыслит ли эта мысль то единство, которое, обнимая все [определенного рода] вещи, представляет собою некую единую их идею?
– Именно так.
– Так не будет ли идеей то, что мыслится как единое, коль скоро оно остается одним и тем же для всех вещей?
– И это представляется необходимым.
– А если, – сказал Парменид, – все другие вещи, как ты утверждаешь, причастны идеям, то не должен ли ты думать, что либо каждая вещь состоит из мыслей и мыслит все, либо, хоть она и есть мысль, она лишена мышления?
d
– Но это, – сказал Сократ, – лишено смысла. Мне кажется, Парменид, что дело скорее всего обстоит так: идеи пребывают в природе как бы в виде образцов, прочие же вещи сходны с ними и суть их подобия, самая же причастность вещей идеям заключается не в чем ином, как только в уподоблении им.
– Итак, – сказал Парменид, – если что‑либо подобно идее, то может ли эта идея не быть сходной с тем, что ей уподобилось, настолько, насколько последнее ей уподобилось? Или есть какая‑либо возможность, чтобы подобное не было подобно подобному?
– Нет, это невозможно.
– А нет ли безусловной необходимости в том, чтобы подобное и то, чему оно подобно, были причастны одному и тому же?
e
– Да, это необходимо.
– Но то, через причастность чему подобное становится подобным, не будет ли само идеею?
– Непременно.
– Следовательно, ничто не может быть подобно идее и идея не может быть подобна ничему другому, иначе рядом с этой идеей всегда будет являться другая, а если эта последняя подобна чему‑либо, то – опять новая, и никогда не прекратится постоянное возникновение новых идей, если идея будет подобна причастному ей[1209]
.
133
– Ты совершенно прав.
– Значит, вещи приобщаются к идеям не посредством подобия: надо искать какой‑то другой способ их приобщения.
– Выходит, так.
– Ты видишь теперь, Сократ, – сказал Парменид, – какое большое затруднение возникает при допущении существования идей самих по себе.
– И даже очень.
b
– Но будь уверен, – продолжал Парменид, – что ты еще, так сказать, не почувствовал всей громадности затруднения, если для каждой вещи ты всякий раз допускаешь единую обособленную от нее идею.
– Почему так? – спросил Сократ.
– По многим самым различным причинам, и главным образом по следующей: если бы кто стал утверждать, что идеи, будучи такими, какими они, по‑нашему, должны быть, вовсе не доступны познанию, то невозможно было бы доказать, что высказывающий это мнение заблуждается, разве что тот, кто стал бы ему возражать, оказался бы многоопытным, даровитым и во время спора имел бы охоту следить за множеством отдаленнейших доказательств. В противном случае переубедить настаивающего на том, что идеи непознаваемы, не было бы возможности.
c
– Почему так, Парменид? – спросил Сократ.
– А потому, Сократ, что и ты, и всякий другой, кто допускает самостоятельное существование некоей сущности каждой вещи, должен, я думаю, прежде всего согласиться, что ни одной такой сущности в нас нет.
– Да, потому что как же она могла бы тогда существовать самостоятельно? – заметил Сократ.
– Ты правильно говоришь, – сказал Парменид. – Ибо все идеи суть то, что они суть, лишь в отношении одна к другой, и лишь в этом отношении они обладают сущностью,
d
а не в отношении к находящимся в нас [их] подобиям (или как бы это кто ни определял), только благодаря причастности которым мы называемся теми или иными именами. В свою очередь эти находящиеся в нас [подобия], одноименные [с идеями], тоже существуют лишь в отношении друг к другу, а не в отношении к идеям: все эти подобия образуют свою особую область и в число одноименных им идей не входят.
– Как ты говоришь? – спросил Сократ.
– Если, например, – ответил Парменид, – кто‑либо из нас есть чей– либо господин или раб, то он, конечно, не раб господина самого по себе, господина как такового, а также и господин не есть господин раба самого по себе, раба как такового,
e
но отношение того и другого есть отношение человека к человеку. Господство же само по себе есть то, что оно есть, по отношению к рабству самому по себе, и точно так же рабство само по себе есть рабство по отношению к господству самому по себе. И то, что есть в нас, не имеет никакого отношения к идеям, равно как и они – к нам. Повторяю, идеи существуют сами по себе и лишь к самим себе относятся, и точно так же то, что находится в нас, относится только к самому себе. Понятно ли тебе, что я говорю?
134
– Вполне понятно, – ответил Сократ.
– А потому, – продолжал Парменид, – и знание само по себе как таковое не должно ли быть знанием истины как таковой, истины самой по себе[1210]
?
– Конечно.
– Далее, каждое знание как таковое должно быть, знанием каждой вещи как таковой, не правда ли?
– Да.
b
– А наше знание не будет ли знанием нашей истины? И каждое наше знание не будет ли относиться к од ной из наших вещей?
– Непременно.
– Но идей самих по себе, как и ты признаешь, мы не имеем, и их у нас быть не может.
– Конечно, нет.
– Между тем, каждый существующий сам по себе род познается, надо полагать, самой идеей знания?
– Да.
– Которой мы не обладаем?
– Да, не обладаем.
– Следовательно, нами не познается ни одна из идей, потому что мы не причастны знанию самому по себе.
– По‑видимому, так.
c
– А потому для нас непознаваемы ни прекрасное само по себе, как таковое, ни доброе, ни все то, что мы до пускаем в качестве самостоятельно существующих идей.
– Кажется, так.
– Но обрати внимание на еще более удивительное обстоятельство.
– Какое же?
– Признаешь ты или нет: если существует какой‑то род знания сам по себе, то он гораздо совершеннее нашего знания? И не так ли обстоит дело с красотою и всем прочим?
– Да.
– Итак, если что‑либо причастно знанию самому по себе, то, не правда ли, ты признаешь, что никто в боль шей степени, чем бог, не обладает этим совершеннейшим знанием?
– Непременно признаю.
d
– С другой стороны, обладая знанием самим по себе, будет ли бог в состоянии знать то, что есть в нас?
– Почему же нет?
– А потому, Сократ, – сказал Парменид, – что, как мы согласились, сила тех идей не распространяется на то, что у нас, и, с другой стороны, сила того, что у нас, не распространяется на идеи, но то и другое довлеет самому себе.
– Да, мы согласились относительно этого.
– Итак, если у бога есть упомянутое совершеннейшее господство и совершеннейшее знание, то господство богов никогда не будет распространяться на нас и их знание никогда не познает ни нас, ни вообще ничего относящегося к нашему миру:
e
как мы нашей властью не властвуем над богами и нашим знанием ничего божественного не познаем, так на том же самом основании и они, хоть и боги, над нами не господа и дел человеческих не знают.
– Но если отказать богу в знании, то не покажется ли такое утверждение слишком странным? – заметил Сократ. А Парменид возразил:
135
– Однако, Сократ, к этому и, кроме того, еще ко многому другому неизбежно приводит [учение об] идеях, если эти идеи вещей действительно существуют и если мы будем определять каждую идею как нечто самостоятельное. Слушатель будет недоумевать и спорить, доказывая, что этих идей либо вовсе нет, либо если уж они существуют, то должны быть безусловно непознаваемыми для человеческой природы. Такие возражения кажутся основательными, а высказывающего их, как мы недавно сказали, переубедить необычайно трудно. И надо быть исключительно даровитым, чтобы понять, что существует некий род каждой вещи и сущность сама по себе, а еще более удивительный дар нужен для того, чтобы доискаться до всего этого, обстоятельно разобраться во всем и разъяснить другому!
b
– Согласен с тобой, Парменид, – сказал Сократ, – мне по душе то, что ты говоришь. Парменид же ответил:
– Но с другой стороны, Сократ, если кто, приняв во внимание все только что изложенное и тому подобное, откажется допустить, что существуют идеи вещей, и не станет определять идеи каждой вещи в отдельности,
c
то, не допуская постоянно тождественной себе идеи каждой из существующих вещей, он не найдет, куда направить свою мысль, и тем самым уничтожит всякую возможность рассуждения. Впрочем, эту опасность, как мне кажется, ты ясно почувствовал.
– Ты прав, – ответил Сократ.
– Что же ты будешь делать с философией? Куда обратишься, не зная таких вещей?
– Пока я совершенно себе этого не представляю.
– Это объясняется тем, Сократ, – сказал Парменид, – что ты преждевременно, не поупражнявшись как следует, берешься определять, что такое прекрасное, справедливое, благое и любая другая идея. Я это заметил и третьего дня, слушая здесь твой разговор вот с ним, с Аристотелем.
d
Твое рвение к рассуждениям, будь уверен, прекрасно и божественно, но, пока ты еще молод, постарайся поупражняться побольше в том, что большинство считает и называет пустословием; в противном случае истина будет от тебя ускользать. Переход к диалектике единого и иного
– Каким же способом следует упражняться, Парменид? – спросил Сократ.
e
– Об этом ты слышал от Зенона, – ответил Парменид. – Впрочем, даже ему, к моему восхищению, ты нашелся сказать, что отвергаешь блуждание мысли вокруг да около видимых вещей, а предлагаешь рассматривать то, что можно постичь исключительно разумом и признать за идеи.
– В самом деле, – ответил Сократ, – я нахожу, что таким путем совсем не трудно показать, что все вещи и подобны и неподобны и так далее.
– И правильно, – сказал Парменид, – но если желаешь поупражняться получше, то следует, кроме того, делать вот что: не только предполагая что‑нибудь существующим, если оно существует, рассматривать выводы из этого предположения, но также предполагая то же самое несуществующим.
136
– Что ты имеешь в виду? – спросил Сократ.
– Если ты желаешь поупражняться, то возьми хотя бы предположение, высказанное Зеноном: допусти, что существует многое, и посмотри, что должно из этого вытекать как для многого самого по себе в отношении к самому себе и к единому, так и для единого в отношении к самому себе и ко многому[1211]
. С другой стороны, если многого не существует, то опять надо смотреть, чту последует отсюда для единого и для многого в отношении их к себе самим и друг к другу.
b
И далее, если предположить, что подобие существует или что его не существует, то опять‑таки, какие будут выводы при каждом из этих двух предположений как для того, что было положено в основу, так и для другого, в их отношении к себе самим и друг к другу. Тот же способ рассуждения следует применять к неподобному, к движению и покою, к возникновению и гибели и, наконец, к самому бытию и небытию; одним словом, что только ни предположишь ты существующим или несуществующим, или испытывающим какое‑либо иное состояние, всякий раз дулжно рассматривать следствия как по отношению к этому предположению,
c
так и по отношению к прочим, взятым поодиночке, и точно так же, когда они в большем числе или в совокупности. С другой стороны, это прочее тебе тоже следует всегда рассматривать в отношении как к нему самому, так и к другому, на чем бы ты ни остановил свой выбор и как бы ты ни предположил то, что предположил существующим или несуществующим, если ты хочешь, поупражнявшись надлежащим образом в этих вещах, основательно прозреть истину.
– Трудный рисуешь ты путь, Парменид, и я не совсем его понимаю. Не проделать ли тебе его самому на каком‑либо примере, чтобы мне лучше понять?
d
– Тяжкое бремя возлагаешь ты, Сократ, на старика, – ответил Парменид.
– В таком случае, – сказал Сократ, – почему бы тебе, Зенон, не проделать этой работы для нас? Но Зенон засмеялся и сказал:
– Будем, Сократ, просить самого Парменида: не так‑то просто то, о чем он говорит. Разве ты не видишь, какую задачу задаешь? Если бы нас здесь было побольше, то не нужно бы и просить, потому что не след говорить об этом при многих, да еще человеку в преклонном возрасте:
e
ведь большинство не понимает, что без всестороннего и обстоятельного разыскания и даже заблуждения невозможно уразуметь истину. Итак, Парменид, я присоединяюсь к просьбе Сократа, чтобы и самому между тем тебя послушать.
По словам Антифонта, Пифодор рассказывал, что и он сам, и Аристотель, и все прочие после этих слов Зенона стали просить Парменида не отказываться и пояснить на примере то, что он сейчас высказал. Тогда Парменид сказал:
137
– Приходится согласиться, хотя я и чувствую себя в положении Ивикова коня[1212]
: постаревший боец должен состязаться в беге колесниц, ион дрожит, зная по опыту, что его ждет, а поэт, сравнивая себя с ним, говорит, что и сам он на старости лет вынужден против воли выступить на поприще любви. Памятуя об этом, я с великим страхом подумываю, как мне в такие годы переплыть эту ширь и глубь рассуждений. А впрочем, попробую: надо вам Угодить, тем более что, как говорит Зенон, мы все здесь свои.
b
Итак, с чего же нам начать и что первым долгом предположить? Угодно вам – раз уж решено играть в замысловатую игру, – я начну с себя и с моего положения о едином самом по себе и рассмотрю, какие должны быть следствия, если предположить, что единое существует, а затем – что его не существует?
– Конечно, – сказал Зенон.
– А кто, – продолжал Парменид, – будет мне отвечать? Не самый ли младший? Он был бы менее притязателен и отвечал бы именно то, что думает, а вместе с тем его ответы были бы для меня передышкой.
c
– Я к твоим услугам, Парменид, – сказал Аристотель, – ведь, говоря о самом младшем, ты имеешь в виду меня. Итак, спрашивай, я буду отвечать. Абсолютное и относительное полагание единого
с выводами для единого
– Ну, что ж, – сказал Парменид, – если есть единое, то может ли это единое быть многим?
Аристотель.
[1213]
Да как же это возможно?
Парменид.
Значит, у него не должно быть частей и само оно не должно быть целым.
Аристотель.
Почему так?
Парменид.
Часть, полагаю я, есть часть целого.
Аристотель.
Да.
Парменид.
А что такое целое? Не будет ли целым то, в чем нет ни одной недостающей части?
Аристотель.
Именно так.
d
Парменид.
Значит, в обоих случаях единое состояло бы из частей – и как целое, и как имеющее части.
Аристотель.
Непременно.
Парменид.
И значит, в обоих случаях единое было бы многим, а не единым[1214]
.
Аристотель.
Правда.
Парменид.
Должно же оно быть не многим, а единым.
Аристотель.
Должно.
Парменид.
Следовательно, если единое будет единым, оно не будет целым и не будет иметь частей.
Аристотель.
Конечно, нет.
Парменид.
А потому, не имея вовсе частей, оно не может иметь ни начала, ни конца, ни середины, ибо все это были бы уже его части.
Аристотель.
Правильно.
Парменид.
Но ведь конец и начало образуют предел каждой вещи.
Аристотель.
Как же иначе?
Парменид.
Значит, единое беспредельно, если оно не имеет ни начала, ни конца[1215]
.
Аристотель.
Беспредельно.
e
Парменид.
А также лишено очертаний: оно не может быть причастным ни круглому, ни прямому.
Аристотель.
Как так?
Парменид.
Круглое ведь есть то, края чего повсюду одинаково отстоят от центра.
Аристотель.
Да.
Парменид.
А прямое – то, центр чего не дает видеть оба края.
Аристотель.
Да.
Парменид.
Итак, единое имело бы части и было бы многим, если бы было причастно прямолинейной или круглой фигуре.
Аристотель.
Совершенно верно.
Парменид.
Следовательно, оно – не прямое и не шарообразное, если не имеет частей.
138
Аристотель.
Правильно.
Парменид.
А будучи таким, оно не может быть нигде, ибо оно не может находиться ни в другом, ни в себе самом.
Аристотель.
Почему так?
Парменид.
Находясь в другом, оно, надо полагать. крутом охватывалось бы тем, в чем находилось бы, и во многих местах касалось бы его многими своими частями но так как единое не имеет частей и не причастно круглому, то невозможно, чтобы оно во многих местах касалось чего‑либо по кругу.
Аристотель.
Невозможно.
Парменид.
Находясь же в себе самом, оно будет окружать не что иное, как само себя, если только оно действительно будет находиться в себе самом: ведь невозможно, чтобы нечто находилось в чем‑либо и не было им окружено.
b
Аристотель.
Конечно, невозможно.
Парменид.
Следовательно, окруженное и то, что его окружает, были бы каждое чем‑то особым – ведь одно и то же целое не может одновременно испытывать и вызывать оба состояния, и, таким образом, единое было бы уже не одним, а двумя.
Аристотель.
Конечно.
Парменид.
Следовательно, единое не находится нигде: ни в себе самом, ни в другом.
Аристотель.
Не находится.
Парменид.
Сообрази же, может ли оно, будучи таким, покоиться или двигаться.
Аристотель.
А почему же нет?
c
Парменид.
Потому что, двигаясь, оно перемещалось бы или изменялось: это ведь единственные виды движения.
Аристотель.
Да.
Парменид.
Но, изменяясь, единое уже не может быть единым.
Аристотель.
Не может.
Парменид.
Следовательно, оно не движется путем изменения.
Аристотель.
Очевидно, нет.
Парменид.
А не движется ли оно путем перемещения?
Аристотель.
Может быть.
Парменид.
Но если бы единое перемещалось, то оно либо вращалось бы вокруг себя, оставаясь на месте, либо меняло бы одно место на другое.
Аристотель.
Непременно.
Парменид.
Итак, необходимо, чтобы при круговращении оно имело центр, а также и другие части, которые вращались бы вокруг него. Но возможно ли, чтобы перемещалось вокруг центра то, чему не свойственны ни центр, ни части?
d
Аристотель.
Нет, совершенно невозможно.
Парменид.
Но может быть, [единое], меняя место и появляясь то здесь, то там, таким образом движется?
Аристотель.
Да, если оно действительно движется.
Парменид.
А не оказалось ли, что ему невозможно в чем‑либо находиться?
Аристотель.
Да.
Парменид.
И следовательно, в чем‑то появляться еще менее возможно?
Аристотель.
Не понимаю, почему.
Парменид.
Если нечто появляется в чем‑либо, то необходимо, чтобы, пока оно только появляется, оно еще там не находилось, но и не было бы совершенно вовне, Коль скоро оно уже появляется.
Аристотель.
Необходимо.
e
Парменид.
Следовательно, если это вообще могло бы с чем‑либо произойти, то лишь с тем, что имеет части; тогда одна какая‑либо часть могла бы находиться внутри чего‑либо, другая же одновременно вне его; но то, что не имеет частей, никоим образом не сможет в одно и то же время находиться целиком и внутри и вне чего‑либо.
Аристотель.
Правда.
Парменид.
А не кажется ли еще менее возможным, чтобы где‑либо появлялось то, что не имеет частей и не составляет целого, Коль скоро оно не может появляться ни по частям, ни целиком?
Аристотель.
Кажется.
Парменид.
Итак, единое не меняет места, направляясь куда‑либо или появляясь в чем‑либо, оно не вращается на одном и том же месте и не изменяется.
139
Аристотель.
Похоже, что так.
Парменид.
Следовательно, единое не движется ни одним видом движения.
Аристотель.
Не движется.
Парменид.
Но мы утверждаем также, что для него невозможно находиться в чем‑либо.
Аристотель.
Утверждаем.
Парменид.
Следовательно, единое никогда не находится в том же самом месте.
Аристотель.
Почему так?
Парменид.
А потому, что тогда оно находилось бы в другом месте таким же образом, как в том же самом.
Аристотель.
Совершенно верно.
Парменид.
Но для единого невозможно находиться ни в себе самом, ни в другом.
Аристотель.
Невозможно.
Парменид.
Следовательно, единое никогда не бывает в том же самом.
b
Аристотель.
По‑видимому, не бывает.
Парменид.
Но что никогда не бывает в том же самом, то не покоится и не стоит на месте.
Аристотель.
Да, это невозможно.
Парменид.
Таким образом, оказывается, что единое и не стоит на месте, и не движется.
Аристотель.
По‑видимому, так.
Парменид.
Далее, оно не может быть тождественным ни иному, ни самому себе и, с другой стороны, отличным от себя самого или от иного.
Аристотель.
Как это?
Парменид.
Будучи отличным от себя самого, оно, конечно, было бы отлично от единого и не было бы единым.
Аристотель.
Верно.
c
Парменид.
А будучи тождественно иному, оно было бы этим последним и не было бы самим собой, так что и в этом случае оно было бы не тем, что оно есть, – единым, но чем‑то отличным от единого.
Аристотель.
Да, именно.
Парменид.
Итак, оно не будет тождественным иному или отличным от себя самого.
Аристотель.
Не будет.
Парменид.
Но оно не будет также отличным от иного, пока оно остается единым, ибо не подобает единому быть отличным от чего бы то ни было: это свойственно только иному, и ничему больше.
Аристотель.
Правильно.
Парменид.
Таким образом, единое благодаря тому, что оно едино, не может быть иным. Или, по‑твоему, не так?
Аристотель.
Именно так.
Парменид.
Но если оно не может быть иным из‑за своего единства, то оно не будет иным и из‑за себя самого, а если оно не может быть иным из‑за себя самого, то само оно, никак не будучи иным, не будет и от чего бы то ни было отличным.
d
Аристотель.
Правильно.
Парменид.
Однако оно не будет и тождественно самому себе.
Аристотель.
Почему же?
Парменид.
Разве природа единого та же, что и природа тождественного?
Аристотель.
А разве нет?
Парменид.
Ведь когда нечто становится тождественным чему‑либо, оно не становится единым.
Аристотель.
Чем же тогда оно становится?
Парменид.
Становясь тождественным многому, оно неизбежно становится многим, а не одним.
Аристотель.
Правда.
Парменид.
Но если бы единое и тождественно ничем не отличались, то всякий раз, как что‑либо становилось бы тождественным, оно делалось бы единым и, становясь единым, делалось бы тождественным.
Аристотель.
Совершенно верно.
e
Парменид.
Следовательно, если единое будет тождественно самому себе, то оно не будет единым с самим собой и, таким образом, будучи единым, не будет единым. Но это, конечно, невозможно, а следовательно, единое но может быть ни отлично от иного, ни тождественно самому себе.
Аристотель.
Да, не может.
Парменид.
Итак, единое не может быть иным или тождественным ни самому себе, ни иному.
Аристотель.
Конечно, не может.
Парменид.
Далее, оно не будет ни подобным, ни неподобным чему‑либо – ни себе самому, ни иному.
Аристотель.
Почему?
Парменид.
Потому что подобное – это то, чему в некоторой степени свойственно тождественное.
Аристотель.
Да.
Парменид.
Но оказалось, что тождественное по природе своей чуждо единому.
Аристотель.
Да, оказалось.
140
Парменид.
Далее, если бы единое обладало какими‑либо свойствами, кроме того чтобы быть единым, то оно обладало бы свойством быть большим, чем один, что невозможно.
Аристотель.
Да.
Парменид.
Следовательно, единое вовсе не допускает тождественности – ни другому, ни самому себе.
Аристотель.
Очевидно, нет.
Парменид.
Значит, оно не может быть и подобно ни другому, ни себе самому.
Аристотель.
Выходит, так.
Парменид.
С другой стороны, единое не обладает свойством быть иным, ибо и в таком случае оно обладало бы свойством быть большим, чем одно.
Аристотель.
Да, большим.
Парменид.
Но то, что обладает свойством быть отличным от самого себя или от другого, неподобно как себе самому, так и другому, коль скоро подобно то, чему свойственна тождественность.
b
Аристотель.
Правильно.
Парменид.
Единое же, вовсе не обладая, как выяснилось, свойством быть отличным, никак не может быть неподобным ни себе самому, ни иному.
Аристотель.
Конечно, не может.
Парменид.
Следовательно, единое не может быть ни подобным, ни неподобным ни себе самому, ни иному.
Аристотель.
Очевидно, нет.
Парменид.
Далее, будучи таким, оно не будет ни равным, ни неравным ни себе самому, ни другому.
Аристотель.
Почему так?
Парменид.
Будучи равным, оно будет иметь столько же мер, сколько то, чему оно равно.
Аристотель.
Да.
c
Парменид.
А будучи больше или меньше тех величин, с которыми оно соизмеримо, оно по сравнению с меньшими будет содержать больше мер, а по сравнению с большими – меньше.
Аристотель.
Да.
Парменид.
А по отношению к величинам, с которыми оно не сопоставимо, оно не будет иметь ни меньше, ни больше мер.
Аристотель.
Как же иначе?
Парменид.
Но разве возможно, чтобы непричастное тождественному было одной и той же меры ила имело что‑либо тождественное другому?
Аристотель.
Невозможно.
Парменид.
А что не одной и той же меры, то не может быть равно ни себе самому, ни другому.
Аристотель.
Как видно, нет.
d
Парменид.
Но, заключая в себе большее или меньшее число мер, оно состояло бы из стольких частей, сколько содержит мер, и, таким образом, опять не было бы единым, но было бы числом, равным числу содержащихся в нем мер.
Аристотель.
Правильно.
Парменид.
А если бы оно содержало всего одну меру, то было бы равно этой мере; но ведь выяснилось, что ему невозможно быть чему‑либо равным.
Аристотель.
Да, это выяснилось,
Парменид.
Итак, не будучи причастно ни одной мере, ни многим, ни немногим и будучи вовсе непричастно тождественному, единое, очевидно, никогда не будет равным ни себе, ни другому, а также не будет больше или меньше себя или иного.
Аристотель.
Совершенно верно.
e
Парменид.
Теперь вот что. Представляется ли возможным, чтобы единое было старше или моложе или одинакового возраста с чем‑либо?
Аристотель.
Почему бы и нет?
Парменид.
А потому, что, будучи одинакового возраста с самим собой или с другим, оно будет причастно равенству во времени и подобию; а мы уже говорили, что единое не причастно ни подобию, ни равенству.
Аристотель.
Да, мы это говорили.
Парменид.
Далее, мы говорили также, что оно непричастно неподобию и неравенству.
Аристотель.
Совершенно верно.
141
Парменид.
Но будучи таковым, может ли единое быть старше или моложе чего‑либо или иметь с чем‑либо одинаковый возраст?
Аристотель.
Никоим образом.
Парменид.
Следовательно, единое не может быть моложе, старше или одинакового возраста ни с самим собой, ни с другим.
Аристотель.
Очевидно, нет.
Парменид.
Но если единое таково, то может ли оно вообще существовать во времени? Ведь необходимо, чтобы существующее во времени постоянно становилось старше самого себя?
Аристотель.
Да, необходимо.
Парменид.
А старшее не есть ли всегда старшее по отношению к младшему?
Аристотель.
Как же иначе?
b
Парменид.
Значит, то, что становится старше себя, становится вместе с тем и моложе себя, Коль скоро в нем будет то, старше чего оно становится.
Аристотель.
Что это ты говоришь?
Парменид.
А вот что. Если что‑нибудь уже отлично от иного, оно не может становиться отличным от него, поскольку таковым уже является: если что‑нибудь было или будет отличным от иного, значит, оно уже стало или станет таковым; но если что‑нибудь становится отличным от иного, то, значит, таковым оно не является в настоящем, не будет в будущем и не было в прошлом, оно только становится отличным, и не иначе.
Аристотель.
Да, это необходимо.
c
Парменид.
А старшее есть нечто отличное от младшего, а не от чего‑либо другого.
Аристотель.
Да.
Парменид.
Следовательно, то, что становится старше самого себя, должно неизбежно становиться вместе с тем и моложе себя.
Аристотель.
Выходит, так.
Парменид.
С другой стороны, по времени оно, конечно, не бывает ни продолжительнее, ни короче самого себя, но становится и есть, было и будет в течение равного себе времени.
Аристотель.
Да, и это необходимо.
Парменид.
А следовательно, оказывается необходимым, чтобы все, что существует во времени и причастно ему, имело один и тот же возраст с самим собой и вместе с тем становилось старше и моложе себя.
d
Аристотель.
По‑видимому.
Парменид.
Но единому не свойственно ни одно подобное состояние.
Аристотель.
Да, не свойственно.
Парменид.
Следовательно, единое не причастно времени и не существует ни в каком времени.
Аристотель.
Действительно, не существует; по крайней мере, так показывает наше рассуждение.
Парменид.
Что же далее? Не представляется ли, что слова «было», «стало», «становилось» означают причастность уже прошедшему времени?
Аристотель.
Конечно.
e
Парменид.
Далее, слова «будет», «будет становиться», «станет» не указывают ли на причастность времени, которое еще только должно наступить?
Аристотель.
Да.
Парменид.
А слова «есть», «становится» на причастность настоящему времени?
Аристотель.
Именно так.
Парменид.
Следовательно, если единое никак не причастно никакому времени, то оно не стало, не становилось и не было прежде, оно не настало, не настает и не есть теперь и, наконец, оно не будет становиться, не станет и не будет впоследствии.
Аристотель.
Совершенно верно.
Парменид.
Но возможно ли, чтобы нечто было причастно бытию иначе, нежели одним из этих способов?
Аристотель.
Невозможно.
Парменид.
Следовательно, единое никак не причастно бытию.
Аристотель.
Оказывается, нет.
Парменид.
И потому единое никаким образом не существует.
Аристотель.
Очевидно, нет.
Парменид.
Не существует оно, следовательно, и как единое, ибо в таком случае оно было бы уже существующим и причастным бытию. И вот оказывается, единое не существует как единое, да и [вообще] не существует, если доверять такому рассуждению.
Аристотель.
Кажется, так.
142
Парменид.
А если что не существует, то может ли что‑либо принадлежать ему или исходить от него?
Аристотель.
Каким же образом?
Парменид.
Следовательно, не существует ни имени, ни слова для него, ни знания о нем, ни чувственного его восприятия, ни, мнения.
Аристотель.
Очевидно, нет
Парменид.
Следовательно, нельзя ни назвать. его, ни высказаться о нем, ни составить себе о нем мнения, ни познать его, и ничто из существующего но может чувственно воспринять его.
Аристотель.
Как выясняется, нет.
Парменид.
Но возможно ли, чтобы так обстояло дело с единым?
Аристотель.
Нет. По крайней мере, мне так кажется.
Парменид.
Так не хочешь ли, вернемся снова к первоначальному предположению может быть, таким образом мы придем к чему‑либо иному?
b
Аристотель.
Конечно, хочу.
Парменид.
Итак, утверждаем мы, если единое существует, надо принять следствия, вытекающие для единого, какие бы они ни были?
Аристотель.
Да.
Парменид.
Следи же за мной с самого начала: если единое существует, может ли оно, существуя, не быть причастным бытию?
Аристотель.
Не может.
Парменид.
Итак, должно существовать бытие единого, не тождественное с единым, ибо иначе это бытие не было бы бытием единого и единое не было бы причастно ему,
c
но было бы все равно что сказать «единое существует» или «единое едино». Теперь же мы исходим не из предположения «единое едино», но из предположения «единое существует». Не правда ли?
Аристотель.
Конечно.
Парменид.
Тогда слово «существует» будет означать нечто другое, чем «единое»?
Аристотель.
Непременно.
Парменид.
Поэтому если кто скажет в итоге, что единое существует, то не будет ли это означать, что единое причастно бытию?
Аристотель.
Конечно, будет.
Парменид.
Повторим еще вопрос: какие следствия проистекают из предположения: «единое существует»? Обрати внимание, не представляется ли необходимым, чтобы это предположение обозначало единое, которое имеет части?
Аристотель.
Как это?
d
Парменид.
А вот как: если «существует» говорится о существующем едином, а «единое» – о едином существующем, и если, с другой стороны, бытие и единое не тождественны, но лишь относятся к одному и тому же существующему единому, которое мы допустили, то ведь необходимо, чтобы само существующее единое было целым, а единое и бытие – его частями?
Аристотель.
Необходимо.
Парменид.
Далее, называть ли нам каждую из этих двух частей только частью, или же каждая часть должна называться частью целого?
Аристотель.
Частью целого.
Парменид.
И следовательно, то, что едино, одновременно есть целое и имеет части?
Аристотель.
Именно так.
e
Парменид.
Что же далее? Каждая из этих двух частей существующего единого – именно единое и бытие, может ли оставаться особняком: единое без бытия как своей части, и бытие без единого как своей части?
Аристотель.
Нет, не может.
Парменид.
Следовательно, каждая из этих двух частей в свою очередь содержит и единое и бытие, и любая часть опять‑таки образуется по крайней мере из двух частей; и на том же основании все, чему предстоит стать частью, всегда точно таким же образом будет иметь обе эти части, ибо единое всегда содержит бытие, а бытие – единое, так что оно неизбежно никогда не бывает единым, Коль скоро оно всегда становится двумя[1216]
.
143
Аристотель.
Совершенно верно.
Парменид.
Что ж, существующее единое не представляет ли собой, таким образом, бесконечное множество?
Аристотель.
Выходит, так.
Парменид.
Подойди к вопросу еще и следующим образом.
Аристотель.
Каким?
Парменид.
Не утверждаем ли мы, что единое причастно бытию, благодаря чему и существует?
Аристотель.
Да.
Парменид.
И именно поэтому существующее единое оказалось многим.
Аристотель.
Так.
Парменид.
А что, если мы охватим разумом само единое, которое, как мы утверждаем, причастно бытию, но возьмем его только само по себе, без того, чему, по нашему утверждению, оно причастно, – окажется ли оно единым только или будет также многим?
Аристотель.
Единым. По крайней мере, я так думаю.
b
Парменид.
Посмотрим. Бытие не должно ли неизбежно быть отличным от него и оно само отличным от бытия, Коль скоро единое не есть бытие, но как единое ему причастно?
Аристотель.
Должно.
Парменид.
Итак, если бытие и единое различны, то единое отлично от бытия не потому, что оно – единое, равно как и бытие есть что‑то иное сравнительно с единым не потому, что оно – бытие, но они различны между собою в силу иного и различного.
Аристотель.
Совершенно верно.
Парменид.
Поэтому иное не тождественно ни единому, ни бытию.
Аристотель.
Как же иначе?
c
Парменид.
И вот если мы выберем из них, хочешь – бытие и иное, хочешь – бытие и единое, хочешь – единое и иное, то не будем ли мы брать при каждом выборе два таких [члена], которые правильно называть «оба»?
Аристотель.
Как это?
Парменид.
Вот как: можно ли сказать «бытие»?
Аристотель.
Можно.
Парменид.
А можно ли сказать также «единое»?
Аристотель.
И это можно.
Парменид.
Но не названо ли таким образом каждое из них?
Аристотель.
Названо.
Парменид.
А когда я скажу «бытие и единое», разве я не назову оба?
Аристотель.
Конечно, оба.
Парменид.
Следовательно, если я говорю «бытие и иное» или «иное и единое», то я всегда говорю о каждой [паре] «оба». Не правда ли?
Аристотель.
Да.
d
Парменид.
Но возможно ли, чтобы то, что правильно называется «оба», было бы таковым, а двумя нет?
Аристотель.
Невозможно.
Парменид.
А когда перед нами два, есть ли какая‑либо возможность, чтобы каждое из них не было одним?
Аристотель.
Нет, никакой.
Парменид.
Но каждая из взятых нами [пар] представляет собою сочетание двух [членов]; следовательно, каждый из них будет одним.
Аристотель.
Очевидно.
Парменид.
Если же каждый из них один, то при сложении какой угодно единицы с любым парным сочетанием не становится ли все вместе тремя?
Аристотель.
Да.
Парменид.
А не есть ли три нечетное число, а два – четное?
Аристотель.
Как же иначе?
e
Парменид.
Далее, когда есть два, то необходимо ли, чтобы было н дважды, а когда есть три трижды, Коль скоро в двух содержится дважды один, а в трех трижды один?
Аристотель.
Необходимо.
Парменид.
А когда есть два и дважды, то не необходимо ли, чтобы было и дважды два? И когда есть три и трижды, но необходимо ли также, чтобы было трижды три?
Аристотель.
Как же иначе?
Парменид.
Далее, когда есть три и дважды, а также два и трижды, то но необходимо ли быть дважды трем и трижды двум?
Аристотель.
Безусловно, необходимо.
144
Парменид.
Следовательно, могут быть произведения четных чисел на четные, нечетных на нечетные, а также четных на нечетные н нечетных на четные.
Аристотель.
Конечно.
Парменид.
А если это так, то не думаешь ли ты, что остается какое‑либо число, существование которого не необходимо?
Аристотель.
Нет, не думаю.
Парменид.
Следовательно, если существует одно, то необходимо, чтобы существовало и число.
Аристотель.
Необходимо.
Парменид.
Но при существовании числа должно быть многое и бесконечная множественность существующего[1217]
. В самом деле, разве число не оказывается бесконечным по количеству и причастным бытию?
Аристотель.
Конечно, оказывается.
Парменид.
Но ведь если все числа причастны бытию, то ему должна быть причастна и каждая часть числа?
Аристотель.
Да.
b
Парменид.
Значит, бытие поделено между множеством существующего и не отсутствует ни в одной вещи, ни в самой малой, ни в самой большой? Впрочем, нелепо даже спрашивать об этом, не правда ли? Как, в самом деле, бытие могло бы отделиться от какой‑либо существующей вещи?
Аристотель.
Да, никак не могло бы.
Парменид.
Следовательно, оно раздроблено на самые мелкие, крупные и любые другие возможные части, в высшей степени расчленено, и частей бытия беспредельное множество.
c
Аристотель.
Ты прав.
Парменид.
Итак, частей бытия больше всего.
Аристотель.
Да, больше всего.
Парменид.
Что же, есть ли между ними какая‑нибудь, которая была бы частью бытия и в то же время не была бы частью?
Аристотель.
Как это возможно?
Парменид.
Напротив, если она существует, то, полагаю я, пока она существует, ей необходимо быть всегда чем‑то одним, а быть ничем невозможно.
Аристотель.
Да, это необходимо.
Парменид.
Таким образом, единое присутствует в каждой отдельной части бытия, не исключая ни меньшей, ни большей части, ни какой‑либо другой.
Аристотель.
Да.
d
Парменид.
А остается ли единое целым, находясь во многих местах одновременно? Поразмысли над этим!
Аристотель.
Размышляю и вижу, что это невозможно.
Парменид.
Следовательно, оно расчленено, Коль скоро оно не целое; ведь, не будучи расчлененным, оно никак не может присутствовать одновременно во всех частях бытия.
Аристотель.
Это правда.
Парменид.
Далее, безусловно необходимо, чтобы делимое количественно соответствовало числу частей.
Аристотель.
Необходимо.
Парменид.
Следовательно, утверждая недавно, что бытие разделено на наибольшее число частей, мы говорили неправду: ведь, как оказывается, оно разделено на число частей, не большее, чем единое, а на столько же,
e
ибо ни бытие не отделено от единого, ни единое – от бытия, но, будучи двумя, они всегда находятся во всем в равной мере[1218]
.
Аристотель.
По‑видимому, так именно и есть.
Парменид.
Таким образом, само единое, раздробленное бытием, представляет собою огромное и беспредельное множество.
Аристотель.
Очевидно.
Парменид.
Следовательно, не только существующее единое есть многое, но и единое само по себе, разделенное бытием, необходимо должно быть многим.
Аристотель.
Именно так.
Парменид.
Однако так как части суть части целого, то единое должно быть ограничено как целое. В самом деле, разве части не охватываются целым?
145
Аристотель.
Безусловно, охватываются.
Парменид.
А то, что их охватывает, есть предел.
Аристотель.
Как же иначе?
Парменид.
Следовательно, существующее единое есть, надо полагать, одновременно и единое, и многое, и целое, и части, и ограниченное, и количественно бесконечное.
Аристотель.
Очевидно.
Парменид.
А коль скоро оно ограничено, то не имеет ли оно и краев?
Аристотель.
Безусловно, имеет.
Парменид.
Далее, поскольку оно есть целое, не должно ли оно иметь начала, середины и конца? Разве может что‑либо быть целым без этих трех [членов]? И если нечто лишено одного из них, может ли оно остаться целым?
Аристотель.
Не может.
Парменид.
Выходит, что единое должно обладать и началом, и концом, и серединой.
b
Аристотель.
Должно.
Парменид.
Но середина находится на равном расстоянии от краев, ибо иначе она не была бы серединой.
Аристотель.
Не была бы.
Парменид.
А, будучи таким, единое, по‑видимому, оказывается причастно и какой‑нибудь фигуре, прямолинейной ли, круглой или смешанной.
Аристотель.
Да, это верно.
Парменид.
Но, обладая такими свойствами, не будет ли оно находиться и в себе самом, и в другом?
Аристотель.
Каким образом?
Парменид.
Ведь каждая из частей находится в целом и вне целого нет ни одной.
Аристотель.
Так.
Парменид.
А все части охватываются целым?
Аристотель.
Да.
c
Парменид.
Но единое – это и есть все его части: не более и не менее как все.
Аристотель.
Конечно.
Парменид.
Так не составляет ли единое целого?
Аристотель.
Как же иначе?
Парменид.
Но если все части находятся в целом и если все они составляют единое и само целое и все охватываются целым, то не значит ли это, что единое охватывается единым и, таким образом, единое уже находится в себе самом[1219]
?
Аристотель.
Очевидно.
Парменид.
Но с другой стороны, целое не находится в частях – ни во всех, ни в какой‑нибудь одной. В самом деле, если оно находится во всех частях, то необходимо должно находиться и в одной,
d
так как, не находясь в какой‑либо одной, оно, конечно, не могло бы быть и во всех; ведь если эта часть – одна из всех, а целого в ней нет, то каким же образом оно будет находиться во всех частях?
Аристотель.
Этого никак не может быть.
Парменид.
Но оно не находится и в некоторых частях: ведь если бы целое находилось в некоторых частях, то большее заключалось бы в меньшем, что невозможно.
Аристотель.
Да, невозможно.
Парменид.
Но, не находясь ни в большинстве частей, ни в одной из них, ни во всех, не должно ли целое находиться в чем‑либо ином или же уж вовсе нигде не находиться?
Аристотель.
Должно.
e
Парменид.
Но, не находясь нигде, оно было бы ничем, а так как оно – целое и в себе самом не находится, то не должно ли оно быть в другом?
Аристотель.
Конечно, должно.
Парменид.
Следовательно, поскольку единое – это целое, оно находится в другом, а поскольку оно совокупность всех частей – в самом себе. Таким образом, единое необходимо должно находиться и в себе самом, и в ином.
Аристотель.
Да, это необходимо.
Парменид.
Но, обладая такими свой должно ли оно и двигаться, и покоиться?
Аристотель.
Каким образом?
Парменид.
Оно, конечно, покоится, Коль скоро находится в самом себе: ведь, находясь в едином и не выходя из него, оно было бы в том же самом – в самом себе.
146
Аристотель.
Так.
Парменид.
А что всегда находится в том же самом, то должно всегда покоиться.
Аристотель.
Конечно.
Парменид.
Далее, то, что всегда находится в ином, не должно ли, наоборот, никогда не быть в том же самом? А никогда не находясь в том же самом, – не покоиться и, не покоясь, – двигаться?
Аристотель.
Конечно.
Парменид.
Итак, всегда находясь в себе самом и в ином, единое должно всегда и двигаться, и покоиться.
Аристотель.
Очевидно.
Парменид.
Потом оно должно быть тождественным самому себе и отличным от самого себя и точно так же тождественным другому и отличным от него, Коль скоро оно обладает вышеуказанными свойствами.
b
Аристотель.
Каким образом?
Парменид.
Всякая вещь, полагаю, относится ко всякой другой вещи следующим образом: она или тождественна другой, или иная; если же она не тождественна и не иная, то ее отношение к другой вещи может быть либо отношением части к целому, либо отношением целого к части.
Аристотель.
Видимо, так.
Парменид.
Итак, есть ли единое часть самого себя?
Аристотель.
Никоим образом.
Парменид.
Значит, если бы единое относилось к себе самому как к части, оно не было бы также целым по отношению к себе, будучи частью.
Аристотель.
Да, это невозможно.
Парменид.
А не иное ли единое по отношению к единому?
Аристотель.
Конечно, нет.
c
Парменид.
Следовательно, оно не может быть отлично от самого себя.
Аристотель.
Разумеется, нет.
Парменид.
Итак, если единое по отношению к себе самому не есть ни иное, ни целое, ни часть, то не должно ли оно быть тождественным с самим собой?
Аристотель.
Должно.
Парменид.
Как же, однако? То, что находится в ином месте сравнительно с самим собой, пребывающим в себе самом, не должно ли быть иным по отношению к самому себе вследствие этого пребывания в другом месте?
Аристотель.
По‑моему, должно.
Парменид.
Но именно таким оказалось единое, поскольку оно одновременно находится и в себе самом, и в ином.
Аристотель.
Да, оказалось.
Парменид.
Значит, в силу этого, единое, по‑видимому, должно быть иным по отношению к самому себе.
Аристотель.
По‑видимому.
d
Парменид.
Далее, если нечто отлично от чего‑либо, то не от отличного ли будет оно отлично?
Аристотель.
Безусловно.
Парменид.
Итак, есть ли все не‑единое иное по отношению к единому и единое – иное по отношению к тому, что не‑едино?
Аристотель.
Как же иначе?
Парменид.
Следовательно, единое должно быть иным по отношению к другому.
Аристотель.
Да, должно.
Парменид.
Но смотри‑ка: само тождественное и иное не противоположны ли друг другу?
Аристотель.
Как же иначе?
Парменид.
Так может ли тождественное находиться когда‑либо в ином или иное в тождественном?
Аристотель.
Не может.
Парменид.
Но если иное никогда не может находиться в тождественном, то среди существующего нет ничего, в чем находилось бы иное в течение какого бы то ни было времени;
e
ведь если бы оно хоть какое‑то время в чем‑либо находилось, то в течение этого времени отличное находилось бы в тождественном. Не так ли?
Аристотель.
Так.
Парменид.
А если иное никогда не находится в тождественном, то оно никогда не может находиться ни в чем из существующего.
Аристотель.
Верно.
Парменид.
Следовательно, иное не может находиться ни в том, что не‑едино, ни в едином.
Аристотель.
Конечно, нет.
Парменид.
Следовательно, не посредством иного будет отличным единое от того, что не‑едино, и то, что не едино, – от единого.
Аристотель.
Нет.
Парменид.
Равным образом и не посредством себя самих они будут различаться между собою, так как не причастны иному.
Аристотель.
Конечно.
147
Парменид.
Если же они различны не посредством себя самих и не посредством иного, то не ускользнет ли вовсе их обоюдное различие?
Аристотель.
Ускользнет.
Парменид.
Но с другой стороны, то, что не‑едино, не причастно единому; в противном случае не‑единое не было бы не‑единым, а каким‑то образом было бы единым.
Аристотель.
Правда.
Парменид.
Но не‑единое не будет также и числом, потому что, обладая числом, оно ни в коем случае не было бы не‑единым.
Аристотель.
Конечно, нет.
Парменид.
Что же? Не есть ли не‑единое часть единого? Или и в этом случае не‑единое было бы причастно единому?
Аристотель.
Было бы причастно.
b
Парменид.
Следовательно, если вообще это – единое, а то – не‑единое, то единое не может быть ни частью не‑единого, ни целым в отношении него как части; и, с другой стороны, не‑единое тоже не может быть ни частью единого, ни целым в отношении единого как части[1220]
.
Аристотель.
Конечно, нет.
Парменид.
Но мы говорили, что вещи, между которыми нет ни отношения части к целому, ни целого к части, ни различия, будут тождественными между собою.
Аристотель.
Да, говорили.
Парменид.
Но если дело обстоит так, не должны ли мы утверждать, что единое тождественно не‑единому?
Аристотель.
Должны.
Парменид.
Следовательно, выходит, что единое отлично от другого и от себя самого и в то же время тождественно ему и самому себе.
c
Аристотель.
Пожалуй, это верный вывод из данного рассуждения.
Парменид.
Но не будет ли единое также подобно и неподобно себе самому и другому?
Аристотель.
Может быть.
Парменид.
По крайней мере, раз оно оказалось иным по отношению к другому, то и другое должно бы быть иным по отношению к нему.
Аристотель.
Как же иначе?
Парменид.
Но, не правда ли, оно так же отлично от другого, как другое от него, – не более и не менее?
Аристотель.
Конечно.
Парменид.
Если не более и не менее, то, значит, одинаково.
Аристотель.
Да.
Парменид.
Итак, поскольку единое испытывает нечто отличное от другого и наоборот, постольку единое по отношению к другому и другое по отношению к единому испытывают одно и то же.
d
Аристотель.
Что ты хочешь сказать?
Парменид.
Вот что. Не прилагаешь ли ты каждое из имен к какой‑либо вещи?
Аристотель.
Прилагаю.
Парменид.
А одно и то же имя можешь ли ты использовать чаще, чем один раз?
Аристотель.
Конечно.
Парменид.
Но разве, произнося его один раз, ты обозначаешь им то, к чему оно относится, а произнося его много раз, обозначаешь нечто другое? Или же неизбежно, произносишь ли ты одно и то же имя однажды или многократно, ты всегда обозначаешь им одно и то же?
Аристотель.
Как же иначе?
Парменид.
Но ведь и слово «иное» есть имя чего‑то.
Аристотель.
Конечно.
e
Парменид.
Следовательно, когда ты его произносишь – однажды или многократно, – то делаешь это не для обозначения чего‑либо другого, и не другое ты называешь, а только то, чему оно служит именем.
Аристотель.
Безусловно.
Парменид.
И вот, когда мы говорим, что другое есть нечто отличное от единого и единое – нечто отличное от другого, то, дважды сказав «отличное», мы тем не менее обозначаем этим словом не другую какую‑либо природу, но всегда ту, названием кота слово.
Аристотель.
Совершенно верно.
148
Парменид.
Итак, в какой мере единое отлично от другого, в такой же мере другое отлично от единого, и что касается присущего им свойства «быть отличными», единое будет обладать не иным каким‑либо отличием, а тем же самым, каким обладает другое. А что хоть как‑то тождественно, то подобно. Не правда ли?
Аристотель.
Да.
Парменид.
И вот, в силу того что единое обладает отличием от другого, по этой же самой причине каждое из них подобно каждому, ибо каждое от каждого отлично.
Аристотель.
Выходит, так.
Парменид.
Но с другой стороны, подобное противоположно неподобному.
Аристотель.
Да.
Парменид.
Следовательно, и иное противоположно тождественному.
Аристотель.
Да.
Парменид.
Но обнаружилось также, что единое тождественно с другим.
b
Аристотель.
Да, обнаружилось.
Парменид.
А ведь это противоположные состояния – быть тождественным с другим и быть отличным от другого.
Аристотель.
Совершенно противоположные.
Парменид.
Но поскольку они различны, они оказались подобными.
Аристотель.
Да.
Парменид.
Следовательно, при тождестве они будут неподобными в силу свойства, противоположного свойству уподобления. Ведь подобным их делало иное?
Аристотель.
Да.
Парменид.
Значит, неподобным их будет делать тождественное, иначе оно не будет противоположно иному.
Аристотель.
Видимо.
c
Парменид.
Итак, единое будет подобно и неподобно другому: поскольку оно иное – подобно, а поскольку тождественное – неподобно.
Аристотель.
Да, как видно, единое имеет и такое истолкование.
Парменид.
А также и следующее.
Аристотель.
Какое?
Парменид.
Поскольку оно обладает свойством тождественности, оно лишено свойства инаковости, а не имея свойства инаковости, оно не может быть неподобным, не будучи же неподобным, оно подобно. Поскольку же оно имеет свойства инаковости, оно – другое, а будучи другим, оно неподобно.
Аристотель.
Ты прав.
Парменид.
Следовательно, если единое и тождественно с другим, и отлично от него, то в соответствии с обоими свойствами и с каждым из них порознь оно будет подобно и неподобно другому.
d
Аристотель.
Совершенно верно.
Парменид.
А так как оно оказалось и отличным от себя самого и тождественным себе, то не окажется ли оно точно так же в соответствии с обоими свойствами и с каждым из них порознь подобным и неподобным себе самому?
Аристотель.
Непременно.
Парменид.
А теперь посмотри, как обстоит дело относительно соприкосновения и несоприкосновения единого с самим собой и с другим.
Аристотель.
Я слушаю тебя.
Парменид.
Ведь оказалось, что единое находится в себе самом как в целом.
Аристотель.
Оказалось.
Парменид.
Но не находится ли единое и в другом?
Аристотель.
Находится.
e
Парменид.
А поскольку оно находится в другом, оно будет соприкасаться с другим, поскольку же находится в себе самом, соприкосновение с другим будет исключено и оно будет касаться лишь самого себя, ибо на холится в себе самом[1221]
.
Аристотель.
Очевидно.
Парменид.
Таким образом, единое будет соприкасаться с самим собой и с другим.
Аристотель.
Будет.
Парменид.
А как обстоит дело относительно следующего: не нужно ли, чтобы все, что должно прийти в соприкосновение с чем‑либо, находилось рядом с тем, чего оно должно касаться, занимая смежное с ним место, где, если бы оно там находилось, то с ним бы соприкасалось?
Аристотель.
Нужно.
Парменид.
И следовательно, если единое должно прийти в соприкосновение с самим собой, то оно должно лежать тут же рядом с самим собой, занимая место, смежное с тем, на котором находится само.
Аристотель.
Да, должно.
149
Парменид.
Конечно, если бы единое было двумя, оно могло бы это сделать и оказаться в двух местах одновременно, но, пока оно одно, оно этого не сможет.
Аристотель.
Безусловно.
Парменид.
Значит, одна и та же необходимость запрещает единому и быть двумя, и соприкасаться с самим собою.
Аристотель.
Одна и та же.
Парменид.
Но оно не будет соприкасаться и с другим.
Аристотель.
Почему?
Парменид.
Потому что, как мы утверждаем, то, чему надлежит прийти в соприкосновение, должно, оставаясь отдельным, находиться рядом с тем, чего ему надлежит касаться, но ничего третьего между ними быть не должно.
Аристотель.
Верно.
Парменид.
Итак, если быть соприкосновению, требуется, по меньшей мере, чтобы было налицо два [члена].
Аристотель.
Да.
b
Парменид.
Если же к двум смежным членам присоединится третий, то их будет три, а соприкосновений два.
Аристотель.
Да.
Парменид.
Таким образом, всегда, когда присоединяется один [член], прибавляется также одно соприкосновение и выходит, что соприкосновений одним меньше сравнительно с числом членов соединения. Действительно, насколько первые два члена превысили соприкосновения, то есть насколько число их больше сравнительно с числом соприкосновений, точно настолько же каждое последующее их число превышает число всех соприкосновений, так как дальше уже одновременно прибавляется единица к числу членов и одно соприкосновение к соприкосновениям.
c
Аристотель.
Правильно.
Парменид.
Итак, сколько бы ни было членов, число соприкосновений всегда одним меньше.
Аристотель.
Это так.
Парменид.
Но если существует только одно, а двух нет, то соприкосновения не может быть.
Аристотель.
Как же так?
Парменид.
Ведь мы утверждаем, что другое – не‑единое – не есть единое и ему не причастно, коль скоро оно другое.
Аристотель.
Конечно, нет.
Парменид.
Следовательно, числа в другом нет, так как в нем нет единицы.
Аристотель.
Как же иначе?
Парменид.
Следовательно, другое – и не единица, и не два, и к нему вообще неприменимо имя какого бы то ни было числа.
d
Аристотель.
Да, неприменимо.
Парменид.
Значит, единое только одно и двух быть не может.
Аристотель.
Очевидно, нет.
Парменид.
А потому нет и соприкосновения, коль скоро нет двух.
Аристотель.
Нет.
Парменид.
Следовательно, единое не соприкасается с другим и другое не соприкасается с единым, так как соприкосновения нет.
Аристотель.
Конечно.
Парменид.
Итак, согласно всему этому единое и соприкасается и не соприкасается с другим и с самим собой.
Аристотель.
Выходит, так.
Парменид.
Но не будет ли оно также равно и неравно себе самому и другому?
Аристотель.
Каким образом?
e
Парменид.
Ведь если допустить, что единое больше или меньше другого или, наоборот, другое больше или меньше единого, то – не правда ли – они не будут сколько‑нибудь больше или меньше друг друга в силу самих своих сущностей, то есть в силу того, что единое – это единое, а другое – другое в отношении к единому? Но если кроме своей сущности то и другое будет обладать еще и равенством, то они будут равны друг другу; если же другое будет обладать великостью, а единое – малостью или единое будет обладать великостью, а другое – малостью, тогда та из идей, к которой присоединится великость, окажется больше, а к которой присоединится малость – меньше. Не правда ли?
Аристотель.
Непременно.
Парменид.
Значит, существуют обе эти идеи – великость и малость. Ведь если бы они не существовали, они не могли бы быть противоположны одна другой и пребывать в существующем.
Аристотель.
Не могли бы.
150
Парменид.
Но если в едином пребывает малость, то она содержится либо в целом, либо в его части.
Аристотель.
Непременно.
Парменид.
Допустим, что она пребывает в целом. Не будет ли она в таком случае либо равномерно простираться по всему единому, либо охватывать его?
Аристотель.
Очевидно, будет.
Парменид.
Но, простираясь равномерно по единому, не окажется ли малость равна ему, а охватывая его – больше, чем оно?
Аристотель.
Как же иначе?
Парменид.
Выходит, что малость может быть равной чему‑либо или больше чего‑либо и выступать в качестве великости или равенства, а не в качестве самой себя.
Аристотель.
Нет, это невозможно.
b
Парменид.
Итак, малость не может находиться в целом едином, разве только в его части.
Аристотель.
Да.
Парменид.
Однако и не во всей части, иначе роль малости будет та же, что и в отношении к целому, то есть она будет или равна или больше той части, в которой будет находиться.
Аристотель.
Да, непременно.
Парменид.
Итак, малость никогда не будет находиться ни в чем из существующего, раз она не может пребывать ни в части, ни в целом; и значит, не будет ничего малого, кроме самой малости.
Аристотель.
Выходит, что не будет.
Парменид.
Следовательно, в едином не будет и великости: ведь тогда окажется бульшим нечто другое, помимо самой великости,
c
а именно то, в чем будет содержаться великость, и вдобавок при отсутствии малости, которую это великое должно превосходить, если оно действительно велико. Но последнее невозможно, так как малость ни в чем не находится.
Аристотель.
Верно.
Парменид.
Но сама великость больше одной только малости и сама малость меньше одной только великости.
Аристотель.
Конечно.
Парменид.
Следовательно, другое не больше и не меньше единого, так как оно не содержит ни великости, ни малости; далее, эти последние обладают способ пастью превосходить и быть превосходимыми не по отношению к единому,
d
а лишь по отношению друг к другу; и наконец, единое тоже не может быть ни больше, ни меньше великости и малости, а также другого, так как и оно не содержит в себе ни великости, ни малости.
Аристотель.
Очевидно.
Парменид.
Итак, если единое не больше и не меньше другого, то не необходимо ли, чтобы оно его не превышало и им не превышалось?
Аристотель.
Необходимо.
Парменид.
Но совершенно необходимо, чтобы то, что не превышает и не превышается, было равной меры, а, будучи равной меры, было равным.
Аристотель.
Как же иначе?
e
Парменид.
Далее, и само единое будет находиться в таком же отношении к самому себе; поскольку оно не содержит ни великости, ни малости, оно не будет превышаться самим собой и не превысит себя, но, будучи равной меры, будет равно самому себе.
Аристотель.
Конечно.
Парменид.
Следовательно, единое будет равно самому себе и другому.
Аристотель.
Очевидно.
Парменид.
Далее, находясь в самом себе, единое будет также извне окружать себя и, как окружающее, будет больше себя, а как окружаемое – меньше. Таким образом, единое окажется и больше и меньше самого себя.
151
Аристотель.
Да, окажется.
Парменид.
Не необходимо ли также, чтобы вне единого и другого не было ничего?
Аристотель.
Как же иначе?
Парменид.
Но существующее должно же всегда где‑нибудь находиться[1222]
.
Аристотель.
Да.
Парменид.
А разве находящееся в чем‑либо не будет находиться в нем, как меньшее в большем? Ведь иначе одно не могло бы содержаться в другом.
Аристотель.
Конечно, нет.
Парменид.
А так как нет ничего, кроме другого и единого, и они должны в чем‑то находиться, то разве не необходимо, чтобы они либо находились друг в друге – другое в едином или единое в другом, либо нигде не находились?
b
Аристотель.
Видимо, да.
Парменид.
Поскольку, стало быть, единое находится в другом, другое будет больше единого, как окружающее его, а единое, как окружаемое, меньше другого; поскольку же другое находится в едином, единое на том же самом основании будет больше другого, а другое – меньше единого.
Аристотель.
Выходит, так.
Парменид.
Следовательно, единое и равно, и больше, и меньше самого себя и другого.
Аристотель.
Очевидно.
Парменид.
Далее, Коль скоро оно больше, меньше и равно, то в отношении к себе самому и к другому оно будет содержать столько же, больше и меньше мер, – а если мер, то и частей.
c
Аристотель.
Как же иначе?
Парменид.
Но, содержа столько же, больше и меньше мер, оно, следовательно, и численно будет меньше и больше самого себя и другого, а также равно самому себе и другому тоже численно.
Аристотель.
Каким образом?
Парменид.
Если единое больше чего‑либо, то по сравнению с ним оно будет содержать также больше мер, а сколько мер, столько и частей; точно так же будет обстоять дело, если оно меньше или если равно чему‑либо.
Аристотель.
Да.
Парменид.
Итак, будучи больше и меньше себя и равно себе, оно будет содержать столько же, больше и меньше мер, чем содержится в нем самом; а если мер, то и частей?
d
Аристотель.
Как же иначе?
Парменид.
Но, содержа столько же частей, сколько их в нем самом, оно количественно будет равно себе, а содержа их больше – будет больше, содержа меньше – меньше себя численно.
Аристотель.
Очевидно.
Парменид.
Не будет ли единое точно так же относиться и к другому? Поскольку оно оказывается больше его, оно необходимо должно быть и численно большим, чем оно; поскольку оно меньше – меньшим, а поскольку оно равно другому по величине, оно должно быть равным ему и количественно.
Аристотель.
Непременно.
e
Парменид.
Таким образом, единое снова, по‑видимому, будет численно равно, больше и меньше самого себя и другого.
Аристотель.
Да, будет.
Парменид.
А не причастно ли единое также времени? Будучи причастным времени, не есть ли и не становится ли оно моложе и старше самого себя и другого, а также не моложе и не старше себя самого и другого?
Аристотель.
Каким образом?
Парменид.
Если только единое существует, ему, конечно, как‑то присуще бытие.
Аристотель.
Да.
Парменид.
Разве «есть» означает что‑либо другое, а не причастность бытия настоящему времени? А «было» разве не означает причастность бытия прошедшему времени, и «будет» – времени будущему?
152
Аристотель.
Да, конечно.
Парменид.
Итак, если только единое причастно бытию, оно причастно и времени.
Аристотель.
Конечно.
Парменид.
Следовательно, текущему времени?
Аристотель.
Да.
Парменид.
Значит, оно всегда становится старше себя самого, Коль скоро идет вперед вместе со временем.
Аристотель.
Непременно.
Парменид.
А разве ты не помнишь, что старшее становится старше того, что становится моложе?
Аристотель.
Помню.
Парменид.
Но раз единое становится старше себя, оно должно становиться старше себя как становящегося моложе.
b
Аристотель.
Непременно.
Парменид.
Получается, что оно становится и моложе и старше себя.
Аристотель.
Да.
Парменид.
А не старше ли оно, когда совершается его становление в настоящий момент, находящийся между прошедшим и будущим? Ведь, переходя из «прежде» в «потом», оно никак не минует «теперь».
Аристотель.
Конечно, нет.
Парменид.
Итак, не перестает ли оно становиться старше тогда, когда оказывается в настоящем и больше уже не становится, но есть старше?
c
В самом деле, поскольку единое непрерывно идет вперед, оно никогда не может быть удержано настоящим: ведь уходящее вперед имеет свойство соприкасаться с обоими моментами настоящим и будущим, оставляя настоящее и захватывая будущее и оказываясь таким образом между ними.
Аристотель.
Правда.
Парменид.
Если же все становящееся необходимо должно пройти через настоящее, то, достигнув его, оно прекращает становление и в это мгновение есть то, чего оно достигло в становлении.
d
Аристотель.
Очевидно.
Парменид.
Следовательно, когда единое, становясь старше, достигнет настоящего, оно прекратит становление и в то мгновение будет старше.
Аристотель.
Конечно.
Парменид.
Но не того ли оно старше, старше чего становилось? И не старше ли самого себя оно становилось?
Аристотель.
Да.
Парменид.
А старшее старше того, что моложе?
Аристотель.
Да.
Парменид.
Следовательно, единое и моложе себя в то мгновение, когда, становясь старше, оно достигает настоящего.
Аристотель.
Непременно.
e
Парменид.
Но настоящее всегда налицо при едином в течение всего его бытия, ибо единое всегда существует в настоящем, когда бы оно ни существовало.
Аристотель.
Как же иначе?
Парменид.
Следовательно, единое всегда и есть и становится и старше и моложе самого себя.
Аристотель.
Выходит, так.
Парменид.
Но большее ли или равное себе время оно есть или становится?
Аристотель.
Равное.
Парменид.
А если оно становится или есть равное время, то оно имеет один и тот же возраст.
Аристотель.
Как же иначе?
Парменид.
А что имеет один и тот же возраст, то ни старше, ни моложе.
Аристотель.
Конечно, нет.
Парменид.
Следовательно, если единое становится и есть равное себе время, то оно не есть и не становится ни моложе, ни старше самого себя[1223]
.
Аристотель.
По‑моему, нет.
Парменид.
А другого?
153
Аристотель.
Не могу сказать.
Парменид.
Но ведь можешь ты сказать, что другие вещи, иные, чем единое, Коль скоро они иные, а не иное, многочисленнее единого, ибо, будучи иным, они были бы одним, а будучи иными, они многочисленнее одного и составляют множество?
Аристотель.
Да, составляют.
Парменид.
А будучи множеством, они причастны большему числу, чем единица.
Аристотель.
Как же иначе?
Парменид.
Далее. Что, станем мы утверждать, возникает и возникло прежде: большее числом или меньшее?
Аристотель.
Меньшее.
Парменид.
Но наименьшее – первое, а оно есть единица. Не правда ли?
Аристотель.
Да.
b
Парменид.
Итак, из всего, имеющего число, единое возникло первым; но и все другие вещи обладают числом, поскольку они другие, а не другое.
Аристотель.
Да, обладают.
Парменид.
Возникшее первым, я думаю, возникло раньше, другие же вещи – позже; возникшее же позже моложе возникшего раньше, и таким образом окажется, что другие вещи моложе единого, а единое старше других вещей.
Аристотель.
Да, окажется.
Парменид.
Ну, а что сказать относительно следующего: могло бы единое возникнуть вопреки своей природе, или это невозможно?
Аристотель.
Невозможно.
c
Парменид.
Но единое оказалось имеющим части, а если части, то и начало, и конец, и середину.
Аристотель.
Да.
Парменид.
А не возникает ли как в самом едином, так и в каждой другой вещи прежде всего начало, а после начала и все остальное, вплоть до конца?
Аристотель.
А то как же?
Парменид.
И мы признаем, что все это остальное – суть части целого и единого и что оно само лишь вместе с концом стало единым и целым?
Аристотель.
Признаем.
Парменид.
А конец, я полагаю, возникает последним и вместе с ним возникает, согласно своей природе, единое;
d
так что если единое необходимо возникает не вопреки природе, то, возникнув вместе с концом позже другого, оно возникло бы согласно своей природе.
Аристотель.
Очевидно.
Парменид.
Итак, единое моложе другого, а другое старше единого.
Аристотель.
Для меня это опять‑таки очевидно.
Парменид.
И вот что: не представляется ли необходимым, чтобы начало или другая какая‑либо часть единого или чего‑либо другого – если только это часть, а не части – была единым, как часть?
Аристотель.
Представляется.
e
Парменид.
Но если так, то единое будет возникать одновременно с возникновением и первой и второй [части] и при возникновении других оно не отстанет ни от одной, какая бы к какой ни присоединялась, пока, дойдя до последней, не сделается целым единым, не пропустив в своем возникновении ни средней, ни первой, ни последней, ни какой‑либо другой [части].
Аристотель.
Верно.
Парменид.
Следовательно, единое имеет тот же возраст, что и все другое, так что если единое не нарушает своей природы, то оно должно возникнуть не прежде и не позже другого, но одновременно с ним.
154
И согласно этому рассуждению, единое не может быть ни старше, ни моложе другого и другое ни старше, ни моложе единого, а, согласно прежнему, оно и старше и моложе [другого], равно как другое и старше и моложе единого.
Аристотель.
Да, конечно.
Парменид.
Вот каково единое и вот как оно возникло. Но что сказать далее о том, как единое становится старше и моложе другого, а другое – старше и моложе единого, и о том, как оно не становится ни моложе, ни старше? Так ли обстоит дело со становлением, как и с бытием, или иначе?
b
Аристотель.
Не могу сказать.
Парменид.
А я ограничусь следующим: если одно что– нибудь старше другого, то оно может становиться старше лишь настолько, насколько оно отличалось по возрасту уже при возникновении, и равным образом младшее не может становиться еще моложе, потому что равные величины, будучи прибавлены к неравным – времени или чему‑либо другому, – всегда оставляют их различающимися настолько, насколько они различались с самого начала.
Аристотель.
Как же иначе?
c
Парменид.
Итак, одно существующее никогда не может становиться старше или моложе другого существующего, коль скоро по возрасту они всегда различаются одинаково: одно есть и стало старше, другое есть и стало моложе, но они не становятся [таковыми].
Аристотель.
Верно.
Парменид.
Поэтому единое существующее никогда не становится ни старше, ни моложе другого существующего.
Аристотель.
Конечно, нет.
Парменид.
Но посмотри, не становятся ли они старше и моложе [друг друга] таким образом?
Аристотель.
Каким именно?
Парменид.
Таким, каким единое оказалось старше другого и другое старше единого.
Аристотель.
Так что же из этого следует?
Парменид.
Когда единое старше другого, то оно, надо полагать, просуществовало больше времени, чем другое.
d
Аристотель.
Да.
Парменид.
Но посмотри‑ка еще: если мы станем прибавлять к большему и меньшему времени равное время, то будет ли большее время отличаться от меньшего на равную или на меньшую часть?
Аристотель.
На меньшую.
Парменид.
Итак, впоследствии единое будет отличаться по возрасту от другого не настолько, насколько оно отличалось сначала, но, получая то же приращение времени, что и другое, оно по возрасту будет постоянно отличаться от другого меньше, чем отличалось прежде. Не правда ли?
Аристотель.
Да.
e
Парменид.
Итак, то, что различается по возрасту сравнительно с чем‑нибудь меньше, чем прежде, не становится ли моложе прежнего по отношению к тому, сравнительно с чем прежде было старше?
Аристотель.
Становится.
Парменид.
Если же оно становится моложе, то другое не становится ли в свою очередь старше единого, чем было прежде?
Аристотель.
Конечно, становится.
Парменид.
Итак, то, что возникло позже, становится старше сравнительно с тем, что возникло раньше и есть старше. Однако младшее никогда не есть, а всегда только становится старше старшего, потому что последнее увеличивается в направлении к «моложе», а первое – в направлении к «старше».
155
В свою очередь старшее таким же образом становится моложе младшего, потому что оба они, направляясь к противоположному им, становятся взаимно противоположными: младшее – старше старшего, а старшее – моложе младшего. Но стать таковыми они не могут, потому что если бы они стали, то уже не становились бы, а были бы. На самом же деле они [только] становятся старше и моложе друг друга: единое становится моложе другого, потому что оказалось старшим и возникшим раньше,
b
а другое – старше единого, потому что возникло позднее. На том же основании и другое подобным же образом относится к единому, поскольку оказалось, что оно старше его и возникло раньше.
Аристотель.
Да, это представляется так.
Парменид.
Значит, поскольку ничто никогда не становится старше или моложе другого и оба всегда отличаются друг от друга на равное число, постольку и единое не становится ни старше, ни моложе другого и другое – единого; поскольку же представляется необходимым, чтобы раньше возникшее отличалось всегда
c
на разную часть от возникшего позже, равно и позднейшее – от более раннего, постольку необходимо также, чтобы другое становилось старше и моложе единого, а единое – другого.
Аристотель.
Именно так.
Парменид.
В силу всех этих соображений единое, с одной стороны, и есть и становится и старше и моложе себя самого и другого, а с другой – не есть и не становится ни старше, ни моложе себя самого и другого.
Аристотель.
Совершенно верно.
d
Парменид.
А так как единое причастно времени и [свойству] становиться старше и моложе, то не должно ли оно быть причастным прошедшему, будущему и настоящему, Коль скоро оно причастно времени?
Аристотель.
Должно.
Парменид.
Итак, единое было, есть и будет; оно становилось, становится и будет становиться.
Аристотель.
Как же иначе?
Парменид.
Поэтому возможно нечто для него и его и это нечто было, есть и будет.
Аристотель.
Конечно.
Парменид.
Возможно, значит, его познание, и мнение о нем, и чувственное его восприятие, Коль скоро и мы сами сейчас все это с ним проделываем.
Аристотель.
Ты прав.
Парменид.
И есть для него имя и слово, и оно именуется и о нем высказывается; и все, что относится к другому, относится и к единому.
e
Аристотель.
Все это, безусловно, так.
Парменид.
Поведем еще речь о третьем. Если единое таково, каким мы его проследили, то не должно ли оно, будучи, с одной стороны, одним и многим и не будучи, с другой стороны, ни одним, ни многим, а кроме того, будучи причастным времени, быть какое‑то время причастным бытию, поскольку оно существует, и какое‑то время не быть ему причастным, поскольку оно не существует?
Аристотель.
Должно.
Парменид.
Но может ли оно, когда причастно бытию, не быть ему причастным, и когда оно не причастно ему, наоборот, быть?
Аристотель.
Не может.
Парменид.
Следовательно, оно причастно и не причастно [бытию] в разное время; только таким образом оно может быть и не быть причастным одному и тому же.
156
Аристотель.
Правильно.
Парменид.
Но не есть ли время и тот момент, когда единое приобщается к бытию, и тот, когда отрешается от него? Ведь как будет в состоянии единое то обладать, то не обладать чем‑либо, если не будет момента, когда оно либо завладевает им, либо его оставляет?
Аристотель.
Никак.
Парменид.
А приобщение к бытию ты разве не называешь возникновением?
Аристотель.
Называю.
Парменид.
А отрешение от бытия не есть ли гибель?
Аристотель.
Конечно.
Парменид.
Таким образом, оказывается, что единое, приобщаясь к бытию и отрешаясь от него, возникает и гибнет.
Аристотель.
Безусловно.
b
Парменид.
А так как оно – единое и многое, возникающее и гибнущее, то не гибнет ли многое, когда оно становится единым, и не гибнет ли единое, когда оно становится многим?
Аристотель.
Конечно.
Парменид.
А поскольку оно становится и единым и многим, не должно ли оно разъединяться и соединяться?
Аристотель.
Непременно должно.
Парменид.
Далее, когда оно становится неподобным и подобным, не должно ли оно уподобляться и делаться неподобным?
Аристотель.
Должно.
Парменид.
А когда становится большим, меньшим, равным, не должно ли оно увеличиваться, уменьшаться, уравниваться?
c
Аристотель.
Да.
Парменид.
А когда оно, находясь в движении, останавливается или из покоя переходит в движение, то, полагаю я, оно не должно пребывать ни в каком времени.
Аристотель.
Как это?
Парменид.
Прежде покоясь, а затем двигаясь и прежде двигаясь, затем покоясь, оно не будет в состоянии испытывать это, не подвергаясь изменению.
Аристотель.
Конечно.
Парменид.
Ведь не существует времени, в течение которого что‑либо могло бы сразу и не двигаться, и не покоиться.
Аристотель.
Конечно, нет.
Парменид.
Но оно ведь и не изменяется, не подвергаясь изменению.
Аристотель.
Это было бы невероятно.
Парменид.
Так когда же оно изменяется? Ведь и не покоясь, и не двигаясь, и не находясь во времени, оно не изменяется.
d
Аристотель.
Конечно, нет.
Парменид.
В таком случае не странно ли то, в чем оно будет находиться в тот момент, когда оно изменяется?
Аристотель.
Что именно?
Парменид.
«Вдруг»[1224]
, ибо это «вдруг», видимо, означает нечто такое, начиная с чего происходит изменение в ту или другую сторону. В самом деле, изменение не начинается с покоя, пока это – покой, ни с движения, пока продолжается движение;
e
однако это странное по своей природе «вдруг» лежит между движением и покоем, находясь совершенно вне времени; но в направлении к нему и исходя от него изменяется движущееся, переходя к покою, и покоящееся, переходя к движению.
Аристотель.
Кажется, так.
Парменид.
И коль скоро единое покоится и движется, оно должно изменяться в ту и в другую сторону, потому что только при этом условии оно может пребывать в обоих состояниях. Изменяясь же, оно изменяется вдруг и, когда изменяется, не может находиться ни в каком времени, и не может, значит, в тот момент ни двигаться, ни покоиться.
Аристотель.
Конечно, нет.
Парменид.
Но разве не так обстоит дело и при прочих изменениях? Когда что‑либо переходит от бытия к гибели или от небытия к возникновению,
157
происходит его становление между некими движением и покоем и оно не имеет в тот момент ни бытия, ни небытия, не возникает и не гибнет.
Аристотель.
Выходит, так.
Парменид.
По той же причине, когда единое переходит из единого во многое, и из многого в единое, оно не есть ни единое, ни многое, оно не разъединяется и не соединяется; точно так же, переходя из подобного в неподобное и из неподобного в подобное, оно не есть ни подобное, ни неподобное, оно не уподобляется и не становится неподобным; наконец, переходя из малого в великое и равное и наоборот, оно не бывает ни малым, ни великим, ни равным, не увеличивается, не убывает и не уравнивается.
b
Аристотель.
Выходит, что нет.
Парменид.
Значит, единое испытывает все эти состояния, если оно существует.
Аристотель.
Как же иначе? Относительное и абсолютное полагание единого
с выводами для иного
Парменид.
Не рассмотреть ли теперь, что испытывает другое, если единое существует?
Аристотель.
Да рассмотрим.
Парменид.
Будем поэтому рассуждать о том, что должно испытывать другое – не‑единое, – если единое существует.
Аристотель.
Будем.
Парменид.
Итак, поскольку другое есть другое по отношению к единому, оно не есть единое, иначе оно не было бы другим по отношению к единому.
Аристотель.
Правильно.
c
Парменид.
Однако другое не вовсе лишено единого, но некоторым образом причастно ему.
Аристотель.
Каким именно?
Парменид.
Другое – не‑единое – есть другое, надо полагать, потому, что имеет части, ибо если бы оно не имело частей, то было бы всецело единым.
Аристотель.
Правильно.
Парменид.
А части, как мы признаем, есть у того, что представляет собою целое.
Аристотель.
Да, мы это признаем.
Парменид.
Но целое единое должно состоять из многого; части и будут его частями, потому что каждая из частей должна быть частью не многого, но целого.
Аристотель.
Как это?
d
Парменид.
Если бы что‑либо было частью многого, в котором содержалось бы и оно само, то оно, конечно, оказалось бы частью как себя самого – что невозможно, – так и каждого отдельного из другого, если только оно есть часть всего многого. Но не будучи частью чего‑нибудь отдельного, оно будет принадлежать другому, за исключением этого отдельного, и, значит, не будет частью каждого отдельного; не будучи же частью каждого, оно не будет частью ни одного отдельного из многого. Если же оно не есть часть ни одного, то невозможно ему быть чем‑нибудь – частью или чем‑то иным – по отношению к сумме таких отдельных [членов], ни для одного из которых оно не есть нечто.
Аристотель.
Очевидно, так.
Парменид.
Значит, часть есть часть не многого и не всех [его членов], но некоей одной идеи и некоего единого, которое мы называем целым, ставшим из всех [членов] законченным единым; часть и есть часть такого целого.
e
Аристотель.
Именно так.
Парменид.
Значит, если другое имеет части, то и оно должно быть причастным целому и единому.
Аристотель.
Конечно.
Парменид.
Необходимо, значит, чтобы другое – не‑единое – было единым законченным целым, имеющим части.
Аристотель.
Необходимо.
Парменид.
Далее, то же самое относится и к каждой части: части тоже необходимо причастны единому.
158
Ведь если каждая из них есть часть, то тем самым «быть каждым» означает быть отдельным, обособленным от другого и существующим само по себе, Коль скоро это есть «каждое».
Аристотель.
Правильно.
Парменид.
Но причастное единому причастно ему, очевидно, как нечто отличное от него, потому что в противном случае оно не было бы причастно, но само было бы единым; а ведь ничему, кроме самого единого, невозможно быть единым.
Аристотель.
Невозможно.
Парменид.
Между тем, и целое, и часть необходимо должны быть причастны единому. В самом деле, первое составит единое целое, части которого будут частями; а каждая из частей будет одной частью целого, часть которого она есть.
Аристотель.
Так.
b
Парменид.
Но не будет ли то, что причастно единому, причастным ему, как иное в отношении единого?
Аристотель.
Как же иначе?
Парменид.
А иное в отношении единого будет, надо полагать, многим, потому что если другое в отношении единого не будет ни одним, ни бульшим, чем один, оно не будет ничем.
Аристотель.
Конечно, не будет.
Парменид.
А поскольку причастное единому как части и единому как целому многочисленнее единого, то не должно ли то, что приобщается к единому, быть количественно беспредельным?
Аристотель.
Каким образом?
Парменид.
Посмотрим на дело так: в момент, когда нечто приобщается к единому, оно приобщается к нему не как единое и не как причастное единому, не правда ли?
c
Аристотель.
Очевидно.
Парменид.
Но то, в чем нет единого, будет множеством?
Аристотель.
Конечно.
Парменид.
А что, если мы пожелаем мысленно отделить от этого множества самое меньшее, какое только возможно; это отделенное, поскольку и оно не причастно единому, не окажется ли неизбежно множеством, а не единым?
Аристотель.
Да, это неизбежно.
Парменид.
Итак, если постоянно рассматривать таким образом иную природу идеи саму по себе, то, сколько бы ни сосредоточивать на ней внимание, она всегда окажется количественно беспредельной[1225]
.
Аристотель.
Безусловно, так.
d
Парменид.
С другой же стороны, части, поскольку каждая из них стала частью, обладают уже пределом как друг по отношению к другу, так и по отношению к целому и целое обладает пределом по отношению к частям.
Аристотель.
Несомненно.
Парменид.
Итак, другое в отношении единого, как оказывается, таково, что если сочетать его с единым, то в нем возникает нечто иное, что и создает им предел в отношении друг друга, тогда как природа другого сама по себе – беспредельность.
Аристотель.
Очевидно.
Парменид.
Таким образом, другое в отношении единого – и как целое, и как части, с одной стороны, беспредельно, а с другой – причастно пределу.
Аристотель.
Именно так.
Парменид.
А не будут ли [части другого] также подобны и неподобны себе самим и друг другу?
e
Аристотель.
Как именно?
Парменид.
Поскольку все по природе своей беспредельно, постольку все будет обладать одним и тем же свойством.
Аристотель.
Именно так.
Парменид.
И поскольку все причастно пределу, постольку все тоже будет обладать одним и тем же свойством.
Аристотель.
Как же иначе?
Парменид.
Поскольку, таким образом, [другое] обладает свойствами быть ограниченным и быть беспредельным, эти свойства противоположны друг другу.
159
Аристотель.
Да.
Парменид.
А противоположное в высшей степени неподобно.
Аристотель.
Как же иначе?
Парменид.
Итак, в соответствии с каждым из этих двух свойств в отдельности [части другого] подобны себе самим и друг другу, а в соответствии с обоими вместе – в высшей степени противоположны и неподобны.
Аристотель.
По‑видимому.
Парменид.
Таким образом, [все] другое будет подобно и неподобно себе самому и друг другу.
Аристотель
Так.
Парменид.
И мы уже без труда найдем, что [части] другого в отношении единого тождественны себе самим и отличны друг от друга, движутся и покоятся и имеют все противоположные свойства, коль скоро обнаружилось, что они обладают упомянутыми свойствами.
b
Аристотель.
Ты прав.
Парменид.
Однако не пора ли нам оставить это, как дело ясное, и снова рассмотреть, если есть единое, окажется ли другое в отношении единого совсем в ином положении или в таком же самом?
Аристотель.
Конечно, это следует рассмотреть.
Парменид.
Так поведем рассуждение с самого начала: если есть единое, что должно испытывать другое в отношении единого?
Аристотель.
Поведем рассуждение так.
Парменид.
Разве единое существует не отдельно от другого н другое не отдельно от единого?
Аристотель.
Что же из того?
Парменид.
А то, полагаю, что наряду с ними нет ничего иного, что было бы отлично и от единого, и от другого: ведь, когда сказано «единое и другое», этим сказано все.
c
Аристотель.
Да, все.
Парменид.
Следовательно, нет ничего отличного от них, в чем единое и другое могли бы находиться вместе.
Аристотель.
Конечно, нет.
Парменид.
Поэтому единое и другое никогда не находятся в одном и том же.
Аристотель.
Выходит, что нет.
Парменид.
Следовательно, они находятся отдельно (друг от друга]?
Аристотель.
Да.
Парменид.
И мы утверждаем, что истинно единое не имеет частей.
Аристотель.
Как же ему иметь их?
Парменид.
Поэтому ни целое единое, ни части его не могли бы находиться в другом, если единое отдельно от другого и не имеет частей.
Аристотель.
Как же иначе?
Парменид.
Следовательно, другое никоим способом не может быть причастным единому, раз оно не причастно ему ни по частям, ни в целом.
d
Аристотель.
Выходит, так.
Парменид.
Поэтому другое никоим образом не есть единое и не имеет в себе ничего от единого.
Аристотель.
Конечно, нет.
Парменид.
Следовательно, другое не есть также многое, потому что если бы оно было многим, то каждое из многого было бы одной частью целого. На самом же деле другое в отношении единого не есть ни единое, ни многое, ни целое, ни части, раз оно никак не причастно единому.
Аристотель.
Правильно.
e
Парменид.
Поэтому другое и само не есть два или три, и в себе их не содержит, коль скоро оно совсем лишено единого.
Аристотель.
Да.
Парменид.
Следовательно, другое ни само не есть подобное и неподобное единому, ни в себе подобия и неподобия не содержит: ведь если бы другое было подобно и неподобно либо содержало в себе подобие и неподобие, то, полагаю я, другое в отношении единого содержало бы в себе две взаимно противоположные идеи.
Аристотель.
Это очевидно.
Парменид.
Но ведь оказалось невозможным, чтобы было причастно двум то, что не причастно даже одному.
Аристотель.
Оказалось.
160
Парменид.
Стало быть, другое не есть ни подобное, ни неподобное, ни то и другое вместе, потому что, будучи подобным или неподобным, оно было бы причастно одной из двух идей, а будучи тем и другим вместе, причастно двум противоположным идеям, что, как выяснилось, невозможно.
Аристотель.
Верно.
Парменид.
Следовательно, другое не есть ни тождественное, ни различное, оно не движется и не покоится, не возникает и не гибнет, не есть ни большее, ни меньшее, ни равное и никакого другого из подобных свойств не имеет; ведь если бы другое подлежало чему‑либо такому, оно было бы причастно и одному, и двум, и трем, и нечетному, и четному, а между тем ему оказалось невозможным быть этому причастным, поскольку оно совершенно и всецело лишено единого.
b
Аристотель.
Сущая правда.
Парменид.
Таким образом, если есть единое, то оно в то же время не есть единое ни по отношению к себе самому, ни по отношению к другому.
Аристотель.
Совершенно верно. Относительное и абсолютное отрицание единого
с выводами для единого
Парменид.
Хорошо. Не следует ли после этого рассмотреть, какие должны быть следствия, если единое не существует.
Аристотель.
Следует.
Парменид.
В чем, однако, состоит это предположение: «Если единое не существует»? Отличается ли оно от предположения: «Если не‑единое не существует»?
Аристотель.
Конечно, отличается.
Парменид.
Только отличается или же суждения «если не‑единое не существует» и «если единое не существует» прямо противоположны друг другу?
c
Аристотель.
Прямо противоположны.
Парменид.
А если бы кто сказал: «Если великое, малое или что‑либо другое в этом роде не существует», то разве не показал бы он, что под несуществующим он в каждом случае разумеет нечто иное?
Аристотель.
Конечно.
Парменид.
Так и теперь, когда кто‑нибудь скажет: «Если единое не существует», – не покажет ли он этим, что под несуществующим он понимает нечто отличное от иного? И мы знаем, что он хочет сказать.
Аристотель.
Знаем.
Парменид.
Итак, говоря «единое» и присовокупляя к этому либо бытие, либо небытие, он выражает, во‑первых, нечто познаваемое, а во‑вторых, отличное от иного;
d
ведь то, о чем утверждается, что оно не существует, можно, тем не менее, познать, как и то, что оно отлично от иного, не правда ли?
Аристотель.
Безусловно.
Парменид.
Поэтому с самого начала следует говорить так: чем должно быть единое, если оно не существует? И вот, оказывается, что ему, прежде всего, должно быть присуще то, что оно познаваемо, иначе мы не могли бы понять слов того, кто сказал бы: «Если единое не существует».
Аристотель.
Верно.
Парменид.
Далее, от него должно быть отлично иное, ведь иначе и единое нельзя было бы называть отличным от иного.
Аристотель.
Конечно.
e
Парменид.
Следовательно, кроме познаваемости ему присуще и отличие. Ведь когда кто говорит, что единое отлично от иного, тот говорит не об отличии иного, но об отличии единого.
Аристотель.
Очевидно.
Парменид.
Кроме того, несуществующее единое причастно «тому», «некоторому», «этому», «принадлежащим этому», «этим» и всему остальному подобному. В самом деле, если бы оно не было причастно «некоторому» и другим упомянутым [определениям], то не было бы речи ни о едином, ни об отличном от единого, ни о том, что принадлежит ему и от него исходит, ни вообще о чем‑либо.
Аристотель.
Правильно.
Парменид.
Единому, конечно, не может быть присуще бытие. Коль скоро оно не существует, но ничто не мешает ему быть причастным многому, и это даже необходимо.
161
Коль скоро не существует именно это единое, а не какое‑либо другое. Правда, если ни единое, ни «это» не будет существовать и речь пойдет о чем‑нибудь другом, то мы не вправе произнести ни слова, но если предполагается, что не существует это, а не какое‑либо другое единое, то ему необходимо быть причастным и «этому», и многому другому.
Аристотель.
Именно так.
Парменид.
Следовательно, у него есть и неподобие по отношению к иному, потому что иное, будучи отличным от единого, должно быть другого рода.
Аристотель.
Да.
Парменид.
А другого рода разве не то, что иного рода?
Аристотель.
А то как же?
Парменид.
А иного рода – не будет ли оно неподобным?
b
Аристотель.
Конечно, неподобным.
Парменид.
И Коль скоро иное неподобно единому, то, очевидно, неподобное будет неподобно неподобному.
Аристотель.
Очевидно.
Парменид.
Таким образом, и у единого должно быть неподобие, в силу которого иное ему неподобно.
Аристотель.
Выходит, так.
Парменид.
Если же у него есть неподобие по отношению к иному, то не должно ли оно обладать подобием по отношению к самому себе?
Аристотель.
Как это?
Парменид.
Если бы единое обладало неподобием по отношению к единому, то речь, конечно, не могла бы идти о такой вещи, как единое, и наше предположение касалось бы не единого, но чего‑то иного, нежели единое.
Аристотель.
Конечно.
Парменид.
Но это не должно быть так.
c
Аристотель.
Нет.
Парменид.
Следовательно, единое должно обладать подобием по отношению к самому себе.
Аристотель.
Должно.
Парменид.
Далее, оно также не равно иному, потому что если бы оно было равно, то оно бы уже существовало и, в силу равенства, было бы подобно иному. Но то и другое невозможно, раз единого не существует.
Аристотель.
Невозможно.
Парменид.
А так как оно не равно иному, то не необходимо ли, чтобы и иное не было равно ему?
Аристотель.
Необходимо.
Парменид.
Но то, что не равно, не есть ли неравное?
Аристотель.
Да.
Парменид.
А неравное не в силу ли неравенства есть неравное?
Аристотель.
Как же иначе?
Парменид.
Стало быть, единое причастно и неравенству, в силу которого иное ему не равно?
d
Аристотель.
Причастно.
Парменид.
Но ведь неравенству принадлежат великость и малость.
Аристотель.
Принадлежат.
Парменид.
Следовательно, такому единому принадлежит великость и малость?
Аристотель.
По‑видимому.
Парменид.
Но великость и малость всегда далеко отстоят друг от друга.
Аристотель.
И даже очень далеко.
Парменид.
Следовательно, между ними всегда что‑то есть.
Аристотель.
Есть.
Парменид.
Можешь ли ты указать между ними что‑либо другое, кроме равенства?
Аристотель.
Нет, только его.
Парменид.
Следовательно, что обладает великостью и малостью, то обладает и равенством, находящимся между ними.
Аристотель.
Это очевидно.
e
Парменид.
Таким образом, несуществующее единое должно быть причастно и равенству, и великости, и малости.
Аристотель.
Выходит, так.
Парменид.
Кроме того, оно должно каким‑то образом быть причастно и бытию.
Аристотель.
Как так?
Парменид.
Оно должно быть таково, как мы утверждаем. В самом деле, если бы оно было не таково, то мы говорили бы неправду, утверждая, что единое не существует. Если же это правда, то, очевидно, мы утверждаем это как существующее. Или не так?
Аристотель.
Именно так.
Парменид.
А так как мы признаем истинность того, что мы утверждаем, то нам необходимо признать, что мы говорим о том, что существует.
162
Аристотель.
Непременно.
Парменид.
Итак, выходит, что единое есть несуществующее: ведь если оно не будет несуществующим, но что‑либо из бытия отдаст небытию, то тотчас станет существующим.
Аристотель.
Именно так.
Парменид.
Следовательно, единое несуществующее, чтобы быть несуществующим, должно быть связано с небытием тем, что оно есть несуществующее, равно как и существующее для полноты своего существования должно быть связано [с бытием] тем, что оно не есть несуществующее. В самом деле, только в таком случае существующее будет в полном смысле слова существовать, а несуществующее не существовать, поскольку существующее, чтобы быть вполне существующим, причастно бытию, [содержащемуся в] «быть существующим»,
b
и небытию, [содержащемуся в] «не быть несуществующим», и поскольку несуществующее, чтобы тоже быть вполне несуществующим, причастно небытию, [содержащемуся в] «не быть существующим». и бытию, [содержащемуся в] «быть несуществующим».
Аристотель.
Совершенно верно.
Парменид.
Итак, раз существующее причастно небытию и несуществующее – бытию, то и единому, поскольку оно не существует, необходимо быть причастным бытию, чтобы не существовать.
Аристотель.
Необходимо.
Парменид.
И если единое не существует, оно, очевидно, связано с бытием.
Аристотель.
Очевидно.
Парменид.
Следовательно, также и с небытием, поскольку оно не существует.
Аристотель.
Как же иначе?
Парменид.
А может ли пребывающее в каком‑то состоянии не пребывать в нем, если оно не выходит из этого состояния?
Аристотель.
Не может.
c
Парменид.
Следовательно, все, что пребывает в таком и не в таком состоянии, указывает на изменение?
Аристотель.
Как же иначе?
Парменид.
А изменение есть движение; или как мы его назовем?
Аристотель.
Движением.
Парменид.
А разве единое не оказалось существующим и несуществующим?
Аристотель.
Да.
Парменид.
Следовательно, оно оказывается в таком и не в таком состоянии.
Аристотель.
Выходит, так.
Парменид.
Значит, несуществующее единое оказалось и движущимся, так как оно претерпевает переход от бытия к небытию[1226]
.
Аристотель.
По‑видимому, так.
Парменид.
Однако если оно не находится нигде среди существующего, так как не существует, раз оно не существует, то оно не может откуда‑то куда‑то перемещаться.
Аристотель.
Как оно могло бы?
Парменид.
Следовательно, оно не может двигаться посредством перемещения.
Аристотель.
Конечно, нет.
d
Парменид.
Оно не может также вращаться в том же самом месте, так как оно нигде не соприкасается с тем же самым. В самом деле, то же самое есть существующее, а несуществующее единое не может находиться в чем‑либо существующем.
Аристотель.
Конечно, не может.
Парменид.
Следовательно, несуществующее единое не может вращаться в том, в чем оно не находится.
Аристотель.
Конечно, нет.
Парменид.
Но единое также не изменяется и в самом себе ни как существующее, ни как несуществующее: ведь если бы оно изменялось в самом себе, то речь шла бы уже не о едином, а о чем‑то ином.
Аристотель.
Правильно.
e
Парменид.
Если же оно не изменяется, не вращается в том же самом месте и не перемещается, то может ли оно еще каким‑либо образом двигаться?
Аристотель.
Да каким же еще?
Парменид.
А неподвижному необходимо находиться в покое, покоящемуся же – стоять на месте.
Аристотель.
Необходимо.
Парменид.
Выходит, несуществующее единое и стоит на месте и движется.
Аристотель.
Выходит, так.
Парменид.
Далее, Коль скоро оно движется, то ему весьма необходимо изменяться: ведь насколько что‑нибудь продвигается, настолько оно находится уже не в том состоянии, в каком находилось, но в другом.
163
Аристотель.
Да.
Парменид.
Значит, единое, находясь в движении, тем самым изменяется.
Аристотель.
Да.
Парменид.
А если бы оно никак не двигалось, то никак и не изменялось бы.
Аристотель.
Конечно, нет.
Парменид.
Следовательно, поскольку несуществующее единое движется, оно изменяется, а поскольку оно не движется, оно не изменяется.
Аристотель.
Конечно, нет.
Парменид.
Следовательно, несуществующее единое и изменяется, и не изменяется.
Аристотель.
Очевидно.
Парменид.
А разве изменяющемуся не дулжно становиться другим, чем прежде, и гибнуть в отношении прежнего своего состояния, а неизменяющемуся – не становиться [другим] и не гибнуть?
b
Аристотель.
Дулжно.
Парменид.
Следовательно, и несуществующее единое, изменяясь, становится и гибнет, а не изменяясь, не становится и не гибнет. Таким образом, выходит, что несуществующее единое становится и гибнет, а также не становится и не гибнет.
Аристотель.
Несомненно.
Парменид.
Вернемся опять к началу, чтобы посмотреть, получится ли у нас то же самое, что получилось только что, или другое.
Аристотель.
Хорошо, вернемся.
Парменид.
Итак, предположив, что единое не существует, мы выясняем, какие из этого следуют выводы.
c
Аристотель.
Да.
Парменид.
Когда же мы говорим «не существует», то разве этим обозначается что‑нибудь иное, а не отсутствие бытия у того, что мы называем несуществующим?
Аристотель.
Да, именно это.
Парменид.
Разве, называя нечто несуществующим, мы считаем, что оно некоторым образом не существует, а некоторым образом существует? Или это выражение «не существует» просто означает, что несуществующего нет ни так ни этак и как несуществующее оно никак не причастно бытию?
Аристотель.
Это – прежде всего.
Парменид.
Так что несуществующее не могло бы ни существовать, ни другим каким‑либо образом быть причастным бытию.
d
Аристотель.
Конечно, нет.
Парменид.
А становиться и гибнуть не значило ли: первое – приобщаться к бытию, а второе – утрачивать бытие, или это имело какой‑нибудь другой смысл?
Аристотель.
Никакого другого.
Парменид.
Но что совершенно не причастно бытию, то не могло бы ни получать его, ни утрачивать.
Аристотель.
Как оно могло бы?
Парменид.
А так как единое никак не существует, то оно никоим образом не должно ни иметь бытия, ни терять его, ни приобщаться к нему.
Аристотель.
Естественно.
Парменид.
Следовательно, несуществующее единое не гибнет и не возникает, так как оно никак не причастно бытию.
Аристотель.
Очевидно, нет.
Парменид.
А следовательно, и не изменяется никак: в самом деле, претерпевая изменение, оно возникало бы и гибло.
e
Аристотель.
Правда.
Парменид.
Если же оно не изменяется, то, конечно, и не движется?
Аристотель.
Конечно.
Парменид.
Далее, мы не скажем, что нигде не находящееся стоит, ибо стоящее должно быть всегда в каком‑нибудь одном и том же месте.
Аристотель.
В одном и том же. Как же иначе?
Парменид.
Таким образом, мы должны также признать, что несуществующее никогда не стоит на месте и не движется.
Аристотель.
Конечно, нет.
Парменид.
Далее, ему не присуще ничто из существующего: ведь, будучи причастным чему‑либо существующему, оно было бы причастно и бытию.
164
Аристотель.
Очевидно.
Парменид.
Следовательно, у него нет ни великости, ни малости, ни равенства.
Аристотель.
Конечно, нет.
Парменид.
У него также нет ни подобия, ни отличия ни в отношении себя самого, ни в отношении иного.
Аристотель.
Очевидно, нет.
Парменид.
Далее, может ли иное как‑либо относиться к нему, если ничто не должно к нему относиться?
Аристотель.
Не может.
Парменид.
Поэтому иное ни подобно ему, ни неподобно, ни тождественно ему, ни отлично.
Аристотель.
Конечно, нет.
Парменид.
Ну, а будет ли иметь отношение к несуществующему следующее: «того», «тому», «что‑либо», «это», «этого», «иного», «иному», «прежде», «потом», «теперь», «знание», «мнение», «ощущение», «суждение», «имя» или иное что‑нибудь из существующего?
b
Аристотель.
Не будет.
Парменид.
Таким образом, несуществующее единое ничего не претерпевает.
Аристотель.
Действительно, выходит, что ничего не претерпевает. Относительное и абсолютное отрицание единого
с выводами для иного
Парменид.
Обсудим ещё, каким должно быть иное, если единого не существует.
Аристотель.
Обсудим.
Парменид.
Я полагаю, что иное прежде всего должно быть иным, потому что если бы оно и иным не было, то о нем нельзя было бы рассуждать.
Аристотель.
Конечно.
Парменид.
Если же об ином можно рассуждать, то иное есть другое; в самом деле, разве не одно и то же обозначаешь ты словами «иное» и «другое»?
c
Аристотель.
По‑моему, одно и то же.
Парменид.
Разве мы не говорим, что другое есть другое по отношению к другому и иное есть иное по отношению к иному?
Аристотель.
Говорим.
Парменид.
Поэтому иное, чтобы действительно быть иным, должно иметь нечто, в отношении чего оно есть иное.
Аристотель.
Должно.
Парменид.
Что бы это такое было? Ведь иное не будет иным в отношении единого, Коль скоро единого не существует.
Аристотель.
Не будет.
Парменид.
Следовательно, оно иное по отношению к себе самому, ибо ему остается только это, или оно не будет иным по отношению к чему бы то ни было.
Аристотель.
Правильно.
Парменид.
Стало быть, любые [члены другого] взаимно другие как множества; они не могут быть взаимно другими как единицы, ибо единого не существует. Любое скопление их беспредельно количественно:
d
даже если кто‑нибудь возьмет кажущееся самым малым, то и оно, только что представлявшееся одним, вдруг, как при сновидении, кажется многим и из ничтожно малого превращается в огромное по сравнению с частями, получающимися в результате его дробления.
Аристотель.
Совершенно верно.
Парменид.
Итак, в качестве этих скоплений иное есть иное по отношению к самому себе, если вообще существует иное, когда не существует единого.
Аристотель.
Совершенно верно.
Парменид.
Итак, будет существовать множество скоплений, из которых каждое будет казаться одним, не будучи на самом деле одним, поскольку не будет единого?
Аристотель.
Да.
Парменид.
И будет казаться, что существует некоторое их число, поскольку каждое из них – одно, при том, что их много.
e
Аристотель.
Именно так.
Парменид.
И одно в них покажется четным, другое нечетным, но это противно истине, поскольку единого не существует.
Аристотель.
Конечно, противно истине.
Парменид.
Далее, как было сказано, будет казаться, что в них содержится мельчайшее, однако это мельчайшее покажется многим и великим в сравнении с каждым из многочисленных малых [членений].
165
Аристотель.
Как же иначе?
Парменид.
Далее, каждое скопление будет представляться также равным многим малым [членам]; в самом деле, оно лишь в том случае представится переходящим из большего в меньшее, если предварительно покажется промежуточным, а это и будет создавать впечатление равенства.
Аристотель.
Естественно.
Парменид.
Далее, будет представляться, что каждое скопление имеет предел по отношению к другому скоплению, хотя по отношению к самому себе оно не имеет ни начала, ни конца, ни середины.
Аристотель.
Каким образом?
Парменид.
А вот каким: когда кто‑нибудь мысленно примет что‑либо за начало, конец или середину таких скоплений, то каждый раз перед началом окажется другое начало,
b
за концом останется еще другой конец и в середине появится другая, более средняя, середина, меньшая первой, потому что ни в начале, ни в конце, ни в середине нельзя уловить единого, раз оно не существует.
Аристотель.
Совершенно верно.
Парменид.
А все существующее, какое кто‑либо улавливает мыслью, должно, полагаю я, распадаться и раздробляться, ибо его можно воспринять лишь в виде скопления, лишенного единства.
Аристотель.
Несомненно.
Парменид.
Конечно, издали, для слабого зрения, такое скопление необходимо будет казаться единым, но вблизи, для острого ума, каждое единство окажется количественно беспредельным, коль скоро оно лишено единого, которого не существует. Не правда ли?
c
Аристотель.
Это в высшей степени необходимо.
Парменид.
Таким образом, если единого нет, а существует иное в отношении единого, то каждое иное должно казаться и беспредельным, и имеющим предел, и одним, и многим.
Аристотель.
Да, должно.
Парменид.
Не будет ли оно также казаться подобным и неподобным?
Аристотель.
Каким образом?
Парменид.
А вроде того, как бывает с контурами на картине. Если стать в отдалении, то все они, сливаясь воедино, будут казаться одинаковыми и потому подобными. Аристотель. Конечно.
d
Парменид.
А если приблизиться, то они оказываются многими и различными и, вследствие впечатления отличия, разнообразными и неподобными друг другу.
Аристотель.
Да.
Парменид.
Так же и эти скопления должны казаться подобными и неподобными себе и самим и друг другу.
Аристотель.
Несомненно.
Парменид.
А следовательно, и тождественными и различными между собой, и соприкасающимися и разделенными, и движущимися всеми видами движения и находящимися в состоянии полного покоя, и возникающими и гибнущими, и ни теми, ни другими, и имеющими все подобные свойства, которые нам уже не трудно проследить, если единого нет, а многое существует.
e
Аристотель.
Сущая правда.
Парменид.
Вернемся в последний раз к началу и обсудим, чем должно быть иное в отношении единого, если единое не существует.
Аристотель.
Обсудим.
Парменид.
Итак, иное не будет единым.
Аристотель.
Как же иначе?
Парменид.
А также и многим, ведь во многом будет содержаться и единое. Если же ничто из иного не есть одно, то все оно есть ничто, так что не может быть и многим.
Аристотель.
Верно.
Парменид.
А если в ином не содержится единое, то иное не есть ни многое, ни единое.
Аристотель.
Конечно, нет.
166
Парменид.
И даже не представляется ни единым, ни многим.
Аристотель.
Почему так?
Парменид.
А потому, что иное нигде никаким образом не имеет никакого общения ни с чем из несуществующего и ничто из несуществующего не имеет никакого отношения ни к чему из иного; к тому же у несуществующего нет и частей.
Аристотель.
Правда.
Парменид.
Следовательно, у иного нет ни мнения о несуществующем, ни какого‑либо представления о нем и несуществующее решительно никак не мыслится иным.
Аристотель.
Конечно, нет.
b
Парменид.
Следовательно, если единое не существует, то ничто из иного не может мыслиться ни как одно, ни как многое, потому что без единого мыслить многое невозможно.
Аристотель.
Да, невозможно.
Парменид.
Итак, если единое не существует, то и иное не существует и его нельзя мыслить ни как единое, ни как многое.
Аристотель.
Выходит, так.
Парменид.
Следовательно, его нельзя себе мыслить также ни как подобное, ни как неподобное.
Аристотель.
Конечно, нет.
Парменид.
И также ни как тождественное, ни как различное, ни как соприкасающееся, ни как обособленное, ни вообще как имеющее другие признаки, которые, как мы проследили выше, оно обнаруживает, ничем таким иное не может ни быть, ни казаться, если единое не существует.
Аристотель.
Правда.
c
Парменид.
Не правильно ли будет сказать в общем: если единое не существует, то ничего не существует?
Аристотель.
Совершенно правильно.
Парменид.
Выскажем же это утверждение, а также и то, что существует ли единое или не существует, и оно и иное, как оказывается, по отношению к самим себе и друг к другу безусловно суть и не суть, кажутся и не кажутся.
Аристотель.
Истинная правда.
Перевод H. И. Томасова.
В кн.: Платон. Собр. соч. в 4‑х томах. Том 2. М.: «Мысль», 1993
XXV. ФИЛЕБ
Сократ, Протарх, Филеб
11
Сократ.
Посмотри‑ка, Протарх, что за рассуждение собираешься ты перенять от Филеба и какое наше рассуждение намерен оспаривать, если оно придется тебе не по нраву. Хочешь, мы кратко изложим и то, и другое?
b
Протарх.
Очень даже хочу.
Сократ.
Филеб утверждает, что благо для всех живых существ – радость, удовольствие, наслаждение и все прочее, принадлежащее к этому роду; мы же оспариваем его, считая, что благо не это, но разумение, мышление, память и то, что сродно с ними: правильное мнение и истинные суждения[1227]
. Все это лучше и предпочтительнее удовольствия для всех существ, способных приобщиться к этим вещам,
c
и для таких существ – и ныне живущих, и тех, что будут жить впоследствии, – ничто не может быть полезнее этого приобщения. Разве не таковы примерно, Филеб, твоя и моя речи?
Филеб.
Именно таковы, Сократ.
Сократ.
Значит, Протарх, ты принимаешь данное рассуждение?
Протарх.
Приходится принять, потому что красавец наш Филеб что‑то примолк.
Сократ.
Не следует ли нам приложить все усилия, чтобы достичь здесь истины?
d
Протарх.
Разумеется, это необходимо.
Сократ.
Давай же, сверх того, согласимся еще вот в чем…
Протарх.
В чем же?
Сократ.
Пусть каждый из нас попытается теперь представить такое состояние и расположение души, которое способно было бы доставить всем людям счастливую жизнь. Согласны?
Протарх.
Да, конечно.
Сократ.
Вот вы и попытайтесь показать, в чем состоит радость, а мы в свою очередь попытаемся показать, в чем состоит разумение.
e
Протарх.
Хорошо.
Сократ.
А если обнаружится что‑то другое, лучшее этих двух? Если оно окажется более сродным удовольствию, не отдадим ли мы оба предпочтение жизни, прочно основанной на этом третьем? И не одолеет ли жизнь в удовольствиях разумную жизнь?
12
Протарх.
Конечно, одолеет.
Сократ.
Если же это другое окажется более сродным разумению, разве не победит оно удовольствие и не окажется это последнее побежденным? Скажите, так ли мы согласимся относительно этого или как‑то иначе?
Протарх.
Мне по крайней мере кажется, что так.
Сократ.
Ну а ты, Филеб, что скажешь?
Филеб.
Я держусь и буду держаться того мнения, что во всех случаях побеждает удовольствие, ты же, Протарх, решай сам.
b
Протарх.
Передав слово нам, ты, Филеб, уже не вправе более соглашаться или не соглашаться с Сократом.
Филеб.
Ты прав, поэтому я приношу очистительную жертву и призываю теперь в свидетельницы саму богиню[1228]
.
Протарх.
И мы охотно засвидетельствуем, что ты сказал именно это. Однако, Сократ, попытаемся довести до конца то, что отсюда следует, все равно, одобрит ли это Филеб или нет.
Сократ.
Да, надо попытаться, начав с самой богини, которая, по словам Филеба, называется Афродитой, меж тем как подлинное ее имя – Удовольствие[1229]
.
Протарх.
Совершенно верно.
c
Сократ.
Я испытываю всегда нечеловеческое благоговение, Протарх, перед именами богов, более сильное, чем величайший страх. И теперь я называю Афродиту так, как ей это приятно[1230]
. Что же касается удовольствия, то я знаю, что оно разнообразно, и, как сказано, нам надлежит исследовать его и рассмотреть, какова его природа. Если просто верить молве, оно есть нечто единое, но принимающее разнообразные формы, известным образом непохожие друг на друга. Однако посмотри: с одной стороны, мы говорим, что удовольствие испытывает человек невоздержный,
d
с другой – что и рассудительный наслаждается в силу самой рассудительности; наслаждается, далее, безумец, полный безрассудных мнений и надежд; наслаждается и разумный в силу самого разумения. Разве не справедливо кажется безрассудным тот, кто утверждает, что оба этих вида удовольствия подобны друг другу?[1231]
Протарх.
Конечно, Сократ, эти удовольствия проистекают от противоположных вещей, но сами они не противоположны друг другу. В самом деле, каким образом удовольствие, будучи тождественным самому себе, может не походить больше всего на свете на другое удовольствие?
e
Сократ.
Но ведь и цвет, почтеннейший, как нельзя более подобен другому цвету, и именно потому, что всякий цвет есть цвет и один цвет нисколько не будет отличаться от другого; между тем все мы знаем, что черный цвет не только отличен от белого, но и прямо ему противоположен. Равным образом и фигура наиболее подобна другой фигуре; в самом деле, как род она есть единое целое, но одни части ее в отношении к другим частям то прямо противоположны друг другу, то содержат в себе бесконечное множество различий;
13
то же самое можно сказать и о многом другом. Поэтому ты не верь учению, которое все противоположности сводит к единству. Боюсь, как бы мы не нашли удовольствия, противоположные другим удовольствиям.
Протарх.
Может быть. Но чем же это повредит нашему рассуждению?
Сократ.
Тем, ответим мы, что несхожие вещи ты называешь чуждым им именем. В самом деле, по твоим словам, все приятное – это благо. Никто не станет, конечно, оспаривать, что приятное приятно;
b
однако, несмотря на то что многое из приятного, как мы сказали, дурно, а многое, наоборот, хорошо, ты называешь все удовольствия благом, хотя и готов согласиться с тем, что они несходны друг с другом, если кто‑нибудь докажет тебе это при помощи рассуждения. Итак, что же есть тождественного в дурных и в хороших удовольствиях, позволяющего тебе все удовольствия называть благом?
Протарх.
Как это ты говоришь, Сократ? Неужели ты думаешь, что кто‑нибудь, признающий удовольствие благом, согласится с тобой и потерпит твое утверждение, будто одни удовольствия хороши, а другие дурны?
c
Сократ.
Но ведь называешь же ты удовольствия несхожими друг с другом, а некоторые – даже противоположными?
Протарх.
Нет, поскольку они – удовольствия.
Сократ.
Мы снова возвращаемся к тому же самому месту, Протарх. Снова, следовательно, мы будем говорить, что все удовольствия схожи и не содержат никаких различий; нисколько не задетые приведенными сейчас примерами, мы поверим тебе и будем задавать вопросы как последние невежды и новички в рассуждениях.
d
Протарх.
Что ты имеешь в виду?
Сократ.
То, что, если, подражая тебе и обороняясь, я дерзну утверждать, что самые несхожие вещи наиболее между собою сходны, я буду утверждать то же, что и ты, и мы окажемся наивнее, чем следует, а наше рассуждение, вырвавшись, убежит. Так давай же пригоним его назад[1232]
и, вернувшись на прежний путь, может быть, как‑нибудь и придем к согласию.
e
Протарх.
Скажи, как?
Сократ.
Предположи, Протарх, что ты опять меня спрашиваешь.
Протарх.
О чем же?
Сократ.
Не постигнет ли разумение, знание, ум и все остальное, признанное мною благим вначале, когда меня спрашивали, что такое благо, та же участь, что и твое рассуждение?
Протарх.
Как так?
14
Сократ.
Все в совокупности знания покажутся многими, а некоторые – несходными между собой; будут среди них даже противоположные. Но разве был бы я достоин принимать участие в этом собеседовании, если бы, устрашившись подобного обстоятельства, стал утверждать, что нет такого знания, которое было бы непохоже на другое знание, и в результате рассуждение ускользнуло бы от нас как недосказанный миф[1233]
, сами же мы спаслись бы с помощью какой‑нибудь бессмыслицы?
Протарх.
Этого не должно быть, хоть нам и нужно спастись. Во всяком случае мне нравится, что твое и мое рассуждения в равном положении: пусть будет много несходных удовольствий и много различных знаний.
b
Сократ.
Итак, Протарх, не станем скрывать различий в моем и твоем [рассуждении], но, выставив их на свет, дерзнем провести исследование и показать, что следует называть благом: удовольствие, разумение или нечто третье. Ведь, конечно, мы сейчас вовсе не соперничаем из‑за того, чтобы одержало верх мое или твое положение, но нам обоим следует дружно сражаться за истину[1234]
.
Протарх.
Разумеется, следует.
Сократ.
Давай же подкрепим еще большим взаимным согласием следующее рассуждение.
c
Протарх.
Какое именно?
Сократ.
То, которое доставляет всем людям много хлопот, иным по доброй их воле, а иным и помимо нее.
Протарх.
Говори яснее!
Сократ.
Я говорю о том странном по природе своей рассуждении, на которое мы только что натолкнулись. Ведь странно же говорить, что многое есть единое и единое есть многое, и легко оспорить того, кто допускает одно из этих положений.
d
Протарх.
Не тот ли случай ты имеешь в виду, когда кто‑либо утверждает, будто я, Протарх, единый по природе, в то же время представляю собой множество противоположных друг другу Протархов, и считает, таким образом, одного и того же Протарха большим и маленьким, тяжелым и легким и так далее без числа?
Сократ.
Ты, Протарх, привел распространенную сказку о едином и многом[1235]
, а ведь все уже, по правде сказать, согласились, что подобных вещей не стоит касаться: это детская забава, хоть и легкая, но она – большая помеха для рассуждений.
e
Далее, не стоит опровергать также и того, кто, разделив при помощи рассуждения каждую вещь на члены и части и согласившись с собеседником, что все они – та самая единая вещь, стал бы, насмехаясь, доказывать необходимость диковинного утверждения, будто единое есть многое и беспредельное, а многое есть одно‑единственное.
15
Протарх.
Но что иное, Сократ, имеешь ты в виду относительно этого рассуждения, что не стало еще ходячей истиной?
Сократ.
Друг мой, я имею в виду не тот случай, когда кто‑либо полагает единство возникающего и гибнущего, как мы только что говорили. Ведь такого рода единство, как мы сказали, не нуждается, по общему признанию, в опровержении; но если кто‑нибудь пытается допустить единого человека, единого быка, единое прекрасное и единое благо, то по поводу разделения таких и им подобных единств возникают большие споры и сомнения.
Протарх.
Как так?
b
Сократ.
Во‑первых, нужно ли вообще допускать, что подобные единства действительно существуют? Затем, каким образом они – в то время как каждое из них пребывает вечно тождественным, прочным, непричастным ни возникновению, ни гибели – все‑таки пребывают в единстве. Ведь это единство следует признать либо рассеянным в возникающих и бесконечно разнообразных вещах и превратившимся во множество, либо всецело отделенным от самого себя, – каким образом (ведь это невероятно!) единства эти остаются едиными и тождественными одновременно в одном и во многом?
c
Вот какого рода единства и множества, Протарх, а не те, о которых говорилось ранее, суть причины всяких недоумений, если относительно них хорошенько не столковаться; если же достигнуть здесь полной ясности, то, напротив, все недоумения рассеются.
Протарх.
Не над этим ли, Сократ, нужно нам теперь прежде всего потрудиться?
Сократ.
Я по крайней мере так полагал бы.
Протарх.
Будь уверен, что и все мы, конечно, согласны в этом с тобой. Филеба же, пожалуй, лучше не беспокоить теперь вопросами, чтобы не тревожить того, что хорошо лежит[1236]
.
d
Сократ.
Итак, с чего же начать длинный и сложный бой по поводу спорных вопросов? Может быть, с этого…
Протарх.
А именно?
Сократ.
Мы утверждаем, что тождество единства и множества, обусловленное речью, есть всюду, во всяком высказывании; было оно прежде, есть и теперь. Это не прекратится никогда и не теперь началось, но есть, как мне кажется, вечное и нестареющее свойство нашей речи. Юноша, впервые вкусивший его, наслаждается им, как если бы нашел некое сокровище мудрости;
e
от наслаждения он приходит в восторг и радуется тому, что может изменять речь на все лады, то закручивая ее в одну сторону и сливая все воедино, то снова развертывая и расчленяя на части. Тут прежде и больше всего недоумевает он сам, а затем повергает в недоумение и всякого встречного, все равно, попадется ли ему под руку более юный летами, или постарше, или ровесник;
16
он не щадит ни отца, ни матери и вообще никого из слушателей, и не только людей, но и животных; даже из варваров он не дал бы никому пощады, лишь бы нашелся толмач.
Протарх.
Разве ты не видишь, Сократ, что нас тут целая толпа и все мы юны? Разве ты не боишься, что мы вместе с Филебом нападем на тебя, если ты будешь бранить нас? Впрочем, мы понимаем, что ты имеешь в виду; поэтому если есть какой‑нибудь способ и средство мирно устранить из нашей беседы такую распрю и найти для нее иной, лучший путь, то об этом ты порадей.
b
Мы же последуем за тобою по мере сил: немаловажное ведь, Сократ, предстоит рассуждение!
Сократ.
Конечно, немаловажное, дети мои, – как обращается к вам Филеб. Нет и не может быть лучше пути, чем мой излюбленный путь, хоть он нередко уже ускользал от меня и оставлял в недоумении.
Протарх.
Какой это путь? Пожалуйста, скажи!
Сократ.
Указать его не очень трудно, но следовать им чрезвычайно тяжело. Между тем все, что когда‑либо было открыто в искусстве, появилось на свет только этим путем. Смотри же, о чем я говорю!
c
Протарх.
Так говори.
Сократ.
Божественный дар, как кажется мне, был брошен людям богами с помощью некоего Прометен вместе с ярчайшим огнем[1237]
; древние, бывшие лучше нас и обитавшие ближе к богам, передали нам сказание, гласившее, что все, о чем говорится как о вечно сущем, состоит из единства и множества и заключает в себе сросшиеся воедино предел и беспредельность[1238]
. Если все это так устроено, то мы всякий раз должны вести исследование, полагая одну идею для всего, и эту идею мы там найдем.
d
Когда же мы ее схватим, нужно смотреть, нет ли кроме одной еще двух, а может быть, трех идей или какого‑то иного их числа, и затем с каждым из этих единств поступать таким же образом до тех пор, пока первоначальное единство не предстанет взору не просто как единое, многое и беспредельное, но как количественно определенное. Идею же беспредельного можно прилагать ко множеству лишь после того, как будет охвачено взором все его число, заключенное между беспредельным и одним;
e
только тогда каждому единству из всего [ряда] можно дозволить войти в беспредельное и раствориться в нем. Так вот каким образом боги, сказал я, завещали нам исследовать все вещи, изучать их и поучать друг друга; но теперешние мудрецы устанавливают единство как придется – то раньше, то позже, чем следует, и сразу после единства помещают беспредельное;
17
промежуточное же от них ускользает. Вот какое существует у нас различие между диалектическим и эристическим способами рассуждений.
Протарх.
Одну часть твоих слов, Сократ, я, кажется, понимаю, а относительно другой мне следует выслушать еще пояснения.
Сократ.
Мои слова, Протарх, ясны на примере букв; поэтому ты и уразумей их на буквах, которым обучался в детстве.
b
Протарх.
Каким образом?
Сократ.
Звук[1239]
, исходящий из наших уст, один, и в то же время он беспределен по числу у всех и у каждого.
Протарх.
Так что же?
Сократ.
Однако ни то ни другое еще не делает нас мудрыми: ни то, что мы знаем беспредельность звука, ни то, что мы знаем его единство; лишь знание количества звуков и их качества делает каждого из нас грамотным.
Протарх.
Совершенно верно.
Сократ.
Но то же самое делает человека сведущим в музыке.
c
Протарх.
Каким образом?
Сократ.
Согласно этому искусству, звучание в нем также одно.
Протарх.
Как же иначе?
Сократ.
Однако же мы признаем два звучания – низкое и высокое и третье – среднее. Не правда ли?
Протарх.
Да.
Сократ.
Но, зная только это, ты не станешь еще сведущим в музыке; не зная же и этого, ты, так сказать, ничего не будешь в ней смыслить.
Протарх.
Разумеется, ничего.
d
Сократ.
Но, друг мой, после того как ты узнаешь, сколько бывает интервалов между высокими и низкими тонами, каковы эти интервалы и где их границы, сколько они образуют систем (предшественники наши, открывшие эти системы, завещали нам, своим потомкам, называть их гармониями и прилагать имена ритма и меры к другим подобным состояниям, присущим движениям тела, если измерять их числами; они повелели нам, далее, рассматривать таким же образом всякое вообще единство и множество), – после того как ты узнаешь все это, ты станешь мудрым,
e
а когда постигнешь всякое другое единство, рассматривая его таким же способом, то сделаешься сведущим и относительно него. Напротив, беспредельное множество отдельных вещей и [свойств], содержащихся в них, неизбежно делает также беспредельной и бессмысленной твою мысль, лишает ее числа, вследствие чего ты никогда ни в чем не обращаешь внимания ни на какое число[1240]
.
Протарх.
Мне кажется, Филеб, что Сократ выразил только что сказанное как нельзя лучше.
18
Филеб.
Мне тоже кажется; но как все это относится к нам и к чему клонится эта речь?
Сократ.
А ведь справедливо, Протарх, задает нам Филеб этот вопрос!
Протарх.
Совершенно справедливо; ответь же ему.
Сократ.
Я так и сделаю, еще немного остановившись на только что затронутом. Мы сказали, что воспринявший что‑либо единое тотчас же после этого должен обращать свой взор не на природу беспредельного, но на какое‑либо число; так точно и наоборот: кто бывает вынужден прежде обращаться к беспредельному, тот немедленно вслед за этим должен смотреть не на единое,
b
но опять‑таки на какие‑либо числа, каждое из которых заключает в себе некое множество, дабы в заключение от всего этого прийти к единому. Снова в пояснение к сказанному возьмем буквы.
Протарх.
Каким образом?
Сократ.
Первоначально некий бог или божественный человек обратил внимание на беспредельность звука. В Египте, как гласит предание, некий Тевт первым подметил, что гласные буквы в беспредельности представляют собою не единство, но множество; что другие буквы – безгласные, но все же причастны некоему звуку и что их также определенное число;
c
наконец, к третьему виду Тевт причислил те буквы, которые теперь, у нас, называются немыми. После этого он стал разделять все до единой безгласные и немые и поступил таким же образом с гласными и полугласными, пока не установил их число и не дал каждой в отдельности и всем вместе названия «буква» (στοιχεΐον)[1241]
. Видя, что никто из нас не может научиться ни одной букве, взятой в отдельности, помимо всех остальных, Тевт понял, что между буквами существует единая связь, приводящая все к некоему единству. Эту связь Тевт назвал грамматикой – единой наукой о многих буквах[1242]
.
d
Филеб.
Еще яснее, чем раньше, понял я, Протарх, внутреннюю связь рассуждения; но и теперь, как ранее, мне недостает того же самого.
Сократ.
Ты недоумеваешь, Филеб, какое отношение имеет это к делу?
Филеб.
Да, я и Протарх давно уже этого доискиваемся.
Сократ.
Значит, вы ищете, как ты говоришь, то, к чему давно уж пришли.
Филеб.
А именно?
e
Сократ.
Не о том ли, что следует предпочесть – разумение или удовольствие, – шла у нас речь с самого начала?
Филеб.
Именно об этом.
Сократ.
И мы сказали, что то и другое, взятое в отдельности, едино.
Филеб.
Совершенно верно.
19
Сократ.
Стало быть, предшествующее рассуждение требует, чтобы мы рассмотрели, каким образом разумение и удовольствие суть единое и многое и каким образом они не сразу оказываются беспредельными, но, прежде чем стать таковыми, каждое из них усваивает себе некое число.
Протарх.
Ну, Филеб, нелегкий вопрос поставил перед нами Сократ, обведя нас, уж не знаю каким образом, вокруг пальца. Реши же, кому из нас теперь на него ответить. Пожалуй, будет смешно, если я, всецело приняв на себя ведение беседы, окажусь неспособным ответить и вновь поручу это тебе. Но будет еще гораздо смешнее, думаю я, если мы оба окажемся неспособными дать ответ.
b
Как же нам поступить? Мне кажется, Сократ спрашивает теперь нас о видах удовольствия – существуют ли они или нет, сколько их и каковы они; то же самое относится и к разумению.
Сократ.
Ты говоришь совершенно верно, сын Каллия[1243]
. Если мы окажемся неспособными установить это относительно всего единого, подобного, тождественного и противоположного, то, как было показано в предшествующем рассуждении, никто из нас никогда ни на что не будет годен.
c
Протарх.
Кажется, Сократ, это действительно так. Правда, для рассудительного человека знать все в совокупности прекрасно; однако вторичное плавание, по‑моему, заключается в том, чтобы не оставаться в неведении о себе самом[1244]
. Мои теперешние слова клонятся вот к чему. Ты, Сократ, всем нам предложил это собеседование и сам принял в нем участие с той целью, чтобы выяснить, какое из человеческих достояний является наилучшим. И вот когда Филеб сказал, что наилучшее достояние – удовольствие, веселье, радость и прочее в том же роде, ты возразил, что не это наилучшее, но то, о чем мы часто и охотно вспоминаем, правильно полагая необходимым исследовать порознь то, что в памяти лежит рядом.
d
Ты, по‑видимому, утверждаешь, что благо, которое по справедливости должно быть признано более высоким, чем удовольствие, – это ум, знание, понимание, искусство и прочее в том же роде; вот это‑то и надлежит приобретать, а не те блага. Так как оба высказанных утверждения возбудили сомнение, то мы в шутку грозили не отпускать тебя домой, прежде чем их обсуждение не придет к удовлетворительному концу.
e
Ты согласился и предоставил нам себя в распоряжение ради этой цели; мы же говорим, как дети, что правильно данного отнимать нельзя. Оставь же в теперешнем рассуждении этот способ возражений.
Сократ.
О каком способе ты говоришь?
Протарх.
Ты ставишь нас в затруднительное положение, спрашивая то, на что в настоящее время мы не в состоянии дать тебе удовлетворительный ответ.
20
Не думать же нам, что конечная цель теперешних рассуждений – поставить нас всех в тупик; поэтому, если мы не в силах выполнить задачу, то выполнить ее должен ты сам: ведь ты же обещал. Итак, если ты можешь и тебе угодно разрешить как‑либо иначе наши теперешние сомнения, то поразмысли сам, следует ли различать виды удовольствия и знания или же надо оставить это.
b
Сократ.
Теперь, после твоих слов, мне уже нечего страшиться: выражение «если тебе угодно» устраняет всякий страх. К тому же некое божество как будто снова навело меня на одно воспоминание.
Протарх.
Как так? О чем?
Сократ.
Помнится мне, как‑то давно слышал я во сне или наяву такие речи об удовольствии и разумении: благо не есть ни то ни другое, но нечто третье, отличное от обоих и лучшее, чем они. Так вот, если смысл этого изречения уяснится нам теперь, то удовольствие лишится победы: благо уже не будет тождественно с ним. Не правда ли?
c
Протарх.
Да.
Сократ.
Тогда, по‑моему, не будет больше нужды разделять виды удовольствия. В дальнейшем это станет еще яснее.
Протарх.
Превосходно сказано, так и продолжай.
Сократ.
Предварительно согласимся еще относительно нескольких вещей.
Протарх.
Каких именно?
Сократ.
Удел блага необходимо ли совершенен или же нет?
d
Протарх.
Надо полагать, Сократ, что он – наисовершеннейший.
Сократ.
Что же? Довлеет ли себе благо?
Протарх.
Как же иначе? В этом его отличие от всего существующего.
Сократ.
Значит, полагаю я, совершенно необходимо утверждать, что все познающее охотится за ним, стремится к нему, желая схватить его и завладеть им, и не заботится ни о чем, кроме того, что может быть достигнуто вместе с благом.
e
Протарх.
Против этого возразить нечего.
Сократ.
Рассмотрим же и обсудим жизнь в удовольствии и разумную жизнь – каждую порознь.
Протарх.
Как это?
Сократ.
Пусть жизнь в удовольствии не будет содержать разумения, а разумная жизнь – удовольствия. В самом деле, если удовольствие или разумение – это благо, то они не должны нуждаться решительно ни в чем; если же окажется, что они в чем‑либо нуждаются, то они уже не будут для нас подлинным благом.
21
Протарх.
Конечно, не будут.
Сократ.
Не попробовать ли нам проверить сказанное на тебе?
Протарх.
Пожалуйста.
Сократ.
В таком случае отвечай.
Протарх.
Спрашивай.
Сократ.
Согласился ли бы ты, Протарх, прожить всю жизнь, наслаждаясь величайшими удовольствиями?
Протарх.
Отчего же нет?
Сократ.
Считал ли бы ты, что тебе нужно еще что‑нибудь, если бы ты вполне обладал всем этим?
Протарх.
Никоим образом.
b
Сократ.
Посмотри хорошенько, неужели ты не нуждался бы в надлежащей мере разумения, ума, рассудительности и всего сродного с этим?
Протарх.
Зачем? Ведь, обладая радостью, я обладал бы всем.
Сократ.
Неужели, живя таким образом, ты в течение всей жизни наслаждался бы величайшими удовольствиями?
Протарх.
Почему же нет?
Сократ.
Однако, не приобретя ни разума, ни памяти, ни знания, ни правильного мнения, ты, будучи лишен всякого разумения, конечно, не знал бы прежде всего, радуешься ты или не радуешься.
Протарх.
Несомненно.
c
Сократ.
Не приобретя, таким образом, памяти, ты, конечно, не помнил бы и того, что некогда испытывал радость; у тебя не оставалось бы никакого воспоминания об удовольствии, выпадающем на твою долю в данный момент. Опять‑таки, не приобретя правильного мнения, ты, радуясь, не считал бы, что радуешься, а будучи лишен рассудка, не мог бы рассудить, что будешь радоваться и в последующее время. И жил бы ты жизнью не человека, но какого‑то моллюска или других морских животных, тела которых заключены в раковины. Так ли это, или же вопреки сказанному мы будем думать иначе?
d
Протарх.
Но как?
Сократ.
Неужели нам стоит избрать такую жизнь?
Протарх.
Твое рассуждение, Сократ, повергло меня теперь в полное молчание.
Сократ.
Не будем все же падать духом, но, обратившись к жизни ума, рассмотрим ее в свою очередь.
Протарх.
О какой жизни говоришь ты?
e
Сократ.
Предположи, что кто‑либо из нас избрал бы жизнь, в которой обладал бы и умом, и знанием, и полнотой памяти обо всем, но ни в какой степени не был бы причастен ни удовольствию, ни печали и оставался бы совершенно равнодушным ко всему этому.
Протарх.
Такая жизнь, Сократ, не кажется мне достойной выбора, да и всякому другому, думается мне, не может показаться такой.
Сократ.
А жизнь смешанная, Протарх, состоящая из того и другого?
22
Протарх.
То есть из удовольствия и ума, соединенного с разумением?
Сократ.
Именно так. Я имею в виду жизнь такого рода.
Протарх.
Всякий, конечно, изберет скорее такую жизнь, чем одну из тех двух; другого выбора и быть не может.
Сократ.
Понятно ли нам теперь, что вытекает из этого рассуждения?
Протарх.
Вполне: были предложены три жизни, причем из первых двух ни одна не оказывается достаточной и заслуживающей выбора как со стороны людей, так и со стороны животных.
b
Сократ.
Неужели еще не ясно, что по крайней мере из этих двух жизней ни одна не владеет благом? Ведь если бы какая‑нибудь из них владела им, она была бы достаточной, совершенной и заслуживающей выбора со стороны всех тех растений и животных, которые способны были бы жить таким образом всегда. Если же кто‑нибудь из нас избрал бы иную жизнь, то поневоле поступил бы вопреки природе того, что поистине заслуживает выбора, – по неведению или какой‑либо злосчастной необходимости.
c
Протарх.
По‑видимому, это так.
Сократ.
Мне кажется, из сказанного достаточно ясно, что Филебову богиню[1245]
не следует считать тождественной с благом.
Филеб.
Но ведь и ум, о котором ты говоришь, Сократ, не есть благо и заслуживает, надо полагать, тех же самых обвинений.
Сократ.
Мой‑то, пожалуй, Филеб; однако он, думаю я, не есть истинный и вместе с тем божественный ум, а имеет некоторые иные свойства. Я отнюдь не оспариваю у смешанной жизни первой победной награды в пользу ума;
d
но нам нужно рассмотреть и обсудить, как следует поступить со второй наградой: быть может, отыскивая причину [благости] этой смешанной жизни, один из вас сочтет ею ум, другой же – удовольствие, и, таким образом, хотя ни то ни другое не есть благо, все же кто‑нибудь сможет, пожалуй, принять либо то, либо другое за причину блага. Тут я готов еще ожесточеннее сражаться с Филебом, говоря, что в смешанной жизни – чем бы ни было то, благодаря чему эта жизнь стала достойной выбора и вместе с тем хорошей, – не удовольствие, но ум более сроден благу и более подобен ему.
e
На этом основании справедливо можно было бы сказать, что удовольствию не принадлежит ни первое, ни даже второе место; оно далеко и от третьего, если только мы должны хоть сколько‑нибудь верить теперь моему уму.
Протарх.
И действительно, Сократ, мне теперь кажется, что удовольствие падает, как бы пораженное твоими рассуждениями; в самом деле, в борьбе за победные трофеи оно оказывается поверженным[1246]
.
23
Да и об уме следует, по‑видимому, сказать, что он поступил благоразумно, не предъявив притязаний на победную награду, ибо и с ним случилось бы то же самое. Что же касается удовольствия, то, лишенное даже второй награды, оно окажется совсем обесчещенным в глазах своих поклонников, потому что даже им оно перестает казаться прекрасным.
Сократ.
Так что же? Не лучше ли оставить удовольствие в покое и не огорчать его, подвергая столь тщательному испытанию и изобличению?
Протарх.
Пустое ты говоришь, Сократ.
Сократ.
Уже не потому ли, что я сказал нечто несуразное: «огорчать удовольствие»?
b
Протарх.
Не только поэтому, а еще и потому, что никто из нас тебя не отпустит, прежде чем ты не доведешь до конца этого рассуждения.
Сократ.
Ой‑ой. Протарх! Значит, предстоит еще длинное и, пожалуй, не очень‑то легкое рассуждение. Выступающему в защиту присуждения второй награды уму нужен, видно, другой прием; ему, пожалуй, нужно иметь еще и иные стрелы – не те, что применялись в прежних рассуждениях. Впрочем, некоторые стрелы могут оказаться теми же самыми. Разве ты не согласен?
Протарх.
Как не согласиться?
Сократ.
Попытаемся же осторожно установить исходный пункт этого рассуждения.
c
Протарх.
О каком исходном пункте ты говоришь?
Сократ.
Все ныне сущее во Вселенной разделим надвое или лучше, если хочешь, натрое.
Протарх.
Объясни, на каком основании?
Сократ.
Хорошо. Возьмем некоторые из наших положений.
Протарх.
Какие?
Сократ.
Выше мы сказали, что бог указывает то на беспредельность существующего, то на предел.
Протарх.
Совершенно верно.
Сократ.
Итак, допустим, эти два рода, третий же составится из смешения их воедино. Ну, не смешной ли я человек – со всеми этими подразделениями на роды и подсчеты?
d
Протарх.
Что ты хочешь сказать, любезнейший?
Сократ.
А то, что, как мне кажется, нужно прибавить еще и четвертый род.
Протарх.
Скажи какой.
Сократ.
Обрати внимание на причину смешения трех родов и считай ее четвертым родом.
Протарх.
Не понадобится ли тебе еще и пятый род, способный производить различение?
Сократ.
Быть может; но теперь по крайней мере я об этом не думаю. Если же будет нужно, то, я надеюсь, ты позволишь мне искать и пятый.
e
Протарх.
Почему же не позволить?
Сократ.
Сначала мы отделим от четырех три рода. Затем два из них – принимая во внимание, что каждый рассечен и разорван на множество частей, – вновь сведем к единству и попытаемся понять, каким образом оба они – и единство, и множество.
Протарх.
Если бы ты выразился яснее, я, может быть, и мог бы следовать за тобой.
24
Сократ.
Прежде всего допущенные мною два рода тождественны с теми, которые были обозначены только что – один как беспредельное, другой как имеющий предел. Я попытаюсь разъяснить, каким образом беспредельное есть в некотором смысле множество, с пределом же мы подождем.
Протарх.
Давай подождем.
Сократ.
Итак, следи за мной. Хотя то, что я предлагаю тебе разобрать, трудно и спорно, все же ты это разбери. Сначала посмотри, можешь ли ты мыслить какой‑либо предел относительно более теплого и более холодного, или же обитающие в этих родах увеличение и уменьшение не позволяют дойти до конца, пока они в них обитают. В самом деле, если бы было найдено окончание, то более теплое и более холодное также пришли бы к концу.
b
Протарх.
Истинная правда.
Сократ.
Итак, мы утверждаем, что в более теплом и в более холодном всегда содержится «более» или «менее».
Протарх.
Несомненно.
Сократ.
Наша речь всегда обнаруживает, следовательно, что более теплое и более холодное не имеют конца; а если они лишены конца, то, несомненно, они беспредельны.
Протарх.
В самой сильной степени, Сократ.
c
Сократ.
Ты прекрасно схватил мою мысль, любезный Протарх, и напомнил, что и это «сильно», которое ты сейчас произнес, а равным образом «слабо» должны иметь то же значение, что «больше» и «меньше». Ведь, в чем бы они ни содержались, они не допускают определенного количества, но, всегда внося во все действия «более сильное», чем «слабое», и наоборот, они устанавливают «больше» и «меньше» и уничтожают «сколько». Ибо если бы они, как только что было сказано, не уничтожали количества, но допускали, чтобы оно и все, имеющее определенную меру, водворялось на место большего и меньшего, сильного и слабого, то они сами утрачивали бы занимаемые ими места.
d
В самом деле, ни более теплое, ни более холодное, принявши определенное количество, не были бы больше таковыми, так как они непрестанно движутся вперед и не остаются на месте, определенное же количество пребывает в покое и не движется дальше. На этом основании и более теплое и его противоположность должны быть беспредельными.
Протарх.
По‑видимому, это так, Сократ. Но нелегко следить за тем, что ты сказал. Вот если еще и еще раз повторить это, может быть, окажется, что и спрашивающий, и вопрошаемый придут к полному согласию друг с другом.
e
Сократ.
Ты прав; нужно постараться так сделать. Но вот посмотри‑ка, не взять ли нам такой признак природы беспредельного, не то, тщательно разбирая все, мы окажемся многословными…
Протарх.
О каком признаке говоришь ты?
Сократ.
Все, что представляется нам становящимся больше и меньше и принимающим «сильно», «слабо» и «слишком», а также все подобное этому, согласно предшествующему нашему рассуждению, нужно отнести к роду беспредельного как к некоему единству;
25
ведь, если ты припоминаешь, мы сказали, что, сводя вместе все расчленяемое и рассекаемое, мы должны по возможности обозначать его как некую единую природу.
Протарх.
Припоминаю.
Сократ.
А то, что не допускает этого, но принимает противоположные свойства, – прежде всего равное и равенство, а вслед за равным – двойное и все, что служит числом для числа или мерой для меры, – мы относим к пределу; кажется, поступая так, мы поступаем правильно. Как ты думаешь?
Протарх.
Вполне правильно.
b
Сократ.
Хорошо! Какую же идею заключает в себе третий вид, смешанный из этих двух?
Протарх.
Я полагаю, ты скажешь мне это.
Сократ.
Скажет бог, если кто‑нибудь из богов внемлет моим мольбам.
Протарх.
В таком случае молись и исследуй!
Сократ.
Исследую, и мне кажется, Протарх, один из богов стал теперь благосклоннее к нам.
c
Протарх.
Что ты разумеешь? Где у тебя доказательство этого?
Сократ.
Сейчас разъясню. Ты же следи за моим рассуждением.
Протарх.
Говори, пожалуйста.
Сократ.
Мы только что произнесли слова: «более теплое» и «более холодное». Не так ли?
Протарх.
Да.
Сократ.
Прибавь к ним «более сухое» и «более влажное», «более многочисленное» и «менее многочисленное», «более быстрое» и «более медленное», «большее по размерам» и «меньшее» и все то, что мы раньше приводили к единству природы, приемлющей «больше» и «меньше».
d
Протарх.
Ты говоришь о природе беспредельного?
Сократ.
Да. Но смешай‑ка после этого с ней разновидность предела.
Протарх.
Какую разновидность?
Сократ.
Ту, что мы только что не сумели свести к единству в соответствии с природой предела, как мы сделали это по отношению к разновидности беспредельного. Но не произойдет ли с ней теперь того же самого? Если мы сведем воедино обе эти [разновидности], то обнаружится и она.
Протарх.
Что ты имеешь в виду?
e
Сократ.
Я говорю о разновидностях: «равное», «двойное» и прочих, которые устраняют различие противоположностей и, вложив в них согласие и соразмерность, порождают число.
Протарх.
Понимаю. Ты, вероятно, имеешь в виду, что при смешении[1247]
этих [разновидностей] получаются некие новые роды.
Сократ.
Мне кажется, я здесь прав.
Протарх.
Продолжай.
Сократ.
Разве в болезнях правильное общение этих [разновидностей] не порождает природу здоровья?
26
Протарх.
Несомненно, порождает.
Сократ.
А в высоком и низком тонах, в ускорениях и замедлениях, которые беспредельны, разве не происходит то же самое: одновременно порождается предел и создается наисовершеннейшая музыка?
Протарх.
Безусловно.
Сократ.
И когда то же самое происходит с холодом и зноем, уничтожается «слишком много» и беспредельное и порождается умеренное и вместе с тем соразмерное.
Протарх.
Как же иначе?
Сократ.
Разве не из этого, то есть не из смешения беспредельного и заключающего в себе предел, состоят времена года и все, что у нас есть прекрасного?
b
Протарх.
Как же иначе?
Сократ.
Я уже не говорю о тысяче других вещей, например о красоте и силе в соединении со здоровьем, а также о многих иных прекраснейших свойствах души. Ведь и наша богиня, прекрасный Филеб, видя невоздержность и всяческую порочность, когда люди переходят предел в удовольствиях и в пресыщении, установила закон и порядок, заключающие в себе предел. Хотя ты и говоришь, что эта богиня[1248]
приносит терзания, я, напротив, утверждаю, что она приносит спасение. А тебе как, Протарх, кажется?
c
Протарх.
Сказанное тобою, Сократ, и мне очень по сердцу.
Сократ.
Итак, я назвал три рода, если ты меня понимаешь.
Протарх.
Да, думается мне, понимаю. Одно единство ты, по‑видимому, называешь беспредельным, а другое – пределом в существующем. А что ты разумеешь под третьим, я не очень‑то улавливаю.
Сократ.
Потому, любезнейший, что тебя поразило изобилие этого третьего рода. Правда, и в беспредельном есть много родов, но так как они отмечены признаками увеличения и уменьшения, то беспредельное кажется единым.
Протарх.
Правильно.
d
Сократ.
Что же касается предела, то, с одной стороны, он не заключал множества, а с другой – мы не досадовали на то, что он не един по природе.
Протарх.
Да и может ли быть иначе?
Сократ.
Ни в коем случае. Но, говоря о третьем, я – смотри – имел в виду все то, что первые два рода порождают как единое, именно возникновение к бытию как следствие ограниченных пределом мер.
Протарх.
Понял.
Сократ.
Выше нами было сказано, что кроме трех родов нужно рассмотреть еще некий четвертый род. Будем же вести это рассмотрение сообща. Не кажется ли тебе необходимым, что все возникающее возникает благодаря некоторой причине?[1249]
e
Протарх.
Мне кажется, это так. Да и может ли что‑нибудь возникнуть без этого?
Сократ.
А разве природа творящего отличается от причины чем‑либо, кроме названия, и разве не правильно будет творящее и причину считать одним и тем же?
Протарх.
Правильно.
27
Сократ.
Между творимым и возникающим мы соответственно только что сказанному тоже не найдем никакого различия, кроме названия. Не так ли?
Протарх.
Конечно.
Сократ.
Творящее не таково ли всегда по природе, что оно руководит, а творимое, возникая, за ним следует?
Протарх.
Совершенно верно.
Сократ.
Итак, причина отлична и не тождественна тому, что служит ей при порождении.
Протарх.
Разумеется.
Сократ.
Далее. Все возникающее и все то, из чего что‑либо возникает, составляют три рода?
Протарх.
Совершенно верно.
b
Сократ.
То же, что созидает все эти вещи, мы назовем четвертым, причиной, так как стало ясно, что это четвертое в достаточной мере отлично от тех трех.
Протарх.
Разумеется, отлично.
Сократ.
Раз четыре рода определены, правильно будет перечислить для памяти все их по порядку.
Протарх.
Конечно.
Сократ.
Первый я называю беспредельным, второй – пределом, третий – сущностью, смешанной и возникающей из этих двух. Если я назову четвертым родом причину смешения и возникновения, я не ошибусь.
c
Протарх.
Конечно, нет.
Сократ.
О чем же мы поведем речь далее? Ради чего достигли мы этих результатов? Не ради ли следующего: мы спрашивали, чему принадлежит вторая награда – удовольствию или разумению. Не так ли?
Протарх.
Да.
Сократ.
Не будет ли весьма уместно теперь, после того как мы разделили таким образом эти роды, решить то, что было для нас сначала сомнительным, а именно: чему принадлежит первая и чему вторая награда?
Протарх.
Пожалуй.
d
Сократ.
Хорошо. Победительницей мы признали жизнь, смешанную из удовольствия и разумения. Не так ли?
Протарх.
Да.
Сократ.
Не видно ли нам теперь, что это за жизнь и какого она рода?
Протарх.
Как не видно!
Сократ.
Мы назовем ее, думаю я, частью третьего рода, ибо этот род смешан не из каких‑нибудь двух вещей, но из всего беспредельного, связанного пределом, так что наша победоносная жизнь правильно оказывается такой частью.
Протарх.
Как нельзя более правильно.
Сократ.
Что же представляет собою твоя жизнь, Филеб, приятная и несмешанная? К какому из названных родов нам следует отнести ее, чтобы правильно объяснить? Однако прежде ответь мне на следующий вопрос…
e
Филеб.
Какой?
Сократ.
Имеют ли предел удовольствия и страдания, или же они относятся к вещам, принимающим «больше» и «меньше»?
Филеб.
Да, к вещам, принимающим увеличение, Сократ. Удовольствие не было бы высшим благом, если бы не было по природе своей беспредельным как в отношении многообразия, так и в отношении увеличения;
28
Сократ.
Но ведь и страдание, Филеб, не было бы в таком случае высшим злом. Поэтому оба мы должны считать, что не природа беспредельного, а нечто иное сообщает удовольствиям некую меру блага. Пусть, однако, удовольствие относится у тебя к роду беспредельного. Куда же, к какому вообще из ранее названных [родов] отнести нам, Протарх и Филеб, разумение, знание и ум так, чтобы при этом не впасть в нечестие? Мне кажется, нам грозит немалая опасность, если мы этот вопрос решим неправильно.
Филеб.
Ты, Сократ, слишком уж превозносишь своего бога.
b
Сократ.
А ты, друг мой, свою богиню. Однако вернемся к нашему вопросу.
Протарх.
А ведь Сократ говорит правильно, Филеб, и нам нужно послушаться его.
Филеб.
Разве ты, Протарх, не согласился говорить за меня?
Протарх.
Совершенно верно. Однако теперь я несколько недоумеваю и прошу тебя, Сократ, быть для нас толкователем, чтобы мы ни в чем не погрешили против участника, на которого ты делаешь ставку[1250]
, и не наговорили бы нелепостей.
c
Сократ.
Послушаемся тебя, Протарх: ты не требуешь ничего трудного. Неужели, однако, шутливо превознося [своего бога], я, как выразился Филеб, смутил тебя вопросом, к какому роду относятся ум и знание?
Протарх.
Совсем смутил, Сократ.
Сократ.
Между тем ответить на этот вопрос нетрудно. В самом деле, все мудрецы, которые и в самом деле себя превозносят, согласны в том, что ум у нас – царь неба и земли, и, пожалуй, они правы[1251]
. Однако, если хотите, рассмотрим это более обстоятельно.
d
Протарх.
Говори как тебе угодно; пусть обстоятельность не смущает тебя, Сократ: нам она не наскучит.
Сократ.
Прекрасно сказано. Начнем же хотя бы со следующего вопроса…
Протарх.
С какого?
Сократ.
Скажем ли мы, Протарх, что совокупность вещей и это так называемое целое управляются неразумной и случайной силой как придется или же, напротив, что целым правит, как говорили наши предшественники, ум и некое изумительное, всюду вносящее лад разумение?
e
Протарх.
Какое же может быть сравнение, любезнейший Сократ, между этими двумя утверждениями! То, что ты сейчас говоришь, кажется мне даже нечестивым. Напротив, сказать, что ум устрояет все, достойно зрелища мирового порядка (του κόσμου) – Солнца, Луны, звезд и всего круговращения [небесного свода]; да и сам я не решился бы утверждать и мыслить об этом иначе.
29
Сократ.
Что же, хочешь, и мы присоединимся к общему мнению наших предшественников, что дело обстоит именно так, и не только будем считать, что надо без опаски повторять чужое, но разделим также угрожающую им опасность подвергнуться порицанию со стороны какого‑либо искусника[1252]
, который стал бы утверждать, что все эти вещи находятся не в таком состоянии, но в беспорядке?
Протарх.
Как мне этого не хотеть!
Сократ.
В таком случае следи внимательно за дальнейшим нашим рассуждением.
Протарх.
Говори, пожалуйста.
Сократ.
Что касается природы тел всех живых существ, то в составе их имеются огонь, вода, воздух и… «земля!», как говорят застигнутые бурей мореплаватели.
b
Протарх.
И правильно. Ведь и нас обуревают недоумения в нашем теперешнем рассуждении.
Сократ.
Допусти же относительно каждого из заключающихся в нас [родов] следующее.
Протарх.
Что именно?
Сократ.
Что каждый из них в нас мал, скуден, ни в какой мере нигде не чист, и сила его недостойна его природы. Допустив же это относительно одного заключенного в нас [рода], мысли то же и обо всех прочих. Например, если огонь есть в нас, то он есть и во всем.
Протарх.
Как же иначе?
c
Сократ.
В нас огонь есть нечто малое, слабое и скудное, вселенский же огонь[1253]
изумителен и по величине, и по красоте, и по всяческой свойственной огню силе.
Протарх.
Твои слова – сущая правда.
Сократ.
Так что же? От огня ли, заключенного в нас, питается, рождается и получает начало вселенский огонь, или же, напротив, мой и твой огонь и огонь прочих живых существ зависит во всех этих отношениях от вселенского огня?
Протарх.
На этот вопрос даже и отвечать не стоит.
d
Сократ.
Верно. То же самое, полагаю, ты скажешь и о земле, находящейся здесь, в живых существах, и во Вселенной, а также и обо всем прочем, о чем я спрашивал немного раньше. Так ты ответишь?
Протарх.
Кто, отвечая иначе, показался бы находящимся в здравом рассудке?
Сократ.
Пожалуй, никто. Но следи за тем, что отсюда вытекает. Видя, что все названное сводится к одному, мы назвали это все телом?
Протарх.
Как же иначе?
Сократ.
То же самое допусти и относительно того, что мы называем космосом; состоя из тех же самых [родов], он так же точно, надо думать, есть тело.
e
Протарх.
Совершенно правильно.
Сократ.
Итак, пойдем дальше: от этого ли тела всецело питается наше тело, или же, напротив, от нашего тела питается мировое, воспринимая от него в свой состав все те [роды], о которых мы только что говорили?
Протарх.
И этим вопросом, Сократ, не стоит задаваться.
30
Сократ.
Что же? Стоит ли спрашивать о следующем? Как ты думаешь?
Протарх.
О чем именно?
Сократ.
Не скажем ли мы, что в нашем теле есть душа?
Протарх.
Ясно, что скажем.
Сократ.
Откуда же, дорогой Протарх, оно взяло бы ее, если бы тело Вселенной не было одушевлено[1254]
, заключая в себе то же самое, что содержится в нашем теле, но, сверх того, во всех отношениях более прекрасное?
Протарх.
Ясно, что больше взять ее неоткуда, Сократ.
b
Сократ.
Но ведь, назвав, Протарх, те четыре рода: предел, беспредельное, смешанное и четвертый род – причину, которая во всем пребывает, сообщает находящимся в нас [родам] душу, поддерживает телесные отправления, врачует недомогающее тело и все во всем образует и исцеляет, назвав это всей и всяческой мудростью, не станем мы в то же время полагать, что, хотя те же четыре рода в больших количествах содержатся во всем небе, и притом прекрасные и чистые, не там была измыслена природа прекраснейших и ценнейших вещей!
c
Протарх.
Такое предположение вовсе не имело бы смысла.
Сократ.
Так не будем же делать его, но, следуя нашему рассуждению, лучше скажем, что во Вселенной, как неоднократно высказывалось нами, есть и огромное беспредельное, и достаточный предел, а наряду с ними – некая немаловажная причина, устанавливающая и устрояющая в порядке годы, времена года и месяцы. Эту причину было бы всего правильнее назвать мудростью и умом.
Протарх.
Всего правильнее, конечно.
Сократ.
Но ни мудрость, ни ум никогда, разумеется, не могли бы возникнуть без души.
d
Протарх.
Конечно, нет.
Сократ.
Следовательно, ты скажешь, что благодаря силе причины в природе Зевса содержится царственная душа[1255]
и царственный ум, в других же богах – другое прекрасное, какое каждому из них приятно.
Протарх.
Совершенно справедливо.
Сократ.
И не считай, Протарх, что мы высказали это положение необдуманно: оно принадлежит тем мудрецам, которые некогда заявляли, что ум – их союзник – вечно властвует над Вселенной.
Протарх.
Несомненно, так.
e
Сократ.
Оно же дает ответ на мой вопрос: ум относится к тому роду, который был назван причиной всех вещей. Итак, теперь тебе уже известен наш ответ.
Протарх.
Известен и вполне достаточен, хотя я и не заметил, как ты отвечал.
Сократ.
Шутка, Протарх, иногда бывает отдыхом от серьезного дела.
Протарх.
Хорошо сказано!
Сократ.
Стало быть, друг мой, ум, к какому бы роду он ни принадлежал и какою бы силой ни обладал, теперь объяснен нами почти надлежащим образом.
31
Протарх.
Совершенно верно.
Сократ.
А еще раньше таким же образом был разъяснен род удовольствия.
Протарх.
И отлично разъяснен!
Сократ.
Припомним же относительно обоих, что ум оказался родственным причине и даже почти одного с ней рода, удовольствие же и само по себе беспредельно и относится к тому роду, который не имеет и никогда не будет иметь в себе и сам по себе ни начала, ни середины, ни конца.
Протарх.
Да, припомним. Как не припомнить?
b
Сократ.
После этого нам должно рассмотреть, в чем заключены ум и удовольствие и каким состоянием обусловлено их возникновение, когда они возникают. Сначала возьмем удовольствие. Как мы начинали исследование с его рода, так начнем и теперь с него. Однако мы никогда не могли бы достаточным образом исследовать удовольствие отдельно от страдания.
Протарх.
Если нужно идти этим путем, то им и пойдем.
Сократ.
Представляется ли тебе их возникновение таким же, как мне?
c
Протарх.
Каким именно?
Сократ.
Мне кажется, что страдание и удовольствие возникают по природе своей совместно, в смешанном (κοινώ) роде.
Протарх.
Напомни нам, любезный Сократ, какой из названных раньше родов ты желаешь указать в качестве смешанного.
Сократ.
По мере моих сил, любезный.
Протарх.
Прекрасно.
Сократ.
Под смешанным мы подразумеваем третий из названных выше четырех родов.
Протарх.
Тот, который ты поместил после непредельного и предела и к которому, как мне кажется, ты отнес здоровье и гармонию?
d
Сократ.
Отлично сказано. Теперь будь особенно внимателен.
Протарх.
Говори, пожалуйста.
Сократ.
Слушай: как только в нас, живых существах, расстраивается гармония, так вместе с тем разлаживается природа и появляются страдания.
Протарх.
Вполне правдоподобно.
Сократ.
Когда же гармония вновь налаживается и возвращается к своей природе, то следует сказать, что возникает удовольствие, – если уж нужно изложить очень важные вещи в кратких словах и как можно быстрее.
e
Протарх.
Хоть я и думаю, Сократ, что ты говоришь правильно, однако попытаемся еще раз высказать то же самое с большей ясностью.
Сократ.
Может быть, легче будет понять общепринятые и вполне ясные выражения?
Протарх.
Какие?
Сократ.
Голод есть разрушение и страдание. Не правда ли?
Протарх.
Да.
Сократ.
Еда же, превращающаяся в насыщение, есть удовольствие?
Протарх.
Да.
32
Сократ.
Жажда также есть разрушение и страдание, сила же влаги, вновь восполняя высохшее, доставляет удовольствие. В свою очередь противные природе состояния разделения и разрушения, порождаемые зноем, причиняют страдание, а требуемое природой восстановление и охлаждение есть удовольствие.
Протарх.
Совершенно верно.
Сократ.
Замерзание влаги от холода, противное природе живого существа, также вызывает страдание. Когда же влага вновь тает и возвращается в прежнее состояние, то этот сообразный с природой живого существа путь есть удовольствие. Одним словом, посмотри, кажется ли тебе правильным положение, гласящее так:
b
когда возникший сообразно с природой из беспредельного и предела одушевленный вид, упомянутый нами раньше, портится, то эта порча причиняет страдание; полное же возвращение к своей сущности есть удовольствие.
Протарх.
Пусть так. Мне кажется, тут дан некий образец.
Сократ.
Не допустить ли нам в таком случае, что каждое из этих состояний заключает в себе единую идею страдания и удовольствия?
Протарх.
Пусть будет так.
c
Сократ.
Допусти теперь, что в самой душе существует ожидание этих состояний, причем предвкушение приятного доставляет удовольствие и бодрит, а ожидание горестей вселяет страх и страдание.
Протарх.
Да, это, конечно, другая идея удовольствия и страдания, возникающая благодаря ожиданию самой души, помимо тела.
Сократ.
Ты правильно понял. Я полагаю, что на примере обоих этих, по‑видимому, чистых [состояний], в которых не смешано между собой страдание и удовольствие, выяснится, по моему по крайней мере мнению, привлекателен ли весь род удовольствия в целом,
d
или же это свойство нужно приписать какому‑либо другому из названных нами ранее родов, удовольствие же и страдание, подобно теплу и холоду и всем схожим состояниям, считать иногда желательными, иногда нежелательными, так как сами они не блага, но лишь по временам некоторые из них принимают природу благ.
Протарх.
Ты совершенно правильно говоришь – так и нужно разбираться в том, что мы теперь исследуем.
e
Сократ.
Сначала рассмотрим следующее: если сказанное нами соответствует действительности, а именно если при разрушении [одушевленных видов] возникает боль, а при их восстановлении – удовольствие, то поразмыслим о том случае, когда они и не разрушаются, и не восстанавливаются: какое состояние должно быть при этих условиях у каждого из живых существ? Будь же внимателен и отвечай на такой вопрос: не совершенно ли необходимо, чтобы всякое живое существо в это время нисколько не страдало и нисколько не наслаждалось?
Протарх.
Разумеется, необходимо.
Сократ.
Так у нас есть, значит, некое третье состояние[1256]
помимо радостного и скорбного?
33
Протарх.
Как же иначе?
Сократ.
Постарайся же хорошенько запомнить его, потому что для суждения об удовольствии немаловажно, помним ли мы об этом состоянии или нет. Впрочем, если тебе угодно, скажем о нем несколько слов,
Протарх.
Что именно?
Сократ.
Ты знаешь: ничто не мешает наоравшему разумную жизнь проводить ее таким образом.
Протарх.
Ты имеешь в виду жизнь без радости и без горя?
b
Сократ.
Раньше, при сравнении жизней, было сказано, что человеку, избравшему жизнь рассудительную и разумную, нисколько не следует радоваться.
Протарх.
Да, именно так было сказано.
Сократ.
Значит, так ему и следует жить; и, пожалуй, нисколько не странно, что такая жизнь – самая божественная из всех.
Протарх.
Да, богам не свойственно ни радоваться, ни страдать.
Сократ.
Совершенно не свойственно. Во всяком случае им не приличествует ни то ни другое состояние. Впрочем, мы рассмотрим это еще раз впоследствии, если придется к слову, и представим ум ко второй награде, раз мы оказываемся неспособными представить его к первой.
c
Протарх.
Совершенно правильно.
Сократ.
Что касается другого вида удовольствий, который, как мы сказали, принадлежит самой душе, то он возникает всецело благодаря памяти.
Протарх.
Каким образом?
Сократ.
Видно, сначала нам нужно коснуться памяти и посмотреть, что она такое, и, пожалуй, еще раньше памяти поговорить об ощущении, если только мы хотим надлежащим образом выяснить эти вопросы.
Протарх.
Что ты имеешь в виду?
d
Сократ.
Допусти, что одни из наших телесных состояний каждый раз угасают в теле, прежде чем дойти до души, и оставляют душу бесстрастной, другие же проникают и тело, и душу и вызывают в них как бы некое потрясение, иногда различное для души и для тела, иногда же общее им обоим.
Протарх.
Пусть будет так.
Сократ.
Пожалуй, мы поступим всего правильнее, если будем утверждать, что состояния, не проникающие и душу, и тело, остаются скрытыми от нашей души, а проникающие обе наши природы – не остаются. Не так ли?
Протарх.
Как же иначе?
e
Сократ.
Это скрытое состояние ты отнюдь не понимай в том смысле, будто я имею тут в виду наступление забвения: ведь забвение есть исчезновение памяти, памяти же о том, о чем сейчас идет речь, еще не возникало. А говорить об утрате того, чего нет и не было, нелепо. Не так ли?
Протарх.
Конечно.
Сократ.
Значит, перемени лишь названия.
Протарх.
Как?
Сократ.
Вместо «скрытости» от души, когда душа остается безучастной к потрясениям тела, называй то, что ты теперь именуешь забвением[1257]
, отсутствием ощущений.
34
Протарх.
Понял.
Сократ.
Когда же душа и тело оказываются сообща в одном состоянии и сообща возбуждаются, то, назвав это возбуждение ощущением, ты не выразился бы неудачно.
Протарх.
Совершенно справедливо.
Сократ.
Известно ли нам теперь, что мы хотим называть ощущением?
Протарх.
А как же?
Сократ.
Стало быть, тот, кто называет память сохранением ощущения, говорит, по моему по крайней мере мнению, правильно.
b
Протарх.
И даже очень правильно.
Сократ.
Но не следует ли нам сказать, что воспоминание отличается от памяти?[1258]
Протарх.
Пожалуй.
Сократ.
Не этим ли вот…
Протарх.
Чем?
Сократ.
Когда душа сама по себе, без участия тела, наилучшим образом воспроизводит то, что она испытала когда‑то совместно с телом, мы говорим, что она вспоминает. Не правда ли?
Протарх.
Конечно.
Сократ.
Равным образом когда душа, утратив память об ощущении или о знании, снова вызовет ее в самой себе, то все это мы называем воспоминаниями.
c
Протарх.
Правильно.
Сократ.
А все это было сказано ради следующего…
Протарх.
Чего именно?
Сократ.
Ради того, чтобы как можно лучше и яснее понять удовольствие души помимо тела, а также вожделение: вследствие сказанного, как мне кажется, отчетливее обнаруживается природа обоих этих состояний.
Протарх.
Побеседуем теперь, Сократ, о том, что за этим следует.
Сократ.
Да, нам придется, по‑видимому, рассмотреть многое относительно возникновения удовольствия и различных его видов. Но я думаю, что сначала нам следует обратиться к вожделению[1259]
и рассмотреть, что оно такое и где возникает.
d
Протарх.
Рассмотрим его, мы ведь ничего от этого не потеряем.
Сократ.
Нет, потеряем, если только найдем, Протарх, то, что сейчас ищем, – потеряем недоумение по поводу всего этого.
Протарх.
Ты ловко отразил удар. Будем же продолжать нашу беседу.
Сократ.
Не назвали ли мы только что голод, жажду[1260]
и многие другие подобные состояния своего рода вожделениями?
Протарх.
Назвали.
e
Сократ.
На основании какого же общего признака мы называем одним и тем же именем эти столь различные состояния?
Протарх.
Клянусь Зевсом, это, пожалуй, нелегко сказать, Сократ, а между тем сказать нужно.
Сократ.
Начнем опять оттуда же, с того же самого.
Протарх.
Откуда?
Сократ.
Разве мы не говорим постоянно: нечто жаждет?
Протарх.
Говорим.
Сократ.
Значит, это нечто становится пустым?
Протарх.
Как же иначе?
Сократ.
Не есть ли, таким образом, жажда – вожделение?
35
Протарх.
Да, вожделение к питью.
Сократ.
К питью или к наполнению питьем?
Протарх.
Думаю, что к наполнению.
Сократ.
Значит, тот из нас, кто становится пустым, по‑видимому, вожделеет к противоположному тому, что он испытывает, ибо, становясь пустым, он стремится к наполнению.
Протарх.
Совершенно очевидно.
Сократ.
Так как же? Может ли тот, кто становится пустым впервые, каким‑либо образом постичь с помощью ощущения или памяти наполнение, то есть то, чего он и в настоящее время не испытывает и не испытывал никогда в прошлом?
b
Протарх.
Каким же образом?
Сократ.
Но мы говорим, что вожделеющий вожделеет к чему‑нибудь?
Протарх.
А то как же?
Сократ.
И вожделеет, конечно, не к тому, что испытывает:.ведь он испытывает жажду, т. е. опорожнение, желает же наполнения.
Протарх.
Да.
Сократ.
Следовательно, лишь какая‑то часть жаждущего постигает наполнение.
Протарх.
Неизбежно так.
Сократ.
Но тело не способно на это: ведь оно становится пустым.
Протарх.
Да.
Сократ.
Стало быть, остается душе постигать наполнение, очевидно, с помощью памяти, ибо чем другим могла бы она постичь?
c
Протарх.
Пожалуй, ничем.
Сократ.
Понятно ли теперь, к чему привело нас это рассуждение?
Протарх.
К чему?
Сократ.
Оно показывает нам, что у тела не бывает вожделений.
Протарх.
Каким образом?
Сократ.
Ведь оно обнаруживает у всякого живого существа стремление, постоянно противоположное состояниям тела.
Протарх.
И очень явственно.
Сократ.
Влечение же, ведущее к тому, что противоположно этим состояниям, указывает, надо думать, на память об этом противоположном.
Протарх.
Разумеется.
d
Сократ.
Стало быть, это рассуждение, указав на память, приводящую к предметам вожделения, открывает, что всякое влечение и вожделение всех живых существ, а также руководство ими принадлежит душе.
Протарх.
Совершенно правильно.
Сократ.
Поэтому наше рассуждение отнюдь не допускает, чтобы наше тело жаждало, или голодало, или испытывало что‑либо подобное.
Протарх.
Сущая правда.
Сократ.
Приведем по этому поводу еще и следующие соображения. Наше рассуждение обнаруживает, по‑видимому, содержащийся здесь некий вид жизни.
e
Протарх.
Где именно и о какой жизни ты говоришь?
Сократ.
О наполнении и опорожнении и обо всем том, что относится к сохранению живых существ и их гибели. Если кто‑либо из нас находится в одном из этих состояний, то он либо страдает, либо радуется в зависимости от происходящих изменений.
Протарх.
Это так.
Сократ.
А что бывает, когда человек находится в промежуточном состоянии?
Протарх.
Как в промежуточном?
Сократ.
Когда он испытывает страдание, но помнит об удовольствии, так что если бы последнее наступило, то страдание прекратилось бы;
36
однако человек этот еще не наполнился. Что же тогда? Скажем ли мы, что он находится в промежуточном состоянии или нет?
Протарх.
Конечно, скажем.
Сократ.
Так что же? Скорбит он или радуется?
Протарх.
Ни то ни другое, клянусь Зевсом, но он страдает каким‑то двойным страданием; телесно – из‑за своего состояния, душевно же – поскольку ждет и томится.
Сократ.
Как, Протарх, понимаешь ты двойственность страдания? Разве не бывает, что иногда кто‑нибудь из нас, испытывая пустоту, явно надеется на восполнение, иногда же, напротив, испытывает безнадежность?
b
Протарх.
Конечно, бывает.
Сократ.
Не кажется ли тебе, что, надеясь быть наполненным, человек радуется благодаря памяти и вместе с тем, испытывая пустоту, скорбит?
Протарх.
Неизбежно так.
Сократ.
Стало быть, в этих случаях человек и прочие живые существа одновременно и печалятся, и радуются.
Протарх.
Как будто так.
Сократ.
А что бывает, когда у того, кто испытывает пустоту, нет никакой надежды достичь наполнения? Не бывает ли тогда двойного состояния скорби, которое ты только что указал, без обиняков принявши его за таковое?
c
Протарх.
Истинная правда, Сократ.
Сократ.
Воспользуемся же этим разбором упомянутых состояний следующим образом…
Протарх.
Каким?
Сократ.
Скажем ли мы, что все эти страдания и удовольствия истинны или что все они ложны? Или же признаем одни из них истинными, а другие – нет?[1261]
Протарх.
Но каким же образом, Сократ, удовольствия или страдания могут быть ложными?
Сократ.
А каким же образом, Протарх, бывают истинными или ложными страхи, ожидания и мнения?[1262]
d
Протарх.
Насчет мнений я, пожалуй, готов сделать уступку, но относительно всего прочего – нет.
Сократ.
Что ты говоришь? Однако мы затеваем, по‑видимому, нелегкое рассуждение.
Протарх.
Конечно.
Сократ.
Но нужно посмотреть, подходит ли оно, о сын столь славного человека, к прежним нашим рассуждениям.
Протарх.
Пожалуй, нужно.
Сократ.
Итак, нам придется распрощаться со всеми длиннотами, вернее, со всем тем, что было сказано не к месту.
Протарх.
Правильно.
e
Сократ.
Смотри же: меня постоянно приводят в изумление те спорные положения, которые мы только что высказали. Как ты сказал? Не может быть, чтобы одни удовольствия были ложными, другие же – истинными?
Протарх.
А как это возможно?
Сократ.
Ведь ни во сне, ни наяву, как ты говоришь, ни в приступе исступленности и безумия никому никогда не случается думать, что он радуется, нисколько при этом не радуясь, или что он печалится, нисколько при этом не печалясь.
Протарх.
Все мы полагаем, Сократ, что это так.
Сократ.
Но правильно ли это? Не нужно ли еще рассмотреть, правильно ли говорить так или нет?
37
Протарх.
Я сказал бы, что нужно.
Сократ.
Определим же еще яснее только что сказанное относительно удовольствия и мнения. Ведь «иметь мнение» значит же у нас что‑нибудь?
Протарх.
Да.
Сократ.
А «испытывать удовольствие»?
Протарх.
Тоже.
Сократ.
А то, о чем мы имеем мнение, также есть нечто?
Протарх.
Как же иначе?
Сократ.
И то, от чего получающий удовольствие его получает?
Протарх.
Разумеется.
Сократ.
Стало быть, имеющий мнение, правильное ли оно у него или нет, в действительности никогда не утрачивает обладания мнением?
b
Протарх.
Как же он мог бы его утратить?
Сократ.
Точно так же испытывающий удовольствие, правильно ли он испытывает его или нет, никогда, очевидно, не утрачивает действительного обладания этим удовольствием.
Протарх.
Да, это так.
Сократ.
Нам нужно, следовательно, рассмотреть, каким образом мнение бывает у нас обычно ложным и истинным, а удовольствие – только истинным, в то время как им обоим одинаково свойственно действительно быть мнением и удовольствием.
Протарх.
Да, это нужно рассмотреть.
c
Сократ.
То ли, говоришь ты, нужно рассмотреть, что мнению присущи и ложность, и истинность, так что вследствие этого получается не просто мнение, но мнение, обладающее неким свойством?
Протарх.
Да.
Сократ.
Но вдобавок мы должны согласиться еще и относительно того, действительно ли все вообще обладает у нас какими‑либо свойствами и только удовольствие и страдание есть то, что они есть, и лишены каких бы то ни было свойств?
Протарх.
Очевидно.
d
Сократ.
Однако вовсе нетрудно усмотреть, что им также присущи некоторые свойства. В самом деле, мы уже давно говорили, что те и другие – страдания и удовольствия – бывают и очень большими, и очень малыми.
Протарх.
Совершенно верно.
Сократ.
Но если, Протарх, к какому‑нибудь из этих [состояний] присоединится порочность, разве мы не скажем, что вследствие этого и мнение, и удовольствие также станут порочными?
Протарх.
Как же иначе, Сократ?
Сократ.
Что же будет, если к ним присоединится правильность или то, что противоположно правильности? Разве мы не назовем мнение правильным, если оно обладает правильностью, и так же и удовольствие?
Протарх.
Неизбежно.
e
Сократ.
Если же то, о чем мы имеем мнение, окажется ложным, то не следует ли согласиться, что ошибающееся мнение неверно и неправильно мнит?
Протарх.
Как же иначе?
Сократ.
И опять‑таки, когда мы усмотрим, что страдание или какое‑нибудь удовольствие погрешает относительно того, о чем оно печалится или, напротив, чему радуется, разве назовем мы его правильным, пли полезным, или каким‑либо другим хорошим именем?
Протарх.
Это невозможно, раз удовольствие будет погрешать.
Сократ.
Однако, по‑видимому, удовольствие часто соединяется у нас не с правильным, но с ложным мнением.
38
Протарх.
Разумеется. Но мнение, Сократ, мы называем в таком случае ложным, между тем как само удовольствие никто никогда не назовет ложным.
Сократ.
Ревностно же ты, Протарх, защищаешь теперь дело удовольствия!
Протарх.
Совсем нет; я говорю лишь то, что об этом слыхал.
Сократ.
Значит, друг мой, по‑нашему, нет никакой разницы, возникает ли у каждого из нас удовольствие в связи с правильным мнением и со знанием или же с ложью и с неведением?
b
Протарх.
Нет, здесь есть, по‑видимому, немалое различие.
Сократ.
Так перейдем же к рассмотрению различия между обоими этими видами удовольствий.
Протарх.
Веди, куда тебе кажется нужным.
Сократ.
Веду вот куда…
Протарх.
Куда?
Сократ.
Мнение, сказали мы, бывает у нас ложным, но бывает и истинным?
Протарх.
Так.
Сократ.
А за ними, то есть за истинным и ложным мнениями, как мы сейчас сказали, часто следуют удовольствие и страдание.
Протарх.
Совершенно верно.
Сократ.
Но разве не из памяти и из ощущения возникает у нас каждый раз мнение и стремление его составить?[1263]
c
Протарх.
Именно так.
Сократ.
Не нужно ли нам считать, что мы находимся относительно этого в следующем положении…
Протарх.
В каком?
Сократ.
Не правда ли, человеку, видящему издали и не вполне ясно то, что он наблюдает, часто хочется составить себе суждение о том, что он видит?
Протарх.
Да.
Сократ.
Не задаст ли себе такой человек вслед за тем следующий вопрос…
Протарх.
Какой?
d
Сократ.
«Что это мерещится мне стоящим там у скалы, под деревом?» Не кажется ли тебе, что он сказал бы это себе, если бы ему померещилось нечто подобное?
Протарх.
Отчего же не сказать?
Сократ.
А если бы он вслед за тем ответил себе, что это человек, разве не наугад сказал бы он так?
Протарх.
Конечно, наугад.
Сократ.
Подойдя же поближе, он, может быть, сказал бы, что видимое им есть изваяние, поставленное какими‑нибудь пастухами?[1264]
Протарх.
Весьма возможно.
e
Сократ.
А если бы кто‑нибудь был возле такого человека и слова, сказанные самому себе, этот человек обратил бы теперь к присутствующему, то разве то, что мы прежде называли мнением, не стало бы речью?
Протарх.
Как же иначе?
Сократ.
А ведь когда ему случается наедине с самим собою размышлять об этом, то в иных случаях он проводит в таких размышлениях продолжительное время.
Протарх.
Совершенно верно.
Сократ.
Так как же? Думаешь ли ты относительно этого то же, что и я?
Протарх.
Что именно?
Сократ.
Мне представляется, что наша душа походит тогда на своего рода книгу[1265]
.
39
Протарх.
Как так?
Сократ.
Память, направленная на то же, на что направлены ощущения, и связанные с этими ощущениями впечатления кажутся мне как бы записывающими в нашей душе соответствующие речи. И когда такое впечатление записывает правильно, то от этого у нас получаются истинное мнение и истинные речи; когда же этот наш писец сделает ложную запись, получаются речи, противоположные истине.
b
Протарх.
Я с этим совершенно согласен и принимаю сказанное.
Сократ.
Допусти же, что в наших душах в то же самое время обретается и другой мастер.
Протарх.
Какой?
Сократ.
Живописец, который вслед за писцом чертит в душе образы[1266]
названного.
Протарх.
А каким образом и когда приступает к работе этот живописец?
Сократ.
Когда кто‑нибудь, отделив от зрения или какого‑либо другого ощущения то, что тогда мнится и о чем говорится, как бы созерцает в самом себе образы мнящегося и выраженного речью. Или этого не бывает с нами?
c
Протарх.
Очень часто бывает.
Сократ.
Не бывают ли в таком случае образы истинных мнений и речей истинными, а ложных – ложными?
Протарх.
Конечно.
Сократ.
Если сказанное нами правильно, то рассмотрим еще следующее…
Протарх.
Что именно?
Сократ.
Нам приходится испытывать такие состояния лишь относительно настоящего и прошедшего, а относительно будущего не приходится?
Протарх.
Нет, одинаково приходится испытывать это относительно всех времен.
d
Сократ.
Но разве мы не сказали раньше, что душевные удовольствия и страдания предваряют телесные, так что мы заранее радуемся и заранее скорбим о том, что должно случиться в будущем?
Протарх.
Совершенно верно.
Сократ.
Разве, далее, возникающие в нас, согласно только что сделанному предположению, письмена и рисунки относятся только к прошедшему и настоящему временам, к будущему же не относятся?
e
Протарх.
Очень даже относятся.
Сократ.
Не потому ли говоришь ты «очень», что всё это – надежды, относящиеся к последующему времени, а мы в течение всей жизни исполнены надежд?
Протарх.
Без сомнения, поэтому.
Сократ.
Ответь мне теперь еще на следующий вопрос.
Протарх.
На какой?
Сократ.
Человек, справедливый и во всех отношениях хороший будет угоден богам?
Протарх.
Как же иначе?
40
Сократ.
А человек несправедливый и во всех отношениях дурной будет, напротив, неугоден?
Протарх.
Конечно.
Сократ.
Но всякий человек, как мы только что сказали, преисполнен надежд. Не правда ли?
Протарх.
Как же иначе?
Сократ.
Значит, в каждом из нас есть речи, которые мы называем надеждами?
Протарх.
Да.
Сократ.
А также написанные живописцем картины. Иной нередко видит у себя изобилие золота и испытывает от этого большое удовольствие: ему очень приятно видеть себя участником этой картины.
b
Протарх.
Еще бы нет!
Сократ.
Что же? Сказать ли нам, что у хороших людей большей частью запечатлеваются истинные письмена, ибо хорошие люди угодны богам, у дурных же – как раз противоположные? Как по‑твоему?
Протарх.
Нужно сказать именно так.
Сократ.
Значит, и в дурных людях также нарисованы картины удовольствий, но только удовольствия эти, надо полагать, ложные.
Протарх.
Как же иначе?
c
Сократ.
Стало быть, дурные люди большей частью наслаждаются ложными удовольствиями, хорошие же – истинными.
Протарх.
То, что ты говоришь, совершенно необходимо.
Сократ.
Таким образом, согласно этим нашим рассуждениям, в душах людей есть ложные удовольствия и такие же страдания – смешная пародия на истинные.
Протарх.
Да, это есть.
Сократ.
Итак, тот, кто обычно мнит, мнит всегда на самом деле, хотя иногда мнит то, чего нет, не было и не будет.
d
Протарх.
Совершенно верно.
Сократ.
Это, думается мне, и порождает в таких случаях ложное мнение и заставляет мнить ложно. Не так ли?
Протарх.
Так.
Сократ.
Что же? Не должны ли мы приписать страданиям и удовольствиям свойство, соответствующее упомянутому свойству мнений?
Протарх.
Как это?
Сократ.
Так, что в действительности радость испытывает всегда даже тот человек, который обычно радуется попусту, иногда без всякого отношения к тому, что есть и было, и который часто – пожалуй, чаще всего – радуется тому, чего вообще никогда не будет.
e
Протарх.
Да, Сократ, так непременно бывает.
Сократ.
Не применимо ли то же самое рассуждение к страхам, к вспышкам гнева и ко всему подобному, то есть нельзя ли сказать, что все это бывает иногда ложным?
Протарх.
Совершенно верно.
Сократ.
Далее: можем ли мы сказать, что дурные мнения, а также хорошие возникают иначе, чем ложные?
Протарх.
Нет, они возникают так же.
Сократ.
По‑моему, и удовольствия мы считаем дурными по тем же причинам, по каким они бывают ложными.
41
Протарх.
Нет, Сократ, дело обстоит как раз наоборот. Ведь страдания и удовольствия считаются дурными отнюдь не из‑за их ложности, но из‑за того, что их сопровождает другая, большая и многообразная порочность.
Сократ.
О дурных удовольствиях и об удовольствиях, ставших дурными из‑за порочности, мы скажем немного позже, если сочтем нужным. Теперь же следует говорить о ложных удовольствиях, которые во множестве и часто бывают и возникают в нас иным образом. Может быть, это будет полезно нам для наших решений.
b
Протарх.
Да, если только удовольствия эти есть.
Сократ.
Они есть, Протарх, по моему по крайней мере мнению. Пока, однако, это положение сохраняет для нас силу, нельзя, конечно, оставить его неразобранным.
Протарх.
Прекрасно.
Сократ.
Станем же вокруг этого рассуждения, словно борцы!
Протарх.
Давайте.
Сократ.
Если помнишь, немного раньше мы сказали, что наше тело, когда у нас бывают так называемые вожделения, охвачено известными чувствами отдельно от души и помимо нее.
c
Протарх.
Помню, это действительно было сказано.
Сократ.
И то, что стремится к состояниям, противоположным состояниям тела, – это душа, а то, что доставляет страдание или какое‑либо удовольствие, связанное с претерпеванием страдания, – тело. Не правда ли?
Протарх.
Да, это так.
Сократ.
Сообрази же, что вытекает отсюда.
Протарх.
Скажи, что?
Сократ.
Если это так, то выходит, что страдания и удовольствия существуют у нас совместно и в одно и то же время возникают ощущения этих взаимно противоположных состояний, как только что обнаружилось.
Протарх.
Очевидно.
d
Сократ.
А не сказали ли мы также и не согласились ли уже раньше вот относительно чего…
Протарх.
А именно?
Сократ.
Что оба этих состояния, страдание и удовольствие, заключают в себе увеличение и уменьшение и относятся к беспредельному?
Протарх.
Да, это было сказано. Так что же?
Сократ.
Но нет ли какого‑либо средства правильно судить об этом?
Протарх.
Какое именно и как?
e
Сократ.
Так, что мы желаем судить об [удовольствии и страдании], пытаясь во всех подобного рода случаях распознать, какое из этих состояний больше по отношению к другому и какое меньше, какое дано в большей мере и какое сильнее: страдание по отношению к удовольствию, страдание – к страданию и удовольствие – к удовольствию.
Протарх.
Да, это верно, и мы желаем судить именно так.
42
Сократ.
Что же? Если говорить о зрении, то величина предметов зависит от расстояния, что затемняет истину и обусловливает ложность мнений; разве не то же самое происходит со страданиями и с удовольствиями?
Протарх.
В еще большей степени, Сократ.
Сократ.
А ведь немного прежде у нас получилось противоположное.
Протарх.
Что ты имеешь в виду?
Сократ.
Тогда ложные и истинные мнения при своем возникновении сообщали страданиям и удовольствиям свои свойства.
b
Протарх.
Совершенно верно.
Сократ.
Теперь же оказывается, что удовольствия и страдания меняются от созерцания издали или вблизи[1267]
, а также от взаимного сопоставления: удовольствия кажутся большими и более сильными по сравнению с горестями, а горести, наоборот, по сравнению с удовольствиями усиливаются.
Протарх.
Так необходимо должно быть на основании сказанного.
Сократ.
Стало быть, ты отсечешь величину, на которую каждое из этих состояний кажется больше или меньше, чем есть на самом деле, – эту кажущуюся, а не действительную величину – и не скажешь, что она – правильная видимость, а также никогда не посмеешь приходящуюся на нее часть удовольствия и страдания назвать правильной и истинной.
c
Протарх.
Конечно, нет.
Сократ.
Вслед за этим мы посмотрим, не встретим ли на своем пути еще более ложных удовольствий и страданий, обнаруживающихся и действительно находящихся в живых существах.
Протарх.
О каких удовольствиях и страданиях говоришь ты и что ты имеешь в виду?
Сократ.
Не раз уже говорилось, что при разрушении природы живых существ вследствие ли смешений и разделений или вследствие наполнений и опорожнений, а также различных нарастаний и убываний у них возникают печали, страдания, боли и прочее, обозначаемое подобными названиями.
d
Протарх.
Да, об этом говорилось много раз.
Сократ.
Когда же природа живых существ восстанавливается, то такое восстановление принималось нами за удовольствие.
Протарх.
Правильно.
Сократ.
А что, если наше тело не подвергается ни тому ни другому?
Протарх.
Когда же это бывает, Сократ?
Сократ.
Ты задал вопрос, Протарх, вовсе не относящийся к теперешнему нашему рассуждению.
Протарх.
Почему же?
e
Сократ.
Потому что этот вопрос не мешает мне в свою очередь обратиться к тебе с вопросом.
Протарх.
С каким?
Сократ.
Ведь если бы этого не бывало, Протарх, то сказать ли тебе, что отсюда неизбежно бы для нас получилось?
Протарх.
Ты имеешь в виду тот случаи, когда тело но устремляется ни в ту ни в другую сторону?
Сократ.
Да.
Протарх.
Ясно, Сократ, что в этом случае никогда не возникало бы ни удовольствия, ни страдания.
43
Сократ.
Превосходно сказано. Но я полагаю, ты все же держишься того мнения, что нам всегда приходится испытывать какое‑либо из этих состояний, ибо, как говорят мудрецы, всё всегда течет вверх и вниз[1268]
.
Протарх.
Да, говорят, и, по‑моему, неплохо говорят.
Сократ.
Может ли быть иначе, раз и сами мудрецы неплохи. Однако я хочу увернуться от только что приведенного положения и поэтому замышляю бежать, а ты сопровождай меня.
Протарх.
Куда же ты хочешь бежать?
b
Сократ.
Пусть будет по‑вашему, скажем мы мудрецам. Ты же ответь мне, всегда ли одушевленное существо ощущает все то, что оно испытывает, и от нас не ускользает даже то, что мы растем и испытываем другие подобные вещи? Или происходит совсем противоположное?
Протарх.
Разумеется, совершенно противоположное. Почти все подобные состояния ускользают от нас.
Сократ.
Стало быть, мы нехорошо сейчас сказали, что изменения в том или в другом направлении порождают страдания и удовольствия.
Протарх.
Нехорошо.
c
Сократ.
Лучше и точнее сказать следующим образом…
Протарх.
Каким?
Сократ.
Что большие изменения причиняют нам страдания и удовольствия, умеренные же и незначительные совсем не доставляют ни того ни другого.
Протарх.
Да, так будет правильнее, Сократ.
Сократ.
Если это так, то вновь всплывает только что названная нами жизнь.
Протарх.
Какая?
Сократ.
Та, о которой мы сказали, что она и беспечальна, и безрадостна.
Протарх.
Совершенно справедливо.
Сократ.
На основании этого установим три рода жизни: жизнь радостную, жизнь печальную и жизнь, лишенную печалей и радостей. А что сказал бы об этом ты?
d
Протарх.
Я скажу то же, что и ты: есть три рода жизни.
Сократ.
Но не может ли отсутствие страдания оказаться тождественным радости?
Протарх.
Каким же образом?
Сократ.
Если бы ты услышал, что приятнее всего проводить свою жизнь беспечально, то как понимал бы ты это утверждение?
Протарх.
По‑моему, тем самым утверждается, что удовольствие есть отсутствие страдания.
Сократ.
Допусти, что из трех данных нам любых вещей одна – золото
e
(постараемся выразиться как можно красивее), другая – серебро и третья – ни то ни другое.
Протарх.
Пусть так.
Сократ.
Может ли последняя каким‑либо образом стать золотом или серебром?
Протарх.
Ни в коем случае.
Сократ.
Стало быть, судя здраво, всякий считающий среднюю жизнь приятной или печальной имел бы неправильное мнение и говорил бы неправильно, если бы так говорил.
Протарх.
Конечно.
Сократ.
Однако, друг мой, мы знаем, что так говорят и так думают.
44
Протарх.
И очень многие.
Сократ.
Что же? Они думают также, что радуются в то время, когда не печалятся?
Протарх.
Так по крайней мере они говорят.
Сократ.
Следовательно, они действительно думают, что радуются; иначе ведь не говорили бы этого.
Протарх.
По‑видимому.
Сократ.
Так о радости они имеют во всяком случае ложное мнение, если только природа каждого из этих состояний – отсутствия печали или радости – различна.
Протарх.
А она, конечно, различна.
b
Сократ.
Что же? Примем ли мы, как мы сейчас это делали, что таких состояний у нас три, или будем считать, что их только два, причем страдание назовем злом для людей, а прекращение страданий, что само по себе есть благо, – удовольствием?
Протарх.
Как это, Сократ, мы задаем теперь сами себе этот вопрос? Я не понимаю.
Сократ.
Значит, ты, Протарх, действительно не понимаешь противников Филеба[1269]
.
Протарх.
О каких противниках говоришь ты?
Сократ.
О тех, которые считаются весьма искусными исследователями природы и которые утверждают, что удовольствий нет вовсе.
c
Протарх.
Как так?
Сократ.
Они считают бегством от скорбей все то, что единомышленники Филеба называют удовольствием.
Протарх.
Что же, ты советуешь нам верить им, Сократ?
Сократ.
Нет, ими нужно пользоваться как гадателями, которые вещают не с помощью искусства, но в силу некоего неудовольствия, благородного по своей природе, – настроения, свойственного людям, чрезмерно возненавидевшим удовольствие и не находящим в нем ничего здравого, а потому считающим все его обаяние колдовством, но никак не удовольствием.
d
Так вот каким образом пользуйся ими, да прими еще во внимание прочие их причуды. А затем да будет тебе ведомо, что, по моему мнению, существуют истинные удовольствия; таким образом, взвесив силу обоих доводов, мы будем в состоянии применить их к нашему решению.
Протарх.
Правильно.
Сократ.
Последуем же за противниками Филеба как за союзниками по следам их причуд. Я думаю, что они говорят в таком роде, начиная как бы издалека:
e
«Если бы мы пожелали узнать природу какого‑нибудь вида, например твердости, то как узнали бы мы ее – путем рассмотрения наиболее твердых тел или же тел с незначительной твердостью?» Ведь тебе, Протарх, нужно дать ответ и мне, и этим брюзгам.
Протарх.
Совершенно верно, и я говорю им, что нужно рассматривать наибольшее [в своем роде].
45
Сократ.
Стало быть, если мы хотим увидеть, какую природу имеет род удовольствия, то нам нужно смотреть не на малые удовольствия, но на те, которые считаются наивысшими и сильнейшими.
Протарх.
Всякий согласился бы с тем, что ты сейчас говоришь.
Сократ.
А не бывают ли самые доступные и самые сильные удовольствия, по общему мнению, связаны с телом?
Протарх.
Кто стал бы это отрицать?
Сократ.
У кого же их бывает больше: у страдающих от болезней или у здоровых? Поостережемся отвечать необдуманно, а то еще споткнемся. Пожалуй, мы сказали бы, что у здоровых.
b
Протарх.
Пожалуй, что так.
Сократ.
Теперь скажи: не те ли удовольствия отличаются наибольшей силой, которым предшествуют наибольшие вожделения?
Протарх.
Это правда.
Сократ.
Разве больные горячкой и тому подобными болезнями не испытывают более сильной жажды, озноба и всего того, что обычно испытывают посредством тела? Разве они не ощущают большего недостатка и при восполнении его не получают большего удовлетворения? Или мы станем отрицать правильность этого?
Протарх.
То, что ты сейчас сказал, кажется совершенно правильным.
c
Сократ.
Далее. Ведь мы, по‑видимому, окажемся правыми, если станем утверждать, что желающий познакомиться с величайшими удовольствиями должен испытать не здоровье, а болезнь? Не сочти, однако, будто я спрашиваю тебя с целью получить ответ, что очень больные испытывают большее удовольствие, чем здоровые; нет, я исследую величину удовольствия и те случаи, когда о нем уместно сказать «весьма сильное». Ведь мы должны, говорим мы, поразмыслить над тем, какова природа удовольствия и какую природу приписывают ему те, кто утверждает, что его вовсе не существует.
d
Протарх.
Я поспеваю за тем, что ты говоришь.
Сократ.
Быть может, Протарх, ты и сам не хуже меня сумеешь показать все это. Отвечай же, где ты усматриваешь большие удовольствия – я говорю большие не числом, но силой и величиной – в разнузданности или же в разумной жизни? Будь внимателен при ответе.
Протарх.
Я понял, что ты спрашиваешь, и усматриваю тут большое различие. Ведь к разумным людям приложимо вошедшее в поговорку изречение: «Ничего чрез меру»[1270]
, и они повинуются содержащемуся в нем предписанию.
e
Что же касается неразумных и разнузданных до неистовства, то чрезмерное удовольствие, завладевая ими, доводит их до исступления.
Сократ.
Прекрасно. Но если все это так, то ясно, что величайшие удовольствия и величайшие страдания коренятся в некой порочности души и тела, а не в добродетели.
Протарх.
Совершенно верно.
Сократ.
Итак, нужно выбрать некоторые из них и посмотреть, что за свойства побуждают нас называть их величайшими.
46
Протарх.
Обязательно.
Сократ.
Рассмотри же характер удовольствий, присущих следующим болезням…
Протарх.
Каким?
Сократ.
Непристойным, которые особенно ненавистны нашим брюзгам.
Протарх.
Что же это за удовольствия?
Сократ.
Например, лечение трением чесотки и всех тех болезней, что обходятся без других лекарств. Как назовем мы, ради богов, это состояние, когда оно приключается с нами? Удовольствием или страданием?
Протарх.
Это, по‑видимому, Сократ, какое‑то смешанное зло.
b
Сократ.
Мы предложили такой пример, не имея в виду Филеба. Но, Протарх, не рассмотрев этих удовольствий и удовольствий, связанных с ними, мы вряд ли могли бы разрешить вопрос, который сейчас исследуем.
Протарх.
Стало быть, нужно обратиться к удовольствиям, сродным только что названным.
Сократ.
Ты имеешь в виду удовольствия, участвующие в смешении?
Протарх.
Совершенно верно.
c
Сократ.
Бывают смешения телесные – в самих телах и душевные – в душе. Страдания души и тела мы в свою очередь найдем смешанными с удовольствиями, и такая смесь называется иногда удовольствием, иногда – страданием.
Протарх.
Каким образом?
Сократ.
Когда кто‑нибудь при выздоровлении или во время недуга испытывает одновременно противоположные состояния, например, ощущая озноб, согревается, а ощущая жар, зябнет, стремясь, как мне кажется, одно приобрести, а от другого избавиться, то эта трудно разъединяемая, своеобразная смесь горького со сладким сначала раздражает, а затем вызывает жестокое напряжение.
d
Протарх.
Ты говоришь сущую правду.
Сократ.
Не поровну ли в одних из этих смесей скорбей и удовольствий и не больше ли чего‑нибудь одного в других?
Протарх.
Да, конечно.
Сократ.
Я говорю о тех случаях, когда страдание превосходит удовольствие, как это бывает, например, во время чесотки, о которой мы только что упоминали, и зуда. Когда мы испытываем внутренний зуд и горение и трением и чесанием ничего не достигаем, а только распространяем раздражение по поверхности кожи, то,
e
приближая в банях наружные части к огню или к холоду и изменяя их состояние, мы иногда доставляем внутренним частям невыразимые удовольствия, иногда же [ощущение], противоположное тем, которые испытывают наружные части, – это зависит от преобладания страдания или удовольствия в их смеси; при этом мы насильственно разъединяем смешанное и смешиваем разъединенное, испытывая боль и удовольствие сразу.
47
Протарх.
Истинная правда.
Сократ.
Когда во всей этой смеси больше удовольствия, то примесь страдания лишь щекочет и причиняет тихий зуд, значительно же большая доля удовольствия возбуждает, заставляет иногда прыгать, вызывает различную окраску кожи, различные позы и изменение дыхания и, приводя человека в совершенное исступление, исторгает у него безумные вопли. Не правда ли?
Протарх.
Да, конечно.
b
Сократ.
При этом, друг мой, он и сам говорит, и другого убеждает, что, испытывая эти удовольствия, он как бы умирает. И их‑то он постоянно и всячески добивается тем настойчивее, чем более он разнуздан и безумен, называет их величайшими, а людей, преимущественно проводящих жизнь в этих удовольствиях, причисляет к счастливейшим.
Протарх.
Ты рассмотрел, Сократ, все то, что соответствует мнению большинства людей.
c
Сократ.
Да, Протарх, я это сделал относительно тех удовольствий, которые представляют собою смешение внешних и внутренних состояний самого тела. Что же касается удовольствий, при которых душа сообщает телу противоположное состояние – страдание в противоположность удовольствию и удовольствие в противоположность страданию, причем оба они сливаются в одну общую смесь, – то относительно них мы уже раньше установили, что живое существо, опустошаясь, жаждет наполнения и, поскольку надеется получить его, радуется, поскольку же ощущает пустоту, страдает;
d
однако тогда мы не подтвердили этого, теперь же говорим, что во всех этих бесчисленных случаях различных состояний души и тела образуется одна общая смесь страдания и удовольствия.
Протарх.
Нельзя не признать полную истинность твоих слов.
Сократ.
Однако у нас остается еще одна смесь страдания и удовольствия.
Протарх.
Какая же именно?
Сократ.
Та, которую часто воспринимает сама душа.
Протарх.
Каким же образом это происходит?
e
Сократ.
Гнев, страх, тоску, горесть, любовь, ревность, зависть и тому подобные чувства разве ты не считаешь своего рода страданиями души?
Протарх.
Считаю.
Сократ.
А не найдем ли мы, что эти страдания полны необычайных удовольствий? Нужно ли нам напоминать о гневе, который и мудрых в неистовство вводит,
Много слаще, чем мед, стекает он в грудь человека[1271]
,
48
и об удовольствиях рыданий и тоски, примешанных к страданиям?
Протарх.
Не нужно: так именно и бывает в действительности.
Сократ.
Припомни, не это ли самое происходит и на представлениях трагедий, когда зрители в одно и то же время и радуются, и плачут?
Протарх.
Да.
Сократ.
А разве тебе неизвестно, что и в комедиях наше душевное настроение также не что иное, как смесь печали и удовольствия?[1272]
b
Протарх.
Не вполне понимаю.
Сократ.
И в самом деле, Протарх, тут совсем нелегко каждый раз уловить подобное состояние.
Протарх.
Я тоже думаю, что нелегко.
Сократ.
Рассмотрим же это состояние тем внимательнее, чем оно темнее, чтобы легче различить смесь страдания и удовольствия в других случаях.
Протарх.
Продолжай же.
Сократ.
Назовешь ли ты недавно упомянутую нами зависть страданием души? Или нет?
Протарх.
Назову.
Сократ.
А между тем завистник радуется злоключениям ближнего.
c
Протарх.
И даже очень.
Сократ.
Неведение же – зло, и мы называем его состоянием глупости.
Протарх.
Как не называть?
Сократ.
Заключи же отсюда, какова природа смешного.
Протарх.
Поясни, прошу тебя.
Сократ.
Вообще говоря, это порок, получающий свое наименование от некоего свойства. Всем же вообще порокам присуще качество, противоположное тому, о котором гласит дельфийская надпись.
Протарх.
Ты говоришь о надписи: «Познай самого себя»[1273]
, Сократ?
d
Сократ.
Конечно. Ведь ясно, что надпись, гласящая: «Не познай самого себя», была бы противоположна ей.
Протарх.
Разумеется.
Сократ.
Попытайся же, Протарх, произвести здесь трехчастное деление.
Протарх.
Как ты говоришь? Пожалуй, я окажусь неспособным.
Сократ.
Так ты думаешь, что это деление должен произвести я сам?
Протарх.
Да, и больше того – прошу тебя об этом.
Сократ.
Не должен ли каждый не знающий себя человек быть таковым в трех отношениях?
Протарх.
Каким образом?
Сократ.
Во‑первых, в отношении к имуществу такие люди должны воображать себя богаче, чем они есть на самом деле.
e
Протарх.
Да, много людей обманывает себя таким образом.
Сократ.
А еще больше, думаю я, обманывают себя те, которые воображают себя более рослыми и красивыми и вообще отличными от того, чем они являются в действительности, во всем, что касается телесных свойств.
Протарх.
Совершенно верно.
Сократ.
Всего же больше, думаю я, касается это людей, принадлежащих к третьему виду, то есть к тем, кто погрешает в душе своей, воображая себя более добродетельными, чем они есть на самом деле.
Протарх.
Да, таких людей очень много.
49
Сократ.
А из добродетелей не за мудрость ли более всего состязается толпа, всегда спорящая и полная ложной, кажущейся мудрости?
Протарх.
Конечно, за мудрость.
Сократ.
Поэтому, кто назовет все это злом, тот будет прав.
Протарх.
Весьма даже.
Сократ.
Но тут, Протарх, нужно произвести еще одно деление – надвое, если мы хотим усмотреть в ребяческой зависти странную смесь удовольствия и страдания. Но как, спрашиваешь ты, произвести это деление надвое?
b
Люди, неразумно составившие о себе такое ложное мнение, совершенно неизбежно должны, подобно всем вообще людям, либо соответствовать своим крепости и силе, либо нет.
Протарх.
Это неизбежно.
Сократ.
Поэтому и руководствуйся в своем делении названным признаком; ты поступишь правильно, если назовешь смешными тех из них, которые, будучи слабы и неспособны отметить за себя, когда их осмеивают, в то же время держатся о себе ложного мнения. Тех же, кто в силах отметить, назови страшными, гнусными, опасными;
c
ты отдашь себе, таким образом, самый точный отчет в том, что они собой представляют. В самом деле, неведение сильных опасно и постыдно, так как и само оно, и всевозможные его личины пагубны для ближних, неведение же слабых мы относим к разряду смешных по своей природе вещей.
Протарх.
Совершенно верно. Однако смесь удовольствий и страданий во всем этом мне еще не ясна.
Сократ.
Возьми сначала силу зависти.
d
Протарх.
Продолжай.
Сократ.
Бывают ли несправедливые страдания и удовольствия?
Протарх.
Конечно, бывают.
Сократ.
Но разве можно назвать несправедливым или завистливым того, кто радуется злосчастью врагов?[1274]
Протарх.
Разумеется, нет.
Сократ.
Ну а если кто вместо печали испытывает радость при виде злосчастья друзей – справедлив ли такой человек?
Протарх.
Как можно!
Сократ.
А не сказали ли мы, что неведение – зло для всех?
Протарх.
Правильно.
e
Сократ.
Итак, поведя речь о друзьях ложной мудрости и ложной красоты и всего того, о чем мы сейчас рассуждали, и указав, что все это разделяется на три вида, мы назвали смешным все слабое и ненавистным все сильное. Что же: повторим ли мы или нет мое недавнее утверждение, что такое свойство, когда оно безвредно, вызывает смех, даже если оно принадлежит нашим друзьям?
Протарх.
Конечно.
Сократ.
А так как оно – неведение, то не согласились ли мы в том, что оно зло?
Протарх.
Вполне согласились.
Сократ.
Но радуемся ли мы или печалимся, когда смеемся над ним?
50
Протарх.
Ясно, что радуемся.
Сократ.
Не приходим ли мы, таким образом, к выводу, что удовольствие по поводу злосчастья друзей порождается завистью?
Протарх.
Неизбежно.
Сократ.
Итак, наше рассуждение гласит: смеясь над смешными свойствами друзей, сочетая удовольствие с завистью, мы смешиваем удовольствие со страданием. Ибо мы раньше уже согласились, что зависть есть страдание души, смех же – удовольствие, а в этих случаях то и другое бывает у нас одновременно.
Протарх.
Верно.
b
Сократ.
Значит, теперь наше рассуждение указывает нам, что в плачах, а также в трагедиях, разыгрываемых не только на сцене, но вообще во всей трагедии и комедии жизни, и в тысяче других случаев страдание и удовольствие смешаны друг с другом.
Протарх.
Невозможно не согласиться с этим, Сократ, хотя бы кто‑либо и стал отстаивать противное.
Сократ.
В качестве примеров состояний, в которых можно обнаружить разбираемую нами теперь смесь, мы называли гнев, тоску, гордость, страх, любовь, ревность, зависть и тому подобные чувства. Не правда ли?
c
Протарх.
Да.
Сократ.
А все только что законченное рассуждение касалось лишь горести, зависти и гнева; разве это не очевидно?
Протарх.
Как не очевидно!
Сократ.
Следовательно, остается еще многое другое?
Протарх.
Разумеется.
Сократ.
Но, как ты думаешь, почему я показал тебе эту смесь главным образом па примере комедии? Не для того ли, чтобы удостовериться в том, что смешение в страхе, любви и в других [чувствах] показать легко?
d
Постигнув это, я надеюсь, ты позволишь мне не удлинять рассуждение, обращаясь еще и к прочим упомянутым нами чувствам, но просто примешь, что тело и душа, как отдельно друг от друга, так и взятые вместе, постоянно испытывают смесь удовольствия и страданий. Скажи же мне теперь: отпускаешь ли ты меня или хочешь задержать до полуночи? Впрочем, думаю, я буду отпущен тобою, если добавлю, что во всем этом я намерен дать тебе отчет завтра;
e
теперь же я хочу перейти к остальному – к тому решению, которого требует Филеб.
Протарх.
Прекрасно сказано, Сократ. Рассмотри же, как тебе будет угодно, то, что у нас остается.
Сократ.
Следуя естественному порядку, мы должны после смешанных удовольствий перейти к несмешанным.
51
Протарх.
Превосходно.
Сократ.
Итак, я постараюсь показать тебе их оборотную сторону. Как я уже сказал, я не очень‑то верю людям, утверждающим, будто все удовольствия – это прекращение страданий; однако я использую их в качестве свидетелей того, что некоторые удовольствия лишь кажутся таковыми, не будучи ими вовсе на самом деле, другие же, кажущиеся большими и сильными, смешаны со страданиями и прекращением сильнейших болей при тяжелых состояниях тела и души.
b
Протарх.
Ну а если бы кто допустил, что некоторые [из несмешанных удовольствий] истинны, правильным было бы такое предположение?
Сократ.
Это удовольствия, вызываемые красивыми, как говорят, красками, очертаниями, многими запахами, звуками[1275]
и всем тем, в чем недостаток незаметен и не связан со страданием, а восполнение заметно и приятно.
Протарх.
Почему же, Сократ, мы так говорим?
c
Сократ.
Разумеется, не сразу ясно то, что я говорю; постараюсь, однако, разъяснить. Под красотой очертаний я пытаюсь теперь понимать не то, что хочет понимать под ней большинство, то есть красоту живых существ или картин; нет, я имею в виду прямое и круглое, в том числе, значит, поверхности и тела, рождающиеся под токарным резцом и построяемые с помощью линеек и угломеров, если ты меня понимаешь. В самом деле, я называю это прекрасным не по отношению к чему‑либо, как это можно сказать о других вещах, но вечно прекрасным самим по себе, по своей природе и возбуждающим некие особые, свойственные только ему удовольствия, не имеющие ничего общего с удовольствием от щекотания.
d
Есть и цвета, носящие тот же самый характер. Но понятно ли то, что я говорю, или нет?
Протарх.
Я пытаюсь понять, Сократ; однако попытайся и ты говорить яснее.
Сократ.
Я говорю о нежных и ясных звуках голоса, поющего какую‑нибудь цельную и чистую мелодию: они прекрасны не по отношению к чему‑либо другому, но сами по себе и сопровождаются особыми, свойственными им удовольствиями.
Протарх.
Да, это так.
e
Сократ.
Род же удовольствий, доставляемых запахами, менее божествен, чем эти. А то, что к ним не примешиваются неизбежные страдания, какого бы рода ни были и кому бы ни доставлялись эти удовольствия, это я считаю вполне соответствующим названным раньше удовольствиям. Так вот, если ты схватил мою мысль, есть два вида того, что мы называем удовольствиями.
Протарх.
Понимаю.
52
Сократ.
Присоединим к ним еще удовольствия, получаемые от занятий науками, поскольку, как представляется, в них отсутствует жажда познания и поскольку жажда эта изначально не связана с неприятностями.
Протарх.
Да, и мне так кажется.
Сократ.
Ну а что, если насытившиеся науками впоследствии утрачивают свои знания по причине забвения, усматриваешь ли ты в этом какую‑либо неприятность?
Протарх.
Эта горесть не естественна, по рождается в размышлениях о том состоянии, когда кто‑либо, лишившись знания и чувствуя в нем потребность, печалится.
b
Сократ.
Однако теперь, любезнейший, мы имеем дело только с естественными состояниями, не зависящими от размышлений.
Протарх.
Да, ты говоришь правду: забвение знаний никогда не вызывает у нас печали.
Сократ.
Стало быть, нужно сказать, что удовольствия от наук не смешаны с печалью и свойственны отнюдь не многим людям, а лишь небольшому числу.
c
Протарх.
Именно так нужно сказать.
Сократ.
Значит, различив в достаточной мере чистые удовольствия и те, которые по справедливости можно назвать нечистыми, добавим в нашем рассуждении, что в сильных удовольствиях отсутствует мера, а несильным, напротив, свойственна соразмерность. Установим, что удовольствия, которые имеют большую величину и силу и бывают такими то часто, то редко, относятся к роду беспредельного, в большей или меньшей степени проникающему тело и душу, другие же удовольствия отнесем к числу соразмерных.
d
Протарх.
Ты говоришь совершенно верно, Сократ.
Сократ.
Сверх того, нужно рассмотреть еще некоторые свойства удовольствий.
Протарх.
Какие?
Сократ.
Что вообще следует отнести к истине: чистое и несмешанное или же сильное, многочисленное, большое и самодовлеющее?
Протарх.
Чего ты добиваешься своим вопросом, Сократ?
e
Сократ.
Я забочусь, Протарх, о том, чтобы при исследовании удовольствия и знания не было упущено ничего чистого или нечистого, содержащегося в том и другом; пусть все чистое, явившись на суд – мой, твой и всех здесь присутствующих, легче приведет нас к решению.
Протарх.
Совершенно верно.
Сократ.
Так вот, обо всем том, что мы называем чистыми родами, мы будем рассуждать таким способом: выбрав сначала один из них, подвергнем его рассмотрению.
53
Протарх.
Какой же род мы выберем?
Сократ.
Сначала, если хочешь, рассмотрим род белизны.
Протарх.
Прекрасно.
Сократ.
Итак, каким образом она бела и что такое для нас ее чистота? Есть ли она самое большое и многочисленное или же то, что свободно от всякой примеси и в чем не содержится ни частицы другой какой‑либо краски?
Протарх.
Ясно, что она – самое чистое.
Сократ.
Правильно. Не признаем ли мы ее, Протарх, самой истинной и вместе с тем самой прекрасной белизной, а не тем, что встречается чаще всего и больше всего?
b
Протарх.
Совершенно правильно.
Сократ.
Следовательно, если мы скажем, что небольшая чистая белая вещь и белее, и вместе с тем прекраснее и истиннее большой смешанной белой вещи, то наши слова будут совершенно правильны.
Протарх.
Как нельзя более правильны.
Сократ.
По‑видимому, у нас не будет надобности в большом числе таких примеров для рассуждения об удовольствии: довольно и этого, чтобы сообразить, что всякое, даже незначительное и редко выпадающее нам удовольствие, раз оно чисто от страдания, приятнее, истиннее и прекраснее, чем сильное и многочисленное.
c
Протарх.
Да, одного этого примера вполне достаточно.
Сократ.
Ну а что ты скажешь о следующем? Разве не слышали мы об удовольствии, что оно всегда – становление и что никакого бытия у удовольствия нет? Искусники те[1276]
, кто пытается доказать нам это, и мы должны им за это быть благодарны.
Протарх.
Как так?
Сократ.
Я рассмотрю это, задавая тебе, дорогой Протарх, вопросы.
d
Протарх.
Говори же и спрашивай.
Сократ.
Допустим, что существует два [начала]: одно – само по себе, другое же – вечно стремящееся к иному.
Протарх.
Что же это за начала, о которых ты говоришь?
Сократ.
Одно начало по природе своей всегда почтенно, другое же уступает ему в достоинстве.
Протарх.
Скажи еще яснее.
Сократ.
Мы нередко видим благородных юношей в сопровождении их мужественных поклонников.
Протарх.
Весьма часто.
Сократ.
Подыщи же к этим двум другие две вещи, подобные им, среди всех вещей, которые мы считаем существующими.
e
Протарх.
Третий раз повторяю, Сократ, говори яснее, что ты имеешь в виду.
Сократ.
Ничего мудреного, Протарх. Я лишь подшучиваю над нами, говоря, что одно всегда существует для другого существующего, другое же – это то, ради чего всегда возникает возникающее для чего‑либо.
Протарх.
Насилу понял, и то потому, что слова эти были сказаны многократно.
Сократ.
Быть может, дитя мое, ты поймешь и больше, по мере того как рассуждение будет подвигаться вперед.
54
Протарх.
Я надеюсь.
Сократ.
Возьмем же еще две такие вещи.
Протарх.
Какие?
Сократ.
Пусть одна будет становлением всего, а другая – бытием.
Протарх.
Допускаю эти два [начала] –бытие и становление.
Сократ.
Правильно. Какое же из них бывает для какого: становление для бытия или бытие для становления?
Протарх.
Ты спрашиваешь теперь, для становления ли есть то, что оно есть, бытие?
b
Сократ.
Видимо.
Протарх.
Ради богов, не спрашиваешь ли ты меня нечто такое: «Скажи мне, Протарх, кораблестроение, по‑твоему, возникает для кораблей или же корабли для кораблестроения?» – и прочее в том же роде?
Сократ.
Да, именно это.
Протарх.
Почему же, Сократ, ты не отвечаешь сам себе?
Сократ.
Почему бы и не ответить? Однако и ты принимай участие в рассуждении.
c
Протарх.
Хорошо.
Сократ.
Я утверждаю, что лекарства и всякого рода орудия и вещества применяются ко всему ради становления, каждое же определенное становление становится ради определенного бытия, все же становление в целом становится ради всего бытия.
Протарх.
Это совершенно ясно.
Сократ.
Следовательно, удовольствие, если только оно – становление, необходимо должно становиться ради какого‑либо бытия.
d
Протарх.
Как же иначе!
Сократ.
Стало быть, то, ради чего всегда становится становящееся ради чего‑то, относится к области блага; становящееся же ради чего‑то нужно отнести, любезнейший, к другой области.
Протарх.
Совершенно необходимо.
Сократ.
Следовательно, если удовольствие есть становление, то мы правильно поступим, отнеся его к другой области, а не к области блага. Не так ли?
Протарх.
Как нельзя более правильно.
Сократ.
Стало быть, как я сказал уже в начале этого рассуждения, мы должны быть благодарны тому, кто говорит, что удовольствие – это становление и никакого бытия у него нет; ясно, что он осмеёт тех, кто утверждает, что удовольствие есть благо.
Протарх.
Еще как осмеёт.
e
Сократ.
И конечно, такой человек будет каждый раз осмеивать и тех, кто успокаивается на становлении.
Протарх.
Как так? Кого ты имеешь в виду?
Сократ.
Всех тех, кто, утоляя голод, жажду и вообще все, что утоляется становлением, радуются благодаря становлению, так как оно – удовольствие, и говорят, что они не пожелали бы жить, не томясь жаждой, голодом и так далее и не испытывая наступающих в результате всего этого состояний.
55
Протарх.
Похоже на это.
Сократ.
Но противоположностью становления все мы назвали бы разрушение, не так ли?
Протарх.
Необходимо назвали бы.
Сократ.
Стремящийся [к удовольствию] избирает, следовательно, разрушение и становление, а не ту третью жизнь, в которой нет ни радости, ни печали, а только разумение, сколь возможно чистейшее.
Протарх.
Да, Сократ, получается, видно, большая нелепость, если кто‑нибудь изображает нам удовольствие в виде блага!
Сократ.
Большая, особенно если мы прибавим к сказанному еще следующее.
Протарх.
Что?
b
Сократ.
Разве не нелепо думать, что блага и красоты нет ни в телах, ни во многом другом и что они заключены только в душе? Да и здесь все сводится к одному удовольствию, мужество же, рассудительность, ум и другие блага, выпадающие на долю души, не таковы. К тому же при этих условиях не получающий удовольствия, страдающий вынужден был бы сказать, что он дурен, когда страдает, хотя бы он был самым лучшим из. людей, а получающий его, напротив, что, чем более он его получает, тем более преуспевает в добродетели в это время.
c
Протарх.
Все это, Сократ, как нельзя более нелепо.
Сократ.
Пусть, однако, не кажется, будто мы стараемся дать исчерпывающее исследование удовольствия и в то же время всячески избегаем касаться ума и знания. «Обстучим» же все это потщательнее, нет ли здесь где‑нибудь изъяна[1277]
, пока не обнаружим чистейшее по природе и не воспользуемся для общего решения самыми истинными частями как ума и знания, так и удовольствия.
d
Протарх.
Правильно.
Сократ.
Итак, не следует ли допустить, что одна сторона нашего знания, обращенная на науки, – творческая, другая же – воспитательная и образовательная? Или это не так?
Протарх.
Так.
Сократ.
Что касается искусств, то обсудим сначала, не содержат ли в себе одни из них больше знания, а другие – меньше и нужно ли одни из них считать чистейшими, другие же – менее чистыми.
Протарх.
Конечно, следует поступить именно так.
Сократ.
Мы должны, стало быть, в каждом из них выделить руководящие части.
e
Протарх.
Какие и каким образом?
Сократ.
Допустим, что кто‑нибудь выделит из всех искусств арифметику, измерительное искусство и искусство взвешивания, – в таком случае остальное окажется, так сказать, несущественным.
Протарх.
Конечно, несущественным.
56
Сократ.
После этого осталось бы заняться подражанием, то есть уподоблением, упражнением ощущений с помощью навыка, опыта и способностей к угадыванию, все это многие называют искусствами, могущими достигать совершенства благодаря упражнению и труду.
Протарх.
То, что ты говоришь, совершенно необходимо.
Сократ.
А этим полна прежде всего музыка, строящая созвучие не на размере, но на упражнении чуткости; такова же и вся часть музыки, относящаяся к кифаристике, потому что она ищет меру всякой приводимой в движение струны по догадке, так что содержит в себе много неясного, устойчивого же мало.
b
Протарх.
Совершенно верно.
Сократ.
Такие же свойства мы обнаружим у врачебного искусства, земледелия, искусства управлять кораблями и военного искусства.
Протарх.
Разумеется.
Сократ.
Что же касается строительного искусства, то, по‑моему, оно пользуется многочисленными мерами и орудиями, которые сообщают ему большую точность и ставят его выше многих наук.
Протарх.
В каких случаях?
Сократ.
В кораблестроении, в постройке жилищ и во многих других отраслях плотничьего искусства. Ибо оно применяет отвес, токарный резец, циркуль, плотничий шнур и хитро сделанный прибор – тиски.
c
Протарх.
Ты правильно говоришь, Сократ.
Сократ.
Разделим, значит, надвое так называемые искусства: одни в своих творениях следуют музыке и причастны меньшей точности, другие же приближаются к строительному искусству и более точны.
Протарх.
Пусть будет так.
Сократ.
Точнейшими из них будут те искусства, которые мы только что назвали первыми.
Протарх.
Ты, вероятно, имеешь в виду арифметику и те искусства, которые ты назвал вместе с нею.
d
Сократ.
Совершенно верно. Но не следует ли, Протарх, и эти искусства в свою очередь разделить надвое? Как, по‑твоему?
Протарх.
О каких искусствах ты говоришь?
Сократ.
Во‑первых, об арифметике. Не следует ли одну ее часть назвать искусством большинства, другую же – искусством философствующих?
Протарх.
На основании какого же признака можно установить различие между двумя этими частями арифметики?
Сократ.
Различие здесь немалое, Протарх. Одни ведь подвергают счету и нарицательные единицы того, что можно подсчитывать, например: два лагеря, два быка и два самых малых или же два величайших предмета.
e
Другие же никогда не последуют за ними, если только не будет допущено, что между многими тысячами [подлежащих счету] единиц не существует никакого различия.
Протарх.
Ты прекрасно изображаешь немаловажное различие, существующее между людьми, корпящими над числом; так что есть достаточное основание различать две арифметики.
57
Сократ.
Ну а что ты скажешь относительно искусства счета и измерения, применяемых при постройке домов и в торговле, в отличие от геометрии и вычислений, применяемых в философии: нужно ли назвать то и другое одним искусством или же допустить два?
Протарх.
Следуя прежнему, я со своей стороны подал бы голос за то, что они представляют собой два искусства.
Сократ.
Правильно. Но понимаешь ли ты, ради чего мы сделали на этом ударение?
Протарх.
Может быть, и понимаю, но я желал бы, чтобы ты сам ответил на этот вопрос.
b
Сократ.
Мне кажется, что наше рассуждение пришло к этому, ища так же рьяно, как вначале, то, что соответствует удовольствиям, то есть исследуя, бывает ли какое‑то знание чище другого[1278]
, подобно тому как это обстоит с удовольствиями.
Протарх.
Да, совершенно ясно, что рассуждение было предпринято ради этой цели.
Сократ.
Итак, что же? Не было ли найдено раньше, что одно искусство оказывается то более, то менее ясным, чем другое?
Протарх.
Совершенно верно.
Сократ.
А после того как мы назвали в наших рассуждениях какое‑то искусство одним именем и выразили мнение, что оно едино, снова возникает вопрос,
c
не два ли это искусства и не точнее ли будет отнести то, что в них ясно и чисто, к искусству философствующих, чем к искусству нефилософствующих.
Протарх.
Мне кажется, что наше рассуждение действительно приводит к этому вопросу.
Сократ.
Какой же ответ, Протарх, мы дадим на него?
Протарх.
В отношении ясности знаний мы обнаружили, Сократ, поразительное различие.
Сократ.
Тем легче будет нам ответить. Не так ли?
Протарх.
Почему же нет? Скажем, что эти искусства сильно отличаются от прочих, и те из них,
d
которые входят в круг занятий истинно философствующих, отличаются необычайной точностью и истинностью в отношении мер и чисел.
Сократ.
Пусть будет по‑твоему; опираясь на твои слова, мы смело дадим ответ мастерам растягивать речи.
Протарх.
Какой ответ?
Сократ.
Что существуют две арифметики и два искусства измерения и что эта двойственность присуща всем другим смежным с ними искусствам того же рода, хотя каждое из них и носит одно и то же имя.
e
Протарх.
В добрый час, Сократ. Дадим этот ответ мастерам, как ты их называешь.
Сократ.
Итак, мы утверждаем, что эти знания [философствующих] особенно точны?
Протарх.
Совершенно верно.
Сократ.
По наша способность к диалектике пристыдила бы нас, Протарх, если бы мы предпочли ей какую‑либо другую.
58
Протарх.
Как же нам описать эту способность?
Сократ.
Очевидно, как ту, которая знала бы всякое только что упомянутое искусство, ибо, кажется мне, все, в ком есть хоть немного ума, считают познание бытия, подлинного и вечно тождественного по своей природе, гораздо более истинным. А ты что думаешь? Как, Протарх, стал бы ты судить об этом?
Протарх.
Я, Сократ, много раз слышал от Горгия[1279]
, что искусство убеждать значительно отличается от всех других искусств, так как оно всех их заставляет рабски служить себе добровольно, а не насильно,
b
и что оно гораздо лучше всех искусств. Мне не хотелось бы выступать ни против тебя, ни против него.
Сократ.
Ты как будто намеревался сказать: «выступить с оружием», но, устыдившись, сложил его.
Протарх.
Пусть будет так, как тебе кажется.
Сократ.
Виноват ли я, что ты неправильно понял?
Протарх.
Что именно?
Сократ.
Я ведь не занимался, дорогой Протарх, исследованием того, какое искусство или какое знание превосходит прочие своей величиной, своим достоинством и приносимой нам пользой;
c
нет, предмет нашего исследования теперь – искусство, рассматривающее то, что ясно, точно и наиболее истинно, хотя бы все это было незначительным по размерам и приносило ничтожную пользу. Поверь: ты нисколько не досадишь Горгию, соглашаясь, что его искусство способно приносить пользу людям; я же говорю о только что упомянутом мною занятии, которое я имел в виду, когда утверждал по поводу белизны, что, будучи чистой, она, даже если ее мало, превосходит, благодаря этому истинному своему свойству, большую массу нечистой белизны.
d
Так вот, основательно взвесив и достаточно обсудив все это, мы смотрим теперь не на пользу и громкую славу знаний, а на то, присуща ли нашей душе способность любить истину и все делать ради нее. Об этой‑то способности нам и предстоит сказать, расследуя чистоту ума и разумения, действительно ли мы должны приобретать ее или же нам надо искать другую, более сильную.
e
Протарх.
Я внимательно слежу за тобой и думаю, что трудно допустить, чтобы какое‑либо другое знание или искусство было больше прикосновенно к истине, чем то, которое ты имеешь в виду.
Сократ.
Не в том ли смысле нужно понимать эти твои слова, что большинство искусств и все люди, трудящиеся над ними, пользуются прежде всего мнениями и усиленно исследуют все, что касается мнения?
59
А если кто и полагает, что изучает природу, то, как ты знаешь, такой человек всю свою жизнь исследует этот вот космос, как он возник, что он претерпевает и как творит. Признаем мы это или нет?
Протарх.
Признаем.
Сократ.
Значит, такой человек затрачивает свой труд не на вечное бытие, но на возникающее, долженствующее возникнуть и возникшее[1280]
.
Протарх.
Сущая правда.
b
Сократ.
Вправе ли мы, однако, назвать что‑либо из этого ясным в смысле точнейшей истины, коль скоро здесь никогда не было, не будет и в настоящем нет ничего тождественного?
Протарх.
Никоим образом.
Сократ.
А можем ли мы вообще получить что‑либо устойчивое относительно того, что не содержит в себе никакой устойчивости?
Протарх.
Я думаю, что это совершенно невозможно.
Сократ.
Стало быть, нет такого ума и такого знания, которые обладали бы высшей истиной относительно этого.
Протарх.
Похоже, что нет.
Сократ.
Оставим же сразу всех – тебя, меня, Горгия и Филеба – и засвидетельствуем нашим рассуждением следующее…
c
Протарх.
Что именно?
Сократ.
Что устойчивое, чистое, истинное и то, что мы называем беспримесным, может быть направлено либо на это, то есть на вечно пребывающее тождественным себе и совершенно несмешанным, либо на то, что наиболее сродно с ним; все прочее надо назвать второстепенным и менее значительным.
Протарх.
Ты говоришь сущую правду.
Сократ.
Не будет ли наиболее справедливым назвать прекрасные эти вещи прекрасными именами?
Протарх.
Конечно.
Сократ.
А не самые ли почтенные имена – «ум» и «разумение»?
d
Протарх.
Да.
Сократ.
Стало быть, если эти имена правильно применены к мыслям о подлинном бытии, то их можно назвать вполне подходящими.
Протарх.
Совершенно верно.
Сократ.
А ведь имена, которые я предложил обсудить в самом начале, были как раз вот эти.
Протарх.
Да, Сократ.
Сократ.
Хорошо. Итак, если бы кто‑нибудь сказал нам, точно творцам, о смеси разумения и удовольствия,
e
что они лежат перед нами, как то, из чего и в чем нужно что‑либо изготовить, тот дал бы, таким образом, хорошее сравнение.
Протарх.
И даже очень.
Сократ.
Так не попытаться ли нам произвести это смешение?
Протарх.
Почему бы нет?
Сократ.
Но не правильнее ли будет предварительно сказать и напомнить себе следующее…
Протарх.
Что именно?
Сократ.
То, что мы и раньше вспоминали: есть хорошая пословица, что дважды и трижды нужно повторять прекрасное[1281]
.
60
Протарх.
Почему бы и нет.
Сократ.
Ну так с богом! Сказанное тогда, думается мне, было сказано вот как…
Протарх.
Как?
Сократ.
Филеб утверждал, что удовольствие – правильная цель для всех живых существ и все они должны к ней стремиться, что это – благо для всех и оба этих наименования – «хорошее» и «приятное» – справедливо прилагаются к единой вещи одной природы.
b
Сократ же утверждал, что вещь эта не одна, но, согласно именам, их две и что благо и удовольствие имеют отличную друг от друга природу и области блага более причастно разумение, чем удовольствие. Не так ли было сказано тогда, Протарх?
Протарх.
Именно так.
Сократ.
Однако не были ли мы согласны в этом и тогда, и теперь?
Протарх.
В чем?
Сократ.
В том, что природа блага отличается от всего прочего.
c
Протарх.
Чем, Сократ?
Сократ.
Тем, что живое существо, которому оно во всех отношениях, всегда и вполне присуще, никогда не нуждается ни в чем другом, но пребывает в совершенном довольстве. Не так ли?
Протарх.
Именно так.
Сократ.
А не пытались ли мы в своем рассуждении ввести порознь удовольствие и разумение в жизнь каждого – удовольствие, не смешанное с разумением, и разумение, не содержащее в себе ни малейшей примеси удовольствия?
d
Протарх.
Пытались.
Сократ.
Но не показалось ли нам тогда, что ни то ни другое само по себе ни для кого не достаточно?
Протарх.
Как не показаться!
Сократ.
Если же мы сделали тогда какое‑либо упущение, то пусть теперь кто‑нибудь, возвратившись к нашей теме, найдет более правильное решение, отнеся к одной и тон же идее память, разумение, знание и истинное мнение и исследуя, захочет ли кто без них какого бы то ни было бытия или становления, не говоря уж об удовольствии, как бы велико и сильно оно ни было;
e
захочет ли он всего этого, если у него не будет ни истинного мнения о том, что оно доставляет радость, ни какого бы то ни было сознания испытываемого им состояния, ни памяти об этом состоянии в течение хотя бы самого малого времени? То же самое следует сказать и о разумении: предпочтет ли кто‑нибудь разумение без всякого, даже самого краткого, удовольствия разумению, соединенному с некоторыми удовольствиями, или, с другой стороны, всяческие удовольствия без разумения удовольствию, исполненному разумности?
Протарх.
Все это невозможно, Сократ, и нет надобности так часто возвращаться к этим вопросам.
61
Сократ.
Стало быть, совершенное, для всех желанное и всеблагое не может быть ни удовольствием, ни разумением?
Протарх.
Как можно!
Сократ.
Возьмем же благо либо непосредственно, либо в виде какого‑нибудь образца, чтобы можно было знать, чему присудить вторую награду, о которой мы говорили раньше.
Протарх.
Совершенно верно.
Сократ.
Не нашли ли мы некой тропки к благу?
Протарх.
Какой?
b
Сократ.
Ведь если мы, отыскивая какого‑нибудь человека, сначала узнаём о точном его местопребывании, это – не правда ли – очень содействует нахождению искомого?
Протарх.
Как не содействовать!
Сократ.
И теперь наше рассуждение показывает нам, как вначале, что благо нужно искать не в беспримесной жизни, а в смешанной.
Протарх.
Совершенно верно.
Сократ.
Больше ли надежды на то, что искомое будет яснее видно в хорошо смешанном, чем в смешанном неладно?
Протарх.
Гораздо больше.
Сократ.
Так начнем же смешивать, Протарх, вознося молитву – Дионису, Гефесту[1282]
или другому богу, чей почетный удел это смешение.
c
Протарх.
Отлично.
Сократ.
Перед нами, точно пред виночерпиями, текут две струи; одну из них – струю удовольствия – можно сравнить с медом, другая – струя разумения, – отрезвляющая и без примеси вина, походит на грубую и здоровую воду. Вот их‑то и нужно постараться смешать как можно лучше.
Протарх.
Отчего же не смешать?
Сократ.
Прежде всего: получили бы мы особенно хорошую смесь, если бы стали смешивать все виды удовольствия со всеми видами разумения?
d
Протарх.
Быть может.
Сократ.
Но это небезопасно. А как смешать безопаснее – на этот счет я, кажется, составил себе некоторое мнение.
Протарх.
Скажи, какое это мнение.
Сократ.
Действительно ли мы нашли, что одно удовольствие, как мы думаем, истиннее другого, равно как и одно искусство точнее другого?
Протарх.
Конечно, нашли.
Сократ.
И знание отлично от знания, поскольку одно направлено па возникающее и погибающее, другое же на то, что не возникает и не погибает,
e
но вечно пребывает тождественным и неизменным. Имея в виду истину, мы сочли это последнее знание более подлинным, чем первое.
Протарх.
И правильно сочли.
Сократ.
Итак, если мы смешаем сначала самые истинные части того и другого, то увидим ли, что этой смеси достаточно, чтобы доставить нам самую желанную жизнь, или же мы будем нуждаться еще в чем‑либо?
62
Протарх.
Мне по крайней мере кажется, что нужно произвести указанное тобой смешение.
Сократ.
Возьмем в таком случае человека, разумеющего, что такое справедливость сама по себе, и речь которого соответствует его мысли; пусть он таким же образом мыслит обо всем вообще существующем.
Протарх.
Пусть будет так.
Сократ.
Достигнет ли он достаточного знания, имея понятие относительно круга и самой божественной сферы, человеческой же нашей сферы и кругов не ведая,
b
но пользуясь при постройке домов и в других искусствах правилом и циркулем?
Протарх.
Мы окажемся, Сократ, в смешном положении, если будем иметь дело только с божественными знаниями.
Сократ.
Что ты говоришь? Неужели необходимо привнести и примешать сюда ненадежное и нечистое искусство ложного правила и ложного круга?
Протарх.
Необходимо, если кто из нас на самом деле хочет отыскать путь к себе домой.
c
Сократ.
Неужели и музыку придется взять, которая, как мы немного раньше говорили, построена на угадывании и подражании и которой недостает чистоты?
Протарх.
Мне кажется, она необходима, если только мы хотим, чтобы наша жизнь хоть сколько‑нибудь походила на жизнь.
Сократ.
Ты, видно, хочешь, чтобы я, как толкаемый и теснимый толпой привратник, уступил и, распахнув ворота, позволил всем знаниям вливаться в них и чистому перемешиваться с недостаточно чистым?
d
Протарх.
Не понимаю, Сократ, какой вред будет нам, если, обладая главными знаниями, мы примем также все прочие?
Сократ.
Значит, нужно пустить их все стекать в водоем поэтической долины Гомера?[1283]
Протарх.
Да, конечно.
Сократ.
Ну пусть текут! Однако теперь нужно возвратиться к источнику удовольствия. В самом деле, нам не удалось смешать знания, как мы задумали, то есть вводя в смесь сначала лишь части истинных знаний,
e
так как, любя все знания, мы все их пустили в одно и то же место, и притом раньше удовольствий.
Протарх.
Сущая правда.
Сократ.
Теперь пора нам столковаться относительно удовольствий: следует ли и их пускать все вместе, или же в этом случае мы также должны позволить пройти сначала тем из них, которые истинны?
Протарх.
Безопасности ради гораздо лучше сначала впустить истинные.
Сократ.
Хорошо, впустим их. Что же затем? Не примешать ли сюда еще и некоторые удовольствия, если они окажутся необходимыми, как это мы делали по отношению к знаниям?
Протарх.
Как же иначе? Необходимые уж само собою.
63
Сократ.
Так как знание всех искусств в течение всей жизни оказалось безвредным и даже полезным, то мы говорим теперь то же самое об удовольствиях: если для всех нас будет полезно и нисколько не вредно получать их всю жизнь, то нужно их все смешать.
Протарх.
Что же, однако, мы скажем относительно их? И как мы поступим?
Сократ.
Не к нам, Протарх, следует обращаться с этим вопросом, но к самим удовольствиям и знаниям и у них самих выпытывать это друг о друге.
b
Протарх.
Что именно?
Сократ.
«О милые! Как бы ни называть вас – Удовольствиями или каким‑то другим именем – предпочитаете ли вы жить совместно со всяческим разумением или отдельно от него?» Думаю, что на это Удовольствия необходимо ответили бы следующее…
Протарх.
Что?
Сократ.
«Согласно сказанному раньше, отдельный и одинокий несмешанный род и не очень возможен, и бесполезен.
c
Мы считаем, что из всех родов, если сравнивать их друг с другом, лучшим для сосуществования с нами будет род совершеннейшего познания всех вещей и каждой из наших способностей в особенности».
Протарх.
«Вы прекрасно ответили сейчас», – скажем мы на это.
Сократ.
Правильно. После этого нам остается обратиться с вопросом к Разумению и Уму: «Нуждаетесь ли вы в смешении с удовольствиями?» В ответ на этот вопрос Ум и Разумение, вероятно, скажут: «С какими?»
d
Протарх.
Возможно, они так скажут.
Сократ.
Наши слова после этого будут таковы: «Удовлетворитесь ли вы истинными удовольствиями, или же вам нужна еще связь с величайшими и сильнейшими?» – «Как так, Сократ? – возможно, ответят они. – Ведь эти удовольствия доставляют нам тысячи затруднений, смущая своим неистовством души, в которых мы обитаем; с самого начала они не дают возникнуть нам самим, а рожденных нами детей большей частью совершенно губят, внушая нам, по нашей беспечности, забвение о них.
e
Удовольствия же, названные тобой истинными и чистыми, считай почти что нашими родственниками, да, кроме того, присоедини к ним удовольствия, вызываемые здоровьем, рассудительностью и любой добродетелью и всюду следующие за последней, словно спутники за богиней. Напротив, что касается удовольствий, постоянно сопровождающих неразумие и прочие пороки, то примешивать их к уму было бы, конечно, величайшей нелепостью со стороны того, кто желает получить
64
самую прекрасную и устойчивую смесь и пытается узнать по ней, что такое естественное благо в человеке и во Вселенной и какую идею нужно угадать в этой смеси». Разве не разумно и не в согласии со своей природой отвечает этими словами ум за себя, за память и за правильное мнение?[1284]
Протарх.
Совершенно разумно.
Сократ.
Однако вот что еще необходимо и без чего ничто никогда не могло бы возникнуть…
b
Протарх.
Что именно?
Сократ.
К чему мы не примешиваем истину, то никогда не может на самом деле возникнуть, а возникнув, существовать.
Протарх.
Да и как оно могло бы?
Сократ.
Никак. Но может быть, в этой смеси недостает еще чего‑либо? Я обращаюсь к тебе и Филебу. Мне же теперешнее рассуждение кажется совершенным, точно некий бесплотный космос, прекрасно властвующий над одушевленным телом.
c
Протарх.
Будь уверен, Сократ, что и мне так кажется.
Сократ.
Стало быть, если бы мы теперь сказали, что уже стоим в преддверии обители блага, то наши слова были бы в некотором роде правильны.
Протарх.
Мне так кажется.
Сократ.
Что же в этой смеси покажется нам самым драгоценным и вместе с тем главной причиной того, что такое состояние всех привлекает? Выяснив это, мы затем рассмотрим, чему названная причина в целом более сродна и более свойственна – удовольствию или уму.
d
Протарх.
Правильно; это будет весьма полезно для решения.
Сократ.
Но ведь нетрудно увидеть причину всякого смешения, вследствие которой смесь либо оказывается самой ценной, либо не стоит решительно ничего.
Протарх.
Что ты имеешь в виду?
Сократ.
Да ведь это известно каждому.
Протарх.
Что именно?
Сократ.
Всякая смесь, если она ни в какой степени не причастна мере и соразмерности, неизбежно губит и свои составные части, и прежде всего самое себя.
e
Ибо при таких условиях это не смесь, но поистине какая‑то беспорядочная масса, всегда приносящая беду ее обладателям.
Протарх.
Совершенно верно.
Сократ.
Вот теперь сила блага перенеслась у нас в природу прекрасного, ибо умеренность и соразмерность всюду становятся красотой и добродетелью.
Протарх.
Без сомнения.
Сократ.
Но мы сказали, что к соединению их примешана также истина.
Протарх.
Разумеется.
Сократ.
Итак, если мы не в состоянии уловить благо[1285]
одной идеей, то поймаем его тремя – красотой, соразмерностью и истиной;
65
сложив их как бы воедино, мы скажем, что это и есть действительная причина того, что содержится в смеси, и благодаря ее благости самая смесь становится благом.
Протарх.
Это как нельзя более верно.
Сократ.
Стало быть, Протарх, теперь всякий из нас может быть сведущим судьей относительно удовольствия и разумения: которое из них более сродно высшему благу и что драгоценнее у людей и у богов.
b
Протарх.
Видимо, так, хотя лучше рассмотреть это путем рассуждения.
Сократ.
Будем же судить об отношении трех [названных начал] к удовольствию и уму, беря их порознь. Ибо нужно посмотреть, к удовольствию или к уму мы отнесем каждое из них как более сродное.
Протарх.
Ты имеешь в виду красоту, истину и меру?
Сократ.
Да. Прежде всего возьми, Протарх, истину. Взяв ее и присмотревшись к трем [началам] –
c
уму, истине и удовольствию, выжди подольше и затем отвечай самому себе, что более сродно истине – удовольствие или ум?
Протарх.
К чему тут время? Думаю, что между ними – большое различие. Ведь, как говорят, ничему так не присуща хвастливость, как удовольствию, а в любовных наслаждениях, которые кажутся самыми сильными, боги прощают даже клятвопреступление, так как наслаждения, словно дети, лишены всяких признаков ума. Ум же либо тождествен с истиной, либо всего более ей подобен и близок.
d
Сократ.
Вслед за этим рассмотри таким же образом умеренность: удовольствие ли обладает ею в большей степени, чем разумение, или разумение в большей степени, чем удовольствие?
Протарх.
И эту предложенную тобой задачу решить нетрудно. Я думаю, в целом мире нельзя найти ничего столь неумеренного по природе, как удовольствие и ликование, и. ничего столь проникнутого мерой, как ум и знание.
e
Сократ.
Прекрасно сказано. Но упомяни еще и о третьем: в большей ли степени причастен наш ум красоте, чем род удовольствия, – так что он прекраснее последнего, или же наоборот?
Протарх.
Что касается разумения и ума, Сократ, то никто никогда ни наяву, ни во сне не видел и не думал никоим образом, что ум был, есть или будет безобразным.
Сократ.
Правильно.
Протарх.
Что же касается удовольствий, и притом, пожалуй, величайших, то, когда мы видим кого‑либо им предающегося и подмечаем в них либо нечто смешное,
66
либо в высшей степени безобразное, мы и сами стыдимся и стараемся отвернуться, предоставляя все это ночи, как то, что не должно видеть свету.
Сократ.
Стало быть, ты, Протарх, будешь всячески утверждать, и через вестников и лично обращаясь к присутствующим, что удовольствие не есть ни первое достояние, ни даже второе, но что на первом месте как бы стоит все относящееся к мере, умеренности и своевременности и все то, что, подобно этому, принадлежит вечности.
Протарх.
Из сказанного сейчас это представляется очевидным.
b
Сократ.
Второе место занимают соответствующее, прекрасное, совершенное, самодовлеющее и все то, что относится к этому роду.
Протарх.
Похоже на то.
Сократ.
Поставив же на третье место, согласно моей догадке, ум и разумение, ты, я думаю, не очень уклонишься от истины.
Протарх.
Пожалуй.
Сократ.
Ты не ошибешься также, отведя четвертое место сверх только что названных трех тому, что было признано нами свойствами самой души, – знаниям, искусствам и так называемым правильным мнениям,
c
коль скоро все это более родственно благу, чем удовольствие. Не правда ли?
Протарх.
Может быть.
Сократ.
Не поставить ли на пятом месте те удовольствия, которые мы определили как беспечальные и назвали чистыми удовольствиями самой души, сопровождающими в одних случаях знания, а в других – ощущения?
Протарх.
Пожалуй.
Сократ.
«На шестом же колене[1286]
, – говорит Орфей, – прервите песенный строй». По‑видимому, и наше рассуждение прерывается на шестом выводе. После этого нам остается лишь увенчать сказанное заключение[1287]
.
d
Протарх.
Да, это следует сделать.
Сократ.
Итак, третья чаша – богу‑хранителю[1288]
. Давайте вновь пересмотрим наше рассуждение и подкрепим его доводами.
Протарх.
Какое рассуждение?
Сократ.
Филеб утверждал, что удовольствие есть полное и совершенное благо.
Протарх.
Ты, Сократ, сказал только что: «третья», разумея, видно, что нужно еще раз обозреть наше рассуждение с самого начала.
e
Сократ.
Да. Выслушаем же следующее. Предвидя все то, что нами теперь рассмотрено, и досадуя на довод, приводимый не только Филебом, но часто и многими другими, я сказал, что в человеческой жизни ум гораздо лучше и превосходнее, чем удовольствие.
Протарх.
Это было.
Сократ.
Подозревая при этом, что существует много другого в таком же роде, я сказал, что, если обнаружится нечто лучшее, чем ум и удовольствие, я буду сражаться за второе место для ума, против удовольствия, и это последнее лишится даже второго места.
67
Протарх.
Да, ты говорил это.
Сократ.
Но потом наиболее удовлетворительным оказалось то, что ни одно ни другое не удовлетворительно.
Протарх.
Сущая правда.
Сократ.
Не были ли в тогдашнем рассуждении совершенно отброшены и ум, и удовольствие как лишенные самодовлеющего значения, а также достаточности и совершенства, ибо ни то ни другое не оказалось благом?
Протарх.
Вполне правильно.
Сократ.
Когда же обнаружилось иное, третье [начало], лучшее каждого из упомянутых двух, ум оказался бесконечно более близок и сроден по своей природе с победившей его идеей, чем удовольствие.
Протарх.
Без сомнения.
Сократ.
Таким образом, согласно приговору, вынесенному теперешним рассуждением, способность к удовольствиям должна занимать пятое место.
b
Протарх.
По‑видимому.
Сократ.
Первое же место ей ни в каком случае не принадлежит, хотя бы это утверждали все быки, лошади и прочие животные на том основании, что сами они гоняются за удовольствиями. Веря им, как гадатели верят птицам, большинство считает удовольствия лучшим, что есть в жизни, и готово скорее руководствоваться скотскими похотями, чем страстью к вещаниям философской Музы.
Протарх.
Мы все теперь согласны, Сократ, что ты говоришь совершенную истину.
Сократ.
Значит, вы отпускаете меня?
Протарх.
Осталось еще немногое, Сократ, и ты, конечно, не уйдешь отсюда раньше нас. А я напомню тебе, что еще остается.
Перевод H. В. Самсонова.
В кн.: Платон. Собр. соч. в 4‑х томах. Том 3. М.: «Мысль», 1994
XXVI. ГОСУДАРСТВО
КHИГА I
Сократ, Главкон, Полемарх, Фрасимах, Адимант, Кефал
327
[Сократ]. Вчера я ходил в Пирей вместе с Главконом, сыном Аристона, помолиться богине, а кроме того, мне хотелось посмотреть, каким образом справят там ее праздник, – ведь делается это теперь впервые.
b
Прекрасно было, по‑моему, торжественное шествие местных жителей, однако не менее удачным оказалось и шествие фракийцев[1289]
. Мы помолились, насмотрелись и пошли обратно в город.
Увидев издали, что мы отправились домой, Полемарх, сын Кефала, велел своему слуге догнать нас и попросить, чтобы мы его подождали. Слуга, тронув меня сзади за плащ, сказал:
– Полемарх просит вас подождать его.
Я обернулся и спросил, где же он.
– А вон он идет сюда, вы уж, пожалуйста, подождите.
– Пожалуйста, мы подождем, – сказал Главкон.
c
Немного погодя подошел и Полемарх, а с ним Адимант, брат Главкона, и Никерат, сын Никия, и еще кое‑кто, вероятно, с торжественного шествия. Полемарх сказал:
– Мне кажется, Сократ, вы спешите вернуться в город.
– Твое предположение не лишено истины, – сказал я.
– А разве ты не видишь, сколько нас здесь?
– Как же не видеть!
– Так вам придется либо одолеть всех нас, либо остаться здесь.
– А разве нет еще и такого выхода: убедить вас, что надо нас отпустить?
– Как же можно убедить тех, кто и слушать‑то не станет?
– Никак, – сказал Главкон.
– Вот вы и считайте, что мы вас не станем слушать.
328
Адимант добавил:
– Неужели вы не знаете, что под вечер будет конный пробег с факелами[1290]
в честь богини?
– Конный? – спросил я. – Это нечто новое. Будут передавать из рук в руки факелы при конных ристаниях? Так я тебя понял?
– Да, так, – сказал Полемарх, – и вдобавок будут справляться ночные торжества, а их стоит посмотреть. После ужина мы пойдем смотреть празднество, и здесь можно будет встретить много молодых людей и побеседовать с ними. Пожалуйста, останьтесь, не раздумывайте.
b
Главкон отвечал:
– Видно, приходится остаться.
– Раз уж ты согласен, – сказал я, – то мы так и поступим.
Мы пошли к Полемарху[1291]
в его дом и застали там Лисия и Евтидема, его братьев, а также халкедонца Фрасимаха, пэанийца Хармантида и Клитофонта, сына Аристонима. Дома был и отец Полемарха Кефал –
c
он мне показался очень постаревшим: прошло ведь немало времени с тех пор, как я его видел. Он сидел на подушке в кресле, с венком на голове[1292]
, так как только что совершал жертвоприношение во внутреннем дворике дома. Мы уселись возле него – там кругом были разные кресла.
Чуть только Кефал меня увидел, он приветствовал меня такими словами:
– Ты, Сократ, не частый гость у нас в Пирее. Это напрасно. Будь я еще в силах с прежней легкостью выбираться в город, тебе совсем не понадобилось бы ходить сюда – мы бы сами посещали тебя там;
d
но теперь ты должен почаще бывать здесь: уверяю тебя, что, насколько во мне угасли всякие удовольствия, связанные с телом, настолько же возросла потребность в беседах и удовольствии от них. Не уклоняйся же от общения с этими молодыми людьми и посещай нас, мы ведь с тобой друзья и близкие знакомые.
– Право же, Кефал, – сказал я, – мне приятно беседовать с людьми преклонных лет. Они уже опередили нас на том пути, который, быть может, придется пройти и нам, так что, мне кажется, нам надо у них расспросить, каков этот путь – тернист ли он и тягостен, или удобен и легок[1293]
.
e
Особенно от тебя, раз уж ты в таких летах, когда стоишь, по словам поэтов, на пороге старости[1294]
, мне хотелось бы узнать, в тягость ли тебе кажется жизнь или ты скажешь иначе?
– Тебе, Сократ, – отвечал Кефал, – я, клянусь Зевсом, скажу так, как мне кажется. Часто сходимся мы вместе, люди примерно тех же лет, что и я, оправдывая старинную поговорку[1295]
.
329
И вот, когда мы соберемся, большинство из нас с сокрушением вспоминает вожделенные удовольствия юности – любовные утехи, попойки, пирушки и тому подобное – и брюзжат, словно теперь это для нас великое лишение: вот тогда была жизнь, а это разве жизнь! А некоторые старики жалуются на родственников, помыкающих ими, и тянут все ту же песню, что старость причиняет им множество бед.
b
А по мне, Сократ, они напрасно ее винят: если бы она была причиной, то и я испытывал бы то же самое, раз уж я состарился, да и все прочие, кто мне ровесник. Между тем я не раз встречал стариков, у которых все это не так; например, поэту Софоклу был при мне задан такой вопрос:
«Как ты, Софокл, насчет любовных утех? Можешь ли ты еще иметь дело с женщиной?».
c
– «Помолчал бы ты, право, – отвечал тот, – я с величайшей радостью ушел от этого, как уходят от яростного и лютого повелителя».
Ответ Софокла мне и тогда показался удачным, да и теперь нравится не меньше. Ведь в старости возникает полнейший покой и освобождение ото всех этих вещей; утихает и прекращается напряженность влечений, полностью возникает такое самочувствие, как у Софокла[1296]
, то есть чувство избавления от многих неистовствующих владык.
d
А им и домашним неприятностям причина одна – не старость, Сократ, а самый склад человека. Кто вел жизнь упорядоченную и был человеком добродушным, тому и старость лишь в меру трудна. А кто не таков, тому, Сократ, и старость, и молодость бывает в тягость.
В восхищении от этих его слов и желая вызвать его на дальнейший разговор, я сказал:
– Мне думается, Кефал, что люди, скажи ты им это, не согласятся с тобой, – они решат, что ты легко переносишь свою старость не потому, что ты человек такого склада, а потому, что ты обладатель большого состояния. Они считают, что у богатых есть чем скрасить старость.
e
– Ты прав, – сказал Кефал, – они не согласятся и попытаются возражать, однако, что бы они там ни думали, хорош ответ Фемистокла одному серифийцу, который поносил его, утверждая, что своей славой Фемистокл[1297]
обязан не самому себе, а своему городу:
«Правда, я не стал бы знаменит, будь я серифийцем, зато тебе не прославиться, будь ты хоть афинянином». Точно так же можно ответить и тем небогатым людям, которым тягостна старость: да, и человеку кроткого нрава не очень‑то легко переносить старость в бедности, но уж человеку дурного нрава, как бы богат он ни был, всегда будет в старости как‑то не по себе.
– А то, чем ты владеешь, Кефал, – спросил я, – ты большей частью получил по наследству или сам приобрел?
b
– Куда уж мне приобрести, Сократ! Как делец я занимаю среднее положение между моим дедом и моим отцом. Мой дед – его звали так же, как и меня, – получил в наследство примерно столько, сколько теперь у меня, но во много раз увеличил свое состояние, а мой отец Лисаний довел его до меньших размеров, чем теперь у меня. Я буду доволен, если оставлю вот им в наследство не меньше, а немножко больше того, что мне досталось.
– Я потому спросил, – сказал я, – что не замечаю в тебе особой привязанности к деньгам: это обычно бывает у тех, кто не сам нажил состояние. А кто сам нажил, те ценят его вдвойне. Как поэты любят свои творения, а отцы – своих детей, так и разбогатевшие люди заботливо относятся к деньгам – не только в меру потребности, как другие люди, а так, словно это их произведение. Общаться с такими людьми трудно: ничто не вызывает их одобрения, кроме богатства.
– Ты прав.
d
– Конечно, но скажи мне еще следующее: при значительном состоянии что бы ты считал самым большим и достижимым для тебя благом? Постановка вопроса о справедливости
– Пожалуй, – сказал Кефал, – большинство не поверит моим словам. Знаешь, Сократ, когда кому‑нибудь близка мысль о смерти, на человека находит страх и охватывает его раздумье о том, что раньше и на ум ему не приходило. Сказания, передаваемые об Аиде, – а именно, что там придется подвергнуться наказанию, если кто здесь поступал несправедливо, –
e
он до той поры осмеивал, а тут они переворачивают его душу: что если это правда? Да и сам он – от старческой ли немощи или оттого, что уже ближе стоит к тому миру, – как‑то больше прозревает.
И вот он преисполняется мнительности и опасений, прикидывает и рассматривает, уж не обидел ли он кого чем. Кто находит в своей жизни много несправедливых поступков, тот подобно детям, внезапно разбуженным от сна, пугается и в дальнейшем ожидает лишь плохого.
331
А кто не знает за собой никаких несправедливых поступков, тому всегда сопутствует отрадная надежда, добрая кормилица старости, как говорится и у Пиндара[1298]
. Превосходно он это сказал, Сократ, что кто проводит жизнь праведно и благочестиво, тому
Сладостная, сердце лелеющая, сопутствует надежда,
Кормилица старости;
Переменчивыми помыслами смертных
Она всего более правит.
Хорошо он это говорит, удивительно сильно. К этому я добавлю, что обладание состоянием очень ценно, но, конечно, не для всякого, а лишь для порядочного человека.
b
Отойти отсюда в тот мир, не опасаясь, что ты, пусть невольно, обманул кого‑нибудь, соврал кому‑нибудь или же что ты в долгу перед богом по части каких‑либо жертвоприношений или перед человеком по части денег, – во всем этом большое значение имеет обладание состоянием. Есть много и других надобностей, но, сравнивая одно с другим, я бы лично полагал, Сократ, что во всем этом для человека с умом богатство не последнее дело и очень ему пригодится.
c
– Прекрасно сказано, Кефал, но вот это самое – справедливость: считать ли нам ее попросту честностью и отдачей взятого в долг, или же одно и то же действие бывает подчас справедливым, а подчас и несправедливым? Я приведу такой пример: если кто получит от своего друга оружие, когда тот был еще в здравом уме, а затем, когда тот сойдет с ума и потребует свое оружие обратно, его отдаст, в этом случае всякий сказал бы, что отдавать не следует и несправедлив тот, кто отдал бы или пожелал бы честно сказать всю правду человеку, впавшему в такое состояние.
d
– Это верно.
– Стало быть, не это определяет справедливость: говорить правду и отдавать то, что взял.
– Нет, именно это, Сократ, – возразил Полемарх, – если хоть сколько‑нибудь верить Симониду[1299]
.
– Однако, – сказал Кефал, – я препоручаю вам беседу, а мне уже пора заняться священнодействиями.
– Значит, – сказал я, – Полемарх будет твоим наследником?[1300]
– Разумеется, – отвечал Кефал, улыбнувшись, и тотчас ушел совершать обряды[12a]
. Справедливость как воздаяние должного каждому человеку
c
– Так скажи же ты, наследник Кефала в нашей беседе, – обратился я к Полемарху, – какие слова Симонида о справедливости ты считаешь правильными?
– Да то, что справедливо отдавать каждому должное. Мне по крайней мере кажется, что это он прекрасно сказал.
– Конечно, нелегкое дело не верить Симониду – это такой мудрый и божественный человек! Смысл его слов тебе, Полемарх, вероятно, понятен, а я вот не могу его постичь. Ясно, что у Симонида говорится не о том, о чем мы только что вспомнили, а именно,
332
будто все, что бы нам ни дали во временное пользование, надо отдавать по требованию владельца, даже когда тот и не в здравом уме, хотя, конечно, он‑то и одолжил нам то, чем мы пользовались. Не так ли?
– Да.
– Но ведь ни в коем случае не надо давать, когда этого требует человек не в здравом уме?
– Правда.
– Значит, у Симонида, по‑видимому, какой‑то другой смысл в утверждении, что справедливо отдавать каждому должное.
– Конечно, другой, клянусь Зевсом. Он считает, что долг друзей делать что‑нибудь хорошее своим друзьям и не причинять им никакого зла.
b
– Понимаю, – сказал я, – когда кто отдает вверенные ему деньги, он отдает не то, что должно, если и отдача и прием наносят вред, а между тем дело происходит между друзьями. Не об этом ли, по‑твоему, говорит Симонид?
– Конечно, об этом.
– Ну а врагам, если случится, надо воздавать должное?
– Непременно, как они того заслуживают. Враг должен, я полагаю, воздать своему врагу как надлежит, то есть каким‑нибудь злом[1301]
.
c
– Выходит, что Симонид дал лишь поэтическое, смутное определение того, что такое справедливость, вложив в него, как кажется, тот смысл, что справедливо было бы воздавать каждому надлежащее, – а это он назвал должным.
– А по‑твоему как?
– Клянусь Зевсом, если бы кто спросил его: «Симонид, что чему надо уметь назначать – конечно, должное и надлежащее, – чтобы оправдалось имя искусства врачевания?» Как бы он, по‑твоему, нам ответил?
– Ясно, что телу – лекарства, пищу, питье.
– А что чему надо придать – должное и надлежащее, чтобы выказать поварское искусство?
– Вкус – приправам.
d
– Прекрасно. А что кому надо воздать, чтобы такое искусство заслужило название справедливости?
– Если следовать тому, Сократ, что было сказано ранее, то это будет искусство приносить друзьям пользу, а врагам причинять вред.
– Значит, творить добро друзьям и зло врагам – это Симонид считает справедливостью?
– По‑моему, да.
– А что касается болезней и здорового состояния,
Кто всего более способен творить добро своим друзьям, если они заболеют, и зло – своим врагам?
– Врач.
e
– А мореплавателям среди опасностей мореходства?
– Кормчий.
– Как же обстоит дело с тем, кто справедлив? Какими действиями и в какой области он всего способнее принести пользу друзьям и повредить врагам?
– На войне, помогая сражаться, мне кажется.
– Прекрасно. Но, дорогой мой Полемарх, тем, кто не болен, врач не нужен.
– Правда.
– А кто не на море, тому не нужен и кормчий.
– Да.
– Значит, кто не воюет, тем не нужен и справедливый человек?
– Это, по‑моему, сомнительно.
333
– Так справедливость нужна и в мирное время?
– Нужна.
– А земледелие тоже? Или нет?
– Да, тоже.
– Чтобы обеспечить урожай?
– Да.
– И разумеется, нужно также сапожное дело?
– Да.
– Чтобы снабжать нас обувью, скажешь ты, как думаю.
– Конечно.
– Так что же? Для какой надобности и для приобретения чего, по‑твоему, нужна в мирное время справедливость?
– Она нужна в делах, Сократ.
– Под делами ты понимаешь совместное участие в чем‑нибудь или нет?
– Именно совместное участие.
b
– Будет ли хорошим и полезным участником в игре в шашки тот, кто справедлив, или же тот, кто умеет играть?
– Тот, кто умеет играть.
– А при кладке кирпича или камня справедливый человек как участник полезнее и лучше, чем строитель?
– Никоим образом.
– Например, для игры на кифаре кифарист предпочтительнее справедливого человека. А в чем же участие справедливого человека предпочтительнее участия кифариста?
– В денежных делах, как мне кажется.
– За исключением, может быть, расходования денег, Полемарх. Ведь когда понадобится сообща купить или продать коня, тогда, думается мне, полезнее будет наездник.
c
– Видимо.
– А при приобретении судна – кораблестроитель или кормчий.
– Естественно.
– Когда надо сообща распорядиться серебром или золотом, бывают ли случаи, чтобы справедливый человек был полезнее других?
– Бывают, Сократ. Это когда надо отдать их на хранение или сбережение.
– То есть, по твоим словам, когда они лежат без употребления?
– Конечно.
d
– Значит, когда деньги бесполезны, тогда‑то и полезна справедливость?
– Похоже, что это так.
– И чтобы хранить садовый нож, полезна справедливость в общественном и в частном быту, а для пользования им требуется уменье виноградаря?
– Видимо, так.
– Пожалуй, ты скажешь, что когда нужно хранить щит и лиру и в то же время ими не пользоваться, справедливость полезна, а когда нужно пользоваться, тогда полезно уменье тяжело вооруженного пехотинца и музыканта.
– Непременно скажу.
– И во всем остальном так: справедливость при пользовании чем‑нибудь не полезна, а при непользовании полезна?
e
– Видимо, так.
– Стало быть, друг мой, справедливость – это не слишком важное дело, раз она бывает полезной лишь при бесполезности. Давай рассмотрим вот что: кто мастер наносить удары в кулачном бою или в каком другом, тот, не правда ли, умеет и уберечься от них?
– Конечно.
– А кто способен уберечься в укрыться от болезни, тот еще гораздо более способен довести до болезненного состояния другого?
– Мне кажется, так.
334
– И воинский стан тот лучше оберегает, кто способен также проникнуть тайком в замыслы неприятеля и предвосхитить его действия?
– Конечно.
– Значит, тот горазд беречь, кто способен и плутовать.
– По‑видимому.
– Значит, если справедливый человек способен сохранить деньги, то он способен и похитить их.
– По крайней мере к этому приводит наше рассуждение.
– Значит, справедливый человек оказывается каким‑то вором. Это ты, должно быть, усвоил из Гомера: он высоко ставит Автолика, деда Одиссея по матери, и говорит, что Автолик превосходил всех людей вороватостью и заклинаньями[1302]
.
b
Так что и по‑твоему, и по Гомеру, и по Симониду справедливость – это нечто воровское, однако направленное на пользу друзьям и во вред врагам. Разве ты не так говорил?
– Нет, клянусь Зевсом. Впрочем, я уж и не знаю, что говорил. Однако вот на чем я все еще настаиваю: приносить пользу друзьям и вредить врагам – это и будет справедливость.
c
– А кто, по‑твоему, друзья: те ли, кто кажутся хорошими людьми, или же только те, кто на самом деле таковы, хотя бы такими и не казались? То же и насчет врагов.
– Естественно быть другом тому, кого считаешь хорошим, и отворачиваться от плохих людей.
– Разве люди не ошибаются в этом? Многие кажутся им хорошими, хотя на деле не таковы, и наоборот.
– Да, они ошибаются.
– Значит, хорошие люди им враги, а негодные – друзья?
– Это бывает.
– Но тогда будет справедливым приносить пользу плохим людям, а хорошим вредить?
d
– Оказывается, что так.
– А между тем хорошие люди справедливы, они не способны на несправедливые поступки.
– Это правда.
– По твоим же словам, было бы справедливо причинять зло тем, кто не творит несправедливости.
– Ничего подобного, Сократ! Такой вывод, конечно, никуда не годится.
– Значит, справедливо было бы вредить несправедливым и приносить пользу справедливым людям.
– Этот вывод явно лучше.
e
– Значит, Полемарх, с теми из людей, кто ошибается, часто бывает, что они считают справедливым вредить своим друзьям – они их принимают за плохих людей – и приносить пользу своим врагам как хорошим людям. Таким образом, мы выскажем нечто прямо противоположное тому, что мы привели из Симонида.
– Да, это часто бывает. Но давай внесем поправку: ведь мы, пожалуй, неверно установили, кто нам друг, а кто враг.
– А как именно мы установили, Полемарх?
– Будто кто кажется хорошим, тот нам и друг.
– А теперь какую же мы внесем поправку?
335
– Тот нам друг, кто и кажется хорошим, и на самом деле хороший человек. А кто только кажется, а на деле не таков, это кажущийся, но не подлинный друг. То же самое нужно установить и насчет наших врагов.
– Согласно этому рассуждению, хороший человек будет нам другом, а плохой – врагом.
– Да.
– А как, по‑твоему, прежнее определение справедливого, гласящее, что справедливо делать добро другу и зло врагу, нужно ли теперь дополнить тем, что справедливо делать добро другу, если он хороший человек, и зло – врагу, если он человек негодный?
– Конечно. Это, по‑моему, прекрасное определение.
b
– Значит, справедливому человеку свойственно наносить вред кое‑кому из людей?
– Да, конечно, надо вредить плохим людям и нашим врагам.
– А кони, если им нанести вред, становятся лучше или хуже?
– Хуже.
– В смысле достоинств собак или коней?
– Коней.
– И собаки, если им нанести вред, теряют достоинства собак, но не коней?
– Обязательно.
c
– А про людей, друг мой, не скажем ли мы, что и они, если им нанесен вред, теряют свои человеческие достоинства?
– Конечно.
– Но справедливость разве не достоинство человека?
– Это уж непременно.
– И те из людей, друг мой, кому нанесен вред, обязательно становятся несправедливыми?
– По‑видимому.
– А разве могут музыканты посредством музыки сделать кого‑либо немузыкальным?
– Это невозможно.
– А наездники посредством езды отучить ездить?
– Так не бывает.
d
– А справедливые люди посредством справедливости сделать кого‑либо несправедливым? Или вообще: могут ли хорошие люди с помощью своих достоинств сделать других негодными?
– Но это невозможно!
– Ведь охлаждать, я думаю, свойство не теплоты, а того, что ей противоположно.
– Да.
– И увлажнять – свойство не сухости, а противоположного.
– Конечно.
– И вредить – свойство не хорошего человека, а наоборот.
– Очевидно.
– Между тем справедливый – это хороший человек.
– Конечно.
– Значит, Полемарх, не дело справедливого человека вредить – ни Другу, ни кому‑либо иному; это дело того, кто ему противоположен, то есть человека несправедливого.
– По‑моему, Сократ, ты совершенно прав.
e
– Значит, если кто станет утверждать, что воздавать каждому должное – справедливо, и будет понимать это так, что справедливый человек должен причинять врагам вред, а друзьям приносить пользу, то говорящий это вовсе не мудрец, потому что он сказал неправду, – ведь мы выяснили, что справедливо никому ни в чем не вредить.
– Я согласен с этим, – отвечал Полемарх.
– Стало быть, – сказал я, – мы с тобой сообща пойдем войной на тех, кто станет утверждать, что это было сказано Симонидом, или Биантом, или Питтаком, или кем‑нибудь другим из мудрых[1303]
и славных людей.
– Я готов, – сказал Полемарх, – принять участие в такой битве.
336
– А знаешь, – сказал я, – чье это, по‑моему, изречение, утверждающее, что справедливость состоит в том, чтобы приносить пользу друзьям и причинять вред врагам?
– Чье? – спросил Полемарх.
– Я думаю, оно принадлежит Периандру или Пердикке, а может быть, Ксерксу, или фиванцу Исмению[1304]
. или кому другому из богачей, воображающих себя могущественными людьми.
– Ты совершенно прав.
– Прекрасно. Но раз выяснилось, что справедливость, то есть [самое понятие] справедливого, состоит не в этом, то какое же другое определение можно было бы предложить?
b
Фрасимах во время нашей беседы неоднократно порывался вмешаться в разговор, но его удерживали сидевшие с ним рядом – так им хотелось выслушать нас до конца. Однако чуть только мы приостановились, когда я задал свой вопрос, Фрасимах уже не мог более стерпеть: весь напрягшись, как зверь, он ринулся на нас, словно готов был нас растерзать.
Мы с Полемархом шарахнулись в испуге, а он закричал, бросив нам:
c
– Что за чепуху вы несете, Сократ, уже с которых пор! Что вы строите из себя простачков, играя друг с другом в поддавки? Если ты в самом деле хочешь узнать, что такое справедливость, так не задавай вопросов и не кичись опровержениями – ты знаешь, что легче спрашивать, чем отвечать, – нет, ты сам отвечай и скажи, что ты считаешь справедливым.
d
Да не вздумай мне говорить, что это – должное, или что это – полезное, или целесообразное, или прибыльное, или пригодное, – что бы ты ни говорил, ты мне говори ясно и точно, потому что я и слушать не стану, если ты будешь болтать такой вздор.
Ошеломленный словами Фрасимаха, я взглянул на него с испугом и мне кажется, что, не взгляни я на него прежде, чем он на меня, я бы прямо онемел; теперь же, когда наша беседа привела его в ярость, я взглянул первым, так что оказался в состоянии отвечать ему, и с трепетом сказал:
e
– Фрасимах, не сердись на нас. Если мы – я и вот он – и погрешили в рассмотрении этих доводов, то, смею тебя уверить, погрешили невольно. Неужели ты думаешь: если бы мы искали золото, мы стали бы друг другу поддаваться, так что это помешало бы нам его найти? Между тем мы разыскиваем справедливость, предмет драгоценнее всякого золота – ужели же мы так бессмысленно уступаем друг другу и не прилагаем всяческих стараний, чтобы его отыскать? Ты только подумай, мой друг! Нет, это, по‑моему, просто оказалось выше наших сил, так что вам, кому это под силу, гораздо приличнее пожалеть нас, чем сердиться.
337
Услышав это, Фрасимах усмехнулся весьма сардонически[1305]
и сказал:
– О Геракл! Вот она обычная ирония Сократа![1306]
Я уж и здесь всем заранее говорил, что ты не пожелаешь отвечать, прикинешься простачком и станешь делать все что угодно, только бы увернуться от ответа, если кто тебя спросит.
– Ты мудр, Фрасимах, – сказал я, – и прекрасно знаешь, что если ты спросишь, из каких чисел состоит двенадцать, по, задавая свой вопрос, заранее предупредишь: «Только ты мне не вздумай говорить, братец, что двенадцать – это дважды шесть, или трижды четыре, или шестью два, или четырежды три, иначе я и слушать не стану, если ты будешь молоть такой вздор», то тебе будет заранее ясно, думаю я, что никто не ответит на такой твой вопрос.
b
Но если тебе скажут: «Как же так, Фрасимах? В моих ответах не должно быть ничего из того, о чем ты предупредил? А если выходит именно так, чудак ты, я все‑таки должен говорить вопреки истине? Или как ты считаешь?» Что ты на это скажешь?
c
– Хватит, – сказал Фрасимах, – ты опять за прежнее.
– А почему бы нет? – сказал я. – Прежнее или не прежнее, но так может подумать тот, кому ты задал свой вопрос. А считаешь ли ты, что человек станет отвечать вопреки своим взглядам, все равно, существует ли запрет или его нет?
– Значит, и ты так поступишь: в твоем ответе будет как раз что‑нибудь из того, что я запретил?
– Я не удивлюсь, если у меня при рассмотрении так и получится.
d
– А что, если я укажу тебе на другой ответ насчет справедливости, совсем не такой, как все эти ответы, а куда лучше? Какое ты себе тогда назначишь наказание?
– Какое же другое, как не то, которому должен подвергнуться невежда! А должен он будет поучиться у человека сведущего. Вот этого наказания я и заслуживаю.
– Сладко ты поешь! Нет, ты внеси‑ка денежки за обучение[1307]
.
– Само собой, когда они у меня появятся.
– Но они уже есть, – воскликнул Главкон, – за деньгами дело не станет, Фрасимах, ты только продолжай – все мы внесем за Сократа.
e
– Чтобы, как я полагаю, Сократ мог вполне отдаться своей привычке: не отвечать самому, а придираться к чужим доводам и их опровергать?
– Но как же отвечать, многоуважаемый Фрасимах, – сказал я, – если, во‑первых, и ничего не знаешь и не притязаешь на знание, а затем если и имеешь кое‑какие соображения по этому поводу, так на них наложен запрет, да еще со стороны человека незаурядного, так что вообще нельзя сказать ничего из того, что думаешь?
338
Скорее тебе следует говорить: ведь ты утверждаешь, что обладаешь знанием и тебе есть что сказать. Так не раздумывай, будь так любезен, отвечай мне и не откажи наставить уму‑разуму Главкона да и всех остальных.
Вслед за мной и Главкон и все остальные стали просить его не раздумывать. У Фрасимаха явно было горячее желание говорить, чтобы блеснуть: он считал, что имеет наготове великолепный ответ, но все же делал вид, будто настаивает на том, чтобы отвечал я. Наконец он уступил и затем прибавил:
b
– Вот она, мудрость Сократа: сам не желает никого наставлять, а ходит повсюду, всему учится у других и даже не отплачивает им за это благодарностью.
– Что я учусь у других, это ты правду сказал, Фрасимах, но что я, по‑твоему, не плачу благодарностью, это – ложь. Я ведь плачу как могу. А могу я платить только похвалой – денег у меня нет. С какой охотой я это делаю, когда кто‑нибудь, по моему мнению, хорошо говорит, ты сразу убедишься, чуть только примешься мне отвечать: я уверен, что ты будешь говорить хорошо. О справедливости как выгоде сильнейшего
c
– Так слушай же. Справедливость, утверждаю я, это то, что пригодно и сильнейшему[1308]
. Ну что ж ты не похвалишь? Или нет у тебя желания?
– Сперва я должен понять, что ты говоришь. Пока еще я не знаю. Ты утверждаешь, что пригодное сильнейшему – это и есть справедливое. Если Полидамант[1309]
у нас всех сильнее в борьбе и в кулачном бою и для здоровья его тела пригодна говядина, то будет полезно и вместе с тем справедливо назначить такое же питание и нам, хотя мы и слабее его?
d
– Отвратительно это с твоей стороны, Сократ, – придавать моей речи такой гадкий смысл.
– Ничуть, благороднейший Фрасимах, но поясни свои слова.
– Разве ты не знаешь, что в одних государствах строп тиранический, в других – демократический, в третьих – аристократический?
– Как же не знать?
– И что в каждом государстве силу имеет тот, кто у власти?
– Конечно.
e
– Устанавливает же законы всякая власть в свою пользу: демократия – демократические законы, тирания – тиранические, так же и в остальных случаях. Установив законы, объявляют их справедливыми для подвластных – это и есть как раз то, что полезно властям, а преступающего их карают как нарушителя законов и справедливости. Так вот я и говорю, почтеннейший Сократ:
339
во всех государствах справедливостью считается одно и то же, а именно то, что пригодно существующей власти. А ведь она – сила, вот и выходит, если кто правильно рассуждает, что справедливость – везде одно и то же: то, что пригодно для сильнейшего.
– Теперь я понял, что ты говоришь. Попытаюсь также понять, верно это или нет. В своем ответе ты назвал пригодное справедливым, хотя мне‑то ты запретил отвечать так. У тебя только прибавлено: «для сильнейшего».
b
– Ничтожная, вероятно, прибавка!
– Еще неясно, может быть, она и значительна. Но ясно, что надо рассмотреть, прав ли ты. Я тоже согласен, что справедливость есть нечто пригодное. Но ты добавляешь «для сильнейшего», а я этого не знаю, так что это нужно еще подвергнуть рассмотрению.
– Рассматривай же.
– Я так и сделаю. Скажи‑ка мне, не считаешь ли ты справедливым повиноваться властям?
– Считаю.
c
– А власти в том или ином государстве непогре c шимы или способны и ошибаться?
– Разумеется, способны и ошибаться.
– Следовательно, принимаясь за установление законов, они одни законы установят правильно, а другие неправильно? Так я по крайней мере думаю. Правильные установления властям на пользу, а неправильные – во вред. Или как по‑твоему?
– Да, так.
– Что бы они ни установили, подвластные должны это выполнять, и это‑то и будет справедливым?
– Как же иначе?
d
– Значит, справедливым будет, согласно твоему утверждению, выполнять не только пригодное сильнейшему, но и противоположное, то есть непригодное.
– Что это такое ты говоришь?
– То же самое, что и ты, как мне кажется. Давай, рассмотрим получше: разве мы не признали, что власти, обязывая подвластных выполнять свои предписания, иной раз ошибаются в выборе наилучшего для самих же властей, а между тем со стороны подвластных будет справедливым выполнять любые предписания властей? Разве мы это не признали?
– Да, я думаю, что признали.
e
– Так подумай и о том, что ты ведь признал справедливым выполнять также и то, что идет во вред властям и вообще тем, кто сильнее: когда власти неумышленно предписывают что‑нибудь самим себе во вред, ты все‑таки утверждаешь, что справедливым будет выполнять их предписания. В этом случае, премудрый Фрасимах, разве дело не обернется непременно таким образом, что справедливым будет выполнять как раз противоположное тому, что ты говоришь? Ведь здесь подчиненным предписывается выполнять то, что вредно сильнейшему.
340
– Да, клянусь Зевсом, Сократ, – воскликнул Полемарх, – это совершенно ясно.
– Особенно, если ты засвидетельствуешь это Сократу, – заметил ему Клитофонт[1310]
.
– К чему тут свидетели? Признал же сам Фрасимах, что власти иной раз дают предписания во вред самим себе, между тем для подвластных считается справедливым эти предписания выполнять.
– Выполнять приказы властей, Полемарх, – вот что считал Фрасимах справедливым.
b
– Да ведь он считал, Клитофонт, справедливое тем, что пригодно сильнейшему. Установив эти два положения, он также согласился, что власть имущие иной раз приказывают то, что им самим идет во вред, однако слабейшие и подвластные все‑таки должны это выполнять. Из этого допущения вытекает, что пригодное для сильнейшего нисколько не более справедливо, чем непригодное.
– Но под пригодным сильнейшему Фрасимах понимал то, что сам сильнейший считает для себя пригодным, – возразил Клитофонт. – Это‑то и должен выполнять слабейший – вот что он признал справедливым.
– Нет, Фрасимах не так говорил, – сказал Полемарх.
c
– Не все ли равно, Полемарх, – заметил я, – если теперь Фрасимах говорит так, то мы так и будем его понимать.
– Скажи‑ка мне, Фрасимах, хотел ли ты сказать, что справедливо все, что кажется сильнейшему для него пригодным, независимо от того, пригодно ли оно на самом деле или нет? Так ли нам понимать то, что ты говоришь?
– Вовсе не так. Неужели ты думаешь, что я считаю сильнейшим того, кто ошибается и как раз тогда, когда он ошибается?
d
– Я по крайней мере думал, что таков смысл твоих слов, раз ты согласился, что власти небезгрешны, но, напротив, кое в чем и ошибаются.
– И крючкотвор же ты, Сократ, в твоих рассуждениях! Того, например, кто ошибочно лечит больных, назовешь ли ты врачом за эти его ошибки? Или мастером счета того, кто ошибается в счете именно тогда, когда он ошибается, и именно за эту его ошибку? Думаю, мы только в просторечье так выражаемся: «ошибся врач», «ошибся мастер счета» или «учитель грамматики»;
e
если же он действительно то, чем мы его называем, он, я думаю, никогда не совершает ошибок. По точному смыслу слова, раз уж ты так любишь точность, никто из мастеров своего дела в этом деле не ошибается. Ведь ошибаются от нехватки знания, то есть от недостатка мастерства. Так что, будь он художник, или мудрец, или правитель, никто не ошибается, когда владеет своим мастерством, хотя часто и говорят: «врач ошибся», «правитель ошибся». В этом смысле ты и понимай мой ответ.
341
Вот он с полнейшей точностью: правитель, поскольку он действительно настоящий правитель, ошибок не совершает, он безошибочно устанавливает то, что для него всего лучше, и это должны выполнять те, кто ему подвластен. Так что, как я и говорил с самого начала, я называю справедливостью выполнение того, что пригодно сильнейшему.
– Вот как, Фрасимах, по‑твоему, я крючкотвор?
– И даже очень.
– Ты считаешь, что в моих рассуждениях я со злым умыслом задавал свои вопросы?
b
– Я в этом уверен. Только ничего у тебя не выйдет: от меня тебе не скрыть своей злонамеренности, а раз тебе ее не скрыть, то и не удастся тебе пересилить меня в нашей беседе.
– Да я не стал бы и пытаться, дорогой мой. Но чтобы у нас не получилось чего‑нибудь опять в этом роде, определи, в обычном ли понимании или в точном смысле употребляешь ты слова «правитель» и «сильнейший», когда говоришь, что будет справедливым, чтобы слабейший творил пригодное сильнейшему.
– Я имею в виду правителя в самом точном смысле этого слова. Искажай теперь злостно и клевещи, сколько можешь, – я тебе не уступлю. Впрочем, тебе с этим не справиться.
c
– По‑твоему, я до того безумен, что решусь стричь льва[1311]
и клеветать на Фрасимаха?
– Однако ты только что пытался, хотя тебе это и не под силу.
– Довольно об этом. Скажи‑ка мне лучше: вот тот, о котором ты недавно говорил, что он в точном смысле слова врач, – думает ли он только о деньгах, или он печется о больных?
– Печется о больных.
– А кормчий? Подлинный кормчий – это начальник над гребцами или и сам он гребец?
d
– Начальник над гребцами.
– Ведь нельзя, я думаю, принимать в расчет только то, что он тоже плывет на корабле – гребцом его не назовешь. Его называют кормчим не потому, что он на корабле, а за его уменье и потому, что он начальствует над гребцами.
– Это верно.
– Стало быть, каждый из них, то есть и врач и кормчий, обладает какими‑нибудь полезными сведениями?
– Конечно.
– Не для того ли вообще и существует искусство, чтобы отыскивать и изобретать, что кому пригодно?
– Да, для этого.
– А для любого искусства пригодно ли что‑нибудь иное, кроме своего собственного наивысшего совершенства?
– Что ты имеешь в виду?
e
– Вот что: если бы меня спросили, довлеет ли наше тело само себе или же оно нуждается еще в чем‑нибудь, я бы ответил: «Непременно нуждается». Потому‑то и найдены теперь способы врачевания, что тело у нас несовершенно, а раз оно таково, оно само себе не довлеет. Для придачи телу того, что ему пригодно, потребовалось искусство. Как, по‑твоему, верно я говорю или нет?
– Верно.
– Так что же? Разве несовершенно само искусство врачевания? Бывает ли вообще нужно дополнять любое искусство еще каким‑нибудь положительным качеством, как глаза – зрением, а уши – слухом?
342
Нужно ли поэтому к любому искусству добавлять еще какое‑нибудь другое искусство, которое решало бы, что пригодно для первого и чем его надо восполнить? Разве в самом искусстве скрыто какое‑то несовершенство и любое искусство нуждается еще в другом искусстве, которое обсуждало бы, что полезно тому, первому? А для этого обсуждающего искусства необходимо в свою очередь еще другое подобного же рода искусство и так до бесконечности?
b
Или же всякое искусство само по себе решает, что для него пригодно? Или же для обсуждения того, что исправит его недостатки, ему не требуется ни самого себя, ни другого искусства? Ведь у искусства не бывает никакого несовершенства или погрешности и ему не годится изыскивать пригодное за пределами себя самого. Раз оно правильно, в нем пет ущерба и искажений, пока оно сохраняет свою безупречность и целостность. Рассмотри это в точном, установленном тобой смысле слова – так это будет или по‑другому?
– Видимо, так.
–
c
Значит, врачевание рассматривает не то, что пригодно врачеванию, а то, что пригодно телу.
– Да.
– И верховая езда – то, что пригодно не для езды, а для коней. И любое другое искусство – не то, что ему самому пригодно (в этом ведь оно не нуждается), а то, что пригодно его предмету.
– Видимо, так.
– Но ведь всякое искусство, Фрасимах, это власть и сила в той области, где оно применяется.
Фрасимах согласился с этим, хотя и крайне неохотно.
– Следовательно, любое искусство имеет в виду пригодное не сильнейшему, а слабейшему, которым оно и руководит.
d
В конце концов Фрасимах согласился с этим, хотя и пытался сопротивляться, и, когда он согласился, я сказал:
– Значит, врач – поскольку он врач – вовсе не имеет в виду и не предписывает того, что пригодно врачу, а только лишь то, что пригодно больному. Ведь мы согласились, что в точном смысле этого слова врач не стяжатель денег, а управитель телами. Или мы в этом не согласились?
Фрасимах ответил утвердительно.
– Следовательно, и кормчий в подлинном смысле слова – это управитель гребцов, но не гребец?
– Да, так было признано.
e
– Значит, такой кормчий, он же и управитель, будет иметь в виду и предписывать не то, что пригодно кормчему, а то, что полезно гребцу, то есть тому, кто его слушает.
Фрасимах с трудом подтвердил это.
– Следовательно, Фрасимах, и всякий, кто чем‑либо управляет, никогда, поскольку он управитель, не имеет в виду и не предписывает того, что пригодно ему самому, но только то, что пригодно его подчиненному, для которого он и творит. Что бы он ни говорил и что бы ни делал, всегда он смотрит, что пригодно подчиненному и что тому подходит.
343
Когда мы пришли к этому в нашем споре и всем присутствующим стало ясно, что прежнее объяснение справедливости обратилось в свою противоположность, Фрасимах вместо того, чтобы отвечать, вдруг спросил:
– Скажи‑ка мне, Сократ, у тебя есть нянька?
– Что с тобой? – сказал я. – Ты лучше бы отвечал, чем задавать такие вопросы.
– Да ведь твоя нянька забывает даже утирать тебе нос – ты не отличаешь у нее овец от пастуха.
– С чего ты это взял? – сказал я.
b
– Потому что ты думаешь, будто пастухи либо волопасы заботятся о благе овец или волов, когда откармливают их и холят, и что делают они это с какой‑то иной целью, а не ради блага владельцев и своего собственного. Ты полагаешь, будто и в государствах правители – те, которые по‑настоящему правят, – относятся к своим подданным как‑то иначе, чем пастухи к овцам, и будто они днем и ночью только и думают о чем‑то ином, а не о том, откуда бы извлечъ для себя пользу.
c
«Справедливое», «справедливость», «несправедливое», «несправедливость» – ты так далек от всего этого, что даже не знаешь: справедливость и справедливое‑в сущности это чужое благо, это нечто, устраивающее сильнейшего, правителя, а для подневольного исполнителя это чистый вред, тогда как несправедливость – наоборот: она правит, честно говоря, простоватыми, а потому и справедливыми людьми. Подданные осуществляют то, что пригодно правителю, так как в его руках сила. Вследствие их исполнительности он преуспевает, а сами от – ничуть.
d
Надо обратить внимание, Сократ, величайший ты простак, на то, что справедливый человек везде проигрывает сравнительно с несправедливым. Прежде всего во взаимных обязательствах между людьми; когда тот и другой ведут какое‑нибудь общее дело, ты нигде не найдешь, чтобы при окончательном расчете справедливый человек получил больше, чем несправедливый, – наоборот, он всегда получает меньше. Затем во взаимоотношениях с государством, когда надо делать какие‑нибудь взносы: при равном имущественном положении справедливый вносит больше, а несправедливый меньше, и, когда надо получать, справедливому не достается ничего, а несправедливый много выгадывает.
e
Да и когда они занимают какую‑нибудь государственную должность, то у справедливого, если даже его не постигнет какая‑нибудь другая беда, приходят в упадок его домашние дела, так как он не может уделять им достаточно внимания, из общест венных же дел он не извлекает никакой пользы имен но потому, что он человек справедливый. Вдобавок он вызывает недовольство своих родственников и знакомых тем, что не хочет покровительствовать им, если это противоречит справедливости. А у человека нeсправедливого все это обстоит как раз наоборот.
344
Я повторяю то, что недавно говорил: обладание властью дает большие преимущества. Это ты и должен учитывать, если хочешь судить, насколько всякому для себя лично полезнее быть несправедливым, чем справедливым. Всего проще тебе будет это понять, если ты возьмешь несправедливость в ее наиболее завершенном виде, когда преуспевает как раз тот, кто нарушил справедливость, и в высшей степени жалок тот, кто на себе испытал несправедливость и все же не решился пойти против справедливости. Такова тирания: она то исподтишка, то насильственно захватывает то, что ей не принадлежит,
b
– храмовое и государственное имущество, личное и общественное – и не постепенно, а единым махом. Частичное нарушение справедливости, когда его обнаружат, наказывается и покрывается величайшим позором. Такие частичные нарушители называются, смотря по виду своих злодеяний, то святотатцами, то похитителями рабов, то взломщиками, то грабителями, то ворами. Если же кто, мало того что лишит граждан имущества, еще и самих их поработит, обратив в невольников, – его вместо этих позорных наименований называют преуспевающим и благоденствующим, и не только
c
его соотечественники, но и чужеземцы, именно потому, что знают: такой человек сполна осуществил несправедливость. Ведь те, кто порицает несправедливость, не порицают совершение несправедливых поступков, они просто боятся за себя, как бы им самим не пострадать. Так‑то вот, Сократ: несправедливость, достаточно обширная, сильнее справедливости, в ней больше силы, свободы и властности, а справедливость, как я с самого начала и говорил, – это то, что пригодно сильнейшему, несправедливость же целесообразна и пригодна сама по себе.
d
Сказав это, Фрасимах намеревался было уйти – своим сплошным многословием он, словно банщик, окатил нас и залил нам уши, – однако присутствующие не пустили его и заставили остаться, чтобы он привел доводы в подтверждение своих слов. Да я и сам очень нуждался в этом и потому сказал:
– Удивительный ты человек, Фрасимах. Набросившись па нас с такой речью, ты собираешься уйти, между тем ты и нас не наставил в достаточной мере, да и сам не разобрался, так ли обстоит дело либо по‑другому.
e
Или, по‑твоему, это мелочь – попытаться определить такой предмет? Разве это не было бы руководством в жизни, следуя которому каждый из нас стал бы жить с наибольшей для себя целесообразностью?
– Я думаю, – сказал Фрасимах, – что это‑то обстоит иначе.
– По‑видимому, – сказал я, – тебе нет никакого дела до нас, тебе все равно, станем ли мы жить хуже или лучше в неведении того, что ты, по твоим словам. знаешь. Но, дорогой мой, дай себе труд открыть это и нам. Нас здесь собралось так много, что, если ты нас облагодетельствуешь, это будет неплохим для тебя вкладом.
345
Что касается моего мнения, то я говорю тебе, что я все‑таки не верю и не думаю, будто несправедливость выгоднее справедливости, даже когда несправедливости предоставлена полная свобода действия. Допустим, дорогой мой, что кто‑нибудь несправедлив, допустим, что он может совершать несправедливые поступки либо тайно, либо в борьбе, – все же это меня не убеждает, будто несправедливость выгоднее справедливости.
b
Возможно, что и кто‑нибудь другой из нас, а не только я, вынес такое же впечатление. Так убеди же нас как следует, уважаемый Фрасимах, что наше решение неправильно, когда мы ставим справедливость значительно выше несправедливости.
– Как же тебя убедить? – сказал Фрасимах. – Раз тебя не убедило то, что я сейчас говорил, как же мне еще с тобой быть? Не впихнуть же мои взгляды в твою душу!
– Ради Зевса, только не это! Ты прежде всего держись тех же взглядов, которые ты уже высказал, а если они у тебя изменились, скажи об этом открыто и не обманывай нас. Ты видишь теперь, Фрасимах (давай‑ка еще раз рассмотрим прежнее):
c
дав сперва определение подлинного врача, ты не подумал, что ту же точность надо потом сохранить, говоря и о подлинном пастухе. Ты думаешь, что он пасет овец, поскольку он пастух, не имея в виду высшего для них блага, а так, словно какой‑то нахлебник, собирающийся хорошенько угоститься за столом; или, что касается доходов, – так, словно он стяжатель, а не пастух.
d
Между тем для этого искусства важно, конечно, чтобы оно отвечало не чему‑нибудь иному, а своему прямому назначению, и притом наилучшим образом, – тогда овцы и будут в наилучшем состоянии; такое искусство будет достаточным для этой цели, пока в нем нет никаких недочетов. Потому‑то, думал я, мы теперь непременно согласимся, что всякая власть, поскольку она власть,
e
имеет в виду благо не кого иного, как тех, кто ей подвластен и ею опекаем – в общественном и в частном порядке. И неужели ты думаешь, будто те, кто правит государствами, – подлинные правители – правят по доброй воле?
– Клянусь Зевсом, не только думаю, но знаю наверняка.
– Правда, Фрасимах? Разве ты не замечаешь, что никто из других правителей не желает править добровольно, но все требуют вознаграждения, потому что от их правления будет польза не им самим, а их подчиненным?
346
Скажи‑ка мне вот что: не потому ли мы отличаем одно искусство от другого, что каждое из них имеет свое назначение? Только не высказывай, дорогой мой, чего‑нибудь неожиданно странного – иначе мы никогда не кончим.
– Да, мы отличаем их именно поэтому.
– Следовательно, каждое приносит нам какую‑то особую пользу, а не пользу вообще: например, врачевание – здоровье, кораблевождение – безопасность во время плавания и так далее.
– Конечно.
b
– А искусство оплачивать труд касается вознаграждения, ведь для этого оно и предназначено. Или врачевание и кораблевождение для тебя одно и то же? Согласно твоему предложению, ты хочешь все точно определить: так вот, если кто‑нибудь, занимаясь кораблевождением, поздоровеет, так как ему пойдет на пользу морское плавание, будешь ли ты склонен из‑за этого назвать кораблевождение врачеванием?
– Конечно, нет.
– И я думаю, ты не назовешь это оплатой труда, если кто, работая по найму, поздоровеет?
– Конечно, нет.
– Так что же? И врачевание ты не назовешь искусством работать по найму, когда врачующий так работает?
c
– Не назову.
– Стало быть, мы с тобой согласны в том, что каждое искусство полезно по‑своему?
– Пусть будет так.
– Значит, какую бы пользу ни извлекали сообща те или иные мастера, ясно, что они сообща участвуют в том деле, которое приносит им пользу.
– По‑видимому.
– Мы говорим, что мастерам, получающим плату, полезно то, что они получают выгоду от искусства оплаты труда.
Фрасимах с трудом согласился.
– Значит, у каждого из них эта самая польза, то есть получение платы, проистекает не от их собственного искусства. Если рассмотреть это точнее, то врачевание ведет к здоровью, а способ оплаты – к вознаграждению;
d
строительное искусство создает дом, а искусство найма сопровождает это вознаграждением. Так и во всем остальном: каждое искусство делает свое дело и приносит пользу соответственно своему назначению. Если же к этому искусству не присоединится оплата, будет ли от него польза мастеру?
– Видимо, нет.
e
– Значит, ему нет никакой пользы, когда он работает даром?
– Я так думаю.
– Следовательно, Фрасимах, теперь это уже ясно: никакое искусство и никакое правление не обеспечивает пользы для мастера, но, как мы тогда и говорили, оно обеспечивает ее и предписывает своему подчиненному, имея в виду то, что пригодно слабейшему, а не сильнейшему. Поэтому‑то я и говорил не так давно, дорогой Фрасимах, что никто не захочет добровольно быть правителем и заниматься исправлением чужих пороков, но всякий, напротив, требует вознаграждения, потому что кто намерен ладно применять свое искусство,
347
тот никогда не действует и не повелевает ради собственного блага, но повелевает только ради высшего блага для своих подчиненных. Вот почему для приступающих к правлению должно существовать вознаграждение – деньги либо почет или же наказание для отказывающихся управлять.
– Как так, Сократ? – сказал Главкон. – Первые два вида вознаграждения я знаю, но ты и наказание
отнес к своего рода вознаграждению: этого я уже не понимаю.
b
– Значит, ты не понимаешь вознаграждения самых лучших, благодаря которому и правят наиболее порядочные люди – в тех случаях, когда они соглашаются управлять. Разве ты не знаешь, что честолюбие и сребролюбие считается позорным, – да и на самом деле это так?
– Я знаю.
– Так вот, хорошие люди потому и не соглашаются управлять – ни за деньги, ни ради почета: они не хотят прозываться ни наемниками, открыто получая вознаграждение за управление, ни ворами, тайно пользуясь его выгодами; в свою очередь и почет их не привлекает – ведь они не честолюбивы.
c
Чтобы они согласились управлять, надо обязать их к этому и применять наказания. Вот, пожалуй, причина, почему считается постыдным добровольно домогаться власти, не дожидаясь необходимости. А самое великое наказание – это быть под властью человека худшего, чем ты, когда сам ты не согласился управлять. Мне кажется, именно из опасения такого наказания порядочные люди и управляют, когда стоят у власти: они приступают тогда к управлению не потому, что идут на что‑то хорошее и находят в этом удовлетворение, но по необходимости, не имея возможности поручить это дело кому‑нибудь, кто лучше их или им подобен.
d
Если бы государство состояло из одних только хороших людей, все бы, пожалуй, оспаривали друг у друга возможность устраниться от правления, как теперь оспаривают власть. Отсюда стало бы ясно, что по существу подлинный правитель имеет в виду не то, что пригодно ему, а то, что пригодно подвластному, так что всякий понимающий это человек вместо того, чтобы хлопотать о пользе другого, предпочел бы, чтобы другие позаботились о его пользе. Я ни в коем случае не уступлю Фрасимаху, будто справедливость – это то, что пригодно сильнейшему. Но мы еще обсудим это потом. Справедливость и несправедливость
e
Для меня сейчас гораздо важнее недавнее утверждение Фрасимаха, будто жизнь человека несправедливого лучше жизни человека справедливого. А ты, Главкон, что выбираешь? Какое из этих двух утверждений, по‑твоему, более верно?
– По‑моему, – сказал Главкон, – целесообразнее жизнь человека справедливого.
348
– А ты слышал, сколько разных благ приписал Фрасимах жизни человека несправедливого?
– Слышал, да не верю.
– Так хочешь, мы его переубедим, если нам как‑нибудь удастся обнаружить, что он не прав?
– Как не хотеть! – сказал Главкон.
– Однако если мы станем возражать ему, слово за словом перечисляя блага справедливости, а затем снова будет говорить он и опять мы, то понадобится вести счет указанным благам и измерять их,
b
а чтобы решить, сколько их привел каждый из нас в каждом своем ответе, нам понадобятся судьи. Если же мы будем вести исследование, как мы делали это только что, когда сходились во мнениях, тогда мы одновременно будем и судьями, и защитниками.
– Конечно.
– Какой же из этих двух способов тебе нравится?
– Второй.
– Ну‑ка, Фрасимах, – сказал я, – отвечай нам с самого начала. Ты утверждаешь, что совершенная несправедливость полезнее совершенной справедливости?
c
– Конечно, я это утверждаю, а почему – я уже сказал.
– Ну а как ты скажешь вот насчет чего: называешь ли ты одно из этих свойств добродетелью, а другое – порочностью?
– А почему бы нет?
– Значит, добродетелью ты назовешь справедливость, а порочностью – несправедливость?
– Не иначе, дражайший! То‑то я и говорю, что несправедливость целесообразна, а справедливость – нет!
– Но как же надо сказать?
– Да как раз наоборот.
– Неужели, что справедливость порочна?
d
– Нет, но она – весьма благородная тупость.
– Но называешь ли ты несправедливость злоумышленностью?
– Нет, это здравомыслие.
– Разве несправедливые кажутся тебе разумными и хорошими?
– По крайней мере те, кто способен довести несправедливость до совершенства и в состоянии подчинить себе целые государства и народы. А ты, вероятно, думал, что я говорю о тех, кто отрезает кошельки? Впрочем, и это целесообразно, пока не будет обнаружено. Но о них не стоит упоминать; иное дело то, о чем я сейчас говорил.
e
– Мне прекрасно известно, что ты этим хочешь сказать, но меня удивляет, что несправедливость ты относишь к добродетели и мудрости, а справедливость – к противоположному.
– Конечно, именно так.
– Это уж слишком резко, мой друг, и не всякий найдется, что тебе сказать. Если бы ты утверждал, что несправедливость целесообразна, но при этом подобно другим признал бы ее порочной и позорной [безобразной], мы нашлись бы, что сказать, согласно общепринятым взглядам.
349
А теперь ясно, что ты станешь утверждать, будто несправедливость – прекрасна и сильна и так далее, то есть припишешь ей все то, что мы приписываем справедливости, раз уж ты дерзнул отнести несправедливость к добродетели и мудрости.
– Ты догадался в высшей степени верно.
– В таком случае, правда ведь, не надо отступаться от подробного рассмотрения всего этого в нашей беседе, пока ты, насколько я замечаю, говоришь действительно то, что думаешь. Мне кажется, Фрасимах, ты сейчас нисколько не шутишь, а высказываешь то, что представляется тебе истинным.
– Не все ли тебе равно, представляется это мне или нет? Ведь мое утверждение ты не опровергнешь.
b
– Оно, конечно, хоть и все равно, но попытайся вдобавок ответить еще на это: представляется ли тебе, что справедливый человек желал бы иметь какое‑либо преимущество перед другим, тоже справедливым?
– Ничуть, иначе он не был бы таким вежливым и простоватым, как это теперь наблюдается.
– Ну а в делах справедливости?
– Даже и там нет.
– А притязал бы он на то, что ему следует обладать преимуществом сравнительно с человеком несправедливым и что это было бы справедливо? Или он не считал бы это справедливым?
– Считал бы и притязал бы, да только это ему не под силу.
– Но я не об этом спрашиваю, а о том, считает ли нужным и хочет ли справедливый иметь больше, чем c несправедливый?
c
– Да, именно так.
– А несправедливый человек? Неужели он будет притязать на обладание преимуществом сравнительно со справедливым человеком, и также в делах справедливости?
– А почему бы и нет? Ведь он притязает на то, чтобы иметь больше всех.
– Значит, несправедливый человек будет притязать на обладание преимуществом перед другим несправедливым человеком и его деятельностью и будет с ним бороться за то, чтобы захватить самому как можно больше?
– Да, это так.
d
– Значит, мы скажем следующим образом: справедливый человек хочет обладать преимуществом сравнительно не с подобным ему человеком, а с тем, кто на него не похож, между тем как несправедливый хочет им обладать сравнительно с обоими – и с тем, кто подобен ему, и с тем, кто на него не похож.
– Это ты сказал как нельзя лучше.
– А ведь несправедливый человек все же бывает разумным и значительным, а справедливый – ни тем ни другим.
– Это тоже хорошо сказано.
– Значит, несправедливый человек бывает похож на человека разумного и значительного, а справедливый, напротив, не похож?
– Как же человеку не быть похожим на себе подобных, раз он сам таков? А если он не таков, то и не похож.
– Прекрасно. Значит, каждый из них таков, как те, на кого он похож.
– А почему бы и нет?
e
– Пусть так. А скажи, Фрасимах, называешь ли ты одного человека знатоком музыки, а другого – нет?
– Конечно.
– Какой же из них разумен, а какой – нет?
– Знаток музыки, конечно, разумен, а незнаток – неразумен.
– И раз он разумен, значит, это человек выдающийся, а кто неразумен – ничтожен?
– Да.
– Ну а врач? Не так же ли точно?
– Так же.
– А как, по‑твоему, уважаемый Фрасимах, знаток музыки, настраивая лиру, этим натягиванием и отпусканием струн притязает ли на что‑нибудь большее, чем быть знатоком?
– По‑моему, нет.
– Ну а на что‑то большее в сравнении с незнатоком?
350
– Это уж непременно.
– А врач? Назначая ту или иную пищу и питье, притязает ли он этим на что‑то большее, чем быть врачом и знать врачебное дело?
– Нет, нисколько.
– А притязает ли он на что‑то большее, чем не‑врач?
– Да.
– Примени же это к любой области знания и незнания. Считаешь ли ты, что знаток любого дела притязает на большее в своих действиях и высказываниях, чем другой знаток того же дела, или на то же самое (в той же области), что и тот, кто ему подобен?
– Пожалуй, я должен согласиться с последним.
– А невежда? Разве он не притязал бы на боль‑I, шее одинаково в сравнении со знатоком и с другим невеждой?
b
– Возможно.
– А знаток ведь человек мудрый?
– Я полагаю.
– А мудрый человек обладает достоинствами?
– Полагаю.
– Значит, человек, обладающий достоинствами, и к тому же мудрый, не станет притязать на большее
сравнительно с ему подобным, а только с тем, кто на него не похож, то есть ему противоположен.
– По‑видимому.
– Человек же низких свойств и невежда станет притязать на большее и сравнительно с ему подобным, и сравнительно с тем, кто ему противоположен.
– Очевидно.
– Стало быть, Фрасимах, несправедливый человек будет у нас притязать на большее сравнительно и с тем, кто на него не похож, и с тем, кто похож. Или ты не так говорил?
– Да, так.
c
– А справедливый человек не станет притязать на большее сравнительно с ему подобным, а только с тем, кто па него не похож.
– Да.
– Следовательно, справедливый человек схож с человеком мудрым и достойным, а несправедливый – с человеком плохим и невеждой.
– Пожалуй, что так.
– Но ведь мы уже признали, что кто на кого похож, тот и сам таков.
– Признали.
– Следовательно, у нас оказалось, что справедливый – это человек достойный и мудрый, а несправедливый – невежда и недостойный.
d
Хотя Фрасимах и согласился со всем этим, по далеко не с той легкостью, как я это вам сейчас передаю, а еле‑еле, через силу. Попотел он при этом изрядно, тем более что дело происходило летом. Тут и узрел я впервые, что даже Фрасимах может покраснеть.
После того как мы оба признали, что справедливость – это добродетель и мудрость, а несправедливость – порочность и невежество, я сказал:
– Пусть так. Будем считать это у нас уже установленным. Но мы еще утверждали, что несправедливость могущественна. Или ты не помнишь, Фрасимах?
e
– Помню. Но я недоволен тем, что ты сейчас утверждаешь, и должен по этому поводу сказать кое‑что. Впрочем, если я стану говорить, я уверен, ты назовешь это разглагольствованием. Так что либо предоставь мне говорить, что я хочу, либо, если тебе угодно спрашивать, спрашивай, а я тебе буду вторить, словно старухам, рассказывающим сказки, и то одобрительно, то отрицательно кивать головой.
– Только ни в коем случае не вопреки собственному мнению.
– Постараюсь, чтобы ты остался доволен мной, раз уж ты не даешь мне говорить. Чего ты от меня еще хочешь?
– Ничего, клянусь Зевсом. Если ты будешь так поступать – дело твое, я же тебе задам вопрос.
– Задавай.
351
– Я спрашиваю о том же, что и недавно, чтобы наше рассуждение шло по порядку: а именно, как относится справедливость к несправедливости? Ведь раньше было сказано, что несправедливость и могущественнее, и сильнее справедливости. Теперь же, раз справедливость – это мудрость и добродетель, легко, думаю я, обнаружится, что она и сильнее несправедливости, раз та не что иное, как невежество. Это уж всякий поймет.
b
Но я не хочу, Фрасимах, рассматривать это так плоско, а скорее вот в каком роде: признаёшь ли ты, что государство может быть несправедливым и может пытаться несправедливым образом поработить другие государства и держать их в порабощении, причем многие государства бывают порабощены им?
– А почему бы нет? Это в особенности может быть осуществлено самым превосходным из государств, наиболее совершенным в своей несправедливости.
– Я понимаю, что таково было твое утверждение. Но я вот как его рассматриваю: государство, становясь сильнее другого государства, приобретает свою мощь независимо от справедливости или же обязательно в сочетании с нею?
c
– Если, как ты недавно говорил, справедливость – это мудрость, тогда – в сочетании со справедливостью. Если же дело обстоит, как говорил я, то – с несправедливостью.
– Меня очень радует, Фрасимах, что ты не говоришь просто «да» или «нет», но отвечаешь мне, да еще так превосходно.
– Это я тебе в угоду.
– И хорошо делаешь. Угоди же мне еще вот чем:
скажи, как, по‑твоему, государство, или войско, или разбойники, или воры, или еще какой‑либо народ, несправедливо приступающий сообща к какому‑нибудь делу, может ли что‑нибудь сделать, если эти люди будут несправедливо относиться друг к другу?
– Конечно, нет.
d
– А если не будут относиться несправедливо, тогда скорей?
– Еще бы!
– Ведь несправедливость, Фрасимах, вызывает раздоры, ненависть, междоусобицы, а справедливость – единодушие и дружбу[1312]
. Не так ли?
– Пусть будет так, чтобы не спорить с тобой.
– Это хорошо с твоей стороны, почтеннейший. Скажи‑ка мне вот что: если несправедливости, где бы она ни была, свойственно внедрять ненависть повсюду, то, возникши в людях, все равно, свободные ли они или рабы, разве она не заставит их возненавидеть друг друга, не приведет к распрям, так что им станет невозможно действовать сообща?
e
– Конечно.
– Да хотя бы их было только двое, но раз уж она в них возникла, разве они не разойдутся во взглядах, не возненавидят, как враги, друг друга, да притом и людей справедливых?
– Да, они будут врагами.
– Если даже, Фрасимах – удивительный ты человек! – несправедливость возникнет только у одного, разве потеряет она тогда свойственную ей силу? Или же, наоборот, она будет иметь ее нисколько не меньше?
– Пускай себе имеет ничуть не меньше.
352
– А силу она имеет, как видно, какую‑то такую, что, где бы несправедливость ни возникла – в государстве ли, в племени, в войске или в чем‑либо ином, – она прежде всего делает невозможным действия этих групп, поскольку эти действия сопряжены с ней самой, – ведь она ведет к раздорам, к разногласиям, внутренней и внешней вражде, в том числе и к справедливому противнику. Разве не так?
– Конечно, так.
– Даже возникая в одном человеке, она производит все то, что ей свойственно совершать. Прежде всего она делает его бездейственным, так как он в раздоре и разладе с самим собой, он враг и самому себе, и людям справедливым. Не так ли?
– Да.
– Но справедливы‑то, друг мой, и боги?
b
– Пусть так.
– А богам, Фрасимах, несправедливый враждебен, а справедливый им – друг.
– Угощайся этим рассуждением сам, да смелее. Я тебе не стану перечить, чтобы не нажить врагов среди присутствующих.
– Ну так дополни это мое угощение еще и остальными ответами, подобно тому как ты это делал сейчас. Обнаружилось, что справедливые люди мудрее, лучше и способнее к действию, несправедливые же не способны действовать вместе.
c
Хотя мы и говорим, что когда‑то кое‑что было совершено благодаря энергичным совместным действиям тех, кто несправедлив, однако в этом случае мы выражаемся не совсем верно. Ведь они не пощадили бы друг друга, будь они вполне несправедливы, стало быть ясно, что было в них что‑то и справедливое, мешавшее им обижать как друг Друга, так и тех, против кого они шли. Благодаря этому они и совершили то, что совершили.
d
На несправедливое их подстрекала присущая им несправедливость, но были они лишь наполовину порочными, потому что люди совсем плохие и совершенно несправедливые совершенно не способны и действовать. Вот как я это понимаю, а не так, как ты сперва утверждал.
Нам остается еще исследовать то, что мы вслед за тем решили подвергнуть рассмотрению, то есть лучше ли живется людям справедливым, чем несправедливым, и счастливее ли они. Хотя, по‑моему, это уже и теперь видно из сказанного, все же надо рассмотреть это основательнее – ведь речь идет не о чем попало, а о том, каким образом надо жить.
– Так рассмотри же это.
– Я это и делаю. Ну, вот скажи мне, есть, по‑твоему, у коня какое‑нибудь назначение?
e
– По‑моему, да.
– Не то ли ты считал бы назначением коня или чего угодно другого, что может быть выполнено только с его помощью или лучше всего с ней?
– Не понимаю.
– Да вот как: можешь ли ты видеть чем‑нибудь иным, кроме глаз?
– Нет, конечно.
– Ну а слышать чем‑нибудь иным, кроме ушей?
– Ни в коем случае.
353
– Ну а ветви виноградной лозы можешь ты обрезать садовым и простым ножом и многими другими орудиями?
– Конечно.
– Но ничем не обрежешь их так хорошо, как особым серпом, который для того‑то и сделан.
– Это правда.
– Так не считать ли нам это назначением серпа?
– Будем считать.
– Теперь, я думаю, ты лучше поймешь мой недавний вопрос: не будет ли назначением каждой вещи то, что кто‑нибудь выполняет только с ее помощью или лучше всего пользуясь ею, чем любой иной вещью?
– Понимаю. По‑моему, это и будет назначением каждой вещи.
b
– Хорошо. А находишь ли ты, что раз у каждой вещи есть свое назначение, то у нее должны быть и свои достоинства? Вернемся к нашим примерам: признаем ли мы, что глаза имеют свое назначение?
– Да, имеют.
– Значит, у глаз есть и свое достоинство?
– Есть и это.
– Ну, а уши имеют свое назначение?
– Да.
– Значит, и свое достоинство?
– Да, и достоинство.
– А в отношении всех остальных вещей разве дело обстоит не так же?
– Так.
c
– Погоди‑ка. Могут ли глаза хорошо выполнять свое назначение, если у них нет свойственных им достоинств, а вместо этого – одни недостатки?
– Как можно! Вместо зрения ты, верно, говоришь о сплошной слепоте.
– Именно зрение и составляет достоинство глаз. Но я пока не об этом спрашиваю, а о том, не вследствие ли присущих им достоинств глаза хорошо выполняют свое назначение, а при недостатках – плохо.
– Это ты верно говоришь.
– И уши, лишенные свойственных им достоинств, плохо выполняют свое назначение?
– Конечно.
d
– Подведем ли мы и все остальное под это правило?
– По‑моему, да.
– Тогда рассмотри после этого вот что: есть ли у души какое‑либо назначение, которое нельзя выполнить решительно ничем другим из существующего, – например заботиться, управлять, советоваться и тому подобное? Есть ли что‑нибудь другое, кроме души, к чему мы с полным правом могли бы все это отнести и сказать, что это его дело?
– Другого такого нет ничего.
– Опять‑таки – жизнь: признаем ли мы, что это дело души?
– Безусловно.
– Стало быть, мы признаем, что у души есть какое‑то присущее ей достоинство?
– Признаем.
e
– А лишившись этого присущего ей достоинства, может ли душа хорошо выполнять свое назначение или это невозможно?
– Невозможно.
– Стало быть, правление и попечение низкой души неизбежно будет плохим, а у возвышенной души все это выходит хорошо.
– Это необходимо.
– Но ведь мы согласились, что достоинство души – это справедливость, а недостаток – несправедливость.
– Да согласились.
– Значит, справедливая душа и справедливый человек будут жить хорошо, а несправедливый – плохо.
– Видно так, согласно твоему рассуждению.
354
– Но кто живет достойно, тот человек благоденствующий и счастливый, а кто живет недостойно – как раз наоборот.
– Да, не иначе.
– Следовательно, справедливый счастлив, а несправедливый‑это жалкий человек.
– Пусть так.
– Но что за прок быть жалким? Иное дело – быть счастливым.
– Как же иначе?
– Следовательно, – чудак ты, Фрасимах! – несправедливость никогда не может быть целесообразнее справедливости.
– Ну, этим и угощайся, Сократ, на Бендидиях!
– Это ты меня угощаешь, Фрасимах, раз ты у меня стал таким кротким и перестал сердиться. Впрочем, я еще не вдоволь угостился – в этом моя вина, а не твоя. Как лакомки[1313]
, сколько бы чего ни подали к столу, набрасываются на каждое блюдо, дабы отведать и его,
b
хотя они еще недостаточно насладились предыдущим, так, по‑моему, и я: не найдя ответа на то, что мы рассматривали сначала, а именно на вопрос, что такое справедливость, я бросил это и кинулся исследовать, будет ли она недостатком и невежеством, или же она – мудрость и добродетель; а затем, когда я столкнулся с утверждением, будто несправедливость целесообразнее справедливости, я не удержался, чтобы не перейти от того вопроса к этому.
c
Так‑то и вышло, что сейчас я ничего не вынес из этой беседы. Раз я не знаю, что такое справедливость, я вряд ли узнаю, есть ли у нее достоинства пли нет, и несчастлив ли обладающий ею или, напротив, счастлив.
Перевод А. Н. Егунова.
В кн.: Платон. Соб. соч. в 3‑х тт. Т.3 (1). М., 1971
КHИГА II
357
Я думал, что после таких моих слов мне будет уже излишне продолжать беседу, но оказалось, что это было не более как вступление к ней. Главкон, который никогда ни перед чем не отступает, и сейчас не стерпел отказа Фрасимаха от рассуждения и сказал: Справедливость и несправедливость (продолжение)
b
– Сократ, желательно ли тебе, чтобы только казалось, будто ты нас переубедил, или чтобы мы подлинно убедились в том, что быть человеком справедливым в любом случае лучше, чем несправедливым?
– Подлинно убедить я бы, конечно, предпочел, если б это от меня зависело.
– Между тем ты не делаешь того, что тебе желательно. Скажи‑ка мне, представляется ли тебе благом то, что для нас приемлемо не ради его последствий, но ценно само по себе? Вроде как, например, радость или какие‑нибудь безобидные удовольствия – они в дальнейшем ни к чему, но они веселят человека.
– Мне лично оно представляется чем‑то именно в таком роде.
c
– Далее. А то, что мы чтим и само по себе, и ради его последствий? Например, разумение, зрение, здоровье и все ценное для нас по обеим этим причинам считаешь ли ты благом?
– Да.
– А не замечаешь ли ты еще и какого‑то третьего вида блага, к которому относятся упражнения тела, пользование больных, лечение и прочие прибыльные занятия? Мы признали бы, что они тягостны, хотя нам и полезны[1314]
. Вряд ли мы стали бы ими заниматься ради них самих, но они оплачиваются и дают разные другие преимущества.
d
– Существует и такой третий вид благ. Но что из того?
– К какому же виду благ ты относишь справедливость?
– Я‑то полагаю, что к самому прекрасному, который и сам по себе, и по своим последствиям должен быть ценен человеку, если тот стремится к счастью.
358
– А большинство держится иного взгляда и относит ее к виду тягостному, которому можно предаваться лишь за вознаграждение, ради уважения и славы, сама же она по себе будто бы настолько трудна, что лучше ее избегать.
– Я знаю такое мнение; недаром Фрасимах давно уже порицает этот вид блага и превозносит несправедливость. Но я, видно, непонятлив.
b
– Погоди, выслушай и меня – вдруг ты со мной согласишься. Фрасимах, по‑моему, слишком скоро поддался, словно змея, твоему заговору, а я все еще не удовлетворен твоим доказательством как той, так и другой стороны вопроса. Я желаю услышать, что же такое справедливость и несправедливость и какое они имеют значение, когда сами по себе содержатся в душе человека; а что касается вознаграждения и последствий, это мы оставим в стороне.
Вот что я сделаю, если ты не возражаешь: я снова вернусь к рассуждению Фрасимаха. Скажу, во‑первых, о том, как представляют себе такие люди справедливость и ее происхождение;
c
во‑вторых, упомяну, что все, кто ее придерживается, делают это против воли, словно это необходимость, а не благо; в‑третьих, укажу, что так поступать уместно, потому что, как уверяют, жизнь человека несправедливого много лучше жизни справедливого. Мне‑то лично, Сократ, все это представляется совсем не так, но я нахожусь в недоумении – мне все уши прожужжали и Фрасимах, и сотни других людей. А вот того, что мне хочется, –
d
доказательства в защиту справедливости, то есть, что она лучше несправедливости, – я как‑то ни от кого не слыхал. Мне хочется услыхать похвалу ей – самой по себе. Думаю, что в особенности от тебя я могу узнать об этом – вот почему я нарочно стану хвалить несправедливую жизнь, чтобы тем самым подсказать тебе, каким образом мне хотелось бы услышать от тебя порицание несправедливости и похвалу справедливости. Смотри, согласен ли ты с моим предложением?
– Вполне. Разве есть для разумного человека что‑нибудь более приятное, чем возможность почаще беседовать о таком предмете?
e
– Прекрасно. Выслушай же то, о чем я упомянул сперва, а именно в чем состоит справедливость и откуда она берется.
Говорят, что творить несправедливость обычно бывает хорошо, а терпеть ее – плохо. Однако, когда терпишь несправедливость, в этом гораздо больше плохого, чем бывает хорошего, когда ее творишь. Поэтому, когда люди отведали и того и другого, то есть и поступали несправедливо, и страдали от несправедливости, тогда они, раз уж нет сил избежать одной и придерживаться другой, нашли целесообразным договориться друг с другом, чтобы и не творить несправедливости, и не страдать от нее.
359
Отсюда взяло свое начало законодательство и взаимный договор[1315]
. Установления закона и получили имя законных и справедливых – вот каково происхождение и сущность справедливости; она занимает среднее место: ведь творить несправедливость, оставаясь притом безнаказанным, это всего лучше, а терпеть несправедливость, когда ты не в силах отплатить, – всего хуже. Справедливость же лежит посреди между этими крайностями, и этим приходится довольствоваться, но не потому, что она благо, а потому, что люди ценят ее из‑за своей собственной неспособности творить несправедливость.
b
Никому из тех, кто в силах творить несправедливость, то есть кто доподлинно муж, не придет в голову заключать договоры о недопустимости творить или испытывать несправедливость – разве что он сойдет с ума. Такова, Сократ, – или в таком роде – природа справедливости, и вот из‑за чего она появилась, согласно этому рассуждению.
А что соблюдающие справедливость соблюдают ее из‑за бессилия творить несправедливость, а не по доброй воле, это мы всего легче заметим, если мысленно сделаем вот что: дадим полную волю любому человеку, как справедливому, так и несправедливому,
c
творить все что ему угодно, и затем понаблюдаем, куда его поведут его влечения. Мы поймаем справедливого человека с поличным: он готов пойти точно на то же самое, что и несправедливый, – причина тут в своекорыстии, к которому, как к благу, стремится любая природа, и только с помощью закона, насильственно ее заставляют соблюдать надлежащую меру.
У людей была бы полнейшая возможность, как я говорю, творить все что угодно, если бы у них была та способность, которой, как говорят, обладал некогда Гиг, сын Лида[1316]
.
d
Он был пастухом и батрачил у тогдашнего правителя Лидии; как‑то раз, при проливном дожде и землетрясении, земля кое‑где расселась и образовалась трещина в тех местах, где Гиг пас свое стадо. Заметив это, он из любопытства спустился в расселину и увидел там, как рассказывают, разные диковины, между прочим медного коня, полого и снабженного дверцами. Заглянув внутрь, он увидел мертвеца, с виду больше человеческого роста.
e
На мертвеце ничего не было, только на руке – золотой перстень. Гиг снял его и взял себе, а затем вылез наружу. Когда пришла пора пастухам собраться на сходку, как они обычно делали каждый месяц, чтобы отчитаться перед царем о состоянии стада, Гиг тоже отправился туда, а на руке у него был перстень. Так вот, когда он сидел среди пастухов, случилось ему повернуть перстень камнем к ладони, и чуть только это произошло, Гиг
360
стал невидимкой, и сидевшие рядом с ним говорили о нем уже как об отсутствующем. Он подивился, нащупал снова перстень и повернул его камнем наружу, а чуть повернул, снова стал видимым. Заметив это, он начал пробовать, действительно ли перстень обладает таким свойством, и всякий раз получалось, что стоило только повернуть перстень камнем к ладони, Гиг делался невидимым, когда же он поворачивал его камнем наружу – видимым.
b
Поняв это, он сразу повел дело так, чтобы попасть в число вестников, окружавших царя. А получив к царю доступ, Гиг совратил его жену, вместе с ней напал на него, убил и захватил власть.
Если бы было два таких перстня – один на руке у человека справедливого, а другой у несправедливого, тогда, надо полагать, ни один из них не оказался бы настолько твердым, чтобы остаться в пределах справедливости и решительно воздержаться от присвоения чужого имущества и не притрагиваться к нему, хотя каждый имел бы возможность без всякой опаски брать что угодно на рыночной площади, проникать в дома и сближаться с кем вздумается,
c
убивать, освобождать из заключения кого захочет – вообще действовать среди людей так, словно он равен богу. Поступая таким образом, обладатели перстней нисколько не отличались бы друг от друга: оба они пришли бы к одному и тому же. Вот это и следует признать сильнейшим доказательством того, что никто не бывает справедливым по своей воле, но лишь по принуждению, раз каждый человек не считает справедливость самое по себе благом и, где только в состоянии поступать несправедливо, он так и поступает.
d
Ведь всякий человек про себя считает несправедливость гораздо более целесообразной, чем справедливость, и считает он это правильно, скажет тот, кто защищает такой взгляд. Если человек, овладевший такою властью, не пожелает когда‑либо поступить несправедливо и не притронется к чужому имуществу, он всем, кто это заметит, покажется в высшей степени жалким и неразумным, хотя люди и станут притворно хвалить его друг перед другом – из опасения, как бы самим не пострадать. Вот как обстоит дело.
e
Что же касается самой оценки образа жизни тех, о ком мы говорим, то об этом мы будем в состоянии правильно судить только тогда, когда сопоставим самого справедливого человека и самого несправедливого, в противном же случае – нет. В чем же состоит это сопоставление? А вот в чем: у несправедливого человека нами не будет изъято ни одной черты несправедливости, а у справедливого – ни одной черты справедливости, и тот и другой будет у нас доведен в своих привычках до совершенства. Так вот, прежде всего пусть человек несправедливый действует наподобие искусных мастеров: умелый кормчий или врач знает, что в его деле невозможно, а что возможно – за одно он принимается, за другое даже не берется;
361
вдобавок он способен и исправить какой‑нибудь свой случайный промах. У человека несправедливого – коль скоро он намерен именно таковым быть – верным приемом в его несправедливых делах должна быть скрытность. Если его поймают, значит, он слаб. Ведь крайняя степень несправедливости – это казаться справедливым, не будучи им на самом деле. Совершенно несправедливому человеку следует изображать совершеннейшую справедливость, не лишая ее ни одной черточки; надо допустить, что тот, кто творит величайшую несправедливость, уготовит себе величайшую славу в области справедливости:
b
если он в чем и промахнется, он сумеет поправиться; он владеет даром слова, чтобы переубедить, если раскроется что‑нибудь из его несправедливых дел; он способен также применить насилие, где это требуется, потому что он обладает и мужеством, и силой, да, кроме того, приобрел себе друзей и богатство.
Представив себе таким несправедливого человека, мы в этом нашем рассуждении противопоставим ему справедливого, то есть человека простого и благородного, желающего, как сказано у Эсхила, не казаться, а быть хорошим[1317]
. Показное здесь надо откинуть. Ибо если он будет справедливым напоказ, ему будут воздаваться почести и преподноситься подарки;
c
ведь всем будет казаться, что он именно таков, а ради ли справедливости он таков или ради подарков и почестей – будет неясно. Его следует обнажить ото всего, кроме справедливости, и сделать его полной противоположностью тому, первому человеку. Не совершая никаких несправедливостей, пусть прослывет он чрезвычайно несправедливым, чтобы тем самым подвергнуться испытанию на справедливость и доказать, что к нему не пристанет дурная молва н то, что за нею следует. Пусть он неизменно идет своим путем вплоть до смерти,
d
считаясь несправедливым при жизни, хотя на самом деле он справедлив. И вот когда оба они дойдут до крайнего предела, один – справедливости, другой – несправедливости, можно будет судить, кто из них счастливее.
– Ох, дорогой Главкон, – сказал я, – крепко же ты отшлифовал для нашего суждения, словно статую, каждого из этих двоих людей!
– Постарался, как только мог, – отвечал Главкон, – а раз они таковы, то, думаю я, будет уже нетрудно разобрать путем рассуждения, какая жизнь ожидает каждого из них.
e
Надо об этом сказать; если же выйдет несколько резко, то считай, Сократ, что это говорю не я, а те, кто вместо справедливости восхваляет несправедливость. Они скажут: так расположенный справедливый человек подвергнется бичеванию, пытке на дыбе, на него наложат оковы, выжгут ему глаза, а в конце концов, после всяческих мучений, его посадят на кол и он узнает, что желательно не быть, а лишь казаться справедливым.
362
Причем выражение Эсхила гораздо правильнее будет применить к человеку несправедливому. Ведь действительно скажут, что человек несправедливый занимается делом не чуждым истины, живет не ради молвы, желает не только казаться несправедливым, но на самом деле быть им:
Свой ум взрыхлил он бороздой глубокою,
Произрастают где решенья мудрые[1318]
.
b
Прежде всего в его руках окажется государственная власть – поскольку он будет казаться справедливым, затем он возьмет себе жену из какой угодно семьи, станет выдавать замуж кого ему вздумается, будет вступать в связи и общаться с кем ему угодно, да еще вдобавок из всего этого извлекать выгоду, потому что он ничуть не брезгает несправедливостью. Случится ли ему вступить в частный или в общественный спор, он возьмет верх и одолеет своих врагов, а одолев их, разбогатеет, облагодетельствует своих друзей, разгромит врагов, станет приносить богам обильные и роскошные жертвы и дары,
c
то есть будет чтить богов, да и кого захочет из людей, гораздо лучше, чем человек справедливый, так что, по всей вероятности, скорее ему, а не человеку справедливому пристало быть угодным богам. Вот чем, Сократ, подкрепляется утверждение, что и со стороны богов, и со стороны людей человеку несправедливому уготована жизнь лучшая, чем справедливому.
Когда Главкон кончил, я собрался было с мыслями, чтобы как‑то ему возразить, но его брат Адимант обратился ко мне:
d
– Ты, Сократ, конечно, не считаешь, что сказанное решает спорный вопрос?
– Конечно.
– Упущено самое главное из того, что надо было сказать.
– Значит, согласно поговорке: «брат выручай брата»[1319]
, если Главкон что упустил, твое дело помочь ему. А для меня и того, что он сказал, уже достаточно, чтобы оказаться побитым и лишиться возможности помочь справедливости.
e
– Ты говоришь пустое, – возразил Адимант, – а выслушай еще вот что: нам надо разобрать и те доводы, которые противоположны сказанному Главконом – они одобряют справедливость и порицают несправедливость, – тогда станет яснее, по‑моему, намерение Главкона. И отцы, когда говорят и внушают своим сыновьям, что надо быть справедливыми, и все, кто о ком‑либо имеет попечение, одобряют не самое справедливость,
363
а зависящую от нее добрую славу, чтобы тому, кто считается справедливым, достались и государственные должности, и выгоды в браке, то есть все то, о чем сейчас упоминал Главкон, говоря о человеке, пользующемся доброй славой, хотя и несправедливом. Более того, эти люди ссылаются и на другие преимущества доброй славы: добавив также почет со стороны богов, они могут указать на обильные блага, которые, как они считают, боги даруют людям благочестивым. Об этом говорит такой возвышенный поэт, как Гесиод, да и Гомер тоже.
b
По Гесиоду, боги сотворили для праведных дубы,
Желуди чтобы давать с верхушки и мед из средины;
Овцы отягчены густорунные шерстью богатой[1320]
.
И много других благ сотворили они в дополнение к этому. Почти то же самое и у Гомера:
Ты уподобиться можешь царю беспорочному; страха
Божия полный [и многих людей повелитель могучий],
Правду творит он; в его областях изобильно родится
Рожь, и ячмень, и пшено, тяготеют плодами деревья,
Множится скот на полях и кипят многорыбием воды…[1321]
c
А Мусей и его сын[1322]
уделяют праведникам от богов блага увлекательнее этих: согласно этому учению, когда те сойдут в Аид, их укладывают на ложе, устраивают пирушку для этих благочестивых людей и делают так, что они проводят все остальное время уже в опьянении, с венками на голове; Мусей считает, что самая прекрасная награда за добродетель – это вечное опьянение[1323]
.
d
А согласно другим учениям, награды, даруемые богами, распространяются еще дальше: после человека благочестивого и верного клятвам останутся дети его детей и все его потомство. Вот за что – и за другие вещи в этом же роде – восхваляют они справедливость. А людей нечестивых и неправедных они погружают в какую‑то трясину в Аиде и заставляют носить решетом воду[1324]
.
e
Таким людям еще при их жизни приписывают дурную славу: то наказание, о котором упоминал Главкон, говоря о людях справедливых, но прослывших несправедливыми, и постигает, как уверяют, людей несправедливых. Больше о них сказать ничего нельзя. Вот какова похвала и порицание тем и другим.
Кроме того, относительно справедливости и несправедливости рассмотри, Сократ, еще и другой вид высказываний, встречающихся и в обыденной речи, и у поэтов.
364
Все в один голос твердят, что рассудительность и справедливость – нечто прекрасное, однако в то же время тягостное и трудное, отличаться же разнузданностью и несправедливостью приятно и легко и только из‑за общего мнения и закона считается постыдным. Большей частью говорят, что несправедливые поступки целесообразное справедливых: люди легко склоняются к тому, чтобы и в общественной жизни, и в частном быту считать счастливыми и уважать негодяев, если те богаты и вообще влиятельны. и ни во что не ставить и презирать каких‑нибудь немощных бедняков, пусть даже и признавая, что они лучше богачей.
b
Из всего этого наиболее удивительны те взгляды, которые высказывают относительно богов и добродетели – будто бы и боги уделяют несчастье н плохую жизнь многим хорошим людям, а противоположным – противоположную участь[1325]
. Нищенствующие прорицатели околачиваются у дверей богачей, уверяя, будто обладают полученной от богов способностью жертвоприношениями и заклинаниями загладить тяготеющий на ком‑либо или на его предках проступок,
c
причем это будет сделано приятным образом, посреди празднеств. Если же кто пожелает нанести вред своему врагу, то при незначительных издержках он справедливому человеку может навредить в такой же степени, как и несправедливому: они уверяют, что с помощью каких‑то заклятии и узелков они склоняют богов им помочь[1326]
. А в подтверждение всего этого приводят свидетельства поэтов, говорящих о доступности зла:
d
Выбор зла в изобилии предоставляется людям
Очень легко: ровен путь и обитель его совсем близко,
А преддверием доблести пот установлен богами[1327]
,
да и путь к ней какой‑то долгий и крутой. В подтверждение же того, что люди способны склонить богов, ссылаются на Гомера, так как и он сказал, что боги, и то умолимы,
e
Хоть добродетелью, честью и силой намного нас выше,
Но и бессмертных богов благовоньями, кроткой молитвой,
Вин возлияньем и жиром сжигаемой жертвы смягчает
Смертный просящий, когда он пред ними виновен и грешен[1328]
.
У жрецов под рукой куча книг Мусея и Орфея, потомков, как говорят, Селены и Муз[1329]
, и по этим книгам они совершают свои обряды, уверяя не только отдельных лиц, но даже целые народы, будто и для тех, кто еще в живых, и для тех, кто уже скончался, есть избавление и очищение от зла:
365
оно состоит в жертвоприношениях и в приятных забавах, которые они называют посвящением в таинства; это будто бы избавляет нас от загробных мучений, а кто не совершал жертвоприношений, тех ожидают ужасы[1330]
.
И сколько же такой всякой всячины, дорогой Сократ, утверждается относительно добродетели и порочности, и о том, как они расцениваются у людей н у богов! Что же под этим впечатлением делать, скажем мы, душам юношей? Несмотря на свои хорошие природные задатки, они словно слетаются на приманку таких рассказов и способны по ним делать вывод,
b
каким надо быть человеку и какого ему направления придерживаться, чтобы как можно лучше пройти свой жизненный путь. По всей вероятности, юноша задаст самому себе вопрос наподобие Пиндара:
Правдой ли взойти мне на вышнюю крепость
Или обманом и кривдой[1331]
и под их защитой провести жизнь? Судя по этим рассказам, если я справедлив, а меня таким но считают, пользы от этого для меня, как уверяют, не будет никакой, одни только тяготы и явный ущерб. А для человека несправедливого, но снискавшего себе славу справедливости, жизнь, как утверждают, чудесна.
c
Следовательно, раз видимость, как объясняют мне люди мудрые, пересиливает даже истину[1332]
и служит главным условием благополучия, мне именно на это и следует обратить все свое внимание: в качестве преддверия, для видимости мне надо начертать вокруг себя живописное изображение добродетели и под этим прикрытием протащить лисицу премудрого Архилоха, ловкую и изворотливую[1333]
. Но, скажет кто‑нибудь, нелегко все время скрывать свою порочность.
d
Да ведь и все великое без труда не дается, ответим мы ему. Тем не менее, если мы стремимся к благополучию, приходится идти по тому пути, которым ведут пас следы этих рассуждений. Чтобы утаиться, мы составим союзы и сообщества; существуют и наставники в искусстве убеждать, от них можно заимствовать судейскую премудрость и умение действовать в народных собраниях: таким образом, мы будем прибегать то к убеждению, то к насилию, так, чтобы всегда брать верх и не подвергаться наказанию.
Но от богов‑то невозможно ни утаиться, ни применить к ним насилие. Тогда, если боги не существуют или если они нисколько не заботятся о человеческих делах, то и нам нечего заботиться о том, чтобы от них утаиться.
e
Если же боги существуют и заботятся о нас, так ведь мы знаем о богах или слышали о них не иначе как из сказаний и от поэтов, изложивших их родословную. Те же самые источники утверждают, что можно богов переубедить, привлекая их на свою сторону жертвами, кроткими молитвами и приношениями. Тут приходится либо верить и в то и в другое, либо не верить вовсе. Если уж верить, то следует сначала поступить несправедливо, а затем принести жертвы богам от своих несправедливых стяжаний.
366
Ведь, придерживаясь справедливости, мы, правда, не будем наказаны богами, но зато лишимся выгоды, которую несправедливость могла бы нам принести. Придерживаться же несправедливости нам выгодно, а что касается наших преступлений и ошибок, так мы настойчивой мольбой переубедим богов и избавимся от наказания. Но ведь в Аиде либо нас самих, либо детей наших детей ждет кара за наши здешние несправедливые поступки.
b
Однако, друг мой, скажет расчетливый человек, здесь‑то и имеют великую силу посвящения в таинства и боги‑избавители, и именно этого придерживаются как крупнейшие государства, так и дети богов, ставшие поэтами и божьими пророками[1334]
: они указывают, что дело обстоит именно таким образом.
На каком же еще основании выбрали бы мы себе справедливость вместо крайней несправедливости? Если мы овладеем несправедливостью в сочетании с притворной благопристойностью, наши действия будут согласны с разумом пред лицом как богов, так и людей, – и при нашей жизни и после кончины: вот взгляд, выражаемый большинством высокопоставленных лиц.
c
После всего сказанного есть ли какая‑нибудь возможность, Сократ, чтобы человек, одаренный душевной и телесной силой, обладающий богатством и родовитый, пожелал уважать справедливость, а не рассмеялся бы, слыша, как ее превозносят? Да и тот, кто может опровергнуть всё, что мы теперь сказали, и кто вполне убежден, что самое лучшее – это справедливость, даже он будет очень склонен извинить людей несправедливых и отнестись к ним без гнева, сознавая, что человек бывает возмущен несправедливостью разве лишь, если он божествен по природе, и воздерживается от нее только тогда, когда обладает знанием, а вообще‑то никто не придерживается справедливости по доброй воле:
d
всякий осуждает несправедливость из‑за своей робости, старости или какой‑либо иной немощи, то есть потому, что он просто не в состоянии ее совершить. Ясно, что это так. Ведь из таких людей первый, кто только войдет в силу, первым же и поступает несправедливо, насколько он способен.
Причина всему этому не что иное, как то, из чего и исходило все это наше рассуждение. И вот как он, так и я, мы оба скажем тебе, Сократ, следующее:
e
«Поразительный ты человек! Сколько бы всех вас ни было, признающих себя почитателями справедливости, никто, начиная от первых героев – ведь высказывания многих из них сохранились – и вплоть до наших современников, никогда не порицал несправедливость и не восхвалял справедливость иначе как за вытекающие из них славу, почести и дары. А самое справедливость или несправедливость, своей собственной силой содержащуюся в душе того, кто ею обладает, хотя бы это таилось и от богов, и от людей, еще никто никогда не подвергал достаточному разбору ни в стихах, ни в прозе, и никто не говорил, что несправедливость – это величайшее зло,
367
какое только может в себе содержать душа, а справедливость – величайшее благо. Если бы вы все с самого начала так говорили и убедили бы нас в этом с юных лет, нам не пришлось бы остерегать друг друга от несправедливых поступков, каждый был бы своим собственным стражем из опасения, как бы не стать сподвижником величайшего зла, творя несправедливость».
Вот что, а быть может и более того, сказал бы Фрасимах – или кто другой – о справедливости и несправедливости, как мне кажется, грубо извращая их значение. Но я – мне нечего от тебя таить – горячо желаю услышать от тебя опровержение, оттого‑то я и говорю, напрягаясь изо всех сил.
b
Так вот ты в своем ответе и покажи нам не только, что справедливость лучше несправедливости, но и какое действие производит в человеке присутствие той или другой самой по себе – зло или благо. Мнений же о справедливости и несправедливости не касайся, как это и советовал Главкон. Ведь если ты сохранишь в обоих случаях истинные мнения, а также присовокупишь к ним ложные, то мы скажем, что ты хвалишь не справедливость, но ее видимость, а порицание твое относится не к несправедливости, а к мнению о ней:
c
получится, что ты советуешь несправедливому человеку таиться и соглашаешься с Фрасимахом, что справедливость – это благо другого, что она пригодна сильнейшему, для которого пригодна и целесообразна собственная несправедливость, слабейшему же справедливость не нужна. Раз ты признал, что справедливость относится к величайшим благам, которыми стоит обладать и ради проистекающих отсюда последствий, и еще более ради них самих, – таковы зрение, слух, разум, здоровье и разные другие блага, подлинные по самой своей природе, а не по мнению людей,
d
– то вот эту сторону справедливости ты и отметь похвалой: скажи, что она сама по себе помогает человеку, если он ее придерживается, несправедливость же, напротив, вредит. А хвалить то, что справедливость вознаграждается деньгами и славой, ты предоставь другим. Когда именно за это восхваляют справедливость и осуждают несправедливость, превознося славу и награды или же их порицая, то от остальных людей я это еще могу вынести, но от тебя нет – разве что ты этого потребуешь, – потому что ты всю свою жизнь не исследовал ничего другого, кроме этого.
e
Так вот, в своем ответе ты покажи нам не только, что справедливость лучше несправедливости, но и какое действие производит в человеке присутствие той или другой самой но себе – все равно, утаилось ли это от богов и людей, или нет, – и почему одна из них – благо, а другая – зло.
Эти слова Адиманта меня тогда особенно порадовали, хотя я и всегда‑то восхищался природными задатками его и Главкона.
368
– Вы и впрямь сыновья своего славного родителя, – сказал я, – и неплохо начало элегии, с которой обратился к вам поклонник Главкона, когда вы отличились в сражении под Мегарой:
Славного Аристона божественный род – его дети[1335]
.
Это, друзья, по‑моему, хорошо. Испытываемое вами состояние вполне божественно, раз вы не держитесь взгляда, будто несправедливость лучше справедливости, и уже способны именно так говорить об этом. Мне кажется, что вы и в самом деле не держитесь такого взгляда. Заключаю так по всему вашему поведению, потому что одним вашим словам я бы не поверил.
b
Но чем больше я вам верю, тем больше недоумеваю, как мне быть, не знаю, чем вам помочь, ц признаю свое бессилие. Знаком этого служит мне следующее: мои доводы против Фрасимаха, которые, как я полагал, уже показали, что справедливость лучше несправедливости, не были вами восприняты. С другой стороны, я не могу не защищать свои взгляды. Ведь я боюсь, что будет нечестиво, присутствуя при поношении справедливости, уклоняться от помощи ей, пока ты еще дышишь и в силах подать голос.
c
Самое лучшее – вступиться за нее в меру сил. Ведь Главкон и остальные просили меня помочь любым способом и не бросать рассуждения, но, напротив, тщательно исследовать, что такое справедливость и несправедливость и как обстоит с истинной их полезностью. Я уже высказывал свое мнение, что предпринимаемое нами исследование – дело немаловажное,
d
оно под силу, как мне кажется, лишь человеку с острым зрением. Мы недостаточно искусны, по‑моему, чтобы произвести подобное разыскание – это вроде того как заставлять человека с не слишком острым зрением читать издали мелко написанные буквы. И вдруг кто‑то сообразит, что те же самые буквы бывают и крупнее, где‑нибудь в надписи большего размера! Я думаю, прямо находкой была бы возможность прочесть сперва крупное, а затем разобрать и мелкое, если только это одно и то же.
e
– Конечно, – сказал Адимант, – но какое же сходство усматриваешь ты здесь, Сократ, с разысканиями, касающимися справедливости?
– Я тебе скажу. Справедливость, считаем мы, бывает свойственна отдельному человеку, по бывает, что и целому государству.
– Конечно.
– А ведь государство больше отдельного человека?
– Больше. Использование государственного опыта для познания частной справедливости
369
– Так в том, что больше, вероятно, и справедливость принимает большие размеры и ее легче там изучать. Поэтому, если хотите, мы сперва исследуем, что такое справедливость в государствах, а затем точно так же рассмотрим ее и в отдельном человеке, то есть подметим в идее меньшего подобие большего.
– По‑моему, это хорошее предложение.
– Если мы мысленно представим себе возникающее государство, мы, не правда ли, увидим там зачатки справедливости и несправедливости?
– Пожалуй, что так.
– Есть надежда, что в этих условиях легче будет заметить то, что мы ищем.
– Конечно.
b
– Так надо, по‑моему, попытаться этого достичь. Думаю, что дела у нас тут будет более чем достаточно. Решайте сами. Разделение труда в идеальном государстве
соответственно потребностям и природным задаткам
– Уже решено, – сказал Адимант.
– Приступай же.
– Государство, – сказал я, – возникает, как я полагаю, когда каждый из нас не может удовлетворить сам себя, но нуждается еще во многом. Или ты приписываешь начало общества чему‑либо иному?
– Нет, ничему иному.
c
– Таким образом, каждый человек привлекает то одного, то другого для удовлетворения той или иной потребности. Испытывая нужду во многом, многие люди собираются воедино, чтобы обитать сообща и оказывать друг другу помощь: такое совместное поселение и получает у нас название государства, не правда ли?
– Конечно.
– Таким образом, они кое‑что уделяют друг другу и кое‑что получают, и каждый считает, что так ему будет лучше.
– Конечно.
– Так давай же, – сказал я, – займемся мысленно построением государства с самого начала. Как видно, его создают наши потребности[1336]
.
– Несомненно.
d
– А первая и самая большая потребность – это добыча пищи для существования и жизни.
– Безусловно.
– Вторая потребность – жилье, третья – одежда и так далее.
– Это верно.
– Смотри же, – сказал я, – каким образом государство может обеспечить себя всем этим: не так лп, что кто‑нибудь будет земледельцем, другой – строителем, третий – ткачом? И не добавить ли нам к этому сапожника и еще кого‑нибудь из тех, кто обслуживает телесные наши нужды?
– Да, надо добавить.
– Самое меньшее, государству необходимо состоять из четырех или пяти человек.
e
– По‑видимому.
– Так что же? Должен ли каждый из них выполнять свою работу с расчетом на всех вообще? Например, земледелец, хотя он один, должен ли выращивать хлеб на четверых, тратить вчетверо больше времени и трудов и уделять другим от того, что он произвел, или же, не заботясь о них, он должен производить лишь четвертую долю этого хлеба только для самого себя и тратить на это всего лишь четвертую часть своего времени, а остальные три его части употребить на постройку дома, изготовление одежды, обуви и не хлопотать о других, а производить все своими силами и лишь для себя?
370
– Пожалуй, Сократ, – сказал Адимант, – первое будет легче, чем это.
– Здесь нет ничего странного, клянусь Зевсом. Я еще раньше обратил внимание на твои слова, что сначала люди рождаются не слишком похожими друг на друга, их природа бывает различна, да и способности к тому или иному делу также. Разве не таково твое мнение?
b
– Да, таково.
– Так что же? Кто лучше работает – тот, кто владеет многими искусствами или же только одним?
– Тот, кто владеет одним.
– Ясно, по‑моему, и то, что стоит упустить время для какой‑нибудь работы, и ничего не выйдет.
– Конечно, ясно.
– И по‑моему, никакая работа не захочет ждать, когда у работника появится досуг; наоборот, он непременно должен следить за работой, а не заниматься ею так, между прочим.
– Непременно.
c
– Поэтому можно сделать все в большем количестве, лучше и легче, если выполнять одну какую‑нибудь работу соответственно своим природным задаткам, и притом вовремя, не отвлекаясь на другие работы[1337]
.
– Несомненно.
– Так вот, Адимант, для обеспечения того, о чем мы говорили, потребуется больше, чем четыре члена государства. Ведь земледелец, вероятно, если нужна хорошая соха, не сам будет изготовлять ее для себя, или мотыгу и прочие земледельческие орудия. В свою очередь и домостроитель – ему тоже требуется многое. Подобным же образом и ткач, и сапожник.
d
– Это правда.
– Плотники, кузнецы и разные такие мастера, если их включить в наше маленькое государство, сделают его многолюдным.
– И даже очень.
– Но оно все же не будет слишком большим, даже если мы к ним добавим волопасов, овчаров и прочих пастухов, чтобы у земледельцев были волы для пахоты, у домостроителей вместе с земледельцами – подъяремные животные для перевозки грузов, а у ткачей и сапожников – кожа и шерсть.
e
– Но и немалым будет государство, где все это есть.
– Но разместить такое государство в местности, где не понадобится ввоза, почти что невозможно.
– Невозможно.
– Значит, вдобавок понадобятся еще и люди для доставки того, что требуется, из другой страны.
– Понадобятся.
– Но такой посредник уедет порожняком, если он приехал порожняком, то есть не привез сюда ничего из того, что требовалось, оттуда. Не правда ли?
371
– По‑моему, да.
– Здесь нужно будет производить не только то, что достаточно для самих себя, но и все то, что требуется там, сколько бы этого ни требовалось.
– Да, это необходимо.
– Нашей общине понадобится побольше земледельцев и разных ремесленников.
– Да, побольше.
– И посредников для всякого рода ввоза и вывоза. А ведь это – купцы. Разве нет?
– Да.
– Значит, нам потребуются и купцы.
– Конечно.
b
– А если это будет морская торговля, то вдобавок потребуется еще и немало людей, знающих морское дело.
– Да, немало.
– Так что же? Внутри самого государства как будут они передавать друг другу все то, что каждый производит? Ведь ради того мы и основали государство, чтобы люди вступили в общение.
– Очевидно, они будут продавать и покупать.
– Из этого у нас возникнет и рынок, и монета – знак обмена.
– Конечно.
c
– Если земледелец или кто другой из ремесленников, доставив на рынок то, что он производит, придет не в одно и то же время с теми, кому нужно произвести с ним обмен, неужели же он, сидя на рынке, будет терять время, нужное ему для работы?
– Вовсе нет, найдутся ведь люди, которые, видя это, предложат ему свои услуги. В благоустроенных городах это, пожалуй, самые слабые телом и непригодные ни к какой другой работе.
d
Они там, на рынке, только того и дожидаются, чтобы за деньги приобрести что‑нибудь у тех, кому нужно сбыть свое, и опять‑таки обменять это на деньги с теми, кому нужно что‑то купить.
– Из‑за этой потребности появляются у нас в городе мелкие торговцы. Разве не назовем мы так посредников по купле и продаже, которые засели на рынке? А тех, кто странствует но городам, мы назовем купцами.
– Конечно.
e
– Бывают, я думаю, еще и какие‑то иные посредники: духовный их склад таков, что с ними не очень‑то стоит общаться, но они обладают телесной силой, достаточной для тяжелых работ. Они продают внаем свою силу и называют жалованьем цену за этот найм: потому‑то, я думаю, их и зовут наемниками. Не так ли?
– Конечно, так.
– Для полноты государства, видимо, нужны и наемники.
– По‑моему, да.
– Так разве не разрослось у нас, Адимант, государство уже настолько, что можно его считать совершенным?
– Пожалуй.
– Где же в нем место справедливости и несправедливости? В чем из того, что мы разбирали, они проявляются?
372
– Я лично этого не вижу, Сократ. Разве что в какой‑то взаимной связи этих самых занятий.
– Возможно, что ты прав. Надо это исследовать и не отступаться. Прежде всего рассмотрим образ жизни людей, так подготовленных. Они будут производить хлеб, вино, одежду, обувь, будут строить дома, летом большей частью работать обнаженными и без обуви, а зимой достаточно одетыми и обутыми.
b
Питаться они будут, изготовляя себе крупу из ячменя и пшеничную муку; крупу будут варить, тесто месить и выпекать из него великолепные булки и хлеб, раскладывая их в ряд на тростнике или на чистых листьях. Возлежа на подстилках, усеянных листьями тиса и миртами, они будут пировать, и сами и их дети, попивая вино, будут украшать себя венками и воспевать богов, радостно общаясь друг с другом; при этом, остерегаясь бедности и войны, они будут иметь детей не свыше того, что позволяет им их состояние.
c
Тут Главкон прервал меня:
– Ты заставляешь этих людей угощаться, видимо, без всяких кушаний!
– Твоя правда, – сказал я, – совсем забыл, что у них будут и кушанья. Ясно, что у них будет и соль, и маслины, и сыр, и лук‑порей, и овощи, и они будут варить какую‑нибудь деревенскую похлебку. Мы добавим им и лакомства: смоквы, горошек, бобы; плоды мирты и буковые орехи они будут жарить на огне и н меру запивать вином. Так проведут они жизнь в мире и здоровье и, достигнув, по всей вероятности, глубокой старости, скончаются, завещав своим потомкам такой же образ жизни.
d
– Если бы, Сократ, – возразил Главкон, – устраиваемое тобой государство состояло из свиней, какого, как не этого, задал бы ты им корму?
– Но что же иное требуется, Главкон?
– То, что обычно принято: возлежать на ложах, обедать за столом, есть те кушанья и лакомства, которые имеют нынешние люди – вот что, по‑моему, нужно, чтобы не страдать от лишений.
e
– Хорошо, – сказал я, – понимаю. Мы, вероятно, рассматриваем не только возникающее государство, но и государство, живущее в изобилии. Может быть, это и неплохо. Ведь, рассматривая и такое государство, мы, вполне возможно, заметим, каким образом в государствах возникает справедливость и несправедливость. То государство, которое мы разобрали, представляется мне подлинным, то есть здоровым. Если вы хотите, ничто не мешает нам присмотреться и к государству, которое лихорадит.
373
В самом деле, иных, по‑видимому, не удовлетворит все это и такой простой образ жизни – им подавай и ложа, и столы, и разную утварь, и кушанья, мази и благовония, а также гетер, вкусные пироги, да чтобы всего этого было побольше. Выходит, что необходимым надо считать уже не то, о чем мы говорили вначале, – дома, обувь, одежду, нет, подавай нам картины и украшения, золото и слоновую кость: все это нам нужно. Не правда ли?
b
– Да.
– Так не придется ли увеличить это государство? То, здоровое, государство уже недостаточно, его надо заполнить кучей такого народа, присутствие которого в государстве не вызвано никакой необходимостью: таковы, например, всевозможные охотники[1338]
, а также подражатели – их много по части рисунков и красок, много и в мусическом искусстве: поэты и их исполнители, рапсоды, актеры, хоревты, подрядчики, мастера различной утвари, изделий всякого рода и женских уборов.
c
Понадобится побольше и посредников: разве, по‑твоему, не нужны будут там наставники детей, кормилицы, воспитатели, служанки, цирюльники, а также кулинары и повара? Понадобятся нам и свинопасы. Этого не было у нас в том, первоначальном государстве, потому что ничего такого не требовалось. А в этом государстве понадобится и это, да и множество всякого скота, раз идет в пищу мясо. Не так ли?
– Конечно.
d
– Потребность во врачах будет у нас при таком образе жизни гораздо больше, чем прежде.
– Много больше.
– Да и страна, тогда достаточная, чтобы прокормить население, теперь станет мала. Или как мы скажем?
– Именно так.
– Значит, нам придется отрезать часть от соседней страны, если мы намерены иметь достаточно пастбищ и пашен, а нашим соседям в свою очередь захочется отхватить часть от нашей страны, если они тоже пустятся в бесконечное стяжательство, перейдя границы необходимого.
e
– Это совершенно неизбежно, Сократ.
– В результате мы будем воевать, Главкон, или как с этим будет?
– Да, придется воевать.
– Пока мы еще ничего не станем говорить о том, влечет ли за собой война зло или благо, скажем только, что мы открыли происхождение войны – главный источник частных и общественных бед, когда она ведется.
– Конечно.
– Вдобавок, друг мой, придется увеличить наше государство не на какой‑то пустяк, а на целое войско: оно выступит на защиту всего достояния, на защиту того, о чем мы теперь говорили, и будет отражать нападение.
374
– Как так? Разве мы сами к этому не способны?
– Не способны, если ты и все мы правильно решили этот вопрос, когда строили наше воображаемое государство. Решили же мы, если ты помнишь, что невозможно одному человеку с успехом владеть многими искусствами.
– Ты прав.
– Что же? Разве, по‑твоему, военные действия не требуют искусства?
b
– И даже очень.
– Разве надо больше беспокоиться о сапожном, чем о военном, искусстве?
– Ни в коем случае.
– Чтобы у нас успешное шло сапожное дело, мы запретили сапожнику даже пытаться стать земледельцем, или ткачом, или домостроителем; так же точно и всякому другому мы поручили только одно дело, к которому он годится по своим природным задаткам:
c
этим он и будет заниматься всю жизнь, не отвлекаясь ни на что другое, и достигнет успеха, если не упустит время. А разве не важно хорошее выполнение всего, что относится к военному делу? Или оно настолько легко, что земледелец, сапожник, любой другой ремесленник может быть вместе с тем и воином? Прилично играть в шашки или в кости никто не научится, если не занимался этим с детства, а играл так, между прочим.
d
Неужели же стоит только взять щит или другое оружие и запастись военным снаряжением – и сразу станешь способен сражаться, будь то в битве тяжело вооруженных или в какой‑либо иной? Никакое орудие только оттого, что оно очутилось в чьих‑либо руках, никого не сделает сразу мастером или атлетом и будет бесполезно, если человек не умеет с ним обращаться и недостаточно упражнялся.
– Иначе этим орудиям и цены бы не было! Роль сословия стражей в идеальном государстве
– Значит, чем более важно дело стражей, тем более оно несовместимо с другими занятиями, – ведь оно требует мастерства и величайшего старания.
e
– Думаю, что это так.
– Для этого занятия требуется иметь соответствующие природные задатки.
– Конечно.
– Пожалуй, если только мы в состоянии, нашим делом было бы отобрать тех, кто по своим природным свойствам годен для охраны государства.
– Конечно, это наше дело.
– Клянусь Зевсом, нелегкий предмет мы себе облюбовали! Все же, насколько хватит сил, не надо поддаваться робости.
– Разумеется, не надо.
375
– Как, по‑твоему, в деле охраны есть ли разница между природными свойствами породистого щенка и юноши хорошего происхождения?
– О каких свойствах ты говоришь?
– И тот и другой должны остро воспринимать, живо преследовать то, что заметят, и, если настигнут, с силой сражаться.
– Все это действительно нужно.
– И чтобы хорошо сражаться, надо быть мужественным.
– Как же иначе?
– А захочет ли быть мужественным тот, в ком нет яростного духа – будь то конь, собака или другое какое животное? Разве ты не заметил, как неодолим и непобедим яростный дух: когда он есть, любая душа ничего не страшится и ни перед чем не отступает?
b
– Заметил.
– Итак, ясно, какими должны быть телесные свойства такого стража.
– Да.
– Тоже и душевные свойства, то есть яростный дух.
– И это ясно.
– Однако, Главкон, если стражи таковы по своей природе, не будут ли они свирепыми и друг с другом, и с остальными согражданами?
– Клянусь Зевсом, на это нелегко ответить.
c
– А между тем они должны быть кроткими к своим людям и грозными для неприятеля. В противном случае им не придется ждать, чтобы их истребил кто‑нибудь другой: они сами это сделают и погубят себя.
– Правда.
– Как же нам быть? Где мы найдем нрав и кроткий, и вместе с тем отважный? Ведь кроткий нрав противоположен ярости духа.
– Это очевидно.
– Если же у кого‑нибудь нет ни того ни другого, он не может стать хорошим стражем. Похоже, что это требование невыполнимо, и, таким образом, выходит, что хорошим стражем стать невозможно.
d
– Пожалуй, что так, – сказал Главкон.
Я находился в затруднении и мысленно перебирал сказанное ранее.
– Мы, друг мой, – заметил я, – справедливо недоумеваем, потому что мы отклонились от того образа, который сами предложили.
– Что ты имеешь в виду?
– Мы не сообразили, что бывают характеры, о которых мы и не подумали, а между тем в них имеются эти противоположные свойства.
– В каких же характерах?
e
– Это замечается и в других животных, но всего лучше в том из них, которое мы сравнили с нашим стражем. Ты ведь знаешь насчет породистых собак, что их свойство – быть как нельзя более кроткими с теми, к кому они привыкли и кого знают, но с незнакомыми – как раз наоборот.
– Знаю, конечно.
– Стало быть, это возможно, и поиски таких свойств в страже не противоречат природе.
– По‑видимому, нет.
– Не кажется ли тебе, что будущий страж нуждается еще вот в чем: мало того, что он яростен – он должен по своей природе еще и стремиться к мудрости.
376
– Как это? Мне непонятно.
– И эту черту ты тоже заметишь в собаках, что очень удивительно в животном.
– Что именно?
– Увидав незнакомого, собака злится, хотя он се ничем еще не обидел, а увидав знакомого – ласкается, хотя он никогда не сделал ей ничего хорошего. Тебя это не поражало?
– Я до сих пор не слишком обращал на это внимание, но ясно, что собака ведет себя именно так.
– Это свойство ее природы представляется замечательным и даже подлинно философским.
b
– Как так?
– Да так, что о дружественности или враждебности человека, которого она видит, собака заключает по тому, знает ли она его или нет. Разве в этом нет стремления познавать, когда определение близкого или, напротив, чужого делается на основе понимания либо, наоборот, непонимания?
– Этого нельзя отрицать.
– А ведь стремление познавать и стремление к мудрости – это одно и то же.
– Да, одно и то же.
c
– Значит, мы смело можем допустить то же самое и у человека: если он будет кротким со своими близкими и знакомыми, значит, он но своей природе должен иметь стремление к мудрости и познанию.
– Допустим это.
– Итак. безупречный страж государства будет у нас по своей природе обладать и стремлением к мудрости, и стремлением познавать, а также будет проворным и сильным.
– Совершенно верно.
d
– Таким пусть и будет. Но как нам выращивать и воспитывать стражей? Рассмотрение этого будет ли у нас способствовать тому, ради чего мы всё и рассматриваем, то есть заметим ли мы, каким образом возникают в обществе справедливость и несправедливость? Как бы нам не упустить цели нашей беседы и не сделать ее слишком пространной.
На это брат Главкона сказал:
– Я по крайней мере ожидаю, что это рассмотрение будет очень кстати для нашей задачи.
– Клянусь Зевсом, милый Адимант, – сказал я, – значит, не стоит бросать это рассмотрение, даже если оно окажется длинным.
– Да, не стоит.
e
– Так давай, не торопясь, как делают это повествователи, займемся – пусть на словах – воспитанием этих людей.
– Это необходимо сделать. Двоякое воспитание стражей: мусическое и гимнастическое
– Каким же будет воспитание? Впрочем, трудно найти лучше того, которое найдено с самых давнишних времен. Для тела – это гимнастическое воспитание, а для души – мусическое[1339]
– Да, это так.
– И воспитание мусическое будет у нас предшествовать гимнастическому.
– Почему бы и нет?
– Говоря о мусическом воспитании, ты включаешь в пего словесность, не правда ли?
– Я – да. Два вида словесности: истинный и ложный. Роль мифов в воспитании стражей
– В словесности же есть два вида: один – истинный, а другой – ложный?
– Да.
377
– И воспитывать надо в обоих видах, но сперва – в ложном?
– Вовсе не понимаю, о чем это ты говоришь.
– Ты не понимаешь, что малым детям мы сперва рассказываем мифы? Это, вообще говоря, ложь, но есть них и истина. Имея дело с детьми, мы к мифам прибегаем. раньше, чем к гимнастическим упражнениям.
– Да, это так.
– Потому‑то я и говорил, что сперва надо приниматься за мусическое искусство, а затем за гимнастическое.
– Правильно.
b
– Разве ты не знаешь, что во всяком деле самое главное – это начало, в особенности если это касается чего‑то юного и нежного. Тогда всего более образуются и укореняются те черты, которые кто‑либо желает там запечатлеть.
– Совершенно верно.
– Разве можем мы так легко допустить, чтобы дети слушали и воспринимали душой какие попало мифы, выдуманные кем попало и большей частью противоречащие тем мнениям, которые, как мы считаем, должны быть у них, когда они повзрослеют?
– Мы этого ни в коем случае не допустим.
c
– Прежде всего нам, вероятно, надо смотреть за творцами мифов: если их произведение хорошо, мы допустим его, если же нет – отвергнем. Мы уговорим воспитательниц и матерей рассказывать детям лишь признанные мифы, чтобы с их помощью формировать души детей скорее, чем их тела – руками. А большинство мифов, которые они теперь рассказывают, надо отбросить.
– Какие именно?
– По более значительным мифам мы сможем судить и о мелких: ведь и крупные, и мелкие должны иметь одинаковые черты и одинаковую силу воздействия. Или ты не согласен?
d
– Согласен, но я не понимаю, о каких более значительных мифах ты говоришь?
– О тех, которые рассказывали Гесиод, Гомер и остальные поэты. Составив для людей лживые сказания, они стали им их рассказывать, да и до сих пор рассказывают[1340]
.
– Какие же? И что ты им ставишь в упрек?
– То, за что прежде всего и главным образом следует упрекнуть, в особенности если чей‑либо вымысел неудачен.
– Как это?
e
– Когда кто‑нибудь, говоря о богах и героях, отрицательно изобразит их свойства, это вроде того, как если бы художник нарисовал нисколько не похожими тех, чье подобие он хотел изобразить.
– Такого рода упрек правилен, но что мы под этим понимаем?
– Прежде всего величайшую ложь и о самом великом неудачно выдумал тот, кто сказал, будто Уран совершил поступок, упоминаемый Гесиодом, и будто Кронос ему отомстил. О делах же Кроноса и о мучениях, перенесенных им от сына, даже если бы это было верно,
378
я не считал бы нужным с такой легкостью рассказывать тем, кто еще неразумен и молод, – гораздо лучше обходить это молчанием, а если уж и нужно почему‑либо рассказать, так пусть лишь весьма немногие втайне выслушают это, принеся в жертву не поросенка, но великое и труднодоступное приношение, чтобы лишь совсем мало кому довелось услышать рассказ[1341]
– В самом деле, рассказы об этом затруднительны.
b
– Да их и не следует рассказывать, Адимант, в нашем государстве. Нельзя рассказывать юному слушателю, что, поступая крайне несправедливо, он не совершает ничего особенного, даже если он любым образом карает своего совершившего проступок отца, и что он просто делает то же самое, что и первые, величайшие боги.
– Клянусь Зевсом, мне и самому кажется, что не годится говорить об этом.
c
– И вообще о том, как боги воюют с богами, строят козни, сражаются – да это и неверно; ведь те, кому предстоит стоять у нас на страже государства, должны считать величайшим позором, если так легко возникает взаимная вражда. Вовсе не следует излагать и расписывать битвы гигантов и разные другие многочисленные раздоры богов и героев с их родственниками и низкими –напротив, если мы намерены внушить убеждение, что никогда никто из граждан не питал вражды к другому и что это было бы нечестиво,
d
то об этом‑то и должны сразу же и побольше рассказывать детям и старики, и старухи, да и потом, когда дети подрастут; и поэтов надо заставить не отклоняться от этого в своем творчестве. А о том, что на Геру наложил оковы ее сын, Гефест, который был сброшен с Олимпа своим отцом, хотевшим заступиться за избиваемую жену, или о битвах богов, сочиненных Гомером, – такие рассказы недопустимы в пашем государстве, все равно сочинены ли они с намеком или без него[1342]
.
e
Ребенок не в состоянии судить, где содержится иносказание, а где нет, и мнения, воспринятые им в таком раннем возрасте, обычно становятся неизгладимыми и неизменными. Вот почему, пожалуй, всего более надо добиваться, чтобы первые мифы, услышанные детьми, самым заботливым образом были направлены к добродетели.
– Это имеет свое основание. Но если кто и об этом спросит нас, что это за мифы и о чем они, какие мифы могли бы мы назвать?
379
– Адимант, – сказал я, – мы с тобой сейчас не поэты, а основатели государства. Не дело основателей самим творить мифы – им достаточно знать, какими должны быть основные черты поэтического творчества, и не допускать их искажения.
– Верно. Но вот это – основные черты, каковы они в учении о богах?
– Да хотя бы так: каков бог, таким его всегда и надо изображать, выведен ли он в эпической поэзии, в мелической или в трагедии.
– Да, так и надо поступать.
b
– Разве бог не благ по существу и разве не это нужно о нем утверждать?
– Как же иначе?
– Но ведь никакое благо не вредоносно, не так ли?
– По‑моему, так.
– А то, что не вредоносно, разве вредит?
– Никоим образом.
– А то, что не вредит, творит разве какое‑нибудь зло?
– Тоже нет,
– А то, что не творит никакого зла, не может быть и причиной какого‑либо зла?
– Но как же могло бы это быть?
– Так что же? Благо – полезно?
– Да,
c
– Значит, оно – причина правильного образа действий?
– Да.
– Значит, благо – причина не всяких действий, а только правильных? В зле оно неповинно.
– Безусловно.
– Значит, и бог, раз он благ, не может быть причиной всего вопреки утверждению большинства. Он причина лишь немногого для людей, а во многом он неповинен: ведь у нас гораздо меньше хорошего, чем плохого. Причиной блага нельзя считать никого другого, но для зла надо искать какие‑то иные причины, только не бога.
– Ты, по‑моему, совершенно прав.
d
– Значит, нельзя принять эти заблуждения Гомера или другого поэта относительно богов: Гомер безрассудно заблуждается, говоря, что два больших сосуда
в Зевсовом доме великом,
Полны даров счастливых – один, а другой – несчастливых,
и кому Зевс дает смешанно из обоих, тот
В жизни своей переменно то горе находит, то радость,
а кому несмешанно, только из второго сосуда, то
Бешеный голод его по земле божественной гонит[1343]
.
e
Также неверно, будто Зевс у нас подателем
Благ, но также и зла оказался[1344]
Мы не одобрим, если кто скажет, что Афина и Зевс побудили Пандара нарушить клятвы и договоры[1345]
. То же самое и относительно битвы богов и их распри, вызванной Фемидой и Зевсом[1346]
.
380
Опять‑таки нельзя позволить юношам слушать то, что говорит Эсхил:
Причину смертным бог родит,
Когда чей‑либо дом желает истребить[1347]
.
Если в каком‑либо произведении встретятся такие ямбические стихи и будут описаны страдания Ниобы или Пелопидов[1348]
, или события Троянской войны, или что‑нибудь в этом роде, то надо либо не признавать все этo делом божьим, либо, если это дело божье, вскрыть здесь примерно тот смысл, который мы сейчас отыскиваем, и утверждать, что бог вершит лишь справедливое и благое, а кара, постигающая этих людей, им же на пользу.
b
Но нельзя позволить утверждать поэту, будто они бедствуют, подвергаясь наказанию, а тот, от кого; это зависит, – бог. Однако, если бы поэты сказали, что люди эти нуждались в каре и что бедствуют только порочные, которые, подвергаясь наказанию, извлекают для себя пользу от бога, это можно допустить. Но когда говорят, что бог, будучи благим, становится для кого‑нибудь источником зла, с этим всячески надо бороться:
c
никто – ни юноша, ни взрослый, если он стремится к законности в своем государстве, – не должен ни говорить об этом, ни слушать ни в стихотворном, ни в прозаическом изложении, потому что такое утверждение нечестиво, не полезно нам и содержит в самом себе неувязку.
– Я голосую вместе с тобой за этот закон – он мне нравится.
– Это был бы один из законов и одно из предначертаний относительно богов: сообразно с ним и в речах, и в поэтических произведениях следует утверждать, что бог – причина не всего, а только блага.
– Это вполне удовлетворяет.
d
– А как насчет второго закона? Разве, по‑твоему, бог – волшебник и словно нарочно является то в одних, то в других видах: то он сам меняется, принимая вместо своего облика различные другие формы, то лишь нас вводит в заблуждение, заставляя нас мнить о себе временами одно, временами другое? Или бог есть нечто простое и он всего менее выходит за пределы своей формы?
– Я не могу так сразу на это ответить.
– А на это: если что‑нибудь выходит за пределы своей формы, необходимо ли, чтобы оно изменялось либо само собой, либо под воздействием чего‑либо другого?
c
– Необходимо.
– Но то, что находится в наилучшем состоянии, менее всего изменяется под воздействием другого. Разве, например, не меньше всего поддается изменениям отличающееся здоровьем и силой тело под воздействием пищи, питья, трудов? Или же любое растение – под воздействием солнечного тепла, ветра и т. д.?
– Конечно, меньше всего.
– И душу – по крайней мере наиболее мужественную и разумную – всего меньше расстроит и изменит какое‑либо внешнее воздействие.
– Да.
– Даже и всякие составные вещи – утварь, постройки, одежда, если они хорошо сделаны и содержатся в порядке, на том же самом основании меньше всего изменяются под влиянием времени и других воздействий.
– Это так.
b
– Все, что хорошо от природы или благодаря искусству, а также благодаря тому и другому, меньше всего подвержено изменению под воздействием иного.
– По‑видимому.
– Но ведь бог и то, что с ним сопряжено, это во всех отношениях наилучшее.
– Конечно.
– По этой причине бог всего менее должен принимать различные формы.
– Именно: всего менее.
– Разве что он сам себя превращает и изменяет?
– Очевидно, если только он изменяется.
– Превращает ли он себя в нечто лучшее и более прекрасное или в нечто худшее и безобразное?
c
– Неизбежно, что в худшее, если только он изменяется. Ведь мы не скажем, что бог испытывает недостаток в красоте и добродетели.
– Ты совершенно прав. Но раз это так, считаешь ли ты, Адимант, что кто‑либо, будь это бог или человек, добровольно сделает себя худшим в каком‑нибудь отношении?
– Это невозможно.
– Значит, невозможно и то, чтобы бог пожелал изменить самого себя; но, очевидно, каждый из богов, будучи в высшей степени прекрасным и превосходным – насколько лишь это возможно, – пребывает попросту всегда в своей собственной форме.
– По‑моему, это совершенно необходимо.
d
– Так пусть никто из поэтов, друг мой, не рассказывает нам, будто
Боги нередко, облекшися в образ людей чужестранных,
Входят в чужие жилища…[1349]
И пусть никто не возводит напраслины на Протея и Фетиду[1350]
, и в трагедиях и разных других сочинениях пусть не выводят Геру, превратившуюся в жрицу, собирающую подаяние для
e
Инаха жизнедающих детей – сыновей Аргоссца речного[1351]
,
и пусть вообще не выдумывают подобной лжи. В свою очередь и матери не должны, поверив им, пугать детей россказнями, будто какие‑то боги бродят по ночам под видом разных чужестранцев – это хула на богов, да и дети делаются от этого боязливыми.
– Да, этого нельзя допускать.
– Значит, сами боги не изменяются. Но может быть, они колдовством вводят нас в обман, внушая нам представления о различных своих обличьях?
– Может быть.
382
– Что же? Пожелает ли бог лгать, выставляя перед нами – на словах ли или на деле – всего лишь призрак?
– Не знаю.
– Ты не знаешь, что подлинную ложь – если можно так выразиться – ненавидят все боги и люди?!
– Как, как ты говоришь?
– Так, что относительно самого для себя важного и о самых важных предметах никто не пожелает никого добровольно вводить в обман или обмануться сам – тут всякий всего более остерегается лжи.
– Я все еще не понимаю.
b
– Ты думаешь, я высказываю что‑то особенное? Я говорю только, что вводить свою душу в обман относительно действительности, оставлять ее в заблуждении и самому быть невежественным и проникнутым ложью – это ни для кого не приемлемо: здесь всем крайне ненавистна ложь.
– И весьма даже.
– Так вот то, о чем я только что сказал, можно с полным правом назвать подлинной ложью: это укоренившееся в душе невежество, свойственное человеку, введенному в заблуждение.
e
А словесная ложь – это уже воспроизведение душевного состояния, последующее его отображение, и это‑то уж не будет беспримесной ложью в чистом виде. Разве не так?
– Конечно, так.
– Действительная ложь ненавистна не только богам, но и людям.
– По‑моему, да.
– Так что же? Словесная ложь бывает ли иной раз для чего‑нибудь и полезна, так что не стоит ее ненавидеть? Например, по отношению к неприятелю и так называемым друзьям? Если в исступлении или безумии они пытаются совершить что‑нибудь плохое, не будет ли ложь полезным средством, чтобы удержать их?
d
Да и в тех преданиях, о которых мы только что говорили, не делаем ли мы ложь полезной, когда как можно более уподобляем ее истине, раз уж мы не знаем, как это все было на самом деле в древности?[1352]
– Конечно, все это так.
– Но в каком же из этих отношений могла бы ложь быть полезной богу? Может быть, не имея сведений о древних временах, он обманывает с помощью уподобления?
– Это было бы просто смешно.
– Значит, в боге не живет лживый поэт.
– По‑моему, так.
e
– А стал бы бог обманывать из страха перед врагами?
– Это никак не может быть.
– А из‑за неразумия или помешательства своих близких?
– Никакой неразумный или помешанный не мил богу.
– Значит, нет ничего, ради чего бы он стал обманывать.
– Ничего.
– Значит, любому божественному началу ложь чужда.
– Совершенно чужда.
– Значит, бог – это, конечно, нечто простое и правдивое и на деле, и в слове; он и сам не изменяется и других не вводит в заблуждение ни на словах, ни посылая знамения – ни наяву, ни во сне.
383
– Мне и самому это становится ясным из твоих слов.
– Значит, ты соглашаешься, что обязательным и для рассуждений, и для творчества, если они касаются богов, будет у нас этот второй образец: боги не колдуны, чтобы изменять свой вид и вводить нас в обман словом ли или делом.
– Согласен.
– Значит, многое одобряя у Гомера, мы, однако, не одобрим того сновидения, которое Зевс послал Агамемнону[1353]
; не одобрим мы и того места Эсхила, где Фетида говорит, что Аполлон пел на ее свадьбе, суля ей счастье в детях:
b
Болезни их минуют, долог будет век –
Твоя судьба, сказал он, дорога богам.
Такою песнью он меня приветствовал.
Надеялася я, что ложь чужда устам
Божественным и Феба прорицаниям.
Так пел он сам, на пире сам присутствовал,
Сам так предрек и сам же он убийцей стал
Мне сына моего[1354]
.
c
Когда кто станет говорить подобные вещи о богах, он вызовет у нас негодование, мы не дадим ему хора, и не позволим учителям пользоваться такими сочинениями при воспитании юношества, так как стражи должны у нас быть благочестивыми и божественными, насколько это под силу человеку.
– Я вполне согласен с этими предначертаниями и готов пользоваться ими как законами.
Перевод А. Н. Егунова.
В кн.: Платон. Соб. соч. в 3‑х тт. Т.3 (1). М., 1971
КHИГА III
Роль поэзии в воспитании стражей
386
– Итак, что касается богов, – сказал я, – то дело будет у нас обстоять примерно таким образом: ко всему этому должны сразу же, с малых лет прислушиваться – или, наоборот, не прислушиваться – те, кто намерен почитать богов и своих родителей и не будет умалять значения дружбы между людьми.
– И я думаю, – сказал Адимант, – что это у нас правильный взгляд.
– Так что же? Если они должны быть мужественными, разве не следует ознакомить их со всем этим – с тем, что позволит им нисколько не бояться смерти? Разве, по‑твоему, может стать мужественным тот, кому свойствен подобный страх?
b
– Клянусь Зевсом, по‑моему, нет.
– Что же? Кто считает Аид существующим, и притом ужасным, разве будет тот чужд страха смерти и разве предпочтет он поражению и рабству смерть в бою?
– Никогда.
– Нам надо, как видно, позаботиться и о таких мифах и требовать от тех, кто берется их излагать, чтобы они не порицали все то, что в Аиде, а скорее хвалили: ведь в своих порицаниях они не правы, да и не полезно это для будущих воинов[1355]
.
c
– Да, этим надо заняться.
– Вычеркнем же начиная с первого же стиха все в таком роде:
Лучше б хотел я живой, как поденщик работая в поле,
Службой у бедного пахаря хлеб добывать свой насущный,
Нежели здесь над бездушными мертвыми царствовать, мертвый[1356]
;
d
а также:
И жилищ бы его не открыл и бессмертным и смертным,
Мрачных, ужасных, которых трепещут и самые боги[1357]
;
или:
Боги! так подлинно есть и в Аидовом доме подземном
Дух человека и образ, но он совершенно бесплотный[1358]
;
а также:
Он лишь с умом, все другие безумными тенями веют[1359]
;
или:
Тихо душа, излетевши из тела, нисходит к Аиду,
Плачась на жребий печальный, бросая и крепость и юность[1360]
;
387
а также:
…душа [Менетида], как облако дыма, сквозь землю
С воем ушла…[1361]
;
или:
как мыши летучие, в недрах глубокой пещеры
Цепью к стенам прикрепленные, – если одна, оторвавшись,
Свалится наземь с утеса, визжа, в беспорядке порхая;
Так, завизжав, полетели…[1362]
b
Мы извиняемся перед Гомером и остальными поэтами – пусть они не сердятся, если мы вычеркнем эти и подобные им стихи, и не потому, что они непоэтичны и неприятны большинству слушателей, нет, наоборот: чем более они поэтичны, тем менее следует их слушать и детям и взрослым, раз человеку надо быть свободным и больше смерти страшиться рабства.
– Совершенно верно.
– Кроме того, следует отбросить и все связанные с этим страшные, пугающие обозначения – «Кокит», «Стикс», «покойники», «усопшие» и так далее, отчего с у всех слушателей волосы встают дыбом[1363]
.
c
Возможно, что все это пригодно для какой‑нибудь другой цели, но мы опасаемся за наших стражей, как бы они не сделались у нас от таких потрясений чересчур возбудимыми и чувствительными.
– И правильно опасаемся.
– Значит, это надо отвергнуть.
– Да.
– И надо давать иной, противоположный образец для поэтического воспроизведения?
– Очевидно.
d
– Значит, мы исключим [из поэзии] сетования и, жалобные вопли прославленных героев?
– Это необходимо, если следовать ранее сказанному.
– Посмотри, – сказал я, – правильно ли мы делаем, исключая подобные вещи, или нет. Мы утверждаем, что достойный человек не считает чем‑то ужасным смерть другого, тоже достойного человека, хотя бы это и был его друг.
– Да, мы так утверждаем.
– Значит, он не станет сетовать, словно того постигло нечто ужасное.
– Конечно, не станет.
– Но мы говорим также, что такой человек больше кого бы то ни было довлеет сам себе, ведя достойную жизнь, и в отличие от всех остальных мало нуждается в ком‑то другом.
e
– Это верно.
– Значит, для него совсем не страшно лишиться сына или брата, или имущества, или чего‑либо другого, подобного этому.
– Совсем не страшно.
– Значит, он вовсе не будет сетовать и с величайшей кротостью перенесет постигшее его несчастье.
– С величайшей.
388
– Значит, мы правильно исключили бы для знаменитых героев плачи, предоставив их женщинам, и то несерьезным, да разве еще и никчемным мужчинам. Таким образом, возмутительным считали бы прибегать к этому те, кого мы, как было сказано, воспитываем для охраны страны.
– Правильно.
– И снова мы попросим Гомера и остальных поэтов не заставлять Ахилла, коль скоро он, сын богини, «то на хребет… то на бок» ложиться, «то ниц обратяся»,
b
или чтобы он, «напоследок бросивши ложе, берегом моря бродил… тоскующий» и «быстро в обе … руки схвативши нечистого пепла, голову… им осыпал»[1364]
. Да и по другому поводу пусть он не плачет и не сетует, как это часто выдумывает Гомер; и пусть бы Приам, раз он стал близок богам, по грязи катаясь,
не умолял, называя по имени каждого мужа[1365]
.
А еще более мы попросим Гомера не заставлять богов скорбеть, произнося: «Горе мне бедной, горе несчастной, героя родившей»[1366]
.
c
Если и вообще нельзя так изображать богов, то какую же надо иметь дерзость, чтобы вывести величайшего из богов настолько непохожим на себя, что он говорит:
«Горе! любезного мужа, гонимого около града,
Видят очи мои, и болезнь проходит мне сердце»[1367]
;
Или:
«Горе! Я зрю, Сарпедону, дражайшему мне между смертных,
Днесь суждено под рукою Патрокловой пасть побежденным!»[1368]
d
Если наши юноши, дорогой Адимант, всерьез примут такие россказни и не осмеют их как нечто недостойное, то вряд ли кто‑нибудь, будучи лишь человеком, сочтет ниже своего достоинства и поставит себе в упрек, если ему придет в голову сказать или совершить что‑нибудь подобное, – напротив, он без всякого стыда и по малейшему поводу станет распевать заплачки и причитать.
e
– Сущая правда.
– Этого не должно быть, как только что выяснилось в нашем рассуждении, на которое и надо полагаться, пока нам не приведут иных, лучших доводов.
– Согласен.
– Но наши юноши не должны также быть и чрезмерно смешливыми: почти всегда приступ сильною смеха сменяется потом совсем иным настроением.
– Да, мне так кажется.
389
– Значит, нельзя допускать, чтобы изображали, как смех одолевает достойных людей и уж всего менее богов.
– Да, это уж всего менее.
– Следовательно, мы не допустим и таких выражений Гомера о богах: Смех несказанный воздвигли блаженные жители неба,
Видя, как с кубком Гефест по чертогу вокруг суетится[1369]
.
Этого, по твоим словам, нельзя допускать.
b
– Да, если тебя интересует мое мнение, этого действительно нельзя допускать.
– Ведь надо высоко ставить истину. Если мы правильно недавно сказали, что богам ложь по существу бесполезна, людям же она полезна в виде лечебного средства, ясно, что такое средство надо предоставить врачам, а несведущие люди не должны к нему прикасаться.
– Да, это ясно.
– Уж кому‑кому, а правителям государства надлежит применять ложь как против неприятеля, так и ради своих граждан – для пользы своего государства, но всем остальным к ней нельзя прибегать[1370]
.
c
Если частное лицо станет лгать подобным правителям, мы будем считать это таким же – и даже худшим – проступком, чем ложь больного врачу, или когда занимающийся гимнастическими упражнениями не говорит правды учителю о состоянии своего тела, или когда гребец сообщает кормчему о корабле и гребцах не то, что на самом деле происходит с ним и с другими гребцами.
– Совершенно верно.
d
– Значит, если правитель уличит во лжи какого‑нибудь гражданина из числа тех, кто нужен на дело:
Или гадателей, или врачей, иль искусников зодчих…[1371]
он подвергнет его наказанию за то, что тот вводит гибельный обычай, переворачивающий государство, как корабль.
– Особенно когда слова завершаются делами.
– Дальше. Рассудительность разве не нужна будет нашим юношам?
– Как не быть нужной?
– А сказывается рассудительность главным образом в том, чтобы не только повиноваться владыкам, но и самим быть владыками удовольствий, которые нам доставляют еда, питье и любовные утехи.
e
– По‑моему, так.
– Я думаю, мы признаем удачным то, что у Гомера говорит Диомед: Молча стой, [Капанид], моему повинуясь совету[1372]
,
а также и стихи, близкие но содержанию: силой дыша, приближались ахейцы,
Молча шагали, вождей опасаясь своих…[1373]
Одобрим мы и все, что на это походит.
– Прекрасно.
– Ну, а вот это: Пьяница жалкий с глазами собаки и сердцем оленя![1374]
390
и следующие затем стихи – разве они хороши? Да и вообще хорошо ли, если кто‑нибудь из простых людей позволит себе в речах или в стихах такое мальчишество по отношению к правителям?
– Нет, совсем нехорошо.
– Я думаю, рассудительности юношей не будет способствовать, если они станут об этом слушать. Впрочем, такие вещи могут доставить удовольствие, в этом нет ничего удивительного. Или как тебе кажется?
– Именно так.
– Ну, что ж? Выводить в своих стихах мудрейшего человека, который говорит, что ему кажется прекрасным, когда сидят за столами, и хлебом и мясом
Пышно покрытыми …из кратер животворный напиток
Льет виночерпий и в кубках его опененных разносит…[1375]
b
Годится ли, по‑твоему, для развития воздержности слушать об этом юноше? Или вот это: Но умереть нам голодною смертью всего ненавистней[1376]
,
или изображать Зевса так, будто когда все остальные боги и люди спали и только один он бодрствовал, он из‑за страстного любовного вожделения просто позабыл обо всем, что замыслил, и при виде Геры настолько был поражен страстью, что не пожелал даже взойти в опочивальню, но решился тут же, на земле, соединиться с ней,
c
признаваясь, что страсть охватила его с такой силой, как никогда не бывало даже при первой их встрече «от милых родителей втайне»[1377]
. По такой же точно причине Арес и Афродита были скованы вместе Гефестом[1378]
.
– Клянусь Зевсом, все это не кажется мне подобающим.
– Зато примеры стойкости во всем, показываемые и упоминаемые прославленными людьми, следует и видеть, и слышать, хотя бы вот это: В грудь он ударил себя и сказал [раздраженному] сердцу:
Сердце, смирись: ты гнуснейшее вытерпеть силу имело[1379]
.
– Совершенно верно.
– Нельзя также позволить нашим воспитанникам быть взяточниками и корыстолюбцами.
e
– Ни в коем случае.
– Нельзя, чтобы они слушали, как воспевается, что Всех ублажают дары – и богов и царей величайших[1380]
.
Нельзя похвалить и Феникса, воспитателя Ахилла, который будто бы был прав, советуя Ахиллу принять дары и помочь ахейцам, если же не будет даров, не отступаться от своего гнева[1381]
. Не согласимся мы также со всем тем, что недостойно Ахилла, – например, когда говорят, будто бы он был настолько корыстолюбив, что принял от Агамемнона дары[1382]
, или, опять‑таки за выкуп, отдал тело мертвеца, а иначе бы не захотел это сделать[1383]
.
391
– Подобные поступки не заслуживают похвалы.
– Поскольку это Гомер, я не решаюсь сказать, что даже нечестиво изображать так Ахилла и верить, когда это утверждается и другими поэтами. Но опять‑таки вот что Ахилл говорит Аполлону: Так, обманул ты меня, о зловреднейший между богами!
· · · · · · · · · · · ·
Я отомстил бы тебе, когда б то возможно мне было![1384]
Даже потоку – а ведь это бог – Ахилл не повиновался[1385]
и готов был сразиться с ним. И опять‑таки о своих кудрях, посвященных другому потоку, Сперхею, Ахилл сказал:
b
Храбрый Патрокл унесет Ахиллесовы кудри с собою[1386]
,
а Патрокл был тогда уже мертв. Нельзя поверить, чтобы Ахилл сделал это. Опять‑таки рассказы, будто Ахилл волочил Гектора вокруг могилы Патрокла[1387]
, будто он заклал пленников[1388]
для погребального костра – все это, скажем мы, ложь.
c
Мы не допустим, чтобы наши юноши верили, будто Ахилл, сын богини и Пелея – весьма рассудительного человека и к тому же внука Зевса[1389]
, – Ахилл, воспитанный премудрым Хироном[1390]
, настолько был преисполнен смятения, что питал в себе две противоположные друг другу болезни, – низость одновременно с корыстолюбием, а с другой стороны, пренебрежение к богам и к людям.
– Ты прав.
d
– Мы ни в коем случае не поверим и не допустим, рассказов, будто Тесей, сын Посейдона, и Пирифой, сын Зевса, пускались в предприимчивые и коварные грабежи[1391]
, да и вообще будто кто‑либо из сыновей бога или героев дерзал на ужасные, нечестивые дела, которые теперь им ложно приписывают. Мало того: мы заставим поэтов утверждать, что либо эти поступки были совершены другими лицами, либо, если и ими, то что они не дети богов; рассказывать же вопреки и тому и другому нельзя.
e
Пусть и не пытаются у нас внушить юношам убеждение, будто боги порождают зло и будто герои ничуть не лучше людей. Как мы говорили и раньше[1392]
, это нечестиво и неверно – ведь мы уже доказали, что боги не могут порождать зло.
– Несомненно.
– И даже слушать об этом вредно: всякий станет тогда извинять в себе зло, убежденный, что подобные дела совершают и совершали те, кто родственны богам,
И те, кто к Зевсу близок; средь Идейских гор
Там жертвенник отца их, Зевса, высится.
Не истощилася в них гениев, их предков, кровь[1393]
.
392
А потому нам пора перестать рассказывать эти мифы, чтобы они не породили в наших юношах склонности к пороку.
– Совершенно верно.
– Какой же еще вид сочинительства остался у нас для определения того, о чем следует говорить и о чем не следует? Что надо говорить о богах, а также о гениях, героях и о тех, кто в Аиде, уже сказано.
– Вполне.
– Не о людях ли осталось нам сказать?
– Очевидно.
– Однако, друг мой, пока что нам невозможно это остановить.
– Почему?
b
– Да в этом случае, мне кажется, нам придется сказать, что и поэты, и те, кто пишет в прозе, большей частью превратно судят о людях; они считают, будто несправедливые люди чаще всего бывают счастливы, а справедливые – несчастны; будто поступать несправедливо – целесообразно, лишь бы это оставалось втайне, и что справедливость – это благо для другого человека, а для ее носителя она – наказание[1394]
. Подобные высказывания мы запретим и предпишем и в песнях, и в сказаниях излагать как раз обратное. Или, по‑твоему, не так?
– Нет, так, я в этом уверен.
– Если ты согласен с тем, что я прав, я буду считать, что ты согласен и с нашими прежними рассуждениями.
– Твое предположение верно.
c
– Что высказывания относительно людей и не должны быть такими, мы установим тогда, когда выясним, что такое справедливость и какая естественная польза происходит от нее для того, кто ее придерживается, все равно, считают ли люди его справедливым или нет.
– Сущая правда. Способы выражения, или стили поэтического искусства
– Покончим на этом с сочинительством. Теперь, как я думаю, надо присмотреться к способам выражения – тогда у нас получится полное рассмотрение и того, о чем, и того, как следует говорить.
Тут Адимант сказал:
– Не понимаю я твоих слов.
d
– Однако ты должен, – сказал я. – Пожалуй, вот как поймешь ты скорее: все, о чем бы ни говорили сказители и поэты, бывает, не правда ли, повествованием о прошлом, о настоящем либо о будущем?
– Как же иначе?
– И не правда ли. это делают или путем простого повествования, или посредством подражания, либо того и другого вместе?[1395]
– Мне надо это еще яснее понять.
– Видно, я потешный и бестолковый учитель. Так вот, подобно тем кто не умеет излагать, я возьму не всё в целом, а какой‑нибудь частный случай и на нем попытаюсь объяснить, чего я хочу. Скажи‑ка мне, ты знаешь начало «Илиады», где поэт говорит о том, как Хрис просил Агамемнона отпустить его дочь, как тот разгневался и как Хрис, не добившись своего, молил
бога отомстить ахейцам?[1396]
393
– Да, я знаю.
– Так ты знаешь, что, кончая стихами:
умолял убедительно всех он ахеян
Паче ж Атридов могучих, строителей рати ахейской[1397]
,
говорит лишь сам поэт и не старается направить нашу мысль в иную сторону, изображая, будто здесь говорит кто‑то другой, а не он сам. А после этого он говорит так, будто он и есть сам Хрис,
b
и старается по возможности заставить нас вообразить, что это говорит не Гомер, а старик‑жрец[1398]
. И все остальное повествование он ведет, пожалуй, таким же образом, будь то событие в Илионе, на Итаке или в других описанных в «Одиссее» местах[1399]
.
– Конечно.
– Стало быть, и когда он приводит чужие речи, и когда в промежутках между ними выступает от своего лица, это все равно будет повествование?
– Как же иначе?
c
– Но когда он приводит какую‑либо речь от чужого лица, разве мы не говорим, что он делает свою речь как можно более похожей на речь того, о чьем выступлении он нас предупредил?
– Да, мы говорим так.
– А уподобиться другому человеку – голосом или обличьем – разве не означает подражать тому, кому ты уподобляешься?
– Ну и что же?
– В подобном случае, видимо, и Гомер, и остальные поэты повествуют с помощью подражания.
– Конечно.
d
– Если бы поэт нигде не скрывал себя, все его творчество и повествование оказалось бы чуждым подражанию. А чтобы ты не сказал, что снова не понимаешь, я объясню, как это может получиться. Если бы, сказавши, что пришел Хрис, принес выкуп за дочь и умолял ахейцев, а особенно царей, Гомер продолжал бы затем свой рассказ все еще как Гомер, а не говорил бы так, словно он стал Хрисом, ты понимаешь, что это было бы не подражание, а простое повествование. И было бы оно в таком роде (я передам не в стихах, ведь я далек от поэзии): «Пришел жрец и стал молиться,
e
чтобы боги дали им, взяв Трою, остаться самим невредимыми и чтобы ахейцы, устыдившись бога, вернули ему дочь за выкуп; когда он это сказал, все прочие почтили его и дали согласие, но Агамемнон разгневался и приказал ему немедленно уйти и никогда больше не приходить, а не то не защитит жреца ни жезл, ни божий венец. А о его дочери сказал, что, прежде чем отпустит ее, она состарится вместе с ним в Аргосе.
394
Он велел жрецу уйти и не раздражать его, если тот хочет вернуться домой невредимым. Услышав это, старик испугался и молча удалился, а выйдя из лагеря, стал усердно молиться Аполлону, призывая его всеми его именами и требовательно напоминая ему о своих некогда сделанных ему в угоду дарах – и для построения храмов, и для священных жертвоприношений. В оплату за это он просил, чтобы Аполлон отомстил за эти слезы ахейцам своими стрелами». Вот каким, друг мой, бывает простое повествование, без подражания[1400]
.
b
– Понимаю.
– Теперь тебе понятно, что может быть и противоположное этому: стоит только изъять то, что говорит поэт от себя в промежутках между речами, и оставить лишь обмен речами.
– И это понимаю – так бывает в трагедиях.
– Ты очень верно схватил мою мысль, и я думаю, что теперь я уже разъяснил тебе то, что раньше не мог, а именно: один род поэзии и мифотворчества весь целиком складывается из подражания – это, как ты говоришь, трагедия и комедия;
c
другой род состоит из высказываний самого поэта – это ты найдешь преимущественно в дифирамбах; а в эпической поэзии и во многих других видах – оба этих приема, если ты меня понял.
– Соображаю, о чем ты тогда хотел говорить.
– И припомни, о чем мы беседовали перед тем: что говорится в поэзии – уже было указано, но надо рассмотреть еще и как об этом говорится.
– Я помню.
d
– Об этом‑то я как раз и сказал, что нам надо условиться, позволять ли нам подражание в поэтических повествованиях или лишь в некоторых позволять, а в других – нет, и в каких именно, или же совсем исключить подражание.
– Догадываюсь, что ты про себя думаешь о том, допускать ли нам трагедию и комедию в наше государство или нет.
– Может быть, – сказал я, – но, может быть, я не ограничусь этим, я пока не знаю: куда слово понесет нас, как дуновение, туда и надо идти.
– Прекрасно сказано!
e
– Ты вот что реши, Адимант: должны ли стражи быть у нас подражателями или нет? Впрочем, и это вытекает из предшествовавшего обсуждения – ведь каждый может хорошо заниматься лишь одним делом, а не многими: если он попытается взяться за многое, ему ничего не удастся и ни в чем он не отличится.
– Да, так и будет.
– Не таков ли довод и относительно подражания? Не может один и тот же человек с успехом подражать одновременно многим вещам, будто это всё – одно и то же.
– Да, не может.
395
– Вряд ли кто сумеет так совместить занятия чем‑нибудь достойным упоминания со всевозможным подражанием, чтобы действительно стать подражателем. Ведь даже в случае, когда, казалось бы, два вида подражания близки друг другу, и то одним и тем же лицам это не удается – например, тем, кто пишет и комедии, и трагедии[1401]
. Разве ты не назвал только что то и другое подражанием?
– Да, конечно, и ты прав, что одни и те же лица не способны одновременно к тому и другому.
– И рапсоды не могут быть одновременно актерами.
– Верно.
– И одни и те же актеры не годятся для комических и трагических поэтов, хотя и то и это – подражание. Разве нет?
b
– Да, это подражания.
– Вдобавок, Адимант, в человеческой природе, мне кажется, есть столько мелких черточек, что во многом не удастся воспроизвести или выполнить все то, подобием чего служит подражание.
– Это в высшей степени верно.
– Значит, если мы сохраним в силе наше первое рассуждение, наши стражи должны отбросить все остальные занятия и заниматься лишь охраной свободы государства[1402]
– самым тщательным образом и не отвлекаясь ничем посторонним.
c
Им не надо будет делать ничего другого или чему‑либо другому подражать. Если уж подражать, так только тому, что надлежит, то есть сразу же, с малых лет подражать людям мужественным, рассудительным, свободным и так далее. А того, что несвойственно свободному человеку и что вообще постыдно, они и делать не должны (и будут даже не в состоянии этому подражать), чтобы из‑за подражания не появилось у них склонности быть и в самом деле такими.
d
Или ты не замечал, что подражание, если им продолжительно заниматься начиная с детских лет, входит в привычку и в природу человека – меняется и наружность, и голос, и духовный склад.
– Да, очень даже замечал.
– Так вот мы не допустим, чтобы те, о ком, повторяю, мы заботимся и кто должен стать добродетельным, подражали бы женщине, хотя сами они мужчины, – все равно, молода ли женщина или уже пожилая, бранится ли она с мужем или спорит с богами, заносчиво воображая себя счастливой, либо, напротив, бедствует и изливает свое горе в жалобных песнях – да всего и не предусмотришь.
e
– Конечно.
– Не годится и подражание рабыням и рабам – ведь они выполняют лишь то, что рабам положено.
– Да, и это не годится.
– Или подражание дурным людям: ведь они, как водится, трусливы и действуют вопреки тому, о чем
мы только что говорили, – злословят, осмеивают друг друга, сквернословят и в пьяном виде, и трезвые, да и вообще, каких только промахов не бывает у них в отношениях между собой и с другими людьми как на словах, так и на деле!
396
Также недопустимо, считаю я, чтобы наши стражи привыкали уподобляться – и словом и делом – людям безумным. Надо уметь распознавать помешанных и испорченных, будь то мужчины или женщины, и ни совершать что‑либо подобное, ни подражать им не следует.
– Сущая правда.
b
– Дальше. Следует ли подражать кузнецам, различным ремесленникам, гребцам на триерах и их начальникам, вообще тем, кто занят чем‑нибудь в этом роде?
– Как можно! Ведь нашим стражам не позволено даже ничему этому уделять внимание.
– Дальше. Станут ли они подражать ржанию коней, мычанию быков, журчанию потоков, гулу морей, грому и прочему в том же роде?
– Но ведь им запрещено впадать в помешательство и уподобляться безумцам.
c
– Если я правильно понимаю твои слова, существует такой вид изложения и повествования, которым мог бы пользоваться действительно безупречный человек, когда ему нужно что‑нибудь сообщить; существует, однако, и другой вид, нисколько с этим но схожий, к которому мог бы прибегнуть в своем повествовании человек противоположных природных задатков и воспитания.
– Какие это виды?
– Мне кажется, что умеренному человеку, когда он дойдет в своем повествовании до какого‑либо высказывания или действия человека добродетельного, захочется подать это так, словно он сам и есть тот человек; такое подражание не вызывает стыда.
d
Лучше всего, когда подражают надежным и разумным действиям, но гораздо хуже и слабее бывает подражание человеку с расшатанным здоровьем или нестойкому из‑за влюбчивости, пьянства, либо каких‑нибудь иных невзгод. Когда же повествователь столкнется с кем‑нибудь, кто его недостоин, ему не захочется всерьез уподобляться худшему, чем он сам, разве лишь ненадолго, если этот худший совершает все‑таки нечто дельное. Повествователь не упражнялся в подражании таким людям, и ему будет стыдно и вместе с тем противно отречься от себя и принять облик людей худших, чем он, которых он по своему духовному складу не.может уважать – разве что лишь в шутку.
e
– Это естественно.
– Значит, он в своем повествовании воспользуется теми замечаниями, которые мы только что сделали по поводу стихов Гомера: изложение будет у него вестись и тем и другим способом, то есть и посредством подражания, и посредством повествования, но доля подражания будет незначительна, если взять его произведение в целом. Или я не прав?
– Конечно, у этого рассказчика непременно будут такие приемы.
397
– Значит, у того, кто хуже и на него не похож. тем больше будет всевозможных подражания: этот‑то ничем уже не побрезгает, всему постарается подражать всерьез, в присутствии многочисленных слушателей, то есть, как мы говорили, и грому, и шуму ветра и града, и скрипу осей и колес, и звуку труб, флейт и свирелей – любых инструментов – и вдобавок даже лаю собак, блеянию овец и голосам птиц. Все его изложение сведется к подражанию звукам и внешнему облику, а если и будет в нем повествование, то уж совсем мало.
b
– И это неизбежно.
– Так вот это и есть те два вида изложения, о которых я говорил.
– В самом деле, именно так и бывает.
– Один из этих видов допускает лишь незначительные отклонения, и, если придать этому изложению подобающую гармонию и ритм, у всех правильно его применяющих получится чуть ли не один и тот же слог с единообразной стройностью – ведь отклонения здесь невелики; так же приблизительно обстоит дело и с ритмом.
– Конечно, это так.
c
– А как обстоит дело с другим видом? Разве он не требует прямо противоположного, то есть совсем различных и ритмов и строя, чтобы подходящим образом воздействовать на слушателей? Ведь здесь возможны разные формы изменений.
– Да, это его отличительная особенность.
– А ведь все поэты или вообще люди, выступающие с чем‑нибудь перед слушателями, имеют дело либо с тем, либо с другим из этих способов изложения, либо, наконец, с каким‑нибудь их сочетанием.
– Это неизбежно.
d
– Так что ж нам делать? Допустить ли в нашем государстве все эти виды, или же один который‑нибудь из несмешанных, либо, напротив, смешанный вид?
– Если бы мое мнение взяло верх, это был бы несмешанный вид, в котором поэт подражал бы человеку порядочному.
– Однако, Адимант, приятен и смешанный вид. Детям и их воспитателям несравненно приятнее вид, противоположный тому, который ты выбираешь; так и подавляющей части толпы.
– Да, им он много приятнее.
e
– Но возможно, ты скажешь, что он не согласуется с нашим государственным устройством, потому что у нас человек не может быть ни двойственным, ни множественным, раз каждый делает что‑то одно.
– Да, скажу, что не согласуется.
– Поэтому только в нашем государстве мы обнаружим, что сапожник – это сапожник, а не кормчий вдобавок к своему сапожному делу; что земледелец – это земледелец, а не судья вдобавок к своему земледельческому труду и военный человек – это военный, а не делец вдобавок к своим военным занятиям; и так далее.
– Это верно.
398
– Если же человек, обладающий умением перевоплощаться и подражать чему угодно, сам прибудет в наше государство, желая показать нам свои творения, мы преклонимся перед ним как перед чем‑то священным, удивительным и приятным, но скажем, что такого человека у нас в государстве не существует и что недозволено здесь таким становиться[1403]
, да и отошлем его в другое государство, умастив ему главу благовониями и увенчав шерстяной повязкой,
b
а сами удовольствуемся, по соображениям пользы, более суровым, хотя бы и менее приятным поэтом и творцом сказаний, который подражал бы у нас способу выражения человека порядочного и то, о чем он говорит, излагал бы согласно образцам, установленным нами вначале, когда мы разубирали воспитание воинов.
– Мы, конечно, поступили бы так, если бы это от нас зависело.
– Теперь, друг мой, у нас, пожалуй, уже полностью
завершено обсуждение той части мусического искусства, которая касается сочинительства и сказаний:
выяснено, о чем надо говорить и как надо говорить.
– Мне тоже так кажется.
c
– Значит, – сказал я, – остается рассмотреть свойства песнопений и мелической поэзии.
– Очевидно.
– Какими они должны быть и что нам надо о них сказать – это уж всякий выведет из сказанного ранее, если только мы будем последовательны.
Главкон улыбнулся.
– Я лично, Сократ, – сказал он, – пожалуй, не из этих всяких, потому что недостаточно схватываю сейчас, что именно должны мы утверждать. Впрочем, я догадываюсь.
– Во всяком случае, – сказал я, – ты прежде всего смело можешь утверждать, что в мелосе есть три части: слова, гармония и ритм.
d
– Да, это‑то я могу утверждать.
– Поскольку там есть слова, мелос здесь нисколько не отличается от слов без пения, то есть он тоже должен согласоваться с теми образчиками изложения, о которых мы только что говорили.
– Это верно.
– И слова должны сопровождаться гармонией и ритмом.
– Как же иначе?
– Но мы признали, что в поэзии не должно быть причитаний и жалоб.
– Да, не должно.
e
– А какие же лады свойственны причитаниям? Скажи мне – ты ведь сведущ в музыке.
– Смешанный лидийский, строгий лидийский и некоторые другие в таком же роде.
– Значит, их надо изъять, – сказал я, – они не годятся даже для женщин, раз те должны быть пристойными, не то что уж для мужчин.
– Конечно.
– Стражам совершенно не подходит опьянение, изнеженность и праздность.
– Разумеется.
– А какие же лады разнеживают и свойственны застольным песням?
399
– Ионийский и лидийский – их называют расслабляющими.
– Так допустимо ли, мой друг, чтобы ими пользовались люди воинственные?
– Никоим образом. Но у тебя остается еще, пожалуй, дорийский лад и фригийский.
– Не разбираюсь я в музыкальных ладах, но ты оставь мне тот, который подобающим образом подражал бы голосу и напевам человека мужественного, находящегося в гуще военных действий и вынужденного преодолевать всевозможные трудности;
b
когда он терпит неудачи, ранен или идет на смерть, или его постигло какое‑либо иное несчастье, он стойко, как в строю, переносит свою участь.
Оставь еще и другой музыкальный лад для того, кто в мирное время занят не вынужденной, а добровольной деятельностью, когда он либо в чем‑нибудь убеждает – бога ли своими молитвами, человека ли своими наставлениями и увещаниями, пли о чем‑то просит, или, наоборот, сам внимательно слушает просьбы, наставления и доводы другого человека и потому поступает разумно, не зазнается, но во всем действует рассудительно, с чувством меры и учитывая последствия.
c
Вот эти оба лада – «вынужденный» и «добровольный» ты и оставь мне: они превосходно подражают голосам людей несчастных, счастливых, рассудительных, мужественных[1404]
.
– Но ты просишь оставить не что иное, как те лады, о которых я и говорил сейчас.
– Таким образом, в пении и мелической поэзии не потребуется ни многоголосия, ни смешения всех ладов.
– Мне кажется, что нет.
d
– Значит, мы не будем готовить мастеров, делающих тритоны, пектиды[1405]
и всякие другие инструменты множеством струн н ладов.
– По‑видимому, нет.
– Ну, а мастеров по изготовлению флейт и флейтистов допустишь ты в наше государство? Разве это не самый многоголосый инструмент, так что даже смешение всех ладов – это лишь подражание игре на флейте?
– Ясно, что это так.
– У тебя остаются лира и кифара – они распространены в городе, в сельских же местностях, у пастухов, были бы в ходу какие‑нибудь свирели.
– Так показывает наше рассуждение.
e
– Мы не совершаем, – сказал я, – ничего необычного, когда Аполлона и его инструменты ставим выше Марсия и его инструментов[1406]
.
– Клянусь Зевсом, – отвечал он, – это, по‑моему, так.
– И клянусь собакой, – воскликнул я, – мы и сами не заметили, каким чистым снова сделали государство, которое мы недавно называли изнеженным.
– Да ведь мы действуем рассудительно, – сказал он.
– Давай же очистим и все остальное. Вслед за гармониями возник бы у нас вопрос о ритмах – о том, что не следует гнаться за их разнообразием и за всевозможными размерами, но, напротив, надо установить, какие ритмы соответствуют скромной и мужественной жизни.
400
А установив это, надо обязательно сделать так, чтобы ритм и напев следовали за соответствующими словами, а не слова – за ритмом и напевом. Твоим делом будет указать, что это за ритмы, как ты сделал раньше относительно музыкальных ладов.
– Но клянусь Зевсом, я не умею объяснить. Я еще, приглядевшись, сказал бы, что имеется три вида стоп, из которых складываются стихотворные размеры, вроде как все лады образуются из четырех звучаний, но какой жизни какие из них подражают – этого я не могу сказать[1407]
.
b
– Об этом, – сказал я, – мы посоветуемся с Дамоном[1408]
, а именно какие размеры подходят для выражения низости, наглости, безумия и других дурных свойств, а какие ритмы надо оставить для выраженияпротивоположных состоянии. Я смутно припоминаю, что слышал, как Дамон называл и какой‑то составной плясовой военный размер, одновременно дактилический и героический[1409]
, но не знаю, как он его строил и как достигал равномерности повышений и понижений в стихе, складывающемся из краткостей и долгот.
c
Помнится, Дамон называл и ямб, и какую‑то другую стопу – кажется, трохей, где сочетаются долготы и краткости[1410]
. В некоторых случаях его порицание или похвала касались темпов не менее чем самих ритмов или того и другого вместе – впрочем, мне этого не передать. Все это, как я и говорю, предоставим Дамону – ведь это требует долгого обсуждения. Или твое мнение иное?
– Нет, клянусь Зевсом.
– Но вот что по крайней мере ты можешь отметить: соответствие между благообразием и ритмичностью, с одной стороны, и уродством и неритмичностью – с другой.
d
– Да, конечно.
– Подобным же образом ритмичность отвечает хорошему слогу речи, а неритмичность – его противоположности. То же самое и с хорошей или плохой гармонией, раз уж ритм и лад, как недавно говорилось, должны следовать за речью, а не речь за ними.
– Действительно, они должны сообразоваться со слогом.
– А способ выражения и сама речь разве не соответствуют душевному складу человека?
– Конечно.
– А все прочее – особенности речи?
– Да.
e
– Значит, ладная речь, благозвучие, благообразие и ладный ритм – это следствие простодушия: не того недомыслия, которое мы смягченно называем так – простодушием, но подлинно безупречного нравственно‑духовного склада.
– Вполне согласен.
– Разве юноши не должны всячески стремиться к этому, если намерены выполнять свои обязанности?
– Должны.
401
– А ведь так или иначе этим полна и живопись, и всякое подобное мастерство – тканье и вышивание, и строительство, и производство разной утвари, и вдобавок даже природа тел и растений – здесь во всем может быть благообразие и уродство. Уродство, неритмичность, дисгармония – близкие родственники злоречия и злонравия, а их противоположность, наоборот, близкое подражание рассудительности и нравственности[1411]
.
– Безусловно.,
b
– Так вот, неужели только за поэтами надо смотреть и обязывать их либо воплощать в своих творениях нравственные образы, либо уж совсем отказаться у нас от творчества? Разве не надо смотреть и за остальными мастерами и препятствовать им воплощать в образах живых существ, в постройках или в любой своей работе что‑то безнравственное, разнузданное, низкое и безобразное? Кто не в состоянии выполнить это требование, того нам нельзя допускать к мастерству, иначе наши стражи, воспитываясь на изображениях порока, словно на дурном пастбище, много такого соберут и поглотят –
c
день за днем, по мелочам, но в многочисленных образцах, и из этого незаметно для них самих составится в их душе некое единое великое зло. Нет, надо выискивать таких мастеров, которые по своей одаренности способны проследить природу красоты и благообразия, чтобы нашим юношам подобно жителям г здоровой местности все шло на пользу, с какой бы Стороны ни представилось их зрению или слуху что‑либо из прекрасных произведений: это словно дуновение из благотворных краев, несущее с собой здоровье и сразу же, с малых лет незаметно делающее юношей близкими прекрасному слову и ведущее к дружбе и согласию с ним.
d
– Насколько же лучше было бы так воспитывать!
– Так вот, Главкон, – сказал я, – в этом главнейшее воспитательное значение мусического искусства: оно всего более проникает в глубь души и всего сильнее ее затрагивает; ритм и гармония несут с собой благообразие, а оно делает благообразным и человека, если кто правильно воспитан, если же нет, то наоборот[1412]
. Кто в этой области воспитан как должно, тот
e
очень остро воспримет разные упущения, неотделанность или природные недостатки. Его раздражение или, наоборот, удовольствие будут правильными; он будет хвалить то, что прекрасно, и, приняв его в свою душу, будет питаться им и сам станет безупречным; а безобразное [постыдное] он правильно осудит и возненавидит
402
с юных лет, раньше даже, чем сумеет воспринять разумную речь; когда же придет пора такой речи, он полюбит ее, сознавая, что она ему свойственна по воспитанию.
– По‑моему, – сказал Главкон, – в этом‑то и значение мусического искусства для воспитания.
– В таком же роде и умение читать, – сказал я. – Мы с ним справляемся, когда нам становится ясно, что разных букв во всем, где они встречаются, не так уж много;
b
однако мы ни в малом, ни в великом не пренебрегаем ими, будто не стоит и замечать их, но везде стремимся распознать и научаемся читать не раньше, чем с этим справимся.
– Верно.
– Значит, и изображения букв, отражающиеся где‑нибудь в воде или в зеркале, мы узнаем не прежде, чем будем знать сами буквы, – впрочем, это требует того же самого искусства и упражнения.
– Безусловно.
c
– Но ведь это‑то я и утверждаю, клянусь богами: нам точно так же не овладеть мусическим искусством – ни самим, ни тем стражам, которых, как мы говорим, мы должны воспитать, пока мы не распознаем повсюду встречающиеся виды рассудительности, мужества, благородного образа мыслей, великодушия и всего того, что им сродни, а также и их противоположности, и пока мы не заметим всего этого там, где оно существует – само по себе или в изображениях; ни в малом, ни в великом мы не станем этим пренебрегать, но будем считать, что здесь требуется то же самое – искусство и упражнение.
– Это совершенно необходимо.
d
– Значит, – сказал я, – если случится, что прекрасные нравственные свойства, таящиеся в душе какого‑нибудь человека, будут согласоваться и с его внешностью, поскольку у них будут иметься общие черты, это будет прекраснейшее зрелище для того, кто способен видеть.
– Конечно.
– А ведь высшая красота в высшей степени привлекательна.
– Еще бы!
– Таких‑то вот людей и любил бы всего больше тот, кто предан мусическому искусству. А в ком нет этой гармоничности, тех бы он не любил.
– Да, не любил бы, если это недостаток душевный;
если же физический, можно еще выдержать и находить встречи приятными.
e
– Понимаю, – сказал я, – у тебя есть или был.такой любимец, поэтому я не возражаю. Но скажи мне рот что: имеется ли что‑нибудь общее между рассудительностью и излишествами в удовольствиях?
– Как можно! От них становишься безумным не меньше, чем от страдания.
– А есть ли с ними общее у какой‑нибудь другой |добродетели?
403
– Ни в коем случае.
– А, например, с наглостью и разнузданностью?
– Всего менее.
– Можешь ли ты назвать удовольствие более сильное и острое, чем любовные утехи?
– Не могу, да и нет ничего более безумного.
– Между тем правильной любви свойственно любить скромное и прекрасное, притом рассудительно и гармонично.
– Конечно.
– Значит, в правильную любовь нельзя привносить неистовство и все то, что сродни разнузданности?
– Нельзя.
b
– Стало быть, нельзя привносить и любовное наслаждение: с ним не должно быть ничего общего у правильно любящих или любимых, то есть ни у влюбленного, ни у его любимца.
– Да, Сократ, клянусь Зевсом, это наслаждение не надо привносить.
– В создаваемом нами государстве ты установишь, чтобы влюбленный был другом своему любимцу, вместе с ним проводил время и относился к нему как к сыну во имя прекрасного, если тот согласится. А в остальном пусть он так общается с тем, за кем ухаживает, чтобы никогда не могло возникнуть даже предположения, что между ними есть нечто большее. В противном случае он навлечет на себя упрек в грубости и в непонимании прекрасного[1413]
.
c
– Да, это так.
– Не кажется ли и тебе, – сказал я, – что наше рассуждение о мусическом искусстве пришло к концу? Оно завершилось тем, чем должно было завершиться, – ведь все, что относится к мусическому искусству, должно завершаться любовью к прекрасному.
– Согласен, – сказал Главкон. Взаимообусловленность мусического и гимнастического воспитания
– Вслед за мусическим искусством воспитание юношей должно коснуться и гимнастики[1414]
.
– Конечно.
d
– И в этом отношении нужно воспитывать тщательно, начиная с детства и в течение всей жизни. Дело здесь, я думаю, вот в чем – впрочем, решай и ты: я не считаю, что, когда тело у человека в порядке, оно своими собственными добрыми качествами вызывает хорошее душевное состояние; по‑моему, наоборот, хорошее душевное состояние своими добрыми качествами обусловливает наилучшее состояние тела[1415]
. А тебе как кажется?
– По‑моему, тоже так.
– Стало быть, если мы достаточно позаботимся о духовном облике наших стражей и затем уже их разумению поручим тщательную заботу о теле, сами же во избежание многословия ограничимся указанием нескольких образцов, мы поступим правильно?
e
– Вполне.
– Что они должны воздерживаться от опьянения, мы уже говорили. Напиться так, что даже не знаешь, где ты находишься, скорее уж можно кому‑нибудь другому, только не стражу.
– Смешно, если страж сам нуждается в страже.
– А как насчет их питания? Ведь эти люди – участники величайшего состязания. Разве не так?
– Да, так.
404
– Не подойдут ли для них условия жизни атлетов?
– Возможно.
– Но ведь это ведет к сонливости и опасно для здоровья. Разве ты не наблюдаешь, что эти атлеты спят всю жизнь и чуть только нарушат предписанный им уклад, сейчас же начинают очень сильно хворать?
– Да, я это наблюдаю.
– Военные атлеты нуждаются в какой‑то лучшей подготовке: им необходимо быть чуткими, как собаки, отличаться крайне острым зрением и слухом и обладать таким здоровьем, чтобы в походах оно не пошатнулось от перемены воды, разного рода пищи, от зноя или ненастья.
b
– И мне так кажется.
– Но наилучшее гимнастическое воспитание разве не родственно тому мусическому искусству, которое мы только что разбирали?
– Как ты это понимаешь?
– Такое воспитание просто и удобно, особенно в военном деле.
– В каком отношении?
c
– Об этом можно узнать даже у Гомера. Ты ведь знаешь, что во время похода Гомер не кормит героев на пиршествах ни рыбой, хотя дело происходит у моря, на Геллеспонте, ни вареным мясом, а только жареным, что для воинов в самом деле удобнее: ведь огонь, так сказать, везде под рукой, и не надо возить с собою посуду.
– Да, это много удобнее.
– И о приправах, мне думается, Гомер никогда не упоминает. Впрочем, это знают и все прочие атлеты:
кто хочет поддерживать свое тело в хорошем состоянии, тому надо воздерживаться ото всего такого.
– И правильно: они это знают и воздерживаются.
d
– Как видно, ты не одобряешь сиракузского стола и сицилийского разнообразия блюд, раз по‑твоему это правильно[1416]
.
– Не одобряю.
– Значит, и если коринфская девушка мила тем, кто хочет поддерживать свое тело в хорошем состоянии[1417]
, ты это также порицаешь?
– Разумеется.
– И аттические печенья, хотя они славятся приятным вкусом?[1418]
– Конечно.
e
– Я думаю, мы правильно уподобили бы такое питание и образ жизни мелической поэзии или песнопению, сочиненному одновременно во всех музыкальных ладах и во всех ритмах.
– Конечно.
– Там пестрота порождает разнузданность, здесь же – болезнь. А простота в мусическом искусстве дает уравновешенность души, в области же гимнастики – здоровье тела.
– Совершенно верно.
405
– Когда в государстве распространятся распущенность и болезни, разве не потребуется открыть суды и больницы? И разве не будут в почете судебное дело и врачевание, когда ими усиленно станут заниматься даже многие благородные люди?
– Да, выйдет так.
– Какое же ты можешь привести еще большее доказательство плохого и постыдного воспитания граждан, если нужду во врачах и искусных судьях испытывают не только худшие люди и ремесленники, но даже и те, кто притязает на то, что они воспитаны на благородный лад?
b
Разве, по‑твоему, не позорно и не служит явным признаком невоспитанности необходимость пользоваться, за отсутствием собственных понятий о справедливости, постановлениями посторонних людей, словно они какие‑то владыки и могут все решить!
– Это величайший позор.
– А не кажется ли тебе еще более позорным то обстоятельство, что человек не только проводит большую часть своей жизни в судах как ответчик либо как истец, но еще и чванится этим в уверенности,
c
что он горазд творить несправедливости, знает всякие уловки и также лазейки, чтобы увернуться от наказания, и все это ради мелких, ничего не стоящих дел? Ему неведомо, насколько прекраснее и лучше построить свою жизнь так, чтобы вовсе не нуждаться в клюющем носом судье.
– Да, это еще более позорно.
– А когда нужда в лечении возникает не из‑за ранений или каких‑либо болезней, повторяющихся из года в год, но из‑за праздности и того образа жизни, о котором мы уже упоминали, – это ли не позорно?
d
Влага и испарения застаиваются тогда, словно в болоте, и это побуждает находчивых Асклепиадов[1419]
давать болезням название «ветры» и «истечения».
– В самом деле, это новые и нелепые названия болезней.
– Не существовавших, я думаю, во времена Асклепия[1420]
. Я заключаю так потому, что под Троей его сыновья[1421]
не порицали той женщины, которая дала
e
раненому Эврипилу выпить прамнийского вина[1422]
, густо насыпав туда ячменной крупы и наскоблив сыра, что как раз должно было, по‑видимому, вызвать слизистое воспаление. Не возражали сыновья Асклепия и против лечебных мер Патрокла.
406
– Вот уж действительно странное питье для человека в таком состоянии!
– Не так уж оно странно, если ты учтешь, что в те времена, до появления Геродика[1423]
, Асклепиады, как утверждают, не умели направлять течение болезни, то есть не применяли этого нынешнего способа лечения. Геродик же был учителем гимнастики: когда он заболел, он применил для лечения гимнастические приемы; сперва он терзал этим главным образом самого себя, а затем впоследствии и многих других.
b
– Каким образом?
– Он оттянул свою смерть: сколько он ни следил за своей болезнью – а она у него была смертельной, – излечиться он, я думаю, был не в силах, вот он и жил, ничем другим не занимаясь, а только лечась, да мучаясь, как бы не нарушить в чем‑либо привычный ему образ жизни. Так, в состоянии беспрерывного умирания он и дожил до старости благодаря своей премудрости.
– Хорошо же его вознаградило его искусство!
c
– По заслугам, раз человек не соображал, что Асклепий не по неведению или неопытности ничего не сообщил своим потомкам об этом виде лечения. Асклепий знал, что у тех, кто придерживается законного порядка, каждому назначено какое‑либо дело в обществе, и он его обязан выполнять, а не заниматься всю жизнь праздным лечением своих болезней. Забавно, что подтверждение этому мы наблюдаем у ремесленников, а у людей богатых и слывущих благополучными этого не замечается.
– Что ты имеешь в виду?
d
– Плотник, когда заболеет, обращается к врачу за лекарством, вызывающим рвоту или усиленное действие желудка, чтобы таким путем избавиться от болезни, а не то просит сделать ему прижигание или разрез. Если же ему назначат длительное лечение, велят кутать голову и так далее, он сразу же скажет, что ему недосуг хворать да и не к чему будет жить, если обращать все внимание на болезнь и пренебрегать надлежащей работой.
e
Распростившись с такого рода врачом, он возвращается к своему обычному образу жизни и, если выздоровеет, продолжает заниматься своим делом; если же его тело не способно справиться с болезнью, наступает конец и избавление от хлопот.
– Такому человеку, видимо, именно так подобает пользоваться врачеванием.
407
– Не потому ли, что у него есть какая‑то работа, и, если он не будет ее выполнять, ему и жить не к чему?
– Очевидно.
– А у богатого, как мы говорили, нет ведь такого обязательного дела, что ему и жизнь станет не в жизнь, если он будет вынужден от него отказаться.
– Но в этом обычно не признаются.
– Ты ведь не согласен с утверждением Фокилида[1424]
, что крепость тела надо развивать в себе лишь тогда, когда уже обеспечены условия жизни?
– Я думаю, что это надо делать еще и раньше.
b
– Не будем из‑за этого воевать с Фокилидом, а лучше выясним для самих себя, нужно ли богатому человеку упражняться ради крепости и не будет ли и ему жизнь не в жизнь, если он этим не занимается, или же только плотникам и другим ремесленникам нельзя возиться со своими болезнями, так как это отвлекает их внимание от работы, и совет Фокилида вообще‑то ничему не мешает.
– Клянусь Зевсом, мешает в высшей степени, если такая излишняя забота о своем теле выходит за пределы обычной гимнастики: тогда это раздражает и в домашних делах, и в военных походах, и неприятно также в представителях власти, сидящих в городе.
c
Но самое главное, такая излишняя забота служит препятствием для приобретения любых знаний, для размышлений и работы над собой: ведь люди предполагают, что этим вызывается всегда какое‑то чрезмерное напряжение ума и головокружение, и винят в этом философию, будто она, с помощью которой развивают и проверяют добродетель, всему помехой и будто именно она заставляет человека считать себя вечно больным и непрестанно мучиться состоянием своего здоровья.
– Это похоже на правду.
– Так не сказать ли нам, что и Асклепию это было известно: у кого от природы здоровое тело и кто ведет здоровый образ жизни, но схватил какую‑нибудь необычную болезнь,
d
таким людям и при таком их состоянии Асклепий указал, как надо лечиться; лекарствами и разрезами надо изгонять болезни, сохраняя, однако, обычный образ жизни, чтобы не пострадали общественные дела. В случае же внутренних болезней, продолжающихся всю жизнь, Асклепий не делал попыток чуть‑чуть облегчить положение больного, различным путем изменяя его образ жизни и тем только затягивая болезнь, и удлинять человеку никчемную его жизнь, да еще дать ему случай произвести, естественно, такое же точно потомство.
e
Кто в положенный человеку срок не способен жить, того, считал Асклепий, не нужно и лечить, потому что такой человек бесполезен и для себя, и для общества.
– Ты утверждаешь, что Асклепий заботился об обществе?
– Это очевидно. Да и его сыновья показали, что он был таков. Разве ты не видишь, как они отличились в битвах под Троей, где применяли свое врачебное искусство именно так, как я говорю? Или не помнишь, что у Менелая из раны, полученной от стрелы Пандара, они
408
Кровь отжимали, смягчающим зельем обсыпавши рану[1425]
.
А насчет того, что нужно потом пить и есть, они дали Менелаю ничуть не больше предписаний, чем Эврипилу, потому что для излечения довольно бывает лекарства, если до ранения человек был здоров и вел упорядоченный образ жизни, хотя бы сейчас и довелось ему выпить смесь из вина, меда, ячменной крупы и тертого сыра.
b
А жизнь человека от природы болезненного, да к тому же еще невоздержного Асклепиады находили бесполезной и для него самого, и для окружающих, так что, считали они, не стоит за ним ухаживать и его лечить, будь он даже богаче Мидаса[1426]
.
– Если верить тебе, сыновья Асклепия были очень смышлеными.
– Так им и полагается, хотя с нами не согласятся ни трагики, ни Пиндар: они уверяют, что хотя Асклепий и был сыном Аполлона, однако дал себя подкупить, чтобы исцелить одного уже умиравшего богача, за что и был испепелен молнией[1427]
.
c
Но мы, исходя из того, о чем у нас уже шла речь, не верим им ни в том ни в другом: если он был сыном бога, он, скажем мы, не должен был быть корыстолюбив, а если он корыстолюбив, он не был сыном бога.
– Это‑то совершенно верно. Но как ты скажешь, Сократ, вот насчет чего: разве не требуются в нашем государстве хорошие врачи? А такими могли бы быть, всего вероятнее, те, через чьи руки прошло как можно больше людей здоровых и как можно больше больных. Точно так же и с судьями: те из них лучше, кому приходилось общаться с самыми разнообразными по своим природным задаткам людьми.
– Конечно, я говорю о хороших врачах. А знаешь, кого я считаю такими?
– Пожалуйста, скажи мне.
– Что ж, попытаюсь. Но ты в своем вопросе объединил не сходные между собою вещи.
– Как так?
e
– Искуснейшими врачами стали бы те, кто начиная с малолетства кроме изучения своей науки имел бы дело по возможности с большим числом совсем безнадежных больных, да и сам перенес бы всякие болезни и от природы был бы не слишком здоровым. Ведь лечат, по‑моему, не телом тело – иначе было бы недопустимо плохое телесное состояние самого врача, – нет, лечат тело душой, а ею невозможно хорошо лечить, если она у врача плохая или стала такой.
– Это верно.
409
– А судья, друг мой, душой правит над душами. Нельзя, чтобы она у него с юных лет воспитывалась среди порочных душ, общалась с ними, прошла бы через всяческие несправедливости и сама поступала так, – и все это только для того, чтобы по собственному опыту заключать о чужих поступках, как о чужих болезнях заключают по своим. Напротив, душа должна смолоду стать невинной и не причастной к дурным нравам, если ей предстоит безупречно и здраво вершить правосудие. Потому‑то люди порядочные и кажутся в их молодые годы простоватыми и легко поддаются обману со стороны людей несправедливых – ведь у них самих нет никаких черточек, созвучных людям испорченным.
b
– В самом деле, они сильно страдают от этого.
– Поэтому хорошим судьей будет не юноша, а старик, который лишь в зрелые годы ознакомился с тем, что такое несправедливость. Ее наличие он подметил не у себя в душе и не как собственное свойство, а, напротив, в душах других людей как нечто ему чуждое. Понадобилось много времени, чтобы он научился разбираться в том, каково это зло, – ведь для него оно предмет знания, а не собственного опыта.
c
– Это будет отличный судья, как видно.
– Да, хороший: вот то, о чем ты спрашивал. Ведь хорош тот, у кого хорошая душа. А человек ловкий и во всем подозревающий лишь дурное, сам совершивший немало несправедливостей и считающий себя мастером на все руки и мудрецом, правда, общаясь с себе Подобными, выглядит знатоком своего дела, потому что он всего остерегается, наблюдая на самом себе дурные примеры, но, когда он встречается с хорошими людьми и с теми, кто постарше его,
d
он выглядит глупо, так как бывает некстати недоверчив из‑за своего неведения здоровых нравов – ведь эти примеры ему чужды. А так как с людьми порочными он сталкивается чаще, чем с хорошими, то и самому себе и другим он кажется скорее мудрым, чем невеждой.
– Совершенно верно.
– Стало быть, не такого судью нам надо искать, вели мы хотим, чтобы был он хорош и мудр, а такого, как мы указывали прежде. Порочность никогда не может познать ни добродетель, ни самое себя, тогда как добродетель человеческой природы,
e
своевременно получившей воспитание, приобретет знание и о самой себе, и о порочности. Именно такой человек, кажется мне, и становится мудрым, а вовсе не тот, кто негоден.
– И мне так кажется.
– Значит, вместе с такого рода судебным искусством ты узаконишь в нашем государстве и врачевание в том виде, как мы говорили. Оба они будут заботиться гражданах, полноценных как в отношении тела,
410
так и души, а кто не таков, кто полноценен лишь телесно, тем они предоставят вымирать; что касается людей с порочной душой, и притом неисцелимых, то их они сами умертвят.
– Ясно, что так будет всего лучше и для тех, кто страдает подобными недостатками, и для всего государства.
– А юноши, видно, поостерегутся у тебя обращаться в суд, раз они будут владеть тем простым мусическим искусством, которое, как мы говорили, порождает рассудительность.
– Конечно.
b
– Следуя тем же путем, человек, владеющий мусическим искусством, если пожелает, примет такое же решение, занимаясь гимнастикой, то есть не станет прибегать к врачебной помощи без необходимости.
– Я с этим согласен.
– Он будет заниматься гимнастическими упражнениями и преодолевать трудности во имя природной отваги и пылкости духа, ради их пробуждения, а не ради приобретения силы, – не то, что другие атлеты, которые и питаются, и переносят тяготы только для того, чтобы стать покрепче.
– Ты совершенно прав.
c
– Те, кто установил, что воспитывать надо c по мощью мусического и гимнастического искусства, для того ли сделали это, Главкон, чтобы, как думают некоторые, посредством одного развивать тело, а посредством другого – душу?
– А как же иначе?
– Пожалуй, и то и другое установлено главным образом для души.
– Как так?
– Разве ты не замечал, каким бывает духовный склад у тех, кто всю жизнь посвятил гимнастике и вовсе не касался мусического искусства? И каков он у людей, им противоположных?
– Что ты имеешь в виду?
d
– Грубость и жестокость, с одной стороны, мягкость и изнеженность – с другой.
– Да, я замечал, что занимающиеся только гимнастикой становятся грубее, чем следует, а занимающиеся одним только мусическим искусством – настолько мягкими, что это их не украшает.
– А между тем грубость могла бы способствовать природной ярости духа и при правильном воспитании обратилась бы в мужество; но, конечно, чрезмерная грубость становится тяжкой и невыносимой.
– Да, мне так кажется.
e
– Что же? Разве кротость не будет свойством характеров, склонных к философии? Правда, излишняя кротость ведет к чрезмерной мягкости, но при хорошем воспитании она остается только кротостью и скромностью.
– Это так.
– А наши стражи, говорим мы, должны обладать обоими этими природными свойствами.
– Да, должны.
– И эти свойства должны согласоваться друг с другом.
– Конечно.
411
– И в ком они согласованы, душа у того рассудительная и мужественная.
– Вполне.
– А в ком не согласованы – трусливая и грубая.
– И даже очень.
– Если человек допускает, чтобы мусическое искусство завораживало его звуками флейт и через уши, словно через воронку, вливало в его душу те сладостные, нежные и печальные лады, о которых мы только что говорили; если он проводит всю жизнь, то жалобно стеная, то радуясь под воздействием песнопении,
b
тогда, если есть в нем яростный дух, он на первых порах смягчается наподобие того, как становится ковким железо, и ранее бесполезный, крутой его нрав может стать ему ныне на пользу. Но если, не делая передышки, он непрестанно поддается такому очарованию, то он как бы расплавляется, ослабляет свой дух, пока не ослабит его совсем, словно вырежет прочь из души все сухожилия, и станет он тогда «копьеносцем некрепким»[1428]
.
– Несомненно.
c
– Это происходит быстро, если попадается человек с самого начала по природе своей слабый духом. А тот, у кого яростный дух, и подавив свою горячность, останется вспыльчивым: всякая мелочь его задевает, хотя он и отходчив. Из пылких такие люди становятся раздражительными, гневливыми и полными недовольства.
– Вот именно.
– Что же? Если человек кладет много труда на телесные упражнения, хорошо и обильно ест, но не причастен ни к мусическому искусству, ни к философии, не преисполнится ли он высокомерия и пыла и не превзойдет ли сам себя в мужественности?
d
– Вполне возможно.
– И что же? Раз он ничем другим не занимается и никак не общается с Музой, его жажда учения, даже если она и была в его душе, не отведала ни познания, ни поиска, осталась непричастной к сочинительству и к прочим мусическим искусствам, а потому она слабеет, делается глухой и слепой, так как она не побуждает этого человека, не питает его и не очищает его ощущений.
– Да, это так.
e
– Такой человек, по‑моему, становится ненавистником слова, невеждой; он совсем не пользуется даром словесного убеждения, а добивается всего дикостью и насилием, как зверь; он проводит жизнь в невежестве и глупости, нескладно и непривлекательно.
– Это совершенно верно.
– Очевидно, именно ради этих двух сторон [человеческой природы] какой‑то, я бы сказал, бог даровал людям два искусства: мусическое искусство и гимнастику, но не ради души и тела (это разве что между прочим), а ради яростного и философского начал в человеке, чтобы оба они согласовались друг с другом, то как бы натягиваясь, то расслабляясь, пока не будет достигнуто надлежащее их состояние.
412
– Видимо, это так.
– Стало быть, кто наилучшим образом чередует гимнастические упражнения с мусическим искусством и в надлежащей мере преподносит их душе, того мы вправе были бы считать достигшим совершенства в мусическом искусстве и осуществившим полную слаженность гораздо более, чем тот, кто настраивает струны.
– Естественно, это так, Сократ.
– Значит, Главкон, и в нашем государстве для сохранения его устройства будет постоянно нужен какой‑то такой попечитель.
b
– И очень даже будет нужен.
– Главные образцы воспитания и обучения пусть будут у нас такими. К чему пускаться в подробности о том, какими будут у наших граждан хороводные пляски, звероловство, псовая охота, состязания атлетов и соревнования в управлении конями и колесницами? В общем примерно ясно, что все это должно согласоваться с главными образцами, так что здесь уже не трудно будет найти то, что требуется.
– Пожалуй, не трудно. Отбор правителей и стражей
– Но что же нам предстоит разобрать после этого? Может быть, кто из этих наших граждан должен начальствовать, а кто – быть под началом?
c
– Конечно.
– Ясно, что начальствовать должны те, кто постарше, а быть под началом те, кто помоложе.
– Ясно.
– И притом начальствовать должны самые лучшие.
– И это ясно.
– А из земледельцев самые лучшие разве не те, кто отличился в земледелии?
– Да.
– Ну а теперь вот что: раз наши граждане должны быть лучшими из стражей, значит, ими будут те, кто наиболее пригоден для охраны государства.
– Да.
– Здесь требуется и понимание, и способности, а кроме того, и забота о государстве.
– Разумеется.
d
– А всякий больше всего заботится о том, что он любит.
– Непременно.
– Любит же он больше всего, когда считает, что польза дела – это и его личная польза, и когда находит, что успех дела совпадает с его собственной удачей, в противном же случае – наоборот.
– Да, это так.
– Значит, из стражей надо выбрать таких людей, которые, по нашим наблюдениям, целью всей своей
Жизни поставили самое ревностное служение государственной пользе и ни в коем случае не согласились бы действовать вопреки ей.
e
– Это были бы подходящие попечители.
– По‑моему, среди людей любого возраста надо нам подмечать, кто способен быть на страже таких воззрений, так что ни обольщения, ни насилие не заставят его забыть или отбросить мнение, что надлежит делать наилучшее для государства.
– Как это ты говоришь – отбросить?
413
– Я скажу тебе. Мне кажется, что мнения выпадают из сознания человека иногда по его воле, а иногда невольно: по его воле, если человек, передумав, отбрасывает ложное мнение, невольно же – когда он отбрасывает любое истинное мнение.
– Как это происходит по нашей воле, я понимаю, но как это бывает невольно, это мне еще надо понять.
– Почему? Разве ты не считаешь, что люди лишаются чего‑нибудь хорошего лишь против своей воли, а плохого – всегда добровольно? Разве это не плохо – заблуждаться насчет истины, и разве не хорошо – ее придерживаться? Иметь мнение о том, что действительно существует, разве это, по‑твоему, не значит придерживаться истины?
– Ты прав. Мне тоже кажется, что истинных мнений люди лишаются лишь невольно.
– Стало быть, это случается, когда людей обкрадывают, обольщают или насилуют?
– Теперь я снова не понимаю.
b
– Видно, я выражаюсь, как в трагедиях[1429]
. Обокраденными я называю тех, кто дал себя переубедить или кто забывчив: одних незаметным для них образом обкрадывает время, других – словесные доводы. Теперь ты понимаешь?
– Да.
– Подвергшимися насилию я называю тех, кого страдания или горе заставили изменить свое мнение.
– Это я тоже заметил. Ты верно говоришь.
c
– Обольщенными же и ты признаешь, я думаю, тех, кто изменил свое мнение, завороженный удовольствиями или охваченный перед чем‑нибудь страхом.
– Все обманчивое, естественно, обольщает.
– Так вот, как я только что и говорил, надо искать
людей, которые всех доблестнее стоят на страже своих взглядов и считают, что для государства следует делать все, по их мнению, наилучшее. Даже в их детские годы, предлагая им занятия, надо наблюдать, в чем кто из них бывает особенно забывчив и поддается обману. Памятливых и не поддающихся обману надо отбирать, а кто не таков, тех отвергнуть. Не так ли?
d
– Да.
– Надо также возлагать на них труды, тяготы и состязания и там подмечать то же самое.
– Правильно.
– Надо, стало быть, устроить для них испытание и третьего вида, то есть проверку при помощи обольщения, и при этом надо их наблюдать[1430]
. Подобно тому как жеребят гоняют под шум и крик, чтобы подметить, пугливы ли они, так и юношей надо подвергать сначала чему‑нибудь страшному, а затем, для перемены, приятному, испытывая их гораздо сильнее, чем золото и огне:
e
так выяснится, поддается ли юноша обольщению, во всем ли он благопристоен, хороший ли он страж как самого себя, так и мусического искусства, которому он обучался, покажет ли он себя при всех обстоятельствах умеренным и гармоничным, способным принести как можно больше пользы и себе, и государству. Кто прошел это испытание и во всех возрастах – детском, юношеском и зрелом –
414
выказал себя человеком цельным, того и надо ставить правителем и стражем государства, ему воздавать почести и при жизни, и после смерти, удостоив его почетных похорон и особо увековечив о нем память. А кто не таков, тех надо отвергнуть. Вот каков должен быть, Главкон, отбор правителей и стражей и их назначение; правда, это сказано сейчас лишь в главных чертах, без подробностей.
– Мне тоже кажется, что это должно быть так.
b
– Разве не с полным поистине правом можно назвать таких стражей совершенными? Они охраняли бы государство от внешних врагов, а внутри него оберегали бы дружественных граждан, чтобы у этих не было желания, а у тех – сил творить зло. А юноши, которых мы только что называли стражами, были бы помощниками правителей и проводниками их взглядов.
– Я согласен.
c
– Но какое мы нашли бы средство заставить преимущественно самих правителей – а если это невозможно, так хоть остальных граждан – поверить некоему благородному вымыслу из числа тех, которые, как мы недавно говорили[1431]
, возникают по необходимости?
– Какому же это вымыслу?
– Вовсе не новому, а финикийскому[1432]
: прежде это нередко случалось, как рассказывают поэты, и люди им верят, но в наше время этого не бывало, и не знаю, может ли быть, и, чтобы заставить этому верить, требуются очень убедительные доводы.
– Ты, видимо, не решаешься сказать.
– Моя нерешительность покажется тебе вполне естественной, когда я скажу.
d
– Говори, не бойся.
– Хорошо, я скажу, хотя и не знаю, как мне набраться смелости и какими выражениями воспользоваться. Я попытаюсь внушить сперва самим правителям и воинам, а затем и остальным гражданам, что все то, в чем мы их воспитали и взрастили, представилось им во сне как пережитое, а на самом‑то деле они тогда находились под землей и вылепливались и взращивались в ее недрах – как сами они, так и их оружие и различное изготовляемое для них снаряжение.
e
Когда же они были совсем закончены, земля, будучи их матерью, произвела их на свет[1433]
. Поэтому они должны и поныне заботиться о стране, в которой живут, как о матери и кормилице, и защищать ее, если кто на нее нападет, а к другим гражданам относиться как к братьям, также порожденным землей[1434]
.
415
– Недаром ты так долго стеснялся изложить этот вымысел.
– Вполне естественно. Однако выслушай и остальную часть сказания. Хотя все члены государства братья (так скажем мы им, продолжая этот миф), но бог, вылепивший вас, в тех из вас, кто способен править, примешал при рождении золота, и поэтому они наиболее ценны, в помощников их – серебра, железа же и меди – в земледельцев и разных ремесленников.
b
Вы все родственны, по большей частью рождаете себе подобных, хотя все же бывает, что от золота родится серебряное потомство, а от серебра – золотое; то же и в остальных случаях. От правителей бог требует прежде всего и преимущественно, чтобы именно здесь они оказались доблестными стражами и ничто так усиленно не оберегали, как свое потомство, наблюдая, что за примесь имеется в душе их детей, и, если ребенок родится с примесью меди или железа, они никоим образом не должны иметь к нему жалости, но поступать так, как того заслуживают его природные задатки,
c
то есть включать его в число ремесленников или земледельцев; если же родится кто‑нибудь с примесью золота или серебра, это надо ценить и с почетом переводить его в стражи или в помощники. Ведь есть предсказание, что государство разрушится, когда его будет охранять железный страж или медный[1435]
; но как заставить поверить этому мифу – есть ли у тебя для этого какое‑нибудь средство?
d
– Никакого, чтобы поверили сами [первые] стражи, но можно это внушить их сыновьям и позднейшим потомкам.
– Однако уже и это способствовало бы тому, чтобы граждане с большей заботой относились и к государству, и друг к другу: я примерно так понимаю твои слова. Успех здесь зависит от того, насколько распространится такая молва; мы же, снабдив этих наших земнородных людей оружием, двинемся с ними вперед под руководством правителей. Придя на место, пусть они осмотрятся, где им всего лучше раскинуть в городе лагерь,
e
чтобы удобнее было держать жителей в повиновении в случае, если кто не пожелает подчиняться законам, и отражать внешних врагов, если неприятель нападет, как волк на стадо. Раскинув лагерь и совершив надлежащие жертвоприношения, пусть они займутся устройством жилья. Не так ли?
– Да, так.
– Жилье, не правда ли, должно быть таким, чтобы могло укрывать их и зимой, и летом?
– Как же иначе? Ведь ты, мне кажется, говоришь о домах.
– Да, но о домах для воинов, а не для дельцов.
416
– А в чем же, по‑твоему, здесь разница?
– Попытаюсь тебе объяснить. Самое ужасное и безобразное – это если пастухи так растят собак для охраны стада, что те от непослушания ли, с голоду или по дурной привычке причиняют овцам зло и похожи не на собак, а на волков.
– Это ужасно, конечно.
b
– Надо всячески остерегаться, чтобы помощники [правителей], раз уже они превосходят граждан, не делали бы у нас по отношению к ним ничего подобного, но оставались бы их доброжелательными союзниками и не уподоблялись свирепым владыкам.
– Да, этого надо остерегаться.
– Величайшая осторожность была бы обеспечена, если бы они были действительно хорошо воспитаны.
– Но ведь это так и есть, – заметил Главкон. Тут я сказал:
c
– На этом не стоит настаивать, дорогой мой Главкон. Лучше будем утверждать то, о чем мы недавно говорили: они должны получить правильное воспитание, каково бы оно ни было, раз им предстоит соблюдать самое главное – с кротостью относиться и друг к другу, и к охраняемым ими гражданам.
– Это мы правильно говорили. Быт стражей
– В дополнение к их воспитанию, скажет всякий здравомыслящий человек, надо устроить их жилища и прочее их имущество так, чтобы это не мешало им быть наилучшими стражами и не заставляло бы их причинять зло остальным гражданам.
d
– Да, здравомыслящий человек скажет именно так.
– Смотри же, – продолжал я, – если им предстоит быть такими, не следует ли устроить их жизнь и жилища примерно вот каким образом: прежде всего никто не должен обладать никакой частной собственностью, если в том нет крайней необходимости. Затем ни у кого не должно быть такого жилища или кладовой, куда не имел бы доступа всякий желающий. Припасы, необходимые для рассудительных и мужественных знатоков военного дела, они должны получать от остальных граждан в уплату за то, что их охраняют.
e
Количества припасов должно хватать стражам на год, но без излишка. Столуясь все вместе, как во время военных походов, они и жить будут сообща[1436]
. А насчет золота и серебра надо сказать им, что божественное золото – то, что от богов – они всегда имеют в своей душе, так что ничуть не нуждаются в золоте человеческом, да и нечестиво было бы, обладая уем золотом, осквернять его примесью золота смертного: у них оно должно быть чистым, не то, что ходячая монета, которую часто нечестиво подделывают.
417
Им одним не дозволено в нашем государстве пользоваться золотом и серебром, даже прикасаться к ним, быть с ними под одной крышей, украшаться ими или пить из золотых и серебряных сосудов[1437]
. Только так могли бы стражи остаться невредимыми и сохранить государство. А чуть только заведется у них собственная земля, дома, деньги, как сейчас же из стражей станут они хозяевами и земледельцами; из союзников остальных граждан сделаются враждебными им владыками;
b
ненавидя сами и вызывая к себе ненависть, питая злые умыслы и их опасаясь, будут они все время жить в большем страхе перед внутренними врагами, чем перед внешними, а в таком случае и сами они, и все государство устремится к своей скорейшей гибели.
Вот по этим причинам, как я сказал, и надо именно гак устроить жилища стражей и все прочее и возвести это в закон. Или ты не согласен?
– Согласен, – отвечал Главкон.
Перевод А. Н. Егунова.
В кн.: Платон. Соб. соч. в 3‑х тт. Т.3 (1). М., 1971
КHИГА IV
419
Тут вмешался Адимант:
– Как же тебе защититься, Сократ, – сказал он, – если станут утверждать, что не слишком‑то счастливыми делаешь ты этих людей, и притом они сами будут в этом виноваты: ведь, говоря по правде, государство в их руках, но они не воспользуются ничем из предоставляемых государством благ, между тем как другие приобретут себе пахотные поля, выстроят большие, прекрасные дома, обставят их подобающим образом, будут совершать богам свои особые жертвоприношения, гостеприимно встречать чужеземцев, владеть тем, о чем ты только что говорил, – золотом и серебром и вообще всем, что считается нужным для счастливой жизни. Видимо, твои стражи обосновались в государстве, можно сказать, попросту как наемные вспомогательные отряды, исключительно для сторожевой службы.
420
– Да, – сказал я, – и вдобавок в отличие от остальных они служат только за продовольствие, не получая сверх него никакого вознаграждения, так что им невозможно ни выезжать в чужие земли по собственному желанию, ни подносить подарки гетерам, ни производить иные траты по своему усмотрению, какие бывают у тех, кто слывет счастливым. Все это и еще многое другое в том же роде ты упустил, выдвигая против меня твое обвинение.
– Ну, так включим все это в обвинение, – сказал Адимант.
– Значит, ты спрашиваешь, как мы построим свою защиту?
– Да, я спрашиваю об этом. Модель идеального государства (утопия)
b
– Я думаю, мы найдем, что сказать, если двинемся по тому же пути. Мы скажем, что нет ничего удивительного, если наши стражи именно таким образом будут наиболее счастливы; а впрочем, мы основываем это государство, вовсе не имея в виду сделать как‑то особенно счастливым один из слоев его населения, но, наоборот, хотим сделать таким все государство в целом. Ведь именно в таком государстве мы рассчитывали найти справедливость, а несправедливость, наоборот, в наихудшем государственном строе и на основании этих наблюдений решить вопрос, так долго нас занимающий.
c
Сейчас мы лепим в нашем воображении государство, как мы полагаем, счастливое, но не в отдельно взятой его части, не так, чтобы лишь кое‑кто в нем был счастлив, но так, чтобы оно было счастливо все в целом; а вслед за тем мы рассмотрим государство, ему противоположное. Это вроде того как если бы мы писали картину, а кто‑нибудь подошел и стал порицать нас за то, что для передачи самых красивых частей живого существа мы не пользуемся самыми красивыми красками: например, если глаза, хотя это самое красивое, были бы нарисованы не пурпуром, а черным цветом.
d
Пожалуй, было бы уместно, защищаясь от таких упреков, сказать: «Чудак, не думай, будто мы должны рисовать глаза до того красивыми, что они и на глаза‑то вовсе не будут похожи; то же самое относится и к другим частям тела, – ты смотри, выходит ли у нас красивым все в целом, когда мы каждую часть передаем подобающим образом»[1438]
.
Вот и сейчас – не заставляй нас соединять с должностью стражей такое счастье, что оно сделает их кем угодно, только не стражами. Мы сумели бы и земледельцев нарядить в пышные одежды, облечь в золото и предоставить им лишь для собственного удовольствия возделывать землю,
e
а гончары пускай с удобством разлягутся у очага, пьют себе вволю и пируют, пододвинув поближе гончарный круг и занимаясь своим ремеслом лишь столько, сколько им захочется. И всех остальных мы подобным же образом можем сделать счастливыми, чтобы так процветало все государство.
Нет, не уговаривай нас, ведь если мы тебя послушаем, то и земледелец не будет земледельцем, и гончар – гончаром, и вообще никто из людей, составляющих государство, не сохранит своего лица. Впрочем, в иных случаях это еще не так важно.
421
Ведь если сапожники станут негодными, испорченными и будут выдавать себя не за то, что они есть на самом деле, в этом государству еще нет беды. Но если люди, стоящие на страже законов и государства, таковы не по существу, а только такими кажутся, ты увидишь, что они разрушат до основания все государство, и только у них одних будет случай хорошо устроиться и процветать.
b
Если мы сделаем стражей подлинными стражами, они никоим образом не станут причинять зла государству. А кто толкует о каких‑то земледельцах, словно они не члены государства, а праздные и благополучные участники всенародного пиршества, тот, вероятно, имеет в виду не государство, а что‑то иное. Нужно решить, ставим ли мы стражей, имея в виду наивысшее благополучие их самих, или же нам надо заботиться о государстве в целом и его процветании.
c
Стражей и их помощников надо заставить способствовать этому и надо внушить им, чтобы они стали отличными мастерами своего дела, да и всем остальным тоже. Таким образом, при росте и благоустройстве нашего государства надо предоставить всем сословиям возможность иметь свою долю в общем процветании, соответственно их природным данным.
– По‑моему, ты хорошо говоришь.
– Но покажется ли тебе правильно сказанным то, что очень с этим сходно?
– А что именно?
d
– Посмотри, не это ли портит всех остальных мастеров, так что они становятся плохими…
– Что ты имеешь в виду?
– Богатство и бедность.
– Как это?
– А вот как: разбогатевший горшечник захочет ли, по‑твоему, совершенствоваться в своем ремесле?
– Нисколько.
– Скорее он будет становиться все более ленивым и небрежным?
– И даже очень.
– Значит, он станет худшим горшечником?
– И это, конечно, так.
e
– А если но бедности он не может завести себе инструмента или чего‑нибудь другого, нужного для его ремесла, то его изделия будут хуже и он хуже обучит этому делу своих сыновей и других учеников.
– Да, не иначе.
– Значит, и от того, и от другого – и от бедности, и от богатства – хуже становятся как изделия, так и сами мастера.
– Это очевидно. Устранение богатства и бедности в идеальном государстве
– Так, по‑видимому, мы нашли для наших стражей еще что‑то такое, че го надо всячески остерегаться, – как бы оно не проникло в государство незаметным для стражей образом.
422
– Что же это такое?
– Богатство и бедность. Одно ведет к роскоши, лени, новшествам, другая кроме новшеств – к низостям и злодеяниям.
– Конечно. Однако, Сократ, взвесь и это: как наше государство будет в силах воевать, если оно не располагает денежными средствами, в особенности если оно будет вынуждено вести войну с большим и богатым государством?
– Ясно, что воевать с одним таким государством ому было бы трудновато, а с двумя – легко.
b
– Как это?
– Да прежде всего потому, что, раз уж на то пошло, разве не с богатыми людьми будут сражаться наши знатоки военного дела?
– Конечно, с богатыми.
– Так что же, Адимант? Разве тебе не кажется, что одному кулачному бойцу, превосходно подготовленному, будет легко биться с двумя не обученными этому делу, богатыми и тучными людьми?
– Но пожалуй, не с обоими зараз.
c
– Нет, именно так: от него зависело бы отбежать, затем, обернувшись, ударить первого, кто к нему с приблизится. А если он почаще повторит этот прием, да еще на солнце, в удушливый зной? Разве такой боец не одолеет и большее число подобных противников?
– Спору нет, удивляться этому не приходится.
– Но разве ты не считаешь, что у богатых людей больше умения и опытности скорее уж в кулачном бою, чем в военном деле?
– Считаю.
– Значит, наши знатоки военного дела, естественно, способны сражаться с двойным и даже тройным числом противников.
d
– Уступаю тебе: по‑моему, ты говоришь правильно.
– Далее. Если они пошлют посольство в другое государство и скажут правду, то есть: «Мы вовсе не пользуемся ни золотом, ни серебром – нам это не дозволено, но ведь вам‑то можно: значит, если вы будете вести войну в союзе с нами, вам обеспечена наша доля добычи», – думаешь ли ты, что в ответ кто‑нибудь предпочтет выступить против крепких, поджарых собак, а не скорее вместе с ними – против тучных ц мягкотелых овец?
e
– Думаю, что не предпочтет. Ну а если и богатства остальных государств сосредоточатся в одном из них, смотри, не будет ли это опасно для государства, не имеющего богатства?
– Счастлив ты, если считаешь, что заслуживает названия государства какое‑нибудь иное, кроме того, которое основываем мы.;
– Но почему же?
– У всех остальных название должно быть длиннее, потому что каждое из них представляет собою множество государств, а вовсе не «город», как выражаются игроки[1439]
.
423
Как бы там ни было, в них заключены два враждебных между собой государства: одно – бедняков, другое – богачей; и в каждом из них опять‑таки множество государств, так что ты промахнешься, подходя к ним как к чему‑то единому. Если же ты подойдешь к ним как к многим и передашь денежные средства и власть одних граждан другим или самих их переведешь из одной группы в другую, ты всегда приобретешь себе союзников, а противников у тебя будет немного. И пока государство управляется разумно, как недавно и было нами постановлено, его мощь будет чрезвычайно велика;
b
я говорю не о показной, а о подлинной мощи, если даже государство защищает всего лишь тысяча воинов. Ни среди эллинов, ни среди варваров нелегко найти хотя бы одно государство, великое в этом смысле, между тем как мнимо великих множество и они во много раз больше нашего государства. Или ты считаешь иначе?
– Нет, клянусь Зевсом. Размер идеального государства
– Стало быть, как раз это и служило бы нашим правителям пределом для необходимой величины устраиваемого ими государства; и соответственно его размерам они и определят ему количество земли, не посягая на большее.
– О каком пределе ты говоришь?
– По‑моему, вот о каком: государство можно увеличивать лишь до тех пор, пока оно не перестает быть единым, но не более этого.
c
– Прекрасно.
– Стало быть, мы дадим нашим стражам еще и такое задание: всячески следить за тем, чтобы наше государство было не слишком малым, но и не мнимо большим – оно должно быть достаточным и единым.
– Легкую же мы им задали задачу!
– А еще легче будет им то, о чем мы уже упоминали, говоря, что потомство стражей, если оно неудачно уродилось, надо переводить в другие сословия, а значительных людей остальных сословий – в число стражей.
d
Этим мы хотели показать, что и каждого из остальных граждан надо ставить на то одно ' дело, н которому у него есть способности, чтобы, занимаясь лишь тем делом, которое ему присуще, каждый представлял бы собою единство, а не множество: так и все государство в целом станет единым, а не множественным.
– Эта задача проще той.
– Кто‑нибудь, возможно, найдет, дорогой мой Адимант, что все наши требования слишком многочисленны и высоки для стражей.
e
Между тем всё это пустяки, если они будут стоять, как говорится, на страже одного лишь великого дела, или, скорее, не великого, а достаточного.
– А что это за дело? Роль правильного воспитания, обучения и законов в идеальном государстве
– Обучение и воспитание. Если путем хорошего обучения стражи станут умеренными людьми, они и сами без труда разберутся в этом, а так же и во всем том, что мы сейчас опускаем, например:
424
подыскание себе жены и брак, а также деторождение. Ведь все это надо согласовать с пословицей: «У друзей все общее»[1440]
.
– Это было бы вполне правильно.
– Да и в самом деле, стоит только дать первый толчок государственному устройству, и оно двинется вперед само, набирая силы, словно колесо. Ведь правильное воспитание и обучение пробуждают в человеке хорошие природные задатки, а у кого они уже были, благодаря такому воспитанию они становятся еще лучше – и вообще, и в смысле передачи их своему потомству, что наблюдается у всех живых существ.
b
– Это естественно.
– Короче, тем, кто блюдет государство, надо прилагать все усилия к тому, чтобы от них не укрылась его порча, и прежде всего им надо оберегать государство от нарушающих порядок новшеств в области гимнастического и мусического искусств. Когда ссылаются на то, что песнопение люди особенно ценят
Самое новое, то, что певцы недавно сложили[1441]
,
надо в особенности опасаться, что могут подумать, будто поэт говорит не о новом содержании песен, а о новом стиле напева, и именно вот это одобрить. Между тем такие вещи не следует одобрять и нельзя таким образом понимать этот стих.
c
Надо остерегаться вводить новый вид мусического искусства – здесь рискуют всем: ведь нигде не бывает перемены приемов мусического искусства без изменений в самых важных государственных установлениях – так утверждает Дамон, и я ему верю.
– И меня присоедини к числу тех, кто ему верит, – сказал Адимант.
d
– Видно, именно где‑то здесь надо будет нашим стражам установить свой сторожевой пост – в области мусического искусства.
– Действительно, сюда легко и незаметно вкрадывается нарушение законов.
– Да, под прикрытием безвредной забавы.
– На самом же деле нарушение законов причиняет именно тот вред, что, мало‑помалу внедряясь, потихоньку проникает в нравы и навыки, а оттуда, уже в более крупных размерах,
e
распространяется на деловые взаимоотношения граждан и посягает даже на сами законы и государственное устройство, притом заметь себе, Сократ, с величайшей распущенностью, в конце концов переворачивая всё вверх дном как в частной, так и в общественной жизни.
– Допускаю, что дело обстоит именно так.
– По‑моему, да.
– Следовательно, как мы и говорили вначале, даже игры наших детей должны как можно больше соответствовать законам, потому что, если они становятся беспорядочными и дети не соблюдают правил, невозможно вырастить из них серьезных законопослушных граждан.
425
– Разумеется.
– Если же дети с самого начала будут играть как следует, то благодаря мусическому искусству они привыкнут к законности, и в полную противоположность другим детям эти навыки будут, постоянно возрастая, сказываться во всем, даже в исправлении государственного строя, если что в нем было не так[1442]
.
– Это верно.
– И во всем, что считается мелочами, они найдут нормы поведения; между тем это умение совершенно утрачено теми, о ком мы упоминали сначала.
– Какие же это нормы?
b
– Следующие: младшим полагается молчать при старших, уступать им место, вставать в их присутствии, почитать родителей[1443]
; затем идет все, что касается наружности: стрижка, одежда, обувь и так далее. Или ты не согласен?
– Согласен.
– Но я думаю, было бы ни к чему определять все это законом: это нигде не принято, да такие постановления все равно не удержатся, будь они даже изложены письменно.
– Почему?
c
– В каком направлении кто был воспитан, Адимант, таким и станет, пожалуй, весь его будущий путь. Или, по‑твоему, подобное не вызывается обычно подобным?
– Как же иначе?
– И я думаю, мы сказали бы, что от воспитания в конце концов зависит вполне определенный и выраженный результат: либо благо, либо его противоположность.
– Конечно.
– По этой причине я лично и не пытался бы пока что предписывать законы в этой области.
– Естественно.
d
– Но скажи, ради богов, отважимся ли мы устанавливать какие‑либо законы, касающиеся рынка, то есть насчет тех сделок, которые там заключаются, а если угодно, то и насчет отношений между ремесленниками, перебранок, драк, предъявления исков, назначения судей? А тут еще понадобится взыскивать и определять налоги то на рынке, то в гавани – словом, вообще касаться рыночных, городских, портовых и тому подобных дел.
e
– Не стоит нам давать предписания тем, кто получил безупречное воспитание: в большинстве случаев они сами без труда поймут, какие здесь требуются законы.
– Да, мой друг, это так, если бог им даст сохранить в целости те законы, которые мы разбирали раньше.
– А если нет, вся их жизнь пройдет в том, что они вечно будут устанавливать множество разных законов и вносить в них поправки в расчете, что таким образом достигнут совершенства.
– По твоим словам, их жизнь будет вроде как у тех больных, которые из‑за распущенности не желают бросить свой дурной образ жизни.
426
– Вот именно.
– Забавное же у них будет времяпрепровождение: лечась, они добиваются только того, что делают свои недуги разнообразнее и сильнее, но все время надеются выздороветь, когда кто присоветует им новое лекарство.
– Действительно, состояние подобных больных именно такое.
– Далее. Разве не забавно у них еще вот что: своим злейшим врагом считают они того, кто говорит им правду, а именно, что, пока они не перестанут пьянствовать, наедаться, предаваться любовным утехам и праздности, им нисколько не помогут ни лекарства, ни прижигания, ни разрезы, а также заговоры, амулеты и тому подобное.
b
– Но это не слишком забавно: что уж забавного в том, когда верные указания вызывают гнев?
– Ты, как видно, не склонен воздавать хвалу таким людям.
– Нет, клянусь Зевсом.
– Следовательно, ты не воздашь хвалы и государству, которое все целиком, как мы недавно говорили, занимается чем‑то подобным. Или тебе не кажется, что то же самое происходит в плохо управляемых государствах, где гражданам запрещается изменять государственное устройство в целом и такие попытки караются смертной казнью?
c
А кто старается быть приятным и угождает гражданам, находящимся под таким управлением, лебезит перед ними, предупреждает их желания и горазд их исполнять, тот, выходит, будет хорошим человеком, мудрым в важнейших делах, и граждане будут оказывать ему почести.
– По‑моему, такое государство поступает подобно больным, [о которых ты говорил], а этого я никак не могу одобрить.
d
– И тебя не восхищает смелость и ловкость тех, то с полной готовностью усердно служит таким государствам?
– Восхищает, но я делаю исключение для тех, кто обманывается на счет таких государств и воображает себя подлинным государственным деятелем, оттого что ею восхваляет толпа.
– Как ты говоришь? Ты не согласен с ними? Или, по‑твоему, когда человек не умеет измерять, а множество других людей, тоже не умеющих этого делать, уверяют его, что он ростом в четыре локтя, он все же в состоянии не думать, что он таков?
e
– Это невозможно.
– Так не сердись на них. И верно, такие законодатели всего забавнее: они, как мы только что говорили, все время вносят поправки в свои законы, думая положить предел злоупотреблениям в делах, но, как я сейчас заметил, не отдают себе отчета, что на самом‑то деле уподобляются людям, рассекающим гидру[1444]
.
– Это верно, ничего другого они и не делают.
427
– Так вот, я считал бы, что в государстве, плохо ли, хорошо ли устроенном, подлинному законодателю нечего хлопотать о таком виде законов, потому что в первом случае они бесполезны и совершенно ни к чему, а во втором кое‑что из них установит всякий, кто бы он ни был, в остальном же они сами собой, вытекают из уже ранее имевшихся навыков.
b
– Что же еще, – спросил Адимант, – остается у нас по части законодательства?
Тогда я сказал:
– У нас‑то ничего, а вот у Аполлона, что в Дельфах, – величайшие, прекраснейшие и первейшие законоположения[1445]
.
– Какие же это?
– О постройке святилищ, жертвоприношениях и всем прочем, что касается почитания богов, гениев и героев; также и о погребениях мертвых, и о том, что надо выполнять, чтобы милостиво расположить к себе тех, кто находится там, в Аиде.
c
Подобные вещи самим нам неизвестны, но, основывая государство, мы и другому никому не поверим, если у нас есть ум, и не прибегнем ни к какому иному наставнику, кроме отечественного[1446]
: ведь в подобных вещах именно этот бог – отечественный наставник всех людей; он наставляет, восседая в самом средоточии Земли, там, где находится ее пуп[1447]
.
– Прекрасно сказано! Так и поступим.
d
– Далее, сын Аристона, допустим, что государство у тебя уже основано. После этого, взяв какой‑нибудь достаточно яркий светильник, посмотри сам – да пригласи и своего брата, а также Полемарха и всех остальных, – не удастся ли нам разглядеть, где там
кроется справедливость, а где несправедливость, в чем между ними различие и которой из них надо обладать человеку, чтобы быть счастливым, все равно, утаится ли он от всех богов и людей или нет.
e
– Вздор, – сказал Главкон, – ты ведь сам обещал произвести такое исследование, считая, что с твоей стороны было бы неблагочестиво не прийти на помощь справедливости по мере твоих сил, любым способом.
– Ты верно напомнил, – сказал я, – так и надо поступить, но и вы должны мне помочь.
– Пожалуйста, мы готовы.
– Я надеюсь найти ответ вот как: думаю, что это государство, раз оно правильно устроено, будет у нас вполне совершенным.
– Непременно. Четыре добродетели идеального государства
– Ясно, что оно мудро, мужествен но, рассудительно и справедливо[1448]
.
– Ясно.
428
– Значит, при наличии того, что мы в нем обнаружим, ненайденным будет лишь то, что останется?
– Что ты имеешь в виду?
– Это так же, как бывает относительно любых четырех вещей, если мы разыскиваем среди них какую‑нибудь одну: достаточно либо заранее знать, что она такое, либо же знать предварительно остальные три вещи; тем самым мы найдем ту, которую ищем, – ведь ясно, что она не что иное, как остаток.
– Ты правильно говоришь.
– Значит, и в нашем вопросе надо тоже так вести поиски, раз наше государство отличается четырьмя свойствами.
– Очевидно.
b
– И прежде всего, по‑моему, вполне очевидна его мудрость, хотя дело с ней представляется несколько странным.
– Почему?
– То. государство, которое мы разбирали, кажется мне действительно мудрым – ведь в нем осуществляются здравые решения, не так ли?
– Да.
– Между тем эти‑то здравые решения и суть ка
кое‑то знание; невежество здесь не поможет, надо уметь хорошо рассуждать.
– Очевидно.
c
– А в государстве можно встретить много разнообразных знаний.
– Конечно.
– Так неужели же благодаря знанию плотничьего искусства государство следует назвать мудрым и принимающим здравые решения?
– Вовсе не из‑за этого, иначе его следовало бы назвать плотницким.
– Значит, хотя государству и желательно, чтобы деревянные изделия были как можно лучше, однако не за умелое их изготовление можно назвать государство мудрым.
– Конечно, нет.
– Что же? За медные и другие такие же изделия?
– Все это тут ни при чем.
– И не за выращивание плодов земли, иначе государство можно было бы назвать земледельческим.
– Мне кажется так.
d
– Что же? Есть ли в только что основанном нами д государстве у кого‑либо из граждан какое‑нибудь такое знание, что с его помощью можно решать не мелкие, а общегосударственные вопросы, наилучшим образом руководя внутренними и внешними отношениями?
– Да, есть.
– Какое же и у кого?
– Это искусство быть всегда на страже: им обладают те правители, которых мы недавно назвали совершенными стражами.
– Раз есть такое знание, то что ты скажешь о нашем государстве?
– В нем осуществляются здравые решения, и оно отличается подлинной мудростью.
e
– А как ты считаешь, кого больше в нашем государстве – кузнецов или этих подлинных стражей?
– Кузнецов гораздо больше.
– Да и сравнительно со всеми остальными, у кого ость какое‑нибудь знание и кто по нему так и прозывается, стражей будет всего меньше.
– Да, намного меньше.
– Значит, государство, основанное согласно природе, всецело было бы мудрым благодаря совсем небольшой части населения, которая стоит во главе и управляет, и ее знанию.
429
И по‑видимому, от природы в очень малом числе встречаются люди, подходящие, чтобы обладать этим знанием, которое одно лишь из всех остальных видов знания заслуживает имя мудрости.
– Ты совершенно прав.
– Вот мы и нашли, уж и не знаю каким это образом, одно из четырех свойств нашего государства – и как таковое, и место его в государстве.
– Мне по крайней мере кажется, что мы его достаточно разъяснили.
– Что же касается мужества – каково оно само и где ему место в государстве (отчего и называют государство мужественным) – это не так уж трудно заметить.
– А именно?
b
– Называя государство робким или мужественным, кто же обратит внимание на что‑нибудь иное, кроме той части его граждан, которые воюют и сражаются за него?
– Ни один человек не станет смотреть ни на что иное.
– Ведь, думается мне, по остальным его гражданам, будь они трусливы или мужественны, нельзя заключать, что государство такое, а не иное.
– Нельзя.
– Мужественным государство бывает лишь благодаря какой‑то одной своей части – благодаря тому, что в этой своей части оно обладает силой, постоянно
c
сохраняющей то мнение об опасностях – а именно, что они заключаются в том‑то и том‑то, – которое внушил ей законодатель путем воспитания. Разве не это называешь ты мужеством?
– Я не совсем понял, о чем ты говоришь. Повтори, пожалуйста.
– Мужество я считаю некой сохранностью.
– Какой такой сохранностью?
– Той, что сохраняет определенное мнение об опасности, – что она такое и какова она. Образуется это мнение под воспитывающим воздействием закона.
d
Я сказал, что оно сохраняется, то есть человек сохраняет его н в страданиях, и в удовольствиях, и в страстях, и во время страха и никогда от него не отказывается. А с чем это схоже, я мог бы, если ты хочешь, объяснить тебе с помощью уподобления.
– Конечно, хочу.
– Как ты знаешь, красильщики, желая окрасить шерсть в пурпурный цвет, сперва выбирают из большого числа оттенков шерсти одну только белую краску, затем старательно, разными приемами подготавливают ее к тому, чтобы она получше приняла пурпурный цвет, и наконец красят.
e
Выкрашенная таким образом шерсть уже не линяет, и стирка, будь то со щелочью или без, не влияет на цвет. В противном случае, ты сам знаешь, что бывает, если красят – все равно, в этот ли цвет или в другой – без предварительной подготовки.
– Знаю, как непрочна тогда окраска и как смешно она выглядит.
– Так вот учти, что нечто подобное делаем и мы по мере сил, когда выбираем воинов и воспитываем их при помощи мусического искусства и гимнастики.
430
Мы не преследуем ничего другого, кроме того, чтобы они по возможности лучше и убежденнее восприняли законы – словно окраску: их мнение об опасностях и обо всем остальном станет прочным благодаря их природным задаткам и полученному ими соответствующему воспитанию, и эту окраску нельзя будет смыть, никакими сильными щелочами – ни удовольствием,
b
которое действует сильнее халестрииского поташа[1449]
и золы, ни скорбью, ни страхом, ни страстью, вообще ничем из подобных едких средств. Вот подобного рода силу и постоянное сохранение правильного и законного мнения о том, что опасно, а что нет, я называю и считаю мужеством, если ты не возражаешь.
– Я нисколько не возражаю, потому что, мне кажется, то мнение об этом предмете, которое, хотя оно н правильно, возникло помимо воспитания, как это замечается у животных и у рабов, ты не считаешь законным и называешь как‑то иначе, только не мужеством.
c
– Сущая правда.
– Стало быть, я согласен с твоим пониманием мужества.
– Для верного понимания согласись еще и с тем, что здесь говорится о мужестве как о гражданском свойстве. Как‑нибудь в другой раз мы, если хочешь, разберем все это получше, ведь сейчас наши поиски касаются не мужества, а справедливости. О мужестве, по‑моему, пока что достаточно.
– Прекрасно, – сказал Главкон.
– Остается рассмотреть еще два свойства нашего государства: рассудительность и то, ради чего и предпринято все наше исследование, – справедливость.
d
– Да, конечно.
– Как бы это нам раньше найти, что такое справедливость, и уж больше не возиться с рассудительностью.
– Я лично не знаю, но мне не хотелось бы выяснять, что такое справедливость, прежде чем мы рассмотрим рассудительность. Если хочешь сделать мне приятное, рассмотри сперва ее.
e
– Я‑то хочу и даже должен, если не ошибаюсь.
– Так приступай.
– Да, обязательно. Рассудительность, с нашей точки зрения, более, чем те, предшествовавшие, свойства, походит на некое созвучие и гармонию.
– Как это?
– Нечто вроде порядка[1450]
– вот что такое рассудительность; это власть над определенными удовольствиями и вожделениями – так ведь утверждают, приводя выражение «преодолеть самого себя», уж не знаю каким это образом. И про многое другое в этом же роде говорят, что это – следы рассудительности. Не
так ли?
– Именно так.
431
– Разве это не смешно: «преодолеть самого себя»? Выходит, что человек преодолевает того, кто совершенно очевидно сам себе уступает, так что тот, кто уступает, и будет тем, кто преодолевает: ведь при всем этом речь идет об одном и том же человеке.
– Конечно.
– Но мне кажется, этим выражением желают сказать, что в самом человеке, в его душе есть некая лунная часть и некая худшая, и, когда то, что по своей природе лучше, обуздывает худшее, тогда говорят, что оно «преодолевает самое себя»: значит, это похвала;
b
когда же из‑за дурного воспитания или общества верх берет худшее (ведь его такая уйма, а лучшего гораздо меньше), тогда, в порицание и с упреком, называют это «уступкой самому себе», а человека, испытывающего такое состояние, – невоздержным.
– Обычно так и говорят.
– Посмотри теперь на наше новое государство и ты найдешь в нем одно из этих двух состояний: ты скажешь, что такое государство справедливо можно объявить преодолевшим самого себя, поскольку нужно называть рассудительным и преодолевшим самого себя все то, в чем лучшее правит худшим.
– Я смотрю и вижу, что ты прав.
c
– Множество самых разнообразных вожделений, удовольствий и страданий легче всего наблюдать у женщин и у домашней челяди, а среди тех, кого называют свободными людьми, – у ничтожных представителей большинства.
– Конечно.
– А простые, умеренные [переживания], продуманно направленные с помощью разума и правильного мнения, ты встретишь у очень немногих, лучших по природе и по воспитанию.
– Это верно.
d
– Так не замечаешь ли ты этого и в нашем государстве: жалкие вожделения большинства подчиняются там разумным желаниям меньшинства, то есть людей порядочных?
– Да, замечаю.
– Значит, если уж признавать какое‑нибудь государство преодолевшим и удовольствия, и вожделения, и самое себя, так это будет наше государство.
– Совершенно верно.
– А разве нельзя, согласно всему этому, признать его и рассудительным?
– Вполне можно!
e
– И опять‑таки, если уж в каком‑нибудь государстве и у правителей, и у подвластных существует e согласное мнение о том, кому следует править, то оно есть и в нашем государстве. Или ты не согласен?
– Вполне и бесспорно согласен.
– Раз дело обстоит так, то кому из них присуща, скажешь ты, рассудительность – правителям или подвластным?
– Вроде бы тем и другим.
– Ну, вот видишь, мы, значит, верно предсказывали не так давно, что рассудительность подобна некой гармонии[1451]
.
– И что же?
432
– Это не так, как с мужеством или мудростью: те, присутствуя в какой‑либо одной части государства, делают все государство соответственно либо мужественным, либо мудрым; рассудительность же не так проявляется в государстве: она настраивает на свой лад решительно всё целиком; пользуясь всеми своими струнами, она заставляет и те, что слабо натянуты, и те, что сильно, и средние звучать согласно между собою, если угодно, с помощью разума, а то и силой или, наконец, числом и богатством и всем тому подобным, так что мы с полным правом могли бы сказать, что эта вот согласованность и есть рассудительность, иначе говоря, естественное созвучие худшего и лучшего в вопросе о том, чему надлежит править и в государстве, и в каждом отдельном человеке.
b
– Я вполне того же мнения.
– Хорошо. Мы обозрели эти три свойства нашего государства. А оставшийся неразобранным вид, тот, благодаря которому государство становится причастным добродетели, что он собой представляет? Впрочем, ясно, что это – справедливость.
– Ясно.
– Теперь, Главкон, нам нужно, словно охотникам, выстроиться вокруг этой чащи и внимательно следить, чтобы от нас не удрала справедливость, а то она ускользнет,
c
и опять все будет неясно. Ведь она явно прячется где‑то здесь: ты гляди и старайся ее заметить, а если увидишь первым, укажи и мне.
– Если б я только мог! Скорей уж следовать за тобой, рассматривая, что мне укажут, – вот на что я тебе гораздо больше гожусь.
– Так следуй, помолившись вместе со мною.
– Я так и сделаю, а ты веди меня.
– А ведь верно, здесь непроходимая чаща, кругом темно и трудно хоть что‑то разведать. Но все равно – надо идти вперед.
d
– Да, идем!
Вдруг, заприметив что‑то, я воскликнул: «Эй, Главкон, какая радость! Пожалуй, мы напали на ее след, мне кажется, она недалеко от нас убежала!»
– Благие вести! – сказал Главкон.
– Однако и ротозеи же мы!
– Как так?
e
– Милый мой, она чуть ли не с самого начала вертится у нас под ногами, а мы на нее и не смотрим – просто смех! Это вроде того как иной раз ищешь то, что у тебя в руках: вот и мы смотрели не сюда, а куда‑то вдаль, где она будто бы от нас укрылась.
– Как это ты говоришь?
– А вот как: по‑моему, в нашей беседе мы сами себя не поняли, то есть не сообразили, что уже тогда мы каким‑то образом говорили именно о справедливости.
– Слишком длинное предисловие, когда не терпится узнать!
433
– Так слушай и суди сам. Мы еще вначале, когда основывали государство, установили, что делать это надо непременно во имя целого. Так вот это целое и есть справедливость или какая‑то ее разновидность. Мы установили, что каждый отдельный человек должен заниматься чем‑нибудь одним из того, что нужно в государстве, и притом как раз тем, к чему он по своим природным задаткам больше всего способен.
– Да, мы говорили так.
– Но заниматься своим делом и не вмешиваться в чужие – это и есть справедливость, об этом мы слышали от многих других, да и сами часто так говорили.
b
– Да, говорили.
– Так вот, мой друг, заниматься каждому своим делом – это, пожалуй, и будет справедливостью. Знаешь, почему я так заключаю?
– Нет, объясни, пожалуйста.
– По‑моему, кроме тех свойств нашего государства, которые мы рассмотрели, – его рассудительности, мужества ц разумности – в нем остается еще то, что дает возможность присутствия их там и сохранения. И мы утверждали, что остаток, после того как мы нашли эти три свойства, и будет справедливостью.
c
– Непременно.
– Однако если бы требовалось решить, присутствие какого из этих свойств всего более делает наше государство совершенным, это было бы трудной задачей: будет ли это единство мнений у правителей и подвластных, или присутствие у воинов и сохранение ими соответствующего законам мнения о том, что опасно, а что нет, или, наконец, присущая правителям разумность и бдительность?
d
Или же всего более способствует совершенству нашего государства то, что присуще там и ребенку, и женщине, и рабу, и свободному, и ремесленнику, и правителю, и подвластному, а именно: каждый делает свое, не разбрасываясь и не вмешиваясь в посторонние дела?
– Это, конечно, трудно решить.
– Как видно, в вопросе совершенства государства способность каждого гражданина делать свое дело соперничает с мудростью, рассудительностью и мужеством.
– И даже очень.
– Так не полагаешь ли ты, что и справедливость борется с ними за государственное совершенство?
e
– Несомненно.
– Рассмотри еще вот что – не знаю, согласишься ли ты с этим: разве не правителям государства поручишь ты судебные дела?
– Как же иначе?
– А при судебном разбирательстве разве усилия их будут направлены больше на что‑нибудь иное, а не на то, чтобы никто не захватывал чужого и не лишался своего?
– Нет, именно на это.
– Потому что это справедливо?
– Да.
– Значит, и на этом примере можно убедиться, что справедливость состоит в том, чтобы каждый имел свое и исполнял тоже свое.
434
– Да, это так.
– Ну, а согласишься ли ты со мной вот в чем: если плотник попробует выполнять работу сапожника, а сапожник – плотника, поменявшись с ним и инструментом, и званием, или если один и тот же человек попытается выполнять обе работы и мастера поменяются местами, считаешь ли ты, что государство потерпит большой ущерб?
– Не очень большой.
b
– Но право, когда ремесленник или кто‑либо другой, делец по своим природным задаткам, возвысится благодаря своему богатству, многочисленным связям, силе и тому подобному н попытается перейти в сословие воинов, или когда кто‑нибудь из воинов постарается проникнуть в число членов совета или в стражи, будучи этого недостоин, причем и те и другие поменяются и своими орудиями, и своим званием, или когда один и тот же человек попытается все это делать одновременно, тогда, думаю, и ты согласишься, что такая замена и вмешательство не в свое дело – гибель для государства.
– Полнейшая гибель.
c
– Значит, вмешательство этих трех сословий в чужие дела и переход из одного сословия в другое – величайший вред для государства и с полным правом может считаться высшим преступлением.
– Совершенно верно.
– А высшее преступление против своего же государства не назовешь ли ты несправедливостью?
– Конечно.
– Значит, вот это и есть несправедливость. И давай скажем еще раз: в противоположность ей справедливостью будет – и сделает справедливым государство – преданность своему делу у всех сословий – дельцов, помощников и стражей, причем каждое из них будет выполнять то, что ему свойственно.
d
– Дело обстоит, как мне кажется, именно таким образом.
– Пока мы не станем утверждать этого слишком решительно, но если идея эта подойдет и к каждому отдельному человеку и подтвердится, что и там осуществляется справедливость, тогда уж мы согласимся, потому что о чем еще и говорить? Если же нет, тогда нам придется исследовать по‑другому. А теперь давай завершим наше рассмотрение так, как мы намечали:
e
раз мы сперва взялись наблюдать что‑то крупное, в чем осуществляется справедливость, нам уже легче заметить ее в отдельном человеке. Крупным считали мы государство, и его мы устроили как могли лучше, зная наверное, что в совершенном государстве должна быть осуществлена справедливость.
То, что мы там обнаружили, давай перенесем наотдельного человека. Если совпадет – очень хорошо;если же в отдельном человеке обнаружится что‑то иное, мы проверим это, снова обратившись к государству.
435
Возможно, что этим сближением, словно трением двух кусков дерева друг о друга, мы заставим ярко вспыхнуть справедливость, а раз она станет явной, мы прочно утвердим ее в нас самих.
– Ты указываешь верный путь, так и надо поступить.
– Если кто называет одним и тем же большее и меньшее, то неужели они не схожи в том, из‑за чего их так называют? Или они схожи между собой?
– Схожи.
b
– Значит, и справедливый человек нисколько не, будет отличаться от справедливого государства по самой идее своей справедливости, но, напротив, будет с ним схож.
– Да, схож.
– Между тем государство мы признали справедливым, когда имеющиеся в нем три различных по своей природе сословия делают каждое свое дело. А рассудительным, мужественным и мудрым мы признали государство вследствие соответствующего состояния и свойств представителей этих же самых сословий.
– Верно.
c
– Значит, мой друг, мы точно так же будем расценивать и отдельного человека: в его душе имеются те же виды, что и в государстве, н вследствие такого же их состояния будет правильным применить к ним те же обозначения.
– Это совершенно неизбежно.
– Нечего сказать, простой предмет исследования подвернулся нам опять, дорогой мой! Дело идет о душе: имеются ли в ней эти три вида или нет?
– По‑моему, это не так просто; ведь, пожалуй, правильно говорится: «прекрасное – трудно»[1452]
.
d
– По‑видимому. И будь уверен, Главкон, что, по моему мнению, теми приемами, которыми мы пользовались сейчас в своих рассуждениях, нам никогда не охватить этого предмета с достаточной точностью – к нему ведет путь гораздо более долгий и длинный; впрочем, пожалуй, он достоин того, о чем мы говорили и что мы рассматривали ранее.
– Так разве этого не довольно? Для меня сейчас и это было бы хорошо.
– А для меня и более того.
– Так не унывай и приступи к рассмотрению.
e
– Разве нам, – сказал я, – не приходится неизбежно признать, что в каждом из нас присутствуют как раз те же виды нравственных свойств, что и в государстве? Иначе откуда бы им там взяться?[1453]
Было бы смешно думать, что такое свойство, как ярость духа, развилось в некоторых государствах не оттого, что таковы там отдельные лица – носители этой причины: так обстоит дело с обитателями Фракии, Скифии и почти всех северных земель, а любознательностью отли чаются в особенности наши края, корыстолюбие же замечается всего более у финикиян и у египтян[1454]
.
436
– И даже очень.
– И что с этим дело обстоит именно так, узнать нисколько не трудно.
– Да, нисколько.
– Трудно же узнать вот что: вызываются ли наши действия одним и тем же свойством или, поскольку этих свойств три, каждое из них вызывает особое действие? Познаем мы посредством одного из имеющихся в нас свойств, а гнев обусловлен другим, третье же свойство заставляет нас стремиться к удовольствию от еды, деторождения и всего того, что этому родственно. Или когда у нас появляются такие побуждения, в каждом из этих случаев наши действия вызываются всей нашей душой в целом? Вот что трудно определить так, как того заслуживает этот предмет.
b
– По‑моему, тоже.
– Попытаемся следующим образом определить, тождественны ли эти свойства или же между ними есть различие…
– Как же мы станем определять?
– Очевидно, тождественное не стремится одновременно совершать или испытывать то, что противоположно его тождественности и направлено против нее. Поэтому, если мы заметим, что здесь это наблюдается, мы будем знать, что перед нами не одно и то же, а многое.
c
– Пусть так.
– Смотри же, к чему я веду.
– Говори.
– Может ли одно и то же в одном и том же отношении одновременно стоять и двигаться?
– Никоим образом.
– Давай условимся поточнее, чтобы впредь не было недоразумений. Если о том, кто стоит, но двигает руками и головой, скажут, что вот человек и стоит, и вместе с тем движется, мы, я думаю, не согласились бы, что следует так говорить, – тут надо бы скапать, что одно у него неподвижно, а другое движется. Не так ли?
d
– Так.
– Но тот, кто так говорит, привел бы шутливый и еще более остроумный пример: волчок весь целиком стоит и одновременно движется – он вращается, но острие его упирается в одно место. Можно привести и другие примеры предметов, совершающих круговращение, не меняя места. Но мы отбросим все это, потому что в этих случаях предметы пребывают на место и движутся не в одном и том же отношении. Мы сказали бы, что у них имеется прямизна и округлость:
e
в прямом направлении они стоят, ни в какую сторону не отклоняясь, а по кругу они вращаются. Когда же при сохранении периферийного движения прямое направление смещается вправо или влево, вперед или назад, тогда уж никак нельзя говорить, что эти предметы стоят.
– Это верно.
– Следовательно, ни один из приводимых примеров не смутит нас и не переубедит, будто что‑нибудь, оставаясь самим собой, станет вдруг испытывать или совершать нечто противоположное своей тождественности или направленное против нее[1455]
.
437
– Меня‑то в этом не убедят.
– Но все же, чтобы нам не пришлось разбирать всевозможные недоумения подобного рода и длинно доказывать их неправомерность, давай допустим, что все это так, и двинемся дальше, условившись, что если когда‑либо дело обернется иначе, то отпадут и все следствия, выведенные нами из этого положения.
– Да, так надо сделать.
b
– Далее: кивать в знак согласия и отрицательно качать головой; стремиться получить что‑нибудь и отклонять то же самое; привлекать к себе и отталкивать – всё подобное этому разве ты не примешь за противоположные друг другу действия или состояния?
– Конечно, они противоположны.
– И еще дальше: испытывать жажду и голод п д вообще вожделения, а также желать, хотеть – все это разве ты не отнесешь к тем видам, о которых у нас только что была речь?
c
Разве ты не скажешь, например, что душа вожделеющего человека стремится к предмету своего вожделения или что она привлекает к себе то, чем хочет обладать? Или другой пример: не скажешь ли ты, что, поскольку ей хочется получить что‑нибудь, она кивает в знак одобрения сама себе, словно ее об этом спрашивают, и стремится осуществить свое желание?
– Да, я скажу именно так.
– Что же дальше? «Не хотеть», «не желать», «не вожделеть» – разве мы не отнесем все это к тому же [виду], что и «отталкивать», «не принимать душой», то есть ко всему противоположному?
d
– Конечно.
– Раз это так, то не скажем ли мы, что существует некий вид вожделений и самые упорные из них те, что мы называем жаждой и голодом?
– Да, скажем.
– Первое – это, не правда ли, желание пить, а второе – желание есть?
– Да.
– Поскольку первое – это жажда, то возникает ли в душе человека еще и дополнительное желание, кроме нами указанного? Иначе говоря, будет ли это желанием пить непременно горячее или холодное, много или мало – словом, пить какой‑нибудь определенный напиток? Если человеку жарко, не прибавится ли к его жажде желание чего‑нибудь холодного, а если ему холодно, то – горячего?
e
Если налицо большой выбор напитков, жажда принимает различные оттенки: начинают желать многого; если же это просто жажда, то – немногого. Но жажда сама по себе никогда не будет вожделением к чему‑нибудь другому, кроме естественного желания пить, а голод сам по себе – кроме естественного желания есть.
– Таким образом, – сказал он, – каждое вожделение не само по себе направлено лишь на то, что в каждом отдельном случае отвечает его природе. Вожделение же к такому‑то и такому‑то качеству – это нечто привходящее.
438
– Однако как бы кто‑нибудь, воспользовавшись нашей неосмотрительностью, не смутил нас, указав, что никто не желает просто питья, но обязательно пригодного питья, и не просто пищи, но пригодной пищи. Ведь все вожделеют именно хорошего. Раз жажда есть вожделение, она должна быть желанием пригодного питья или чего бы то ни было другого, на что направлено вожделение. Так же и во всем остальном.
– Пожалуй, это было бы дельным возражением.
– Но оно касается лишь тех вещей, которые берутся в соотношении с чем‑нибудь: у них такие‑то качества, потому что такие‑то качества у того, с чем их соотносят, а сами по себе они соотносятся лишь с самими собой.
b
– Я не понял.
– Ты не понял, что большее будет таким потому, что оно больше чего‑нибудь?
– Конечно.
– Не того ли, что меньше?
– Да.
– А то, что много больше, – того, что много меньше. Не так ли?
– Да.
– И некогда бывшее большим – некогда бывшего меньшим? И будущее большим – будущего меньшим?
– Но как же иначе?
c
– И многое будет многим лишь по отношению к малому, двойное – к половинному и так далее; опять‑таки и более тяжелое – по отношению к более легкому, более быстрое – к более медленному, горячее – к холодному и так же все остальное, подобное этому. Или не так?
– Конечно, так.
– А что сказать о наших знаниях? Не то же ли и там? Знание само по себе соотносится с самим изучаемым предметом, знание какого бы предмета мы ни взяли: оно таково потому, что оно относится к такому‑то и такому‑то предмету. Я имею в виду вот что: когда, научились строить дома, это знание выделилось из остальных, поэтому его назвали строительным делом.
d
– Так что же?
– Значит, его так прозвали за то, что ни одно из остальных знаний на него не похоже.
– Да.
– Какие качества имеет предмет знания, таким становится и само знание. То же и со всеми прочими знаниями и искусствами.
– Это так.
– Вот и считай, что я тогда как раз это и хотел сказать, если теперь ты понял, что значит качественное соотношение вещей: сами по себе они соотносятся только с самими собой, взятые же в соотношении с другими вещами, они принимают качества этих вещей. Но я не хочу этим сказать, что они имеют сходство с тем, с чем соотносятся,
e
– например, будто знание здоровья и болезней становится от этого здоровым или болезненным, а знание зла и блага – плохим или хорошим. Знание не становится тем же, что его предмет, оно соотносится со свойствами предмета – в данном случае со свойством здоровья или болезненности – и это свойство его определяет: это и заставляет называть такое знание не просто знанием, но искусством врачевания – по его привходящему свойству.
439
– Я понял, и, по‑моему, дело обстоит именно так.
– Ну, а жажду разве не отнесешь ты к таким вещам, которые в том, что они есть, соотносятся с чем‑то другим? В данном случае – как жажда?
– Да, я взял бы ее в ее отношении к питью.
– То есть к определенному питью относится определенная жажда, сама же по себе она не направлена ни на обильное питье, ни на малое, ни на хорошее, ни на плохое – одним словом, ни на какое качество: жажда сама по себе естественно соотносится только с питьем, как таковым.
– Безусловно. Три начала человеческой души
– Значит, у человека, испытывающего жажду, поскольку он ее испытывает, душа хочет не чего иного, как пить, – к этому она стремится н порывается.
b
– Очевидно.
– И если, несмотря на то что она испытывает жажду, ее все‑таки что‑то удерживает, значит, в ней есть нечто отличное от вожделеющего начала, побуждающего ее, словно зверя, к тому, чтобы пить. Ведь мы утверждаем, что одна и та же вещь не может одновременно совершать противоположное в одной и той же своей части и в одном и том же отношении.
– Конечно, нет.
– Точно так же о том, кто стреляет из лука, было б и, думаю я, неудачно сказано, что его руки тянут лук одновременно к себе и от себя. Надо сказать: «Одна рука тянет к себе, а другая – от себя».
c
– Совершенно верно.
– Можем ли мы сказать, что люди, испытывающие жажду, иной раз все же отказываются пить?
– Даже очень многие и весьма часто.
– Что же можно о них сказать? Что в душе их присутствует нечто побуждающее их пить, но есть и то, что пить запрещает, и оно‑то и берет верх над побуждающим началом?
– По‑моему, так.
d
– И не правда ли, то, что запрещает это делать, появляется – если уж появляется – вследствие способность рассуждать, а то, что ведет к этому и влечет, – вследствие страданий и болезней?
– По‑видимому.
– Мы не без основания признаем двойственными и отличными друг от друга эти начала: одно из них, с помощью которого человек способен рассуждать, мы назовем разумным началом души[1456]
, а второе, из‑за которого человек влюбляется, испытывает голод и жажду и бывает охвачен другими вожделениями, мы назовем началом неразумным и вожделеющим, близким другом всякого рода удовлетворения и наслаждений.
e
– Признать это было бы не только обоснованно, но и естественно.
– Так пусть у нас будут разграничены эти два присущих душе вида. Что же касается ярости духа, отчего мы и бываем гневливы, то составляет ли это третий вид, или вид этот однороден с одним из тех двух?
– Пожалуй, он однороден со вторым, то есть вожделеющим, видом.
– Мне как‑то рассказывали, и я верю этому, что Леонтий, сын Аглайона, возвращаясь из Пирея, по дороге, снаружи под северной стеной, заметил, что там у палача валяются трупы.
440
Ему и посмотреть хотелось, и вместе с тем было противно, и он отворачивался. Но сколько он ни боролся и ни закрывался, вожделение оказалось сильнее – он подбежал к трупам, широко раскрыв глаза и восклицая: «Вот вам, злополучные, насыщайтесь этим прекрасным зрелищем!»[1457]
– Я и сам слышал об этом.
– Однако этот рассказ показывает, что гнев иной раз вступает в борьбу с вожделениями и, значит, бывает от них отличен.
– Ив самом деле.
b
– Да и на многих других примерах мы замечаем, как человек, одолеваемый вожделениями вопреки способности рассуждать, бранит сам себя и гневается на этих поселившихся в нем насильников. Гнев такого человека становится союзником его разуму в этой распре, которая идет словно лишь между двумя сторонами. А чтобы гнев был заодно с желаниями, когда разум налагает запрет, такого случая, думаю я, ты никогда не наблюдал, признайся, ни на самом себе, ни на других.
– Не наблюдал, клянусь Зевсом.
c
– Дальше. Когда человек сознает, что он поступает несправедливо, то, чем он благороднее, тем менее способен негодовать на того, кто, по его мнению, вправе обречь его на голод, стужу и другие подобные муки: это не возбудит в нем гнева – вот о чем я говорю.
– Верно.
– Ну, а когда он считает, что с ним поступают несправедливо, он вскипает, раздражается и становится союзником того, что ему представляется справедливым, и ради этого он готов переносить голод, стужу и все подобные этим муки, лишь бы победить;
d
он не откажется от своих благородных стремлений – либо добиться своего, либо умереть, разве что его смирят доводы собственного рассудка, который отзовет его наподобие того, как пастух отзывает свою собаку.
– Твое сравнение очень удачно. Ведь в нашем государстве мы поручили его защитникам служить, как сторожевым собакам, а правителям – как пастухам,
– Ты прекрасно понял, что я хочу сказать, но обрати внимание еще вот на что…
e
– А именно?
– На то, что о яростном духе у нас сейчас составилось представление, противоположное недавнему. Раньше мы его связывали с вожделеющим началом, а теперь находим, что это вовсе не так, потому что при распре, которая происходит в душе человека, яростное начало поднимает оружие за начало разумное.
– Безусловно.
– Так отличается ли оно от него, или это только некий вид разумного начала, и выходит, что в душе существуют всего два вида [начал]: разумное и вожделеющее?
441
Или как в государстве три рода начал, его составляющих: деловое, защитное, совещательное, так и в душе есть тоже третье начало – яростный дух? По природе своей оно служит защитником разумного начала, если не испорчено дурным воспитанием.
– Непременно должно быть и третье начало.
– Да, если только обнаружится, что оно не совпадает с разумным началом, подобно тому как выяснилось его отличие от начала вожделеющего.
b
– Это нетрудно обнаружить. На примере малых детей можно видеть, что они, чуть родятся, беспрестанно бывают исполнены гнева, между тем многие из них, па мой взгляд, вовсе непричастны способности рассуждать, а большинство становится причастным ей очень поздно.
– Да, клянусь Зевсом, это ты хорошо сказал. Вдобавок и на животных можно наблюдать, что дело обстоит так, как ты говоришь. Кроме того, об этом свидетельствует и стих Гомера, который мы как‑то уже приводили раньше: В грудь он ударил себя и сказал раздраженному сердцу…[1458]
c
Здесь Гомер ясно выразил, как из двух разных [начал] одно укоряет другое, то есть начало, разбирающееся в том, что лучше, а что хуже, порицает начало безрассудно‑яростное.
– Ты очень правильно говоришь.
– Следовательно, хоть и с трудом, но мы это все же преодолели и пришли к неплохому выводу, что в государстве и в душе каждого отдельного человека имеются одни и те же начала, и число их одинаково.
– Да, это так.
– Значит, непременно должно быть и вот что: как и в чем сказалась мудрость государства, так же точно в том же самом она проявляется и у частных лиц.
– Конечно.
d
– И в чем и как проявляет свое мужество частный человек, в том же н точно так же будет мужественным и государство. Оба они одинаково обладают и всем прочим, что имеет отношение к добродетели.
– Да, это необходимо.
– И справедливым – я думаю, Главкон, мы признаем это – отдельный человек бывает таким же образом, каким осуществляется справедливость в государстве.
– Это тоже совершенно необходимо.
– Но ведь мы не забыли, что государство у нас было признано справедливым в том случае, если каждое из трех его сословий выполняет в нем свое дело.
– Мне кажется, не забыли.
e
– Значит, нам надо помнить, что и каждый из нас только тогда может быть справедливым и выполнять свое дело, когда каждое из имеющихся в нас [начал] выполняет свое.
– Это надо твердо помнить.
– Итак, способности рассуждать подобает господствовать, потому что мудрость и попечение обо всей душе в целом – это как раз ее дело, начало же яростное должно ей подчиняться и быть ее союзником.
– Конечно.
442
– И не правда ли, как мы и говорили, сочетание мусического искусства с гимнастическим приведет эти оба начала к созвучию: способность рассуждать оно сделает стремительнее и будет питать ее прекрасными речами и науками, а яростное начало оно несколько ослабит, смягчая его словами и успокаивая гармонией и ритмом.
– Совершенно верно.
– Оба этих начала, воспитанные таким образом, обученные и подлинно понявшие свое назначение, будут управлять началом вожделеющим – а оно составляет большую часть души каждого человека и по своей природе жаждет богатства.
b
За ним надо следить, чтобы оно не умножилось и не усилилось за счет так называемых телесных удовольствий и не перестало бы выполнять свое назначение: иначе оно может попытаться поработить и подчинить себе то, что ему не родственно, и таким образом извратить жизнедеятельность всех начал.
– Безусловно.
– Оба начала превосходно оберегали бы и всю душу в целом, и тело от внешних врагов: одно из них – своими советами, другое – вооруженной защитой; оно будет следовать за господствующим началом и мужественно выполнять его решения.
– Это так.
c
– И мужественным, думаю я, мы назовем каждого отдельного человека именно в той мере, в какой его яростный дух и в горе, и в удовольствиях соблюдает указания рассудка насчет того, что опасно, а что неопасно.
– Это верно.
– А мудрым – в той малой мере, которая в каждом главенствует и дает эти указания, ибо она‑то и обладает знанием того, что пригодно и каждому отдельному началу, и всей совокупности этих трех начал.
– Конечно.
d
– Рассудительным же мы назовем его разве не по содружеству и созвучию этих самых начал, когда и главенствующее начало, и оба ему подчиненных согласны в своем мнении, что разумное начало должно управлять и что нельзя восставать против него?
– Действительно, рассудительность – и государства, и частного лица – не что иное, как это.
– Но и справедливым будет человек, как мы уже часто указывали, именно вследствие этого и как раз таким образом.
– Всенепременно.
– Что же? Не видится ли нам смутно, что справедливость может оказаться чем‑то иным, а не тем, чем мы признали ее в государстве?
– По‑моему, нет.
e
– Если в душе у нас еще есть какое‑то сомнение, мы можем полностью его рассеять, приведя примеры из обыденной жизни.
– Какие же?
– Если бы требовалось нам прийти к соглашению относительно нашего государства и подобного ему по‑, своей природе отдельного человека, подобным же образом воспитанного, вот тебе пример: если такому человеку дать на хранение золото или серебро, можно ли думать, что он их украдет? Кто, по‑твоему, станет считать, что такой человек может это сделать скорее, чем те, кто не таков, как он сам?
443
– Никто.
– Он в стороне от святотатств, краж, предательств, касаются ли они частного обихода – его личных друзей или же общественного – государственной жизни.
– Да, он от этого всего в стороне.
– И он, конечно, не вероломен в клятвах и разного рода соглашениях.
– Конечно.
– Прелюбодеяние, пренебрежение к родителям, непочитание богов – все это скорее подходит кому угодно другому, только не ему.
– Да, любому другому.
b
– А причиной всему этому разве не то, что каждое из имеющихся в нем начал делает свое дело в отношении правления и подчинения?
– Да, причиной это, а не что‑либо другое.
– И ты еще хочешь, чтобы справедливость была чем‑то другим, а не той силой, которая делает такими, а не иными как людей, так и государства?
– Клянусь Зевсом, я этого не хочу.
– Значит, полностью сбылся наш сон – то, о чем мы только догадывались: едва мы принялись за устройство государства, мы тотчас же благодаря некоему богу вступили, как видно, в область начала и образца справедливости.
c
– Несомненно.
– Значит, Главкон, неким отображением справедливости (почему оно и полезно) было наше утверждение, что для того, кто по своим природным задаткам годится в сапожники, будет правильным только сапожничать и не заниматься ничем другим, а кто годится в плотники – пусть плотничает. То же самое и в остальных случаях.
– Очевидно, это так.
– Поистине справедливость была у нас чем‑то и таком роде, но не в смысле внешних человеческих проявлений, а в смысле подлинно внутреннего воздействия на самого себя и на свои способности.
d
Такой человек не позволит ни одному из имеющихся в его душе начал выполнять чужие задачи или досаждать друг другу взаимным вмешательством: он правильно отводит [каждому из этих начал] действительно то, что им свойственно; он владеет собой, приводит себя в порядок и становится сам себе другом; он прилаживает друг к другу три начала своей души, совсем как три основных тона созвучия – высокий, низкий и средний, да и промежуточные тоны, если они там случатся;
e
все это он связует вместе и так из множественности достигает собственного единства, рассудительности и слаженности. Таков он и в своих действиях, касаются ли они приобретения имущества, ухода за своим телом, государственных дел или же частных соглашений. Во всем этом он считает и называет справедливой и прекрасной ту деятельность, которая способствует сохранению указанного состояния, а мудростью – умение руководить такой деятельностью. Несправедливой деятельностью он считает ту, что нарушает все это, а невежеством – мнения, ею руководящие.
444
– Ты совершенно прав, Сократ. Справедливое государство и справедливый человек
– Ну что ж, – сказал я. – Если мы признаем, что определили справедливого человека и справедливое государство, а также проявляющуюся в них справедливость, то нам не покажется, думаю я, будто мы в чем‑то слишком уж заблуждаемся.
– Не покажется, клянусь Зевсом.
– Стало быть, мы признаем это?
– Признаем.
– Пусть будет так. После этого, я думаю, надо подвергнуть рассмотрению несправедливость.
– Это ясно.
b
– Она должна заключаться, не правда ли, в каком‑то раздоре указанных трех начал, в беспокойстве, во вмешательстве в чужие дела, в восстании какой‑то 'тети души против всей души в целом с целью господствовать в ней неподобающим образом, между тем как по своей природе несправедливость такова, что ей подобает быть в рабстве у господствующего начала. Вот что, я думаю, мы будем утверждать о несправедливости: она смятение и блуждание разных частей души, их разнузданность и трусость, и вдобавок еще невежество – словом, всяческое зло.
c
– Это все одно и то же.
– Стало быть, что значит поступать несправедливо и совершать преступления и, напротив, поступать по справедливости – все это, не правда ли, уже совершенно ясно, раз определилось, что такое несправедливость и что такое справедливость?
– А разве это определилось?
– Справедливость и несправедливость ничем не отличаются от здоровых или болезнетворных начал, только те находятся в теле, а эти – в душе.
– Каким образом?
– Здоровое начало вызывает здоровье, а болезнетворное – болезнь.
– Да.
d
– Не так ли и справедливая деятельность ведет к справедливости, а несправедливая – к несправедливости?
– Непременно.
– Придать здоровья означает создать естественные отношения господства и подчинения между телесными началами, между тем как болезнь означает их господство или подчинение вопреки природе[1459]
.
– Это так.
– Значит, и внести справедливость в душу означает установить там естественные отношения владычества и подвластности ее начал, а внести несправедливость – значит установить там господство одного начала над другим или подчинение одного другому вопреки природе.
– Совершенно верно.
e
– Стало быть, добродетель – это, по‑видимому, некое здоровье, красота, благоденствие души, а порочность – болезнь, безобразие [позор] и слабость.
– Да, это так.
– Хорошие привычки разве не ведут к обладанию добродетелью, а дурные – к порочности?
– Неизбежно.
– Нам остается, как видно, исследовать, целесообразно ли поступать справедливо, иметь хорошие привычки и быть справедливым, все равно, остается ли это скрытым или нет, и совершать преступления и
445
быть несправедливым, хотя бы это и не грозило карой к исправительным наказанием.
– Но мне кажется, Сократ, что теперь смешно производить такое исследование: если человеку и жизнь не в жизнь, когда повреждается его телесная природа, пусть бы у него при этом было вдоволь различных кушаний, напитков, всевозможного богатства и всяческой власти, то какая же будет ему жизнь, если расстроена и повреждена у него природа именно того, чем мы живем?
b
Если он делает все, что вздумается, за исключением того, что может ему помочь избавиться от порочности и несправедливости и обрести справедливость и добродетель? Мы‑то ведь хорошо разобрали, в чем состоит как то, так и другое.
– Да, это было бы смешно; однако раз мы дошли до того предела, откуда яснее всего видно, что все это именно так, нам нельзя отступаться.
– Клянусь Зевсом, отступаться – это хуже всего.
c
– Тогда поди сюда, посмотри, сколько, по‑моему, видов имеет порочность: на это стоит взглянуть.
– Я следую за тобою, а ты продолжай.
– В самом деле, отсюда, словно с наблюдательной вышки, на которую мы взошли в ходе нашей беседы, мне представляется, что существует только один вид добродетели, тогда как видов порочности несметное множество; о четырех из них стоит упомянуть.
– О чем ты говоришь? Соответствие пяти типов душевного склада пяти типам государственного устройства
– Сколько видов государственного устройства, столько же, пожалуй, существует и видов душевного склада.
– Сколько же их?
d
– Пять видов государственного устройства и пять видов души.
– Скажи, какие?
– Я утверждаю, что одним из таких видов государственного устройства будет только что разобранный нами, но назвать его можно двояко: если среди правителей выделится кто‑нибудь один, это можно назвать царское властью, если же правителей несколько, тогда это будет аристократия.
– Верно.
e
– Так вот это я и обозначаю как отдельный вид. Больше ли будет правителей или всего только один, они не нарушат важнейших законов, пока будут пускать в ход то воспитание и образование, о которых у нас шла речь[1460]
.
– Естественно, не нарушат.
Перевод А. Н. Егунова.
В кн.: Платон. Соб. соч. в 3‑х тт. Т.3 (1). М., 1971
КHИГА V
449
Хорошим и правильным я называю именно подобного рода государство и государственное устройство да и отдельного человека тоже, а все остальные [виды], раз такое государство правильно, я считаю плохими: в них ошибочны и государственное правление, и душевный склад частных людей. Видов порочного государственного устройства четыре.
– А именно какие? – спросил Главкон[1461]
.
b
Я собрался было говорить о них в том порядке, в каком, по‑моему, они переходят один в другой. Между тем Полемарх – он сидел немного поодаль от Адиманта, – протянув руку, схватил его за плащ на плече, пригнул к себе и, наклонившись, стал что‑то шептать ему на ухо. Можно было разобрать только: «Оставим его в покое, или как нам быть?»
– Ни в коем случае не оставим, – сказал Адимант уже громко.
Тут я спросил:
– Что это вам так важно не оставлять?
– Тебя, – отвечал Адимант.
c
Я опять спросил:
– А почему вам это так важно? Постановка вопроса об общности жен и детей у стражей
– Ты, как нам кажется, – сказал он, – не хочешь себя утруждать и украдкой пропускаешь целый – немалый – раздел нашей беседы, уклоняясь от разбора. Или ты думаешь, мы забыли, как ты сказал мимоходом насчет жен и детей, что у друзей все будет общим?[1462]
– А разве, Адимант, это неправильно?
– Да, но правильность этого, как и в других случаях, нуждается в объяснении, каким образом осуществляется подобная общность – ведь это может быть по‑разному. Так что непременно укажи, какой именно путь ты имеешь в виду.
d
Мы давно уже ожидаем, что ты упомянешь о деторождении – о том, как будут рождать детей, а родив, воспитывать – и вообще об этой, как ты говоришь, общности детей и жен. Правильно ли это происходит или нет – имеет, считаем мы, огромное, даже решающее значение для государственного устройства. А ты уже перешел к рассмотрению какого‑то иного государственного строя, не исследовав в достаточной мере этот вопрос. Вот почему, как ты и слышал, мы решили, что тебе не следует идти дальше, пока ты не разберешь этого так же, как все остальное.
450
– Примите и меня в соучастники этого решения, – сказал Главкон.
– Безусловно, Сократ, считай, что такое решение вынесено нами всеми, – сказал Фрасимах.
– Что же это вы делаете! – воскликнул я. – Вы заставляете меня задержаться и затеваете длиннейшую беседу о государственном устройстве, словно мы приступаем к ней сызнова! А я‑то было радовался, что уже покончил с этим рассуждением – с меня было бы довольно, если бы вы удовлетворились ранее сказанным.
b
Вы и не подозреваете, что этим вашим предложением вы подняли целый рой рассуждений – предвидя это, я тогда и уклонился, опасаясь такого множества.
– Что же, – сказал Фрасимах, – по‑твоему, все присутствующие пришли сюда играть в монетку[1463]
, а не ради того, чтобы послушать беседу?
– Но и беседа, – ответил я, – должна быть в меру.
c
– Мерой для прослушивания такой беседы, Сократ, служит у людей разумных вся жизнь, – сказал Главкон. – Но не в нас тут дело. Ты не сочти за труд разобрать на свой лад то, о чем мы спрашиваем: что это будет за общность детей и жен у наших стражей, как быть с воспитанием младенцев в промежуток времени от их рождения до начала обучения, который считается особенно тягостным? Попробуй указать, каким образом все это должно происходить.
d
– Нелегко в этом разобраться, мой дорогой. Здесь невероятного еще больше, чем в том, что мы разбирали ранее. Сказать, что это осуществимо – не поверят, а если бы это и осуществилось вполне, то с недоверием отнеслись бы к тому, что это и есть самое лучшее. Вот и не решаешься затрагивать этот предмет, чтобы беседа, дорогой мой друг, не свелась к благим пожеланиям.
– Больше решительности! Ведь твои слушатели не невежды, они доверчивы и доброжелательны. Тут я сказал:
– Милый, уж не говоришь ли ты это с целью меня подбодрить?
– Признаться, да.
e
– Так ты достигаешь совсем обратного. Если бы я доверял себе и считал, будто знаю то, о чем говорю, тогда твое утешение было бы прекрасно: кто знает истину, тот в кругу понимающих и дорогих ему людей говорит смело и не колеблясь о самых великих и дорогих ему вещах; но когда у человека, как у меня, сомнения и поиски, а он выступает с рассуждениями, шаткое у него положение и ужасное – не потому, что я боюсь вызвать смех (это было бы просто ребячеством),
451
а потому, что, пошатнув истину, я не только сам свалюсь, но увлеку за собой и своих друзей; у нас же речь идет о том, в чем всего менее должно колебаться.
Я припадаю к Адрастее[1464]
, Главкон, ради того, что собираюсь сказать! Надеюсь, что стать невольным убийцей все же меньшее преступление, чем сделаться обманщиком в деле прекрасного, благого, справедливого и законного; такой опасности лучше уж подвергаться среди врагов, чем в кругу друзей; так что лучше меня не подбадривай!
b
Тут Главкон улыбнулся.
– Но, Сократ, если нам придется плохо от этого твоего рассуждения, – сказал он, – мы отпустим тебе вину, как это делается в случае убийства: мы будем считать, что ты чист и вовсе не вовлекаешь нас в обман. Пожалуйста, говори смело.
– Хорошо. Однако и в упомянутом случае чист лишь тот, кому отпущена вина, – так ведь гласит закон. А раз там это так, то, значит, и в моем случае тоже.
– Ну, говори хотя бы на этих условиях.
c
– Теперь приходится снова вернуться к началу; следовало, верно, тогда же все изложить по порядку. Пожалуй, вот что будет правильно: после того как полностью определена роль мужчин, надо определить и роль женщин, тем более что ты так советуешь.
Дабы надлежащим образом обзавестись детьми и женами и правильно относиться к ним, у людей, рожденных и воспитанных так, как мы это разобрали, нет, по‑моему, иного пути, кроме того, на который вступили мы с самого начала. В качестве стражей, охраняющих стада, мы в нашей беседе решили поставить мужчин.
– Да. Роль женщин в идеальном государстве
d
– Продолжим это, уделив и женщинам сходное рождение и воспитание, и посмотрим, годится ли это нам или нет.
– Как это?
– А вот как: считаем ли мы, что сторожевые собаки‑самки должны охранять то же самое, что охраняют собаки‑самцы, одинаково с ними охотиться и сообща выполнять все остальное, или же они не способны на это, так как рожают и кормят щенят, и, значит, должны неотлучно стеречь дом, тогда как на долю собак‑самцов приходятся все тяготы и попечение о стадах?
e
– Все это они должны делать сообща. Разве что мы обычно учитываем меньшую силу самок в сравнении с самцами.
– А можно ли требовать, чтобы какие‑либо живые существа выполняли одно и то же дело, если не выращивать и не воспитывать их одинаково?
– Невозможно.
– Значит, раз мы будем ставить женщин на то же дело, что и мужчин, надо и обучать их тому же самому.
– Да.
452
– А ведь мужчинам мы предназначили заниматься мусическим и гимнастическим искусствами.
– Да.
–' Значит, и женщинам надо вменить в обязанность заниматься обоими этими искусствами, да еще и военным делом; соответственным должно быть и использование женщин.
– Так вытекает из твоих слов.
– Вероятно, многое из того, о чем мы сейчас говорим, покажется смешным, потому что будет противоречить обычаям, если станет выполняться соответственно сказанному.
– Да, это может показаться очень смешным.
b
– А что, на твой взгляд, здесь всего смешнее? Очевидно, то, что обнаженные женщины будут упражняться в палестрах вместе с мужчинами, и притом не только молодые, но даже и те, что постарше, – совершенно так же, как это делают в гимнасиях старики:
хоть и морщинистые, и непривлекательные на вид, они: все же охотно упражняются.
– Клянусь Зевсом, это показалось бы смешным, по крайней мере по нынешним понятиям.
c
– Раз уж мы принялись говорить, нечего нам бояться остряков, сколько бы и каким бы образом ни вышучивали они такую перемену, – гимнасии для женщин, мусическое искусство и (не в последнюю очередь) умение владеть оружием и верховую езду.
– Ты верно говоришь.
– Но раз уж мы начали говорить, следует выступить против суровости современного обычая, а насмешников попросить воздержаться от их острот и вспомнить, что не так уж далеки от нас те времена, когда у эллинов, как и посейчас у большинства варваров, считалось постыдным и смешным для мужчин показываться голыми
d
и что когда критяне первыми завели у себя гимнасии, а затем уж и лакедемоняне[1465]
, у тогдашних остряков тоже была возможность посмеяться над этим. Или, по‑твоему, это не так?
. – По‑моему, так.
– Но когда на опыте стало ясно, что удобнее упражняться без одежды, чем прикрывать ею все части тела, тогда это перестало быть смешным для глаз: ведь разумные доводы убеждали, что так гораздо лучше. Это показало, что пустой человек тот, кто считает смешным что‑нибудь иное, кроме дурного;
e
и когда он пытается что‑либо осмеять, он в чем‑то другом усматривает проявление смешного, а не в глупости и пороке; а когда он усердствует в стремлении к прекрасному, он опять‑таки ставит себе какую‑то иную цель, а не благо.
– Это во всех отношениях верно.
– Итак, здесь надо сперва прийти к соглашению, исполнимо это или нет, и решить спорный вопрос – в шутку ли или серьезно, как кому угодно, – способна ли женская часть человеческого рода принимать участие во всех делах наряду с мужчинами, или же она не может участвовать ни в одном из этих дел;
453
а может быть, к чему‑то она способна, а к другому – нет. То же и насчет военного дела – к какому из этих двух видов ее отнести? Не лучше ли всего начать именно так, чтобы, как положено, наилучшим образом и закончить?
– Конечно.
– Так хочешь, вместо других мы будем вести спор сами с собой, чтобы доводы противников, подвергшись нашей осаде, не остались без защиты?
b
– Этому ничто не препятствует.
– Мы от их лица скажем так: «Сократ и Главкон, вам совсем не нужны возражения посторонних: вы сами в начале основания вашего государства признали, что каждый, кто бы он ни был, должен выполнять только свое дело – согласно собственной природе».
– Да, я думаю, что мы это признали. Как же иначе?
– «А разве женщины по своей природе не вовсе отличны от мужчин?»
– Как же им не отличаться?
– «Значит, им надо назначить и иное дело, соответственно их природе».
c
– Ну и что же?
– «Так разве это теперь не ошибка с вашей стороны, разве вы не противоречите сами себе, утверждая, что мужчины и женщины должны выполнять одно и то же, хотя их природа резко отлична?» Найдешь ли ты, чудак, что сказать в свою защиту?
– Сразу это сделать не так‑то легко. Но я попрошу тебя, да и сейчас прошу, провозгласить все, что можно, в защиту наших доводов.
d
– Вот это и все остальное, подобное этому, как раз и есть, Главкон, то, что я давно уже предвидел, почему я и боялся и медлил касаться закона о том, как обзаводиться женами и детьми и как их воспитывать.
– Клянусь Зевсом, все это, видно, не просто!
– Конечно, нет. Но дело вот в чем: упал ли кто в небольшой купальный бассейн или в самую середину огромного моря, все равно он старается выплыть.
– Конечно.
e
– Так вот и нам надо плыть и попытаться выбраться из этого нашего рассуждения, надеясь, что нас Подхватит какой‑нибудь дельфин или мы спасемся иным каким‑либо непостижимым образом[1466]
.
– Да, видно надо попытаться.
– Ну, давай искать какой‑нибудь выход. Мы согласились, что при различной природе должны быть различны и занятия: между тем у женщины и мужчины; природа различна. А теперь мы вдруг стали утверждать, что и при различной природе люди могут выполнять одно и то же дело. Ведь нас обвиняют именно в этом?
– Совершенно верно.
454
– Да, Главкон, велика сила искусства спорить!
– Как, как ты сказал?
– Ведь многие даже невольно увлекаются им, и притом думают, что они не состязаются в споре, а рассуждают. Происходит это из‑за того, что они не умеют рассматривать предмет, о котором идет речь, различая его по видам. Придравшись к словам, они выискивают противоречие в том, что сказал собеседник, и начинают не беседовать, а состязаться в споре.
– Правда, эта страсть свойственна многим. Но неужели она сейчас направлена и против нас?
b
– Безусловно, ведь мы невольно столкнулись с таким словесным противоречием[1467]
.
– Как это?
– Когда природа людей неодинакова, то и занятия их должны быть разные; это мы мужественно отстаивали, а к спорам дали повод имена: ведь мы совсем не рассматривали, в чем состоит видовое различие или сходство природных свойств, и не определили, к чему тяготеет то и другое, когда назначали различные занятия людям различной природы и одинаковые тем, кто одинаков.
– В самом деле, мы этого не рассматривали.
c
– Так вот нам представляется, как видно, возможность задать самим себе следующий вопрос: одинаковы ли природные свойства людей плешивых и волосатых или противоположны? Когда мы признаем, что противоположны, то спросим снова: если плешивые сапожничают, то позволено ли делать это и волосатым, а если сапожничают волосатые, позволено ли это плешивым?
– Спрашивать об этом смешно!
– Смешно по какой‑то иной причине, чем тогда, когда мы определили сходство и различие природы женщин и мужчин не вообще, но ограничились только тем видом их различия или сходства, который связан с их занятиями: например, мы говорили, что и врач, и те, кто лишь в душе врачи, имеют одни и те же природные свойства. Или, по‑твоему, это не так?
d
– По‑моему, так.
– А у врача и плотника различные природные свойства?
– Конечно.
– Значит, если обнаружится разница между мужским и женским полом в отношении к какому‑нибудь искусству или иному занятию, мы скажем, что в таком случае надо и поручать это дело соответственно тому или иному полу. Если же они отличаются только тем, что существо женского пола рожает, а существо мужского пола оплодотворяет,
e
то мы скажем, что это вовсе не доказывает отличия женщины от мужчины в отношении к тому, о чем мы говорим. Напротив, мы будем продолжать думать, что у нас и стражи, и их жены должны заниматься одним и тем же делом.
– И правильно будем думать.
– Стало быть, после этого мы предложим тому, кто утверждает противное, просветить нас, указав, в отношении к какому искусству или занятию – из числа относящихся к государственному устройству – природа женщины и мужчины не одинакова, а различна.
455
– Справедливое требование!
– Правда, как ты говорил немного раньше, так, возможно, и кто‑нибудь другой скажет, что нелегко отвечать с ходу, но что, поразмыслив, он с этим без труда справится.
– Возможно, он так и скажет.
b
– Хочешь, мы попросим того, кто выдвигает эти возражения, последовать за нами и посмотреть, удастся ли нам доказать ему, что по отношению к занятиям, связанным с государственным устройством, у женщины нет никаких особенностей.
– Очень хочу.
– Ну‑ка, скажем мы ему, отвечай. Ты говорил так: «Один уродился способным к чему‑нибудь, другой – неспособным; один легко научается чему‑либо в деле, другой – с трудом; один, и немного поучившись, бывает очень изобретателен в том, чему обучался, а другой, хоть долго учился и упражнялся, не усваивает даже того, чему его обучали.
c
У одного телесное его состояние достаточно содействует его духовному развитию, другому оно, напротив, только мешает». Так или не так разделил ты тех, кто от природы, способен к какому‑нибудь делу, и тех, кто не способен?
– Всякий скажет, что так.
– А знаешь ли ты хоть какое‑нибудь из человеческих занятий, в котором мужчины не превосходили бы во всем женщин? Стоит ли нам распространяться о том, как женщины ткут, пекут жертвенные лепешки, варят похлебку? Считается, что в этом‑то женский пол кое‑что смыслит – вот почему больше всего осмеивают женщину, если она не справляется и с этим.
d
– Ты верно говоришь; попросту сказать, этот пол во всем уступает тому. Однако многие женщины во многих отношениях лучше многих мужчин, хотя в общем дело обстоит так, как ты говоришь.
– Значит, друг мой, не может быть, чтобы у устроителей государства было в обычае поручать какое‑нибудь дело женщине только потому, что она женщина, или мужчине – только потому, что он мужчина. Нет, одинаковые природные свойства встречаются у живых существ того и другого пола, и по своей природе как женщина, так и мужчина могут принимать участие во всех делах, однако женщина во всем немощнее мужчины.
e
– И даже намного.
– Так будем ли мы поручать всё мужчинам, а женщинам – ничего?
– Как можно!
– В таком случае, я думаю, мы скажем, что по своим природным задаткам одна женщина способна врачевать, а другая – нет, одна склонна к мусическому искусству, а другая чужда Музам.
– Так что же?
456
– А разве иная женщина не имеет способностей к гимнастике и военному делу, тогда как другая совсем не воинственна и не любит гимнастических упражнений?
– Да, это так.
– Что же? И одна склонна к философии, а другая ее ненавидит? Одной свойственна ярость духа, а другая невозмутима?
– Бывает и так.
– Значит, встречаются женщины, склонные быть стражами и не склонные. Разве мы не выбрали и среди мужчин в стражи тех, кто склонен к этому по природе?
– Конечно, выбрали именно таких.
– Значит, для охраны государства и у мужчин, и у женщин одинаковые природные задатки, только у женщин они слабее, а у мужчин сильнее.
– Выходит так.
b
– Значит, для подобных мужчин надо и жен выбирать тоже таких, чтобы они вместе жили и вместе стояли на страже государства, раз они на это способны и сродни по своей природе стражам.
– Конечно.
– А кто одинаков по своей природе, тем надо предоставить возможность заниматься одинаковым делом.
– Да, одинаковым.
– Значит, мы, совершив круг, вернулись к исходному положению и признаём, что предоставление женам стражей возможности заниматься и мусическим искусством, и гимнастикой не противоречит природе.
– Нисколько не противоречит.
c
– Значит, наши установления не были невыполнимы и не сводились лишь к пустым пожеланиям, раз мы установили закон сообразно природе. Скорее, как видно, противоречит природе то, что вопреки этому наблюдается в наше время.
– Похоже, что так.
– А ведь мы должны были рассмотреть, возможны ли наши установления и являются ли они наилучшими.
– Да, так оно и было.
– Но мы все признали, что они возможны.
– Да.
Теперь надо прийти к согласию насчет того, что они будут наилучшими.
– Очевидно.
– Для того чтобы женщина стала стражем, обучение ее не должно быть иным, чем воспитание, делающее стражами мужчин, тем более что речь здесь идет об одних и тех же природных задатках.
d
– Да, оно не должно быть иным.
– А как твое мнение вот насчет чего…
– А именно?
– Не убеждался ли ты на собственном опыте, что один человек лучше, а другой хуже, или ты считаешь всех одинаковыми?
– Вовсе не считаю.
– А в государстве, которое мы основали, как ты думаешь, какие люди получились у нас лучше – стражи ли, воспитанные так, как мы разбирали, или же сапожники, воспитавшиеся на своем мастерстве?
– Смешно и спрашивать!
– Понимаю. Далее: разве наши стражи не лучшие из граждан?
e
– Конечно, лучшие.
– Далее. Разве подобные же женщины не будут лучшими из женщин?
– Тоже, конечно, будут.
– А может ли для государства быть что‑нибудь лучше присутствия в нем самых лучших женщин и мужчин?
– Не может.
– А это сделают мусическое искусство и гимнастика, примененные так, как мы разбирали.
457
– Несомненно.
– Следовательно, наше установление не только выполнимо, но оно и всего лучше для государства.
– Да, это так.
– Пусть же жены стражей снимают одежды, раз они будут вместо них облекаться доблестью, пусть принимают они участие в войне и в прочей защите государства и пусть не отвлекаются ничем другим. Но во всем этом, из‑за слабости их пола, женщинам надо давать поручения более легкие, чем мужчинам.
b
А кто из мужчин станет смеяться при виде обнаженных женщин, которые ради высокой цели будут в таком виде заниматься гимнастикой, тот, этим своим смехом «недозрелый плод срывая мудрости»[1468]
, и сам, должно быть, не знает, над чем он смеется и что делает. А ведь очень хорошо говорят – и будут повторять, – что полезное прекрасно, а вредное – постыдно [безобразно][1469]
.
– Безусловно.
c
– Можно сказать, что при обсуждении закона относительно женщин нам удастся как бы избегнуть одной волны, чтобы она не захлестнула нас, когда мы будем решать, что стражи‑мужчины и стражи‑женщины должны всё выполнять сообща: напротив, наша беседа последовательно ведет к выводу, что это возможно и полезно.
– В самом деле, грозной волны удастся тебе избегнуть!
– Но ты скажешь, что это еще пустяки, когда увидишь дальнейшее.
– Посмотрим, а ты продолжай.
– За этим законом и за остальными предшествовавшими следует, я думаю, вот какой…
– Какой? Общность жен и детей у стражей (продолжение)
d
– Все жены этих мужей должны быть общими, а отдельно пусть ни одна ни с кем не сожительствует. И дети тоже должны быть общими, и пусть отец не знает, какой ребенок его, а ребенок – кто его отец.
– Этот закон вызовет гораздо больше недоверия, чем тот, – в смысле исполнимости и полезности.
– Что касается полезности, вряд ли станут это оспаривать и говорить, будто общность жен и детей не величайшее благо, если только это возможно. Но вот насчет возможности, думаю я, возникнут большие разногласия[1470]
.
e
– Будет очень много сомнений насчет как того, так и другого.
– Ты говоришь, что тут понадобится сочетание доказательств, а я‑то думал, что увернусь от одного из них, раз ты согласен насчет полезности: ведь мне осталось бы тогда говорить только о том, выполнимо это или нет.
– Нет, ничего не выйдет, не увернешься: отчитайся и в том и в другом.
458
– Приходится подвергнуться такой каре. Но окажи мне хоть эту милость – позволь мне устроить себе праздник. Так духовно праздные люди сами себя тешат во время одиноких прогулок: они еще не нашли, Каким образом осуществится то, чего они вожделеют, Но, минуя это, чтобы не мучить себя раздумьями о возможности и невозможности, полагают, будто уже налицо то, чего они хотят: и вот они уже распоряжаются дальнейшим, с радостью перебирают, что они будут Сделать, когда это совершится; их и без того праздная душа становится еще более праздной.
b
Так и я уже поддаюсь этой слабости, и мне хочется отложить тот вопрос и после рассмотреть, каким образом это осуществимо, а пока, допустив, что это осуществимо, я рассмотрю, если позволишь, как будут распоряжаться правители, когда это уже совершится, и укажу, насколько полезно было бы все это и для государства, и для стражей. Именно это я попытаюсь сперва рассмотреть вместе с тобой, а потом уже то, если только ты разрешишь.
– Конечно, я разрешаю. Рассматривай.
c
– Я думаю, если наши правители будут достойны такого наименования и их помощники тоже, то эти последние охотно станут выполнять предписания, а те – предписывать, повинуясь частью законам, а частью подражая тому, что мы им предпишем.
– Естественно.
– А раз ты для них законодатель, то, так же как ты отобрал стражей‑мужчин, ты по возможности отберешь и сходных с ними по своей природе женщин и им вручишь их. Раз у них и жилища, и трапезы будут общими, и никто не будет иметь этого в частном владении,
d
раз они всегда будут общаться, встречаясь в гимнасиях и вообще одинаково воспитываясь, у них по необходимости – я думаю, врожденной – возникнет стремление соединяться друг с другом. Или, по‑твоему, я говорю не о том, что неизбежно?
– Это не геометрическая, а эротическая неизбежность[1471]
; она, пожалуй, острее той убеждает и увлекает большинство людей.
e
– И даже очень увлекает. Но далее, Главкон, в государстве, где люди процветают, было бы нечестиво допустить беспорядочное совокупление или какие‑нибудь такие дела, да и правители не позволят.
– Да, это совершалось бы вопреки справедливости.
– Ясно, что в дальнейшем мы учредим браки, по мере наших сил, насколько только можно, священные. А священными были бы браки наиболее полезные[1472]
.
– Безусловно.
459
– Но чем они были бы наиболее полезны? Скажи мне вот что, Главкон: в твоем доме я вижу и охотничьих собак, и множество птиц самых ценных пород. Так вот, ради Зевса, уделял ли ты внимание их брачному соединению и размножению?
– То есть как?
– Да прежде всего хотя они все ценных пород, но разве среди них нет и не появляется таких, которые лучше других?
– Бывают.
– Так разводишь ли ты всех без различия или стараешься разводить самых лучших?
– Самых лучших.
b
– Что же? Лучше ли приплод от совсем молодых, или совсем старых, или же преимущественно от тех, что в самой поре?
– От тех, что в самой поре.
– А если этого не соблюдать, то как ты считаешь – намного ли ухудшится порода птиц и собак?
– Я считаю – намного.
– А как ты думаешь насчет лошадей и остальных животных? Разве там дело обстоит по‑другому?
– Это было бы странно.
– Ох, милый ты мой, какими, значит, выдающимися людьми должны быть у нас правители, если и c человеческим родом дело обстоит так же.
c
– Оно действительно обстоит так. Но что же из этого?
– Да то, что правителям неизбежно придется применять много разных средств. Если тело не нуждается в лекарствах и человек охотно придерживается предписанного ему образа жизни, тогда, считаем мы, достаточно и посредственного врача. Но когда надо применять лекарства, мы знаем, что понадобится врач более смелый.
– Это верно. Но к чему ты это говоришь?
d
– А вот: чего доброго, этим правителям потребуется у нас нередко прибегать ко лжи и обману – ради пользы тех, кто им подвластен. Ведь мы уже говорили, что подобные вещи полезны в виде лечебного средства.
– И это правильно.
– По‑видимому, всего уместнее это будет при заключении браков и при деторождении.
– Как так?
– Из того, в чем мы были согласны, вытекает, что лучшие мужчины должны большей частью соединяться с лучшими женщинами, а худшие, напротив, с самыми худшими и что потомство лучших мужчин и женщин следует воспитывать,
e
а потомство худших – нет, раз наше небольшое стадо должно быть самым отборным. Но что это так делается, никто не должен знать, кроме самих правителей, чтобы не вносить ни малейшего разлада в отряд стражей.
– Совершенно верно,
– Надо будет установить законом какие‑то празднества, на которых мы будем сводить вместе девушек и юношей, достигших брачного возраста, надо учредить жертвоприношения и заказать нашим поэтам песнопения, подходящие для заключаемых браков.
460
А определить количество браков мы предоставим правителям, чтобы они по возможности сохраняли постоянное число мужчин, принимая в расчет войны, болезни и т. д., и чтобы государство у нас по возможности не увеличивалось и не уменьшалось.
– Это правильно.
– А жеребьевку надо, я думаю, подстроить как‑нибудь так, чтобы при каждом заключении брака человек из числа негодных винил бы во всем судьбу, а не правителей.
– Да, это сделать необходимо.
b
– А юношей, отличившихся на войне или как‑либо иначе, надо удостаивать почестей и наград и предоставлять им более широкую возможность сходиться с женщинами, чтобы таким образом ими было зачато как можно больше младенцев.
– Правильно.
– Все рождающееся потомство сразу же поступает в распоряжение особо для этого поставленных должностных лиц, все равно мужчин или женщин, или и тех и других, – ведь занятие должностей одинаково и для женщин, и для мужчин.
– Да.
c
– Взяв младенцев, родившихся от хороших родителей, эти лица отнесут их в ясли к кормилицам, живущим отдельно в какой‑нибудь части города. А младенцев, родившихся от худших родителей или хотя бы от обладающих телесными недостатками, они укроют, как положено в недоступном, тайном месте[1473]
.
– Да, поскольку сословие стражей должно быть чистым.
– Они позаботятся и о питании младенцев: матерей, чьи груди набухли молоком, они приведут в ясли, но всеми способами постараются сделать так, чтобы ни одна из них не могла опознать своего ребенка.
d
Если материнского молока не хватит, они привлекут других женщин, у кого есть молоко, и позаботятся, чтобы те кормили грудью положенное время, а ночные бдения и прочие тягостные обязанности будут делом кормилиц и нянек.
– Ты сильно облегчаешь женам стражей уход за детьми.
– Так и следует. Но разберем дальше то, что мы наметили. Мы сказали, что потомство должны производить родители цветущего возраста.
– Верно.
e
– А согласен ли ты, что соответствующая пора расцвета – двадцатилетний возраст для женщины, а для мужчины – тридцатилетний?
– И до каких пор?
– Женщина пусть рожает государству начиная с двадцати лет и до сорока, а мужчина – после того, как у него пройдет наилучшее время для бега: начиная с этих пор пусть производит он государству потомство вплоть до пятидесяти пяти лет[1474]
.
461
– Верно, и у тех и у других это время телесного и духовного расцвета.
– Если же кто уже старше их или, напротив, моложе возьмется за общественное дело рождения детей, мы не признаем эту ошибку ни благочестивой, ни справедливой: ведь он произведет для государства такого ребенка, который, если это пройдет незамеченным, будет зачат не под знаком жертвоприношений и молитв, в которых при каждом браке и жрицы, и жрецы, и все целиком государство молятся о том, чтобы у хороших и полезных людей потомство было всегда еще лучше и полезнее, а, напротив, под покровом мрака, как плод ужасной невоздержности.
b
– Это верно.
– Тот же самый закон пусть действует и в том случае, если кто из мужчин, еще производящих потомство, коснется женщины пусть и брачного возраста,
но без разрешения правителя на их союз: мы скажем, что такой мужчина преподнес государству незаконного ребенка, так как не было обручения и освящения.
– Совершенно верно.
– Когда же и женщины и мужчины выйдут из возраста, назначенного для произведения потомства, я думаю, мы предоставим мужчинам свободно сходиться с кем угодно, кроме дочери, матери, дочерей дочери и старших родственниц со стороны матери;
c
женщинам же – со всеми, кроме сыновей, отца, и их младших и старших родственников. Но хотя мы и разрешим все это, они должны особенно стараться, чтобы ни один зародыш не вышел на свет, а если уж они будут вынуждены к этому обстоятельствами и ребенок родится, пусть распорядятся с ним так, чтобы его не пришлось выращивать.
– Это тоже правильно. Но как же они станут распознавать, кто кому приходится отцом, дочерью или родственниками, о которых ты сейчас говорил?
d
– Никак. Но всякий будет называть своими детьми тех, кто родился на десятый или седьмой месяц от дня его вступления в брак, а те будут называть его своим отцом; их потомство он будет называть детьми своих детей, а они соответственно будут называть стариков дедами и бабками, а всех родившихся за то время, когда их матери и отцы производили потомство, они будут называть своими сестрами и братьями,
e
и потому, как мы только что и говорили, им не дозволено касаться друг друга. Из числа же братьев и сестер закон разрешит сожительствовать тем, кому это выпадет при жеребьевке и будет дополнительно утверждено Пифией[1475]
.
– Это в высшей степени правильно.
– Вот какова, Главкон, эта общность жен и детей у стражей нашего с тобой государства. А что она соответствует его устройству лучше всего – это должно быть обосновано в дальнейшем рассуждении. Или как мы поступим?
462
– Именно так, клянусь Зевсом. Собственнические интересы – причина порчи нравов
– Так не будет ли вот что началом нашей договоренности: мы сами себе зададим вопрос, что можем мы называть величайшим благом для государственного устройства, то есть той целью, ради которой законодатель и устанавливает законы, и что считаем мы величайшим злом? Затем нам надо, не правда ли, рассмотреть, несет ли на себе следы этого блага все то, что мы сейчас разобрали, и действительно ли не соответствует оно злу.
– Это самое главное.
b
– Может ли быть, по‑нашему, большее зло для государства, чем то, что ведет к потере его единства и распадению на множество частей? И может ли быть большее благо, чем то, что связует государство и способствует его единству?
– По‑нашему, не может быть.
– А связует его общность удовольствия или скорби, когда чуть ли не все граждане одинаково радуются либо печалятся, если что‑нибудь возникает или гибнет.
– Безусловно.
– А обособленность в таких переживаниях нарушает связь между гражданами, когда одних крайне удручает, а других приводит в восторг состояние государства и его населения.
c
– Еще бы!
– И разве не оттого происходит это в государстве, что невпопад раздаются возгласы: «Это – мое!» или «это – не мое!»? И то же самое насчет чужого.
– Совершенно верно.
– А где большинство говорит таким же образом и об одном и том же: «Это – мое!» или «это – не мое!», там, значит, наилучший государственный строй.
– Да, наилучший.
– То же и в таком государстве, которое ближе всего по своему состоянию к отдельному человеку: например, когда кто‑нибудь из нас ушибет палец и все совокупное телесное начало напрягается в направлении к душе как единый строй, подчиненный началу, в ней правящему, она вся целиком ощущает это и сострадает части, которой больно;
d
тогда мы говорим, что у этого человека болит палец. То же выражение применимо к любому другому [ощущению] человека – к страданию, когда болеет какая‑либо его часть, и к удовольствию, когда она выздоравливает[1476]
.
– Да, то же самое. Вот это и есть то, о чем ты спрашивал: к состоянию такого государства полностью приближается государство с наилучшим устройством.
e
– Когда один из граждан такого государства испытывает какое‑либо благо и зло, такое государство обязательно, по‑моему, скажет, что это его собственное переживание, и всё целиком будет вместе с этим гражданином либо радоваться, либо скорбеть.
– Это непременно так, если в государстве хорошие законы.
– Пора бы нам вернуться к нашему государству и посмотреть, в нем или в каком‑то другом государстве осуществляются преимущественно выводы нашего рассуждения.
– Да, это надо сделать. Взаимоотношения правителей и народа в идеальном и неидеальном государствах
463
– Так что же? Раз во всех прочих государствах имеются правители и народ, то имеются они и в нем.
– Имеются.
– И все они будут называть друг друга гражданами?
– Конечно.
– Но кроме наименования «граждане», как называет народ своих правителей в остальных государствах?
– Во многих – "господами», а в демократических государствах сохраняется вот это самое название – «правители».
– А народ нашего государства? Кроме обращения «граждане», как будет он называть правителей?
b
– «Спасителями» и «помощниками».
– А они как будут называть народ?
– «Плательщиками» и «кормильцами».
– А как в остальных государствах называют народ правители?
– «Рабами».
– А правители друг друга?
– Соправителями.
– А у нас?
– Сотоварищами по страже.
– Можешь ли ты назвать случай в остальных государствах, чтобы кто‑нибудь из правителей обращался к одному из соправителей как к товарищу, а к другому – как к чужаку?
c
– Это бывает часто.
– Близкого человека он считает своим и так его называет, а чужого не считает своим.
– Верно.
– Ну, а как же у твоих стражей? Найдется ли среди них такой, чтобы он считал и называл кого‑нибудь из сотоварищей чужим?
– Ни в коем случае. С кем бы из них он ни встретился, он будет признавать в них брата, сестру, отца, мать, сына, дочь или их детей либо дедов[1477]
.
d
– Прекрасный ответ! Но скажи еще вот что: предпишешь ли ты им законом придерживаться только родственных обращений или и вести себя соответственно обращениям, – например, по отношению к своим отцам соблюдать все то, что в обычае относительно отцов вообще, то есть быть почтительными, заботиться о них и должным образом слушаться родителей под страхом того, что не будет им добра ни от богов, ни от людей, если они поступят иначе: в последнем случае их поведение будет и нечестивым, и несправедливым. Эти ли речи из уст всех граждан или какие‑нибудь иные будут у тебя оглашать слух даже самых малых детей относительно тех отцов, которых им укажут, и остальных родичей?
e
– Эти самые. Было бы смешно и названия близких оставались бы пустым звуком, если не претворять это в жизнь.
– Значит, из всех государств только у граждан этого государства мощно звучало бы в один голос: «Мои дела хороши!» или «мои дела плохи!», если у одного какого‑то гражданина дела идут хорошо или плохо.
– Совершенно верно.
464
– А разве мы не указывали, что с такими взглядами и выражениями сопряжены и общие радость или горе?
– И мы верно это указывали.
– Значит, наши граждане особенно будут переживать что‑нибудь сообща, если они смогут сказать: «Это – мое?» При таком общем переживании у них скорее всего и получатся общие радости или горе.
– Конечно.
– Вдобавок к остальным установлениям не это ли служит причиной общности жен и детей у стражей?
– Да, главным образом.
b
– Но ведь мы согласились, что для государства это величайшее благо: мы уподобили благоустроенное государство телу, страдания или здоровье которого зависят от состояния его частей[1478]
.
– И мы правильно согласились.
– Значит, оказалось, что причиной величайшего блага для нашего государства служит общность детей и жен у его защитников.
– Безусловно.
– Это согласуется и с нашими прежними утверждениями. Ведь мы как‑то сказали, что у стражей не должно быть ни собственных домов, ни земли и вообще никакого имущества:
c
они получают пропитание от остальных граждан как плату за свою сторожевую службу и сообща всё потребляют, коль уж они должны быть подлинными стражами.
– Правильно.
– Так вот я говорю, что и прежде нами сказанное, а еще более то, что мы сейчас говорим, сделает из них подлинных стражей и поможет тому, чтобы они не разнесли в клочья государство, что обычно бывает, когда люди считают своим не одно и то же, но каждый – другое: один тащит в свой дом все, что только может приобрести, не считаясь с остальными, а другой делает то же, но тащит уже в свой дом; жена и дети у каждого свои,
d
а раз так, это вызывает и свои, особые для каждого радости или печали. Напротив, при едином у всех взгляде насчет того, что считать своим, все они ставят перед собой одну и ту же цель и по мере возможности испытывают одинаковые состояния, радостные или печальные.
– Несомненно.
– Так что же? Тяжбы и взаимные обвинения разве не исчезнут у них, попросту говоря, потому, что у них не будет никакой собственности, кроме своего тела? Все остальное у них общее. Поэтому они не будут склонны к распрям, которые так часто возникают у людей из‑за имущества или по поводу детей и родственников.
e
– Этого у них совсем не будет.
– И не будет у них также оснований судиться из‑за насилий и оскорблений. Мы им скажем, что самозащита у ровесников будет прекрасным и справедливым делом, и обяжем их заботиться о своем телесном развитии.
– Правильно.
– И вот еще что правильно в этом законе: если кто с кем поссорится, он удовлетворит свой гнев в пределах этой ссоры, но не станет раздувать распрю.
465
– Конечно.
– Тому, кто постарше, будет предписано начальствовать над всеми, кто моложе его, с правом наказывать их.
– Ясно.
– А младший, за исключением тех случаев, когда велят правители, никогда не решится, да оно и естественно, применить насилие к старшему или поднять на него руку, и думаю, что и вообще никогда его не оскорбит. Этому достаточно препятствуют два стража:
b
страх и почтительность. Почтительность возбраняет касаться родителей, а страх заставляет предполагать, что обиженному помогут либо его сыновья, либо братья, либо отцы.
– Так бывает.
– Благодаря таким законам эти люди станут жить друг с другом во всех отношениях мирно.
– И даже очень.
– А так как распри между ними исключаются, нечего бояться, что остальная часть государства будет с ними не в ладах и что там возникнут внутренние раздоры.
– Конечно, нет.
c
– Мне как‑то неловко даже и упоминать о разных мелких неприятностях, от которых они избавятся, например об угодничестве бедняков перед богачами, о трудностях и тяготах воспитания детей, об изыскании денежных средств, необходимых для содержания семьи, когда людям приходится то брать в долг, то отказывать другим, то, раздобыв любым способом деньги, хранить их у жены или у домочадцев, поручая им вести хозяйственные дела; словом, друг мой, тут не оберешься хлопот, это ясно, но не стоит говорить о таких низменных вещах.
d
– Да, это ясно и слепому.
– Избавившись от всего этого, наши стражи будут жить блаженной жизнью – более блаженной, чем победители на олимпийских играх[1479]
.
– В каком отношении?
– Те слывут счастливыми, хотя пользуются лишь частью того, что будет у наших стражей. Ведь победа стражей прекраснее, да и общественное содержание их более полноценно: ибо одержанная ими победа – это спасение всего государства,
e
и сами они и их дети снабжаются пропитанием и всем прочим, что нужно для жизни; и почетные дары они получат от своего государства еще при жизни, а по смерти они получают достойное погребение.
– Это великолепно.
– Помнишь, раньше – не знаю, в каком месте нашего рассуждения – против нас был выдвинут довод, что мы не делаем наших стражей счастливыми, потому что у них ничего нет, хотя они и имеют возможность присвоить себе все имущество граждан[1480]
.
466
На это мы тогда отвечали, что этот вопрос, если он возникнет, мы рассмотрим потом, а пока что надо сделать стражей действительно стражами, а государство как можно более благополучным, имея в виду благополучие вовсе не для одного только сословия.
– Я помню.
– Ну, что ж? Раз теперь жизнь наших защитников оказывается гораздо прекраснее и лучше, чем жизнь олимпийских победителей, как же сравнивать ее с жизнью сапожников, каких‑то там ремесленников или земледельцев?!
b
– По‑моему, этого делать никак нельзя.
– Впрочем, – об этом мы и тогда упоминали, но стоит повторить и сейчас, – если страж усмотрит свое счастье в том, чтобы не быть стражем и не удовольствуется такой умеренной, надежной и, как мы утверждаем, наилучшей жизнью, но проникнется безрассудным и ребяческим мнением о счастье,
c
которое будет толкать его на то, чтобы присвоить себе силой все достояние государства, он поймет тогда: Гесиод действительно был мудрецом, говоря, что в каком‑то смысле «половина больше целого»[1481]
.
– Если бы такой страж последовал моему совету, он оставался бы при указанном нами образе жизни.
– Значит, ты допускаешь ту общность жен у этих мужей, которую мы уже обсудили? Это касается также детей и их воспитания и охраны остальных граждан. Остаются ли женщины в городе или идут на войну, они вместе с мужчинами несут сторожевую службу,
d
вместе и охотятся подобно собакам; они всячески участвуют во всем, насколько это в их силах. Такая их деятельность и является наилучшей и ничуть не противоречит природе отношений между самцами и самками.
– Я согласен.
– Остается еще разобрать, возможно ли и среди людей осуществить такую же общность, как у других живых существ, и каким образом это осуществимо.
– Ты опередил меня: я как раз собирался именно это присовокупить. Война и воинский долг граждан идеального государства
e
– Чтo касается военных действий, то, я думаю, ясно, каким образом
будут воевать женщины.
– Каким же?
– Они вместе с мужчинами будут участвовать в военных походах, а из детей возьмут с собой на войну тех, кто для этого созрел, чтобы они, как это водится у мастеров любого дела, присматривались к мастерству, которым должны будут овладеть с годами.
467
Кроме наблюдения дети должны прислуживать, помогать по военной части, ухаживать за отцами и матерями. Разве ты не видел этого в различных ремеслах, например у гончаров? Их дети долгое время прислуживают и наблюдают, прежде чем самим приняться за гончарное дело.
– Да, я часто это видел.
– А разве гончарам нужно тщательнее обучать своих детей, чем нашим стражам, указывая им с помощью опыта и наблюдения, что следует делать?
– Это было бы просто смешно!
– Кроме того, и воинственным всякое живое суще‑во особенно бывает тогда, когда при нем его потомство.
b
– Это так. Но есть большая опасность, Сократ, что случае поражения – а это часто бывает на войне – они погубят вместе с собой и своих детей и остальные граждане не смогут восполнить этот урон.
– Ты верно говоришь, но считаешь ли ты, что прежде всего надо обеспечить им полную безопасность?
– Вовсе нет.
– Что же? Если уж им идти на риск, так не при том ли условии, что в случае успеха они станут лучше?
– Ясно, что так.
c
– А разве, по‑твоему, это не важно и не стоит искнуть ради того, чтобы те, кто с летами станут ринами, уже с детства наблюдали войну?
– Конечно, это важно для той цели, о которой ты говоришь.
– Значит, нужно сделать детей наблюдателями войны, но в то же время придумать средство обеспечить им безопасность, и тогда все будет хорошо, не так ли?
– Да, конечно.
– Прежде всего их отцы будут, насколько возможно, не невеждами в войне, но людьми, знающими, какие походы опасны, а какие – нет.
d
– Естественно.
– В одни походы они возьмут с собой детей, в другие остерегутся их брать.
– Это верно.
– Да и начальниками над ними они назначат не новых людей, но тех, кто по своей опытности и возрасту способен быть руководителем и наставником 'тей.
– Так и подобает.
– Но, скажем мы, часто бывают разные неожиданности.
– На этот случай, друг мой, нужно их окрылять с малолетства, чтобы, если понадобится, они могли упорхнуть, избежав беды.
e
– Что ты имеешь в виду?
– С самых ранних лет нужно сажать детей на коня, а когда они научатся ездить верхом, брать их с собой для наблюдения войны; только кони должны у них быть не горячие и не боевые, но самые быстрые и послушные в узде. Таким образом дети всего лучше присмотрятся к своему делу, а если понадобится, наверняка спасутся, следуя за старшими наставниками.
468
– По‑моему, ты правильно говоришь.
– Так что же нам сказать о войне? Как будут у тебя вести себя воины и как будут они относиться к неприятелю? Верно ли мне кажется или нет…
– Скажи, что именно.
– Если кто из воинов оставит строй, бросит оружие, вообще совершит какой‑нибудь подобный поступок по малодушию, разве не следует перевести его в ремесленники или земледельцы?
– Очень даже следует.
– А того, кто живым попался в плен врагам, не подарить ли тем, кто захочет воспользоваться этой добычей по своему усмотрению?
b
– Конечно.
– Того же, кто отличился и прославился, не должны ли, по‑твоему, юноши и подростки, участвующие с ним вместе в походе, увенчать каждый поочередно, прямо во время похода? Или не так?
– По‑моему, так.
– Что же? Разве не будут его приветствовать пожатием правой руки?
– И это тоже.
– Но вот с чем, думаю я, ты уж не согласишься…
– С чем?
– Чтобы он всех целовал и чтобы его все целовали.
c
– С этим я соглашусь всего охотнее и к этому закону добавлю еще, что в продолжение всего этого похода никому не разрешается отвечать отказом, если такой воин захочет кого‑нибудь целовать, – ведь если ему доведется влюбиться в юношу или в женщину, это придаст ему еще больше бодрости для совершения подвигов.
– Прекрасно. У нас уже было сказано, что тому, кто доблестен, будет уготовано большее число браков и таких людей чаще, чем остальных, будут избирать для этой цели, так, чтобы от них было как можно более многочисленное потомство.
– Да, мы уже говорили об этом.
d
– И по Гомеру, такие почести справедливо воздаются доблестным юношам. Гомер говорит, что Аянт, прославившийся на войне, был почтен «длиннейшей хребетною частью». То была подходящая почесть мужественному человеку в расцвете лет: от этого у него и сил прибавилось вместе с почетом.
– Совершенно верно.
– Так послушаемся в этом Гомера. Доблестных людей мы почтим соответственно проявленной ими доблести при жертвоприношениях и сходных обрядах как песнопениями, так и тем, о чем мы только что говорили, а к тому же Местом почетным, и мясом, и полными чашами тоже[1482]
,
e
чтобы вместе с почестью укреплять этих доблестных мужей и женщин.
– Ты прекрасно сказал.
– Допустим. А об умерших в походе, если кто пал со славою, не скажем ли мы прежде всего, что они принадлежат к золотому поколению?
– Конечно, скажем.
– Разве мы не поверим Гесиоду, что некоторые из этого поколения после кончины
469
В праведных демонов преобразились, чтоб стражами смертных
Быть на земле, благостыней всегда от зла отвращая?[1483]
– Конечно, поверим.
– Следовательно, вопросив бога, как надо погрешать таких блаженных, божественных людей и с какими отличиями, мы будем погребать их именно так, как ни нам укажет.
– Почему бы и нет?
b
– А в последующие времена, поскольку они – демоны [гении], мы так и будем почитать их гробницы и им поклоняться. Такой же точно обычай мы установим, гели скончается от старости или по другой причине кто‑нибудь из тех, кто был признан особенно добродетельным в жизни.
– Это справедливо.
– Далее. Как будут поступать с неприятелем наши воины?
– В каком смысле?
c
– Прежде всего насчет обращения в рабство: можно ли считать справедливым, чтобы эллины порабощали эллинские же государства, или, напротив, насколько возможно, не надо этого никому позволять и надо приучать щадить род эллинов из опасения, как бы он не попал в рабство к варварам?
– Именно так.
– Значит, и нашим гражданам нельзя иметь рабом эллина и другим эллинам надо советовать то же самое.
d
– Конечно. Таким образом, их усилия будут скорее направлены против варваров и эллины воздержатся от междоусобиц.
– Дальше. Хорошо ли это – в случае победы снимать с убитых что‑нибудь, кроме оружия? Не служит ли это предлогом для трусов уклоняться от встреч с воюющим неприятелем? Они, словно выполняя свой долг, шарят вокруг убитых, и из‑за подобного грабежа погибло уже много войск.
– Даже очень много.
– Разве это не низкое стяжательство – грабить мертвеца? Лишь женскому, мелочному образу мыслей свойственно считать врагом даже тело умершего,
e
хотя неприятель уже бежал и осталось лишь то, с помощью чего он сражался! Или, по‑твоему, те, кто это делает, отличаются чем‑нибудь от собак, злящихся на камни, которыми в них швыряют, но не трогающих того, кто швыряет?
– Ничуть не отличаются.
– Значит, надо отказаться от ограбления мертвых и не препятствовать уборке трупов.
– Конечно, надо отказаться, клянусь Зевсом!
470
– И мы не понесем в святилище оружие как жертвенный дар, в особенности оружие эллинов, если нам хоть сколько‑нибудь важны благожелательные отношения с прочими эллинами. А еще больше мы будем опасаться осквернить святилища, принеся вещи, отнятые у наших родичей, – разве что бог велит иначе[1484]
.
– Совершенно верно.
– Ну а опустошение эллинской земли и поджигание домов – как в этих случаях, по‑твоему, поступят воины в отношении неприятеля?
– Если бы ты выразил свое мнение, я с удовольствием бы послушал.
b
– По‑моему, они не будут делать ни того ни другого, а только отберут годичный урожай; почему – хочешь, я тебе скажу?
– Очень хочу.
– Мне кажется, что недаром есть два названия – война и раздор. Это два разных [проявления], зависящих от двух видов разногласий. Двумя я считаю их вот почему: одно – среди своих и близких, другое – с чужими, с иноземцами. Вражда между своими была названа раздором, а с чужими – войной.
– Ты не сообщаешь ничего необычного. Этническая характеристика идеального государства в связи с вопросом о войне
c
– Но посмотри, обычно ли то, что я сейчас скажу. Я утверждаю, что все эллины – близкие друг другу люди и состоят между собою в родстве, а для варваров они – иноземцы и чужаки.
– Прекрасно.
– Значит, если эллины сражаются с варварами, а варвары с эллинами, мы скажем, что они воюют, что они по самой своей природе враги и эту их вражду надо называть войной. Когда же нечто подобное происходит между эллинами, надо сказать, что по природе своей они друзья, но Эллада в этом случае больна и в ней царит междоусобица, и такую вражду следует именовать раздором[1485]
.
d
– Я согласен расценивать это именно так.
– Посмотри‑ка: при таких, как мы только что условились это называть, раздорах, когда нечто подобное где‑нибудь происходит и в государстве царит раскол, граждане опустошают друг у друга поля и поджигают чужие дома, сколь губительным окажется этот раздор и как мало любви к своей родине выкажут обе стороны! Иначе они не осмелились бы разорять свою мать и кормилицу. Достаточно уж того, что победители отберут у побежденных плоды их труда, но пусть не забывают они, что цель – заключение мира: не вечно же им воевать!
e
– Такой образ мыслей гораздо благороднее, чем тот.
– Что же? Устрояемое тобой государство разве не будет эллинским?
– Оно должно быть таким.
– А его граждане разве не будут доблестными и воспитанными?
– Конечно, будут.
– Разве они не будут любить все эллинское, считать Элладу родиной и вместе с остальными участвовать в священных празднествах?
– Несомненно, будут.
471
– Разногласия с эллинами как со своими сородичами они будут считать раздором и не назовут войной?
– Да.
– И посреди распрей они будут помнить о мире?
– Конечно.
– Своих противников они будут благожелательно вразумлять, не порабощая их в наказание и не доводя до гибели – они разумные советчики, а не враги.
– Это так.
b
– Раз они эллины, они не станут опустошать Элладу или поджигать там дома; они не согласятся считать в том или ином государстве своими врагами. всех – и мужчин, и женщин, и детей, а будут считать ими лишь немногих – виновников распри. Поэтому у них не появится желания разорять страну и разрушать дома, раз они ничего не имеют против большинства граждан, а распрю они будут продолжать лишь до тех пор, пока те, кто невинно страдает, не заставят ее виновников наконец понести кару.
– Я согласен, что наши граждане должны относиться к своим противникам именно таким образом, а к варварам – так, как теперь относятся друг к другу эллины.
c
– Мы установим для стражей и этот закон: не опустошать страну и не поджигать домов.
– Да, решим, что это хорошо, так же как и то, о чем мы говорили раньше.
– Но по‑моему, Сократ, если тебе позволить говорить об этих вещах, ты и не вспомнишь, что стал это делать, отложив ответ на ранее возникший вопрос: может ли осуществиться такое государственное устройство и каким образом это возможно. Ведь, если бы все это осуществилось, это было бы безусловным благом для того государства, где это случится. Я укажу и на те преимущества, о которых ты не упомянул: граждане такого государства в высшей степени доблестно сражались бы с неприятелем,
d
потому что никогда не оставляли бы своих в беде, зная, что они приходятся друг другу братьями, отцами, сыновьями, и так называя друг друга. А если и женщины будут участвовать в походах – в том же ли самом строю или идя позади, чтобы наводить страх на врагов, либо в случае какой‑то нужды оказывать помощь, – я уверен, что благодаря сему этому наши граждане будут непобедимы. Не буду уж говорить о домашних благах – могу себе представить, сколько их будет!
e
Так как я полностью согласен с тобой, что они были бы – да еще и тьма других, – если бы осуществилось это государственное устройство, ты о нем больше не говори, а мы уж постараемся убе‑ить самих себя, что это возможно, и объяснить, каким образом, а обо всем остальном давай отложим попечение.
472
– Ты словно сделал внезапный набег на мое рассуждение, и набег беспощадный, чуть лишь я засмотрелся. Ты, верно, не понимаешь, что едва я избегнул тех двух волн, ты насылаешь на меня третью, крупнейшую и самую тягостную[1486]
. Когда ты ее увидишь и услышишь ее раскаты, ты очень снисходительно отнесешься к тому, что я, понятное дело, медлил: мне было страшно и высказывать, и пытаться обсуждать мою мысль, настолько она необычна.
b
– Чем больше ты будешь так говорить, тем меньше позволим мы тебе уклоняться от вопроса, каким образом можно осуществить это государственное устройство. Пожалуйста, ответь нам не мешкая. Правителями государства должны быть философы
– Сперва надо припомнить, что к этому вопросу мы пришли, когда исследовали, в чем состоят справедливость и несправедливость.
– Да, надо. Но к чему это?
– Да ни к чему! Но поскольку мы нашли, в чем состоит справедливость, будем ли мы требовать, чтобы справедливый человек ни в чем не отличался от нее самой, но во всех отношениях был таким, какова справедливость? Или мы удовольствуемся тем, что человек по возможности приблизится к ней и будет ей причастен гораздо больше, чем остальные?
c
– Да, удовольствуемся.
– В качестве образца мы исследовали самое справедливость – какова она и совершенно справедливого человека, если бы такой нашелся, – каким бы он был; мы исследовали также несправедливость и полностью несправедливого человека – все это для того, чтобы, глядя на них, согласно тому, покажутся ли они нам счастливыми или нет, прийти к обязательному выводу и относительно нас самих: кто им во всем подобен, того ждет подобная же и участь. Но мы делали это не для того, чтобы доказать осуществимость таких вещей.
d
– Ты прав.
– Разве, по‑твоему, художник становится хуже, если в качестве образца он рисует, как выглядел бы самый красивый человек, и это достаточно выражено на картине, хотя художник и не в состоянии доказать, что такой человек может существовать на самом деле?
– Клянусь Зевсом, по‑моему, он не становится от этого хуже.
– Так что же? Разве, скажем так, и мы не дали – на словах – образца совершенного государства?
– Конечно, дали.
– Так теряет ли, по‑твоему, наше изложение хоть что‑нибудь из‑за того только, что мы не в состоянии доказать возможности устроения такого государства, как было сказано?
– Конечно же, нет.
– Вот это верно. Если же, в угоду тебе, надо сделать попытку показать, каким преимущественно образом и при каких условиях это было бы всего более возможно, то для такого доказательства ты снова одари меня тем же.
– Чем?
473
– Может ли что‑нибудь быть исполнено так, как сказано? Или уже по самой природе дело меньше, чем слово, причастно истине, хотя бы иному это и не казалось? Согласен ты или нет?
– Согласен.
– Так не заставляй же меня доказывать, что и на деле все должно полностью осуществиться так, как мы это разобрали словесно. Если мы окажемся в состоянии изыскать, как построить государство, наиболее близкое к описанному, согласись, мы сможем сказать, что уже выполнили твое требование, то есть показали,
как можно это осуществить. Или ты этим не удовольствуешься? Я лично был бы доволен.
b
– Да и я тоже.
– После этого мы, очевидно, постараемся найти и показать, что именно плохо в современных государствах, из‑за чего они и устроены иначе; между тем результате совсем небольшого изменения государство могло бы прийти к указанному роду устройства, особенно если такое изменение было бы одно, или же их было бы два, а то и несколько, но тогда их должно быть как можно меньше и им надо быть незначительными.
c
– Конечно.
– Стоит, однако, произойти одной‑единственной перемене, и, мне кажется, мы будем в состоянии показать, что тогда преобразится все государство; правда, перемена эта не малая и не легкая, но все же она возможна.
– В чем же она состоит?
– Вот теперь я и пойду навстречу тому, что мы уподобили крупнейшей волне; это будет высказано, хотя бы меня всего, словно рокочущей волной, обдало насмешками и бесславием. Смотри же, что я собираюсь сказать.
– Говори.
d
– Пока в государствах не будут царствовать философы, либо так называемые нынешние цари и владыки не станут благородно и основательно философствовать и это не сольется воедино – государственная власть и философия, и пока не будут в обязательном порядке отстранены те люди – а их много, – которые ныне стремятся порознь либо к власти, либо к философии, до тех пор, дорогой Главкон, государствам не избавиться от зол[1487]
, да и не станет возможным для рода человеческого и не увидит солнечного света то государственное устройство, которое мы только что описали словесно.
e
Вот почему я так долго не решался говорить, – я видел, что все это будет полностью противоречить общепринятому мнению; ведь трудно людям признать, что иначе невозможно ни личное их, ни общественное благополучие.
Тут Главкон сказал:
– Сократ, ты метнул в нас такие слово и мысль, что теперь, того и жди, на тебя изо всех сил набросятся очень многие и даже неплохие люди: скинув с себя верхнюю одежду, совсем обнаженные[1488]
,
474
они схватятся за первое попавшееся оружие, готовые на все; и если ты не отразишь их натиск своими доводами и обратишься в бегство, они с издевкой подвергнут тебя наказанию.
– А не ты ли будешь в этом виновен?
– И буду тут совершенно прав. Но я тебя не выдам, защищу, чем могу, – доброжелательным отношением и уговорами, да еще разве тем, что буду отвечать тебе лучше, чем кто‑либо другой. Имея такого помощника, попытайся доказать всем неверующим, что дело обстоит именно так, как ты говоришь.
b
– Да, надо попытаться, раз даже ты заключаешь со мной такой могущественный союз. Мне кажется, если мы хотим избежать натиска со стороны тех люден, о которых ты говоришь, необходимо выдвинуть против них определение, кого именно мы называем философами, осмеливаясь утверждать при этом, что как раз философы‑то и должны править: когда это станет ясно, можно начать обороняться и доказывать, что некоторым людям по самой их природе подобает быть философами и правителями государства, а всем прочим надо заниматься не этим, а следовать за теми, кто руководит.
c
– Да, сейчас самое время дать такое определение.
– Ну, тогда следуй за мной в этом направлении, и, может быть, нам удастся в какой‑то мере удовлетворительно это истолковать.
– Веди меня. Философ – тот, кто созерцает прекрасное
– Нужно ли напоминать тебе, или ты помнишь сам, что коль скоро, на наш взгляд, человек что‑нибудь любит, он должен, если только верно о нем говорят, выказывать любовь не к одной какой‑нибудь стороне того, что он любит, оставаясь безучастным к другой, но, напротив, ему должно быть дорого все.
d
– По‑видимому, надо мне это напомнить: мне это не слишком понятно.
– Уж кому бы другому так говорить, а не тебе, Главкон! Знатоку любовных дел не годится забывать, что человека, неравнодушного к юношам и влюбчивого, в какой‑то мере поражают и возбуждают все, кто находится в цветущем возрасте, и кажутся ему достойными внимания и любви. Разве не так относитесь вы к красавцам? Одного вы называете приятным за то, что он курносый, и захваливаете его, у другого нос с горбинкой – значит, по‑вашему, в нем есть что‑то царственное, а у кого нос средней величины, тот, считаете вы, отличается соразмерностью.
e
У чернявых – мужественная внешность, белокурые – дети богов. Что касается «медвяно‑желтых»[1489]
– думаешь ли ты, что это выражение сочинил кто‑нибудь иной, кроме влюбленного, настолько нежного, что его не отталкивает даже бледность, лишь бы юноша был в цветущем возрасте? Одним словом, под любым предлогом и под любым именем вы не отвергаете никого из тех, кто в расцвете лет.
475
– Если тебе хочется на моем примере говорить о том, как ведут себя влюбленные, я, так и быть, уступаю, но лишь во имя нашей беседы.
– Что же? Разве ты не видишь, что и любители вин поступают так же? Любому вину они радуются под любым предлогом.
– И даже очень.
– Также, думаю я, и честолюбцы. Ты замечаешь, если им невозможно возглавить целое войско, они начальствуют хотя бы над триттией[1490]
;
b
если нет им почета от людей высокопоставленных и важных, они довольствуются почетом от людей маленьких и незначительных, но вожделеют почета во что бы то ни стало.
– Совершенно верно.
– Так вот, прими же или отвергни следующее. Когда мы говорим: «Человек вожделеет к тому‑то», скажем ли мы, что он вожделеет ко всему этому виду предметов или же к одним из них – да, а к другим – нет?
– Ко всему виду.
– Не скажем ли мы, что и любитель мудрости [философ] вожделеет не к одному какому‑то ее виду, но ко всей мудрости в целом?
– Это правда.
c
– Значит, если у человека отвращение к наукам, в особенности когда он молод и еще не отдает себе отчета в том, что полезно, а что – нет, мы не назовем его ни любознательным, ни философом, так же как мы не сочтем, что человек голоден и вожделеет к пище, если у него к ней отвращение: в этом случае он не охотник до еды, наоборот, она ему противна.
– Если мы так скажем, это будет правильно.
– А кто охотно готов отведать от всякой науки, кто с радостью идет учиться и в эгом отношении ненасытен, того мы вправе будем назвать философом[1491]
.
Тут Главкон сказал:
d
– Такого рода людей у тебя наберется много, и притом довольно нелепых. Ведь таковы, по‑моему, все охотники до зрелищ: им доставляет радость узнать что‑нибудь новое. Совершенно нелепо причислять к философам и любителей слушать: их нисколько не тянет к такого рода беседам, где что‑нибудь обсуждается, зато, словно их кто подрядил слушать все хоры, они бегают на празднества в честь Диониса, не пропуская ни городских Дионисий, ни сельских. Неужели же всех этих и других, кто стремится узнать что‑нибудь подобное g или научиться какому‑нибудь никчемному ремеслу, мы назовем философами?
e
– Никоим образом, разве что похожими на них.
– А кого же ты считаешь подлинными философами?
– Тех, кто любит усматривать истину.
– Это верно; но как ты это понимаешь?
– Мне нелегко объяснить это другому, но ты, я думаю, согласишься со мной в следующем…
– В чем?
– Раз прекрасное противоположно безобразному [постыдному], значит, это две разные вещи.
476
– Конечно.
– Но раз это две вещи, то каждая из них – одна?
– И это, конечно, так.
– То же самое можно сказать о справедливом п несправедливом, хорошем и плохом и ибо всех других видах: каждое из них – одно, но кажется множественным, проявляясь повсюду во взаимоотношении, а также в сочетании с различными действиями и людьми.
– Ты прав.
b
– Согласно этому я и провожу различие: отдельно помещаю любителей зрелищ, ремесел и дельцов, то есть всех тех, о ком ты говорил, и отдельно тех, о которых у нас сейчас идет речь и которых с полным правом можно назвать философами.
– А для чего ты это делаешь?
– Кто любит слушать и смотреть, те радуются прекрасным звукам, краскам, очертаниям и всему производному от этого, но их духовный взор не способен видеть природу красоты самой по себе и радоваться ей.
– Да, это так.
c
– А те, кто способен подняться до самой красоты и видеть ее самое по себе, разве это не редкие люди?
– И даже очень редкие.
– Кто ценит красивые вещи, но не ценит красоту самое по себе и не способен следовать за тем, кто повел бы его к ее познанию, – живет такой человек наяву или во сне, как ты думаешь? Суди сам: грезить – во сне или наяву – не значит ли считать подобие вещи не подобием, а самой вещью, на которую оно походит?
– Конечно, я сказал бы, что такой человек грезит.
d
– Далее. Кто в противоположность этому считает что‑нибудь красотой самой по себе и способен созерцать как ее, так и всё причастное к ней, не принимая одно за другое, – такой человек, по‑твоему, живет во сне или наяву?
– Конечно, наяву.
– Его состояние мышления мы правильно назвали бы познаванием, потому что он познает, а у того, первого, мы назвали бы это мнением, потому что он только мнит.
– Несомненно.
e
– Дальше. Если тот, о ком мы сказали, что он только мнит, но не познаёт, станет негодовать и оспаривать правильность наших суждений, могли бы мы его как‑то унять и спокойно убедить, не говоря открыто, что он не в своем уме?
– Это следовало бы сделать. Философ познает не мнения, а бытие и истину
– Ну, посмотри же, что мы ему ответим. Или, если хочешь, мы так начнем его расспрашивать (уверяя при этом, что мы ничего против него не имеем, наоборот, с удовольствием видим человека знающего): «Скажи нам, тот, кто познаёт, познаёт нечто или ничто?» Вместо него отвечай мне ты.
– Я отвечу, что такой человек познаёт нечто.
– Нечто существующее или несуществующее?
477
– Существующее. Разве можно познать несуществующее!
– Так вот, с нас достаточно того, что, с какой бы стороны мы что‑либо ни рассматривали, вполне существующее вполне познаваемо, а совсем не существующее совсем и непознаваемо.
– Да, этого совершенно достаточно.
– Хорошо. А если с чем‑нибудь дело обстоит так, что оно то существует, то не существует, разве оно не находится посредине между чистым бытием и тем, что вовсе не существует?
– Да, оно находится между ними.
b
– Так как познание направлено на существующее, а незнание неизбежно направлено на несуществующее, то для того, что направлено на среднее между ними обоими, надо искать нечто среднее между незнанием и знанием, если только встречается что‑либо подобное.
– Совершенно верно.
– А называем ли мы что‑нибудь мнением?
– Конечно.
– Это уже иная способность, чем знание, или та же самая?
– Иная.
– Значит, мнение направлено на одно, а знание – на другое, соответственно различию этих способностей.
– Да, так.
– Значит, знание по своей природе направлено на бытие с целью постичь, каково оно? Впрочем, мне кажется, необходимо сперва разобраться вот в чем…
– В чем?
c
– О способностях мы скажем, что они представляют собой некий род существующего; благодаря им мы можем то, что мы можем, да и не только мы, но все вообще наши способности: зрение и слух, например, я отнесу к числу таких способностей, если тебе понятно, о каком виде я хочу говорить.
– Мне понятно.
– Выслушай же, какого я держусь относительно них взгляда. Я не усматриваю у способностей ни цвета, ни очертания и вообще никаких свойственных другим, вещам особенностей, благодаря которым я их про себя различаю.
d
В способности я усматриваю лишь то, на что она направлена и каково ее воздействие; именно по этому признаку я и обозначаю ту или иную способ‑ность. Если и направленность, и воздействие одно и то же, я считаю это одной и той же способностью, если же и направленность, и воздействие различны, тогда это уже другая способность. А ты – как ты поступаешь?
– Так же точно.
– Вернемся, почтеннейший, к тому же. Признаешь ли ты знание какой‑то способностью или к какому роду ты его отнесешь?
– К этому роду – это самая мощная из всех способностей.
e
– А мнение мы отнесем к способностям или к какому‑то другому виду?
– Ни в коем случае. Ведь мнение есть не что иное, как то, благодаря чему мы способны мнить.
– Но ведь немного раньше ты согласился, что знаниие и мнение не одно и то же.
– Как можно, будучи в здравом уме, считать одним и тем же то, что безошибочно, и то, что исполнено ошибок!
– Хорошо. Очевидно, мы с тобой согласны: знание и мнение – разные вещи.
– Да, разные.
– Значит, каждое из них по своей природе имеет особую направленность и способность.
478
– Непременно.
– Знание направлено на бытие, чтобы познать его свойства.
– Да.
– Мнение же, утверждаем мы, направлено лишь на о, чтобы мнить.
– Да.
– Познаёт ли оно то же самое, что и знание? И будет ли одним и тем же познаваемое и мнимое? Или это невозможно?
– Невозможно по причине того, в чем мы были согласны: каждая способность по своей природе имеет свою направленность: обе эти вещи – мнение и знание – не что иное, как способности, но способности различные, как мы утверждаем, и потому нельзя сделать вывод, что познаваемое и мнимое – одно и то же.
b
– Если бытие познаваемо, то мнимое должно быть чем‑то от него отличным.
– Да, оно от него отлично.
– Значит, мнение направлено на небытие? Или небытие нельзя даже мнить? Подумай‑ка: разве не относит к какому‑либо предмету свои мнения тот, кто их имеет? Или можно иметь мнение, но ничего не мнить?
– Это невозможно.
– Хоть что‑нибудь одно все же мнит тот, кто имеет мнение?
– Да.
c
– Между тем небытие с полным правом можно назвать не одним чем‑то, а вовсе ничем.
– Конечно.
– Поэтому к небытию мы с необходимостью отнесли незнание, а к бытию – познание.
– Правильно.
– Значит, мнения не относятся ни к бытию, ни к небытию.
– Да, не относятся.
– Значит, выходит, что мнение – это ни знание, ни незнание?
– Видимо, да.
– Итак, не совпадая с ними, превосходит ли оно отчетливостью знание, а неотчетливостью – незнание?
– Нет, ни в том ни в другом случае.
d
– Значит, на твой взгляд, мнение более смутно, чем знание, но яснее, чем незнание?
– И во много раз.
– Но оно не выходит за их пределы?
– Да.
– Значит, оно – нечто среднее между ними?
– Вот именно.
– Как мы уже говорили раньше, если обнаружится нечто существующее и вместе с тем не существующее, место ему будет посредине между чистым бытием и полнейшим небытием, и направлено на него будет не знание, а также и не незнание, но опять‑таки нечто такое, что окажется посредине между незнанием и знанием.
– Это верно.
e
– А теперь посредине между ними оказалось то, что мы называем мнением.
– Да, оказалось. – Нам остается, видимо, найти нечто такое, что причастно им обоим – бытию и небытию, но что нельзя назвать ни тем пи другим в чистом виде. Если нечто подобное обнаружится, мы вправе будем назвать это тем, что мы мним; крайним членам мы припишем свойство быть крайними, а среднему между ними – средним. Разве не так?
479
– Так.
– Положив это в основу, пусть, скажу я, ведет со мной беседу и пусть ответит мне тот добрый человек, который отрицает прекрасное само по себе и некую самотождественную идею такого прекрасного. Он находит, что красивого много, этот любитель зрелищ, и не выносит, когда ему говорят, что прекрасное, так же как справедливое, едино, да и все остальное тоже. «Милейший, – скажем мы ему, – из такого множества прекрасных вещей разве не найдется ничего, что может оказаться безобразным? Или из числа справедливых поступков такой, что окажется несправедливым, а из числа благочестивых – нечестивым?»
b
– Да, эти вещи неизбежно окажутся в каком‑то отношении прекрасными и в каком‑то безобразными. Так же точно и остальное, о чем ты спрашиваешь.
– Итак?
– Многим удвоенным вещам разве это мешает оказаться в другом отношении половинчатыми?
– Ничуть.
– А если мы назовем что‑либо большим, малым, легким, тяжелым, больше ли для этого оснований, чем для противоположных обозначений?
– Нет, каждой вещи принадлежат оба обозначения.
– Каждая из многих названных вещей будет ли или не будет преимущественно такой, как ее назвали?
c
– Это словно двусмысленность из тех, что в ходу на пирушках, или словно детская загадка о том, как евнух хотел убить летучую мышь: надо догадаться, что он бросил и на чем летучая мышь сидела. И здесь все имеет два смысла, и ни о какой вещи нельзя твердо предполагать, что она такая или иная, либо что к ней подходят оба обозначения, или не подходит ни одно из них.
– Что же ты сделаешь с такими обозначениями? Можешь ли ты отвести им лучшее место, чем посредине между бытием и небытием? Они не туманнее небытия и не окажутся еще более несуществующими, чем оно, а с другой стороны, они не яснее бытия и не окажутся более, чем оно, существующими.
d
– Совершенно верно.
– Значит, мы, очевидно, нашли, что общепринятые суждения большинства относительно прекрасного и ему подобного большей частью колеблются где‑то между небытием и чистым бытием.
– Да, мы это нашли.
– А у нас уже прежде было условлено, что, если обнаружится нечто подобное, это надлежит считать тем, что мы мним, а не тем, что познаём, так как то, что колеблется в этом промежутке, улавливается промежуточной способное гыо.
– Да, мы так условились.
e
– Следовательно, о тех, кто замечает много прекрасного, но не видит прекрасного самого по себе и не может следовать за тем, кто к нему ведет, а также о тех, кто замечает много справедливых поступков, но не справедливость самое по себе и так далее, мы скажем, что обо всем этом у них имеется мнение, но они не знают ничего из того, что мнят.
– Да, необходимо сказать именно так.
– А что же мы скажем о тех, кто созерцает сами эти [сущности], вечно тождественные самим себе? Ведь они познают их, а не только мнят?
– И это необходимо.
480
– И мы скажем, что эти уважают и любят то, что они познают, а те – то, что они мнят. Ведь мы помним, что они любят и замечают, как мы говорили, звуки, красивые цвета и тому подобное, но даже не допускают существования прекрасного самого по себе.
– Да, мы это помним.
– Так что мы не ошибемся, если назовем их скорее любителями мнений, чем любителями мудрости? И неужели же они будут очень сердиться, если мы так скажем?
– Не будут, если послушаются меня: ведь не положено сердиться на правду.
– А тех, кто ценит все существующее само по себе, должно называть философами [любителями мудрости], а не любителями мнений.
– Безусловно.
Перевод А. Н. Егунова.
В кн.: Платон. Соб. соч. в 3‑х тт. Т.3 (1). М., 1971
КHИГА VI
Роль философов в идеальном государстве
484
– Насилу‑то выяснилось, Главкон, путем длинного рассуждения, кто действительно философ, а кто – нет, и что собой представляют те и другие.
– Пожалуй, – отвечал он, – нелегко было сделать это короче.
– Видимо, нет. К тому же, мне кажется, это выяснилось бы лучше, если бы надо было говорить только об одном, не вдаваясь в разбор многого другого при рассмотрении вопроса, в чем отличие справедливой жизни от несправедливой.
b
– А что у нас идет после этого?
– Что же иное, кроме того, что следует по порядку? Раз философы – это люди, способные постичь то, что вечно тождественно самому себе, а другие этого не могут и застревают на месте, блуждая среди множества разнообразных вещей, и потому они уже не философы, то спрашивается, кому из них следует руководить государством?
– Как же нам ответить на это подобающим образом?
– Кто выкажет способность охранять законы и обычаи государства, тех и надо назначать стражами.
– Это верно.
c
– А ясно ли, какому стражу надо поручать любую охрану – слепому или тому, у кого острое зрение?
– Конечно, ясно.
– А чем лучше слепых те, кто по существу лишен: знания сущности любой вещи и у кого в душе нет отчетливого ее образа? Они не способны подобно художникам усматривать высшую истину и, не теряя ее из виду,
d
постоянно воспроизводить ее со всевозможной тщательностью, и потому им не дано, когда это требуется, устанавливать здесь новые законы о красоте, справедливости и благе или уберечь уже существующие.
– Да, клянусь Зевсом, мало чем отличаются они от слепых.
– Так кого же мы поставим стражами – их или тех, кто познал сущность каждой вещи, а вдобавок ничуть не уступает им в опытности да и ни в какой другой части добродетели?
– Было бы нелепо избрать других, когда эти и вообще не хуже да еще вдобавок выделяются таким огромным преимуществом.
485
– Не указать ли нам, каким образом будут они к состоянии обладать и тем и другим?
– Конечно, это следует сделать.
– В начале этого рассуждения мы говорили, что прежде всего надо разобраться в природе этих людей. Я думаю, если относительно этого мы будем вполне согласны, то мы согласимся и с тем, что такие люди могут обладать обоими указанными свойствами и что руководителями государств надо быть не кому иному, как им.
– Как ты это понимаешь? Свойства философской души
b
– Относительно природы философов нам надо согласиться, что их страстно влечет к познанию, приоткрывающему им вечно сущее и не изменяемое возникновением и уничтожением бытие, о котором мы говорили.
– Да, с этим надо согласиться.
– И надо сказать, что они стремятся ко всему бытию в целом, не упуская из виду, насколько это от них зависит, ни одной его части, ни малой, ни большой, ни менее, ни более ценной, то есть поступают так, как мы это раньше видели на примере людей честолюбивых и влюбчивых.
– Ты прав.
c
– Посмотри вслед за этим, необходимо ли людям, д которые должны стать такими, как мы говорим, иметь, кроме того, в своем характере еще и следующее…
– Что именно?
– Правдивость, решительное неприятие какой бы то ни было лжи, ненависть к ней и любовь к истине.
– Естественно, им необходимо это иметь.
– Не только, друг мой, естественно, но и во всех отношениях неизбежно любой человек, если он в силу своей природы охвачен страстным стремлением, ценит псе, что сродни и близко предмету его любви.
– Верно.
– А найдешь ли ты что‑либо более близкое мудрости, чем истина?
– То есть как?
d
– Разве может один и тот же человек любить и мудрость, и ложь?
– Ни в коем случае.
– Значит, тот, кто действительно любознателен, должен сразу же, с юных лет изо всех сил стремиться к истине?
– Да, это стремление должно быть совершенным.
– Но когда у человека его вожделения резко клонятся к чему‑нибудь одному, мы знаем, что от этого они слабеют в отношении всего остального – словно поток, отведенный в сторону.
– И что же?
e
– У кого они устремлены на приобретение знаний и подобные вещи, это, думаю я, доставляет удовольствие его душе, как таковой, телесные же удовольствия для него пропадают, если он не притворно, а подлинно философ.
– Да, это неизбежно.
– Такой человек рассудителен и ничуть не корыстолюбив – ведь тратиться на то, ради чего люди гонятся за деньгами, подходило бы кому угодно, только не ему.
– Это так.
486
– Когда ты хочешь отличить философский характер от нефилософского, надо обращать внимание еще вот на что…
– А именно?
– Как бы не утаились от тебя какие‑нибудь неблагородные его наклонности[1492]
: ведь мелочность – злейший враг души, которой предназначено вечно стремиться к божественному и человеческому в их целокупности.
– Сущая правда. Основное свойство философской души – охват мыслью целокупного времени и бытия
– Если ему свойственны возвышенные помыслы и охват мысленным взором целокупного времени и бытия, думаешь ли ты, что для такого человека много значит человеческая жизнь?
– Нет, это невозможно.
b
– Значит, такой человек и смерть не будет считать чем‑то ужасным?
– Менее всего.
– А робкой и неблагородной натуре подлинная философия, видимо, недоступна.
– По‑моему, нет.
– Что же? Человек порядочный, не корыстолюбивый, а также благородный, не хвастливый, не робкий – может ли он каким‑то образом стать неуживчивым и несправедливым?
– Это невозможно.
– Вот почему, рассматривая, философская ли душа у какого‑нибудь человека или нет, ты сразу, еще в его юные годы заметишь, справедливая ли она, кроткая ли или трудна для общения и дика.
– Конечно, замечу.
c
– И ты не упустишь из виду, думаю я, еще вот что…
– Что же именно?
– Способен ли он к познанию или не способен. Разве ты можешь ожидать, что человек со временем полюбит то, над чем мучится и с чем едва справляется?
– Это вряд ли случится.
– Что же? Если он не может удержать в голове ничего из того, чему обучался – так он забывчив, может ли он не быть пустым и в отношении знаний?
– Как же иначе!
– Понапрасну трудясь, не кончит ли он, по‑твоему, тем, что возненавидит и самого себя, и такого рода занятия?
d
– Конечно, возненавидит.
– Значит, забывчивую душу мы никогда не отнесем к числу философских и будем искать ту, у которой хорошая память.
– Безусловно. Природа философа отличается соразмерностью и врожденной тонкостью ума
– Но можем ли мы сказать, что чуждая Музам и уродливая натура будет иметь влечение к чему‑либо иному, кроме несоразмерности?
– И что же?
– А как, по‑твоему, истина сродни несоразмерности или соразмерности?
– Соразмерности[1493]
.
e
– Значит, кроме всего прочего требуется и соразмерность, и прирожденная тонкость ума, своеобразие второго делало бы человека восприимчивым к идее сего сущего.
– Да, конечно.
– Итак, разве, по‑твоему, мы не разобрали свойств, каждое из которых, вытекая одно из другого, необходимо душе для достаточного и совершенного постижения бытия?
487
– Да, они для этого в высшей степени необходимы. Философу присущи четыре основные добродетели идеального государства
– А есть ли у тебя какие‑нибудь основания укорять такого рода занятие, которым никто не может как следует заниматься, если он не будет человеком, памятливым от природы, способным к познанию, великодушным, тонким, а к тому же другом и сородичем истины, справедливости, мужества и рассудительности?
– Даже Мом[1494]
и тот не нашел бы, к чему здесь придраться.
– И разве не им одним – людям зрелого возраста, достигшим совершенства в образовании, – поручил бы ты государство?
b
Тут вступил в разговор Адимант:
– Против этого‑то, Сократ, никто не нашелся бы, что тебе возразить. Но ведь всякий раз, когда ты рассуждаешь так, как теперь, твои слушатели испытывают Примерно вот что: из‑за непривычки задавать вопросы или отвечать на них они думают, что рассуждение при каждом твоем вопросе лишь чуть‑чуть уводит их в сторону, однако, когда эти «чуть‑чуть» соберутся вместе, ясно обнаруживается отклонение и противоречие с первоначальными утверждениями.
c
Как в шашках сильный игрок в конце концов закрывает неумелому ход и тот не знает, куда ему податься, так и твои слушатели под конец оказываются в тупике и им нечего сказать в этой своего рода игре, где вместо шашек служат слова. А по правде‑то дело ничуть этим не решается. Я говорю, имея в виду наш случай: ведь сейчас всякий признается, что по каждому заданному тобой вопросу он не в состоянии тебе противоречить.
d
Стоило бы, однако, взглянуть, как с этим обстоит на деле: ведь кто устремился к философии не с целью образования, как это бывает, когда в молодости коснутся ее, а потом бросают, но, напротив, потратил на нее много времени, те большей частью становятся очень странными, чтобы не сказать совсем негодными, и даже лучшие из них под влиянием занятия, которое ты так расхваливаешь, все же делаются бесполезными для государства.
Выслушав Адиманта, я сказал:
– Так, по‑твоему, те, кто так говорит, ошибаются?
– Не знаю, но я с удовольствием услышал бы твое мнение.
e
– Ты услышал бы, что, по‑моему мнению, они говорят сущую правду.
– Тогда как же это согласуется с тем, что государствам до тех пор не избавиться от бед, пока не будут в них править философы, которых мы только что признали никчемными?
– Твой вопрос требует ответа с помощью уподобления.
– А ты, видно, к уподоблениям не привык.
– Пусть будет так. Ты втянул меня в трудное рассуждение да еще и вышучиваешь! Так выслушай же мое уподобление, чтобы еще больше убедиться, как трудно оно мне дается.
488
По отношению к государству положение самых порядочных людей настолько тяжелое, что ничего не может быть хуже. Поэтому для уподобления приходится брать в их защиту и объединять между собой многие черточки наподобие того, как художники рисуют козлоподобных оленей[1495]
и так далее, смешивая различные черты.
b
Так вот, представь себе такого человека, оказавшегося кормчим одного или нескольких кораблей. Кормчий и ростом, и силой превосходит на корабле всех, но он глуховат, а также близорук и мало смыслит в мореходстве, а среди моряков идет распря из‑за управления кораблем: каждый считает, что именно он должен править, хотя никогда не учился этому искусству, не может указать своего учителя и в какое время он обучался.
c
Вдобавок они заявляют, что учиться этому нечего, и готовы разорвать на части того, кто скажет, что надо. Они осаждают кормчего просьбами и всячески добиваются, чтобы он передал им кормило. Иные его совсем не слушают, кое‑кто – отчасти, и тогда те начинают убивать этих и бросать их за борт. Одолев благородного кормчего с помощью мандрагоры[1496]
, вина или какого‑либо иного средства, они захватывают власть на корабле, начинают распоряжаться всем, что на нем есть, бражничают, пируют и, разумеется, направляют ход корабля именно так, как естественно для подобных людей.
d
Вдобавок они восхваляют и называют знающим моряком, кормчим, сведущим в кораблевождении того, кто способен захватить власть силой или же уговорив кормчего, а кто не таков, того они бранят, считая его никчемным. Они понятия не имеют о подлинном кормчем, который должен учитывать времена года, небо, звезды, ветры – все, что причастно его искусству,
e
если он действительно намерен осуществлять управление кораблем независимо от того, соответствует ли это чьим‑либо желаниям или нет. Они думают, что невозможно приобрести такое умение, опытность и вместе с тем власть кормчего.
Итак, раз подобные вещи наблюдаются на кораблях, не находишь ли ты, что при таком положении дел моряки назовут высокопарным болтуном[1497]
и никудышником именно того, кто подлинно способен управлять?
489
– Конечно, – отвечал Адимант.
– Я не думаю, чтобы, видя такую картину, ты нуждался в истолковании того, в чем ее сходство с отношением к подлинным философам в государствах, – ты ведь понимаешь, о чем я говорю.
– Вполне.
– Так прежде всего ты растолкуй этот образ тому, кто удивляется, почему философы не пользуются в государствах почетом, и постарайся убедить его, что гораздо более удивительно было бы, если бы их там почитали.
b
– Я ему растолкую это. Еще раз о подлинных правителях государства
– И скажи ему также: «Ты верно говоришь, что для большинства бесполезны люди, выдающиеся в философии». Но в бесполезности этой вели ему винить тех, кто не находит им никакого применения, а не этих выдающихся людей. Ведь неестественно, чтобы кормчий просил матросов подчиняться ему или чтобы мудрецы обивали пороги богачей, – ошибался тот, кто так острил[1498]
. Естественно как раз обратное: будь то богач или бедняк, но, если он заболел, ему необходимо обратиться к врачам;
c
а всякий, кто нуждается в подчинении, должен обратиться к тому, кто способен править. Не дело правителя просить, чтобы подданные ему подчинялись, если только он действительно на что‑нибудь годится. И не совершит ошибки тот, кто уподобит нынешних государственных деятелей морякам, о которых мы только что говорили, а людей, которых они считают никчемными и высокопарными, уподобит подлинным кормчим.
– Это в высшей степени правильно.
– По таким причинам и в таких условиях нелегко наилучшему занятию быть в чести у занимающихся… как раз противоположным. Всего больше и сильнее обязана философия своей дурной славой тем, кто заявляет, что это их дело – заниматься подобными вещами.
d
Упомянутый тобой хулитель философии говорил, что большинство обратившихся к ней – это самые скверные люди, а самые порядочные здесь бесполезны, и я согласился тогда, что ты говоришь верно, – разве не так?
– Да, так.
– Но мы уже разобрали причину бесполезности порядочных людей.
– Полностью разобрали.
e
– Хочешь, мы разберем после этого причину неизбежной порочности большинства и по мере сил попытаемся доказать, что и здесь виновата не философия?
– Конечно, хочу.
– Так давай будем слушать и отвечать, удерживая в памяти наше исходное положение относительно природных свойств человека, необходимых, чтобы он был безупречным.
490
Если помнишь, он прежде всего должен руководствоваться истиной, добиваться ее всевозможными средствами, а пустохвал никоим образом не может быть причастен к истинной философии.
– Да, мы так утверждали.
– Уже одно только это положение резко противоречит нынешним представлениям об этих вещах.
– Да, в высшей степени.
– Так разве не будет уместно сказать в защиту нашего взгляда, что человек, имеющий прирожденную склонность к знанию, изо всех сил устремляется к подлинному бытию?
b
Он не останавливается на множестве вещей, лишь кажущихся существующими, но непрестанно идет вперед, и страсть его не утихает до тех пор, пока он не коснется самого существа каждой вещи тем в своей душе, чему подобает касаться таких вещей, а подобает это родственному им началу. Сблизившись посредством него и соединившись с подлинным бытием, породив ум и истину, он будет и познавать, и поистине жить, и питаться, и лишь таким образом избавится от бремени, но раньше – никак.
– Да, такая защита была бы крайне уместна.
– Что же? Будет ли уделом такого человека любовь к лжи или же, как раз наоборот, ненависть к ней?
c
– Ненависть.
– Раз его ведет истина, я думаю, мы никогда не скажем, что ее сопровождает хоровод зол.
– Как можно!
– Но скажем, что ее сопровождает здоровый и справедливый нрав, а вслед за ним – рассудительность.
– Верно.
– А остальной хоровод свойств человека, обладающего философским складом? Впрочем, к чему сызнова его строить – ты ведь помнишь, что в него должны входить мужество, великодушие, понятливость, память.
d
Ты возразил мне, что всякий должен согласиться с тем, что мы говорим, оставив, однако, в стороне рассуждения и вместо того наблюдая самих тех, о ком идет речь;
всякий сказал бы также, что среди них он видит и бесполезных, и во многих случаях даже совсем негодных людей. Рассматривая причину этой их дурной славы, мы и столкнулись сейчас с вопросом, почему многие из них никчемны, и ради этого мы снова принялись разбирать природные свойства подлинных философов и были вынуждены определять их.
e
– Да, это так.
– Да, надо присмотреться к порче такой натуры, к тому, как она гибнет у многих, а у кого хоть что‑нибудь от нее остается, тех считают пусть не дурными, но все же бесполезными. Затем надо рассмотреть свойства тех, кто им подражает и берется за их дело, –
491
у таких натур много бывает промахов, так как они недостойны заниматься философией и это им не под силу; из‑за них‑то и закрепилась за философией и всеми философами повсюду та слава, о которой ты говоришь.
– А о какой порче ты упомянул?
– Попытаюсь разобрать это, если смогу. Я думаю, всякий согласится с нами, что такой человек, обладающий всем, что мы от него требуем для того, чтобы он стал совершенным философом, редко рождается среди людей – только как исключение. Или ты так не считаешь?
b
– Я вполне с тобой согласен.
– Таких людей мало, но зато посмотри, как много существует для них чрезвычайно пагубного.
– А что именно?
– Всякий до крайности удивится, если услышит, что каждое свойство, которое мы одобряли в подобных людях, оно‑то как раз и губит душу, им обладающую, и отвлекает ее от философии: я имею в виду мужество, рассудительность, вообще все, что мы разбирали.
– Да, это странно слышать!
c
– А кроме того, губят и отвлекают ее и все так называемые блага: красота, богатство, телесная сила, влиятельное родство в государстве и все, что с этим связано. Вот тебе в общих чертах то, что я имею в виду.
– Понимаю, но с удовольствием ознакомился бы подробнее с твоим взглядом.
– Охвати его правильно в целом, и тебе станет вполне ясно и вовсе не странно все ранее сказанное об этом предмете.
– Как ты посоветуешь это сделать?
d
– Относительно всякого семени или зародыша, будь то растения или животного, мы знаем, что, лишенные подобающего им питания, климата и места, они тем больше теряют в своих свойствах, чем мощнее они сами: ведь плохое более противоположно хорошему, чем нехорошему.
– Конечно.
– Есть ведь разумное основание в том, что при чуждом ей питании самая совершенная природа становится хуже, чем посредственная.
– Да, есть.
e
– Так не скажем ли мы, Адимант, точно так же, что и самые одаренные души при плохом воспитании становятся особенно плохими? Или ты думаешь, что великие преступления и крайняя испорченность бывают следствием посредственности, а не того, что пылкая натура испорчена воспитанием? Слабые же натуры никогда не будут причиной ни великих благ, ни больших зол,
– Я согласен с тобой.
492
– Если установленная нами природа философа получит надлежащую выучку, то, развиваясь, она непременно достигнет всяческой добродетели; но если она досеяна и высажена на неподобающей почве, то выйдет как раз наоборот, разве что придет ей на помощь кто‑нибудь из богов. Или и ты считаешь подобно большинству, будто лишь немногие молодые люди испорчены софистами, будто портят их некие частные лица и только о них и стоит говорить? Между тем, кто так говорит, они‑то и являются величайшими софистами, в совершенстве умеющими перевоспитывать и переделывать людей на свой лад – юношей и стариков, мужчин и женщин.
b
– Когда же они это делают?
– Тогда, когда густой толпой заседают в народных Собраниях, либо в судах, или в театрах, в военных лагерях, наконец, на каких‑нибудь иных общих сходках и с превеликим шумом частью отвергают, частью одобряют чьи‑либо выступления или действия, переходя мepy и в том и в другом;
c
они кричат, рукоплещут, и вдобавок их брань или похвала гулким эхом отражаются от скал в том месте, где это происходит, так что шум становится вдвое сильнее. В таких условиях что, как говорится, будет, по‑твоему, у юноши на сердце? И какое воспитание, полученное частным образом, Может перед этим устоять? Разве оно не будет смыто этой бранью и похвалой и унесено их потоком? Разве ре признает юноша хорошим или постыдным то же самое, что они, или не станет заниматься все тем же? Наконец, разве он не станет таким же сам?
d
– Это совершенно неизбежно, Сократ.
– А между тем мы еще не упоминали о величайшей необходимости.
– Какой же?
– О той, которую с помощью дела прибавляют к слову эти самые воспитатели и софисты, когда их речь не убеждает. Или ты не знаешь, что ослушника они карают лишением гражданских прав, денежными штрафами, а то и смертной казнью?
– Да, они весьма охотно прибегают к таким мерам.
e
– Какой же, по‑твоему, иной софист или направленные против них доводы частных лиц их одолеют?
– Думаю, такого софиста нет.
– Да, нет. Даже и делать такую попытку было бы крайне безрассудно. Ведь не бывает, не бывало, да, по‑моему, и не будет иного, противоположного отношения к добродетели у тех, кто получил воспитание от большинства, то есть человеческое; однако для божественного воспитания, мой друг, мы, согласно пословице, делаем исключение[1499]
.
493
Надо твердо знать: если что уцелело при таком устройстве государств и все идет как следует, то своей сохранностью, скажешь ты, это все обязано божественному уделу[1500]
– и ты будешь прав.
– Да, мне кажется, что дело обстоит не иначе.
– Вдобавок убедись еще вот в чем…
– В чем же? Софисты потакают мнениям толпы
– Каждое из этих частных лиц, взимающих плату (большинство называет их софистами и считает, будто их искусство направлено против него), преподает не что иное, как те же самые взгляды большинства и мнения,
b
выражаемые им на собраниях, и называет это мудростью, все равно как если бы кто‑нибудь, ухаживая за огромным и сильным зверем, изучил бы его нрав и желания, знал бы, с какой стороны к нему подойти, каким образом можно его трогать, в какую пору и отчего он свирепеет или успокаивается, при каких обстоятельствах привык издавать те или иные звуки и какие посторонние звуки укрощают его либо приводят в ярость:
c
изучив все это путем обхождения с ним и длительного навыка, он называет это мудростью и, как бы составив руководство, обращается к преподаванию, ничего, по правде сказать, не зная относительно взглядов [большинства] и его вожделений – что в них прекрасно или постыдно, хорошо или дурно, справедливо или несправедливо, но обозначая перечисленное соответственно мнениям этого огромного зверя: что тому приятно, он называет благом, что тому тягостно – злом и не имеет никакого иного понятия об этом, но называет справедливым и прекрасным то, что необходимо;
d
а насколько но существу различна природа необходимого и благого, он не видит и не способен показать это другому человеку. И раз он таков, скажи, ради Зевса, не странным ли показался бы он тебе воспитателем?
– Мне – да.
– А чем же отличается от него тот, кто мудростью считает уже и то, если он подметил, что не нравится, а что нравится собранию большинства самых различных людей – будь то в живописи, музыке или даже в политике?
e
Если, общаясь с ними, он выставляет напоказ свои поэтические или иные произведения либо свое служение государству, он делает это большинство своим властелином сильнее, чем это вызывается необходимостью, и тогда в силу так называемой «Диомедовой нужды»[1501]
он выполняет то, что одобряет большинство. А действительно ли это хорошо или прекрасно – разве слышал ты когда‑либо, чтобы кто‑то из них отдавал себе в этом отчет и это не вызывало бы смеха?
– Думаю, что и никогда не услышу.
494
– Так вот, учитывая все это, припомни то, о чем говорили мы раньше: возможно ли, чтобы толпа допускала и признавала существование красоты самой по себе, а не многих красивых вещей или самой сущности каждой вещи, а не множества отдельных вещей?
– Это совсем невозможно. Антагонизм философа и толпы
– Следовательно, толпе не присуще быть философом.
– Нет, не присуще.
– И значит, те, кто занимается философией, неизбежно будут вызывать ее порицание.
– Да, неизбежно.
– И порицание со стороны тех частных лиц, которые, общаясь с чернью, стремятся ей угодить.
b
– Исходя из этого, в чем ты усматриваешь спасение для философской натуры, чтобы ей не бросать своего занятия и достичь своей цели? Решай на основании того, о чем мы говорили раньше: мы признали, что такой натуре свойственны хорошие способности, памятливость, мужество и возвышенный образ мыслей.
– Да.
– Такой человек с малых лет будет первым среди всех, особенно если и телом он уродился таким, как душой.
– Почему бы ему и не быть!
– А его близкие и сограждане захотят найти ему применение в своих делах, когда он подрастет.
– Как же иначе?
c
– Значит, они будут припадать к нему с просьбами и оказывать ему почет, чтобы подольститься и заранее заручиться его могущественным покровительством.
– Да, это часто бывает.
– Что же будет делать, по‑твоему, подобный человек среди таких людей, особенно если он будет принадлежать к числу граждан великого государства и будет в нем богатым и знатным, а к тому же статным и привлекательным на вид? Не появятся ли у него необычные притязания?
d
Не станет ли он считать себя способным распоряжаться делами и эллинов, и варваров и не занесется ли он высоко, преисполнившись высокомерия и пустой самонадеянности вопреки разуму?
– Все это более чем возможно.
– Если кто‑нибудь, несмотря на такое его состояние, спокойно подойдет к нему и скажет ему правду, то есть, что ума у него нет, а не мешало бы его иметь, но что поумнеть можно, если только подчинить себя этой цели – приобретению ума, легко ему будет, по‑твоему, выслушать это среди стольких бед?
– Вовсе не легко.
e
– Если же кто‑нибудь, хотя бы один человек, благодаря своей хорошей природе и близости к таким учениям склонится на сторону философии, чувствуя к ней влечение, как, должны мы ожидать, поступят в этом случае ее противники, понимая, что для них потеряна возможность использовать его как союзника? Разве не прибегнут они к любым действиям и к любым доводам, чтобы переубедить его и чтобы его наставник не имел успеха? Разве не будут они строить козни и частным образом, и в общественном порядке, привлекая его к судебной ответственности?
495
– Это неизбежно.
– Так может ли статься, чтобы такой человек занимался философией?
– Не очень‑то!
– Видишь, мы неплохо тогда сказали, что даже сами особенности философской натуры, когда она оказывается в плохих условиях, бывают каким‑то образом виной тому, что человек бросает этим заниматься; причиной бывают и так называемые блага – богатство и всякого рода обеспеченность.
– Это было правильно сказано.
b
– Вот в чем гибель и вот как велика, друг мой, порча лучших натур, предназначенных для благороднейшего занятия! И вообще‑то подобные натуры редкость, как мы утверждаем. К их числу относятся и те люди, что причиняют величайшее зло государствам и частным лицам, и те, что творят добро, если их влечет к нему; мелкая же натура никогда не совершит ничего великого ни для частных лиц, ни для государства.
– Сущая правда.
c
– Когда, таким образом, от философии отпадают те люди, которым всего больше надлежит ею заниматься, она остается одинокой и незавершенной, а сами они ведут жизнь и не подобающую, и не истинную. К философии, раз она осиротела и лишилась тех, кто ей сродни, приступают уже другие лица, вовсе ее нe достойные. Они позорят ее и навлекают на нее упрек в том, за что как раз и порицают ее, по твоим словам, ее хулители, говоря, будто с ней имеют дело люди либо ничего не стоящие, либо же в большинстве своем заслуживающие всего самого худшего.
– Действительно, так об этом и говорят.
d
– И правильно говорят. Ведь иные людишки чуть увидят, что область эта опустела, а между тем полна громких имен и показной пышности, тотчас же, словно те, кто из темницы убегает в святилище, с радостью делают скачок прочь от ремесла к философии – особенно те, что половчее в своем ничтожном дельце. Хотя философия находится в таком положении, однако сравнительно с любым другим мастерством она все же гораздо больше в чести, что и привлекает к ней многих людей, несовершенных по своей природе: тело у них покалечено ремеслом и производством, да и души их сломлены и изнурены грубым трудом; ведь это неизбежно.
e
– Да, совсем неизбежно.
– А посмотреть, так чем они отличаются от разбогатевшего кузнеца, лысого и приземистого, который недавно вышел из тюрьмы, помылся в бане, приобрел себе новый плащ и нарядился – ну прямо жених? Да он и собирается жениться на дочери своего господина, воспользовавшись его бедностью и беспомощностью.
– Ничем почти не отличаются.
– Что же может родиться от таких людей? Не будет ли их потомство незаконнорожденным и негодным?
496
– Это неизбежно.
– Что же? Когда люди, недостойные воспитания, приближаясь к нему, ведут себя недостойно, какие, можем мы ожидать, родятся тогда намерения и мнения? Поистине они не заслуживают называться мудростью, поскольку в них нет ни подлинности, ни мысли.
– Совершенно верно.
– Остается совсем малое число людей, Адимант, достойным образом общающихся с философией[1502]
: это либо те, кто, подвергшись изгнанию, сохранил как человек, получивший хорошее воспитание, благородство своей натуры –
b
а раз уж не будет гибельных влияний, он, естественно, и не бросит философии, – либо это человек великой души, родившийся в маленьком государстве: делами своего государства он презрительно пренебрежет. Обратится к философии, пожалуй, еще и небольшое число представителей других искусств: обладая хорошими природными задатками, они справедливо пренебрегут своим прежним занятием. Может удержать и такая узда, как у нашего приятеля Феага[1503]
:
c
у него решительно все клонилось к тому, чтобы отпасть от философии, но присущая ему болезненность удерживает его от общественных дел. О моем собственном случае – божественном знамении[1504]
– не стоит и упоминать: такого, пожалуй, еще ни с кем раньше не бывало.
Все вошедшие в число этих немногих, отведав философии, узнали, какое это сладостное и блаженное
достояние; они довольно видели безумие большинства, а также и то, что в государственных делах никто не совершает, можно сказать, ничего здравого и что там не найти себе союзника, чтобы с ним вместе прийти на помощь правому делу и уцелеть, –
d
напротив, если человек, словно очутившись среди зверей, не пожелает сообща с ними творить несправедливость, ему не под силу будет управиться одному со всеми дикими своими противниками, и, прежде чем он успеет принести пользу государству или своим друзьям, он погибнет без пользы и для себя, и для других. Учтя все это, он сохраняет спокойствие и делает свое дело, словно укрывшись за стеной в непогоду.
e
Видя, что все остальные преисполнились беззакония, он доволен, если проживет здешнюю жизнь чистым от неправды и нечестивых дел, а при исходе жизни отойдет радостно и кротко, уповая на лучшее.
– Значит, он отходит, достигнув немалого!
497
– Однако все же не до конца достигнув того, что он мог, так как государственный строй был для него неподходящим. При подходящем строе он и сам бы вырос и, сохранив все свое достояние, сберег бы также и общественное.
Так вот насчет философии – из‑за чего у нее такая дурная слава (а между тем это несправедливо),–по‑моему, уже сказано достаточно, если у тебя нет других замечаний.
– Я ничего не могу к этому добавить. Но какое из существующих теперь государственных устройств ты считаешь для нее подобающим? Извращенное государственное устройство губительно действует на философа
b
– Нет такого. На это‑то я и сетую, что ни одно из нынешних государственных устройств не достойно натуры философа. Такая натура при них извращается и меняет свой облик. Подобно тому как иноземные семена, пересаженные на чуждую им почву, теряют свою силу и приобретают свойство местных растений, так и подобные натуры в настоящее время не осуществляют своих возможностей, получая чуждый им склад.
c
Но стоит такой натуре очутиться в государстве, превосходно устроенном, как и она сама, – вот тогда‑то и обнаружится, что она и в самом деле божественна, всё же прочее – другие натуры и другие занятия – не более как человеческое.
Очевидно, после этого ты спросишь, что это за государственный строй.
– Ты не угадал. Я собирался спросить не так, а вот как: другой ли это строй или же тот самый, который мы разбирали, основывая наше государство?
– В общем это он. Ведь и тогда было сказано, что в государстве всегда должна существовать некая часть, придерживающаяся такого же взгляда, как и ты, когда как законодатель устанавливал законы.
d
– Да, это было сказано.
– Но не было достаточно разъяснено, так как вы, заранее охваченные страхом, решили, что рассмотрение этого вопроса будет длительным и трудным. Впрочем, и все остальное тоже совсем не легко разобрать.
– Что именно? Способы избежать неверного применения философии в государстве
– Каким образом применять философию так, чтобы государство от этого не пострадало? Ведь все великое неустойчиво, а прекрасное, но пословице, действительно трудно[1505]
.
e
– Однако наше доказательство лишь тогда будет доведено до конца, если и это станет очевидным.
– Препятствием будет служить не отсутствие желания, а разве что недостаток сил. Ты сейчас сам увидишь мое усердие: посмотри, как настойчиво и отважно я решаюсь сказать, что государство должно приниматься за это дело совсем противоположным образом, чем теперь.
– А как?
498
– В настоящее время, если кто и касается философии, так это подростки, едва вышедшие из детского возраста: прежде чем обзавестись домом и заняться делом, они, едва приступив к труднейшей части философии, бросают ее, в то же время изображая из себя знатоков; труднейшим же я нахожу в ней то, что касается доказательств. Впоследствии, если по совету других – тех, кто занимается философией, – они пожелают стать их слушателями, то считают это великой заслугой, хоть и полагают, что заниматься этим надо лишь между прочим.
b
А к старости они, за немногими исключениями, угасают скорее, чем Гераклитово солнце[1506]
, поскольку никогда уже не загораются снова.
– А как же надо заниматься философией?
– Совершенно иначе. Подростки и мальчики должны получать воспитание и изучать философию соответственно их юному возрасту, непрестанно заботясь своем теле, пока они растут и мужают; философии это будет в помощь. С возрастом, когда начнет совершенствоваться их душа, они должны напряженно ее упражнять.
c
Когда же их сила иссякнет и не по плечу будут им гражданские и воинские обязанности, тогда вконец наступит для них приволье: ничем иным они не будут заниматься, разве что между прочим, коль скоро они намерены вести блаженную жизнь, а скопившись, добавить к прожитой жизни подобающий потусторонний удел.
– Правду сказать, Сократ, ты, по‑моему, говоришь увлечением, однако, думаю я, большинство слушателей начиная с Фрасимаха с еще большим увлечением стали бы тебе возражать: ведь ты их ни в чем не убедил.
d
– Не ссорь меня с Фрасимахом; мы только что стали друзьями да и раньше не были врагами. Я не вставлю неиспробованным ни одного средства, пока мне не удастся убедить и его, и остальных или пока я не принесу им хоть какой‑нибудь пользы в той их жизни, когда, вновь родившись, они опять столкнутся с подобными вопросами.
– Ты загадываешь совсем ненадолго!
e
– Это ничтожный срок по сравнении с вечностью. А что большинство людей не верит словам другого, это не диво. Ведь они никогда не видали того, о чем мы сейчас говорим, – для них все это какие‑то фразы, умышленно подогнанные друг к другу, а не [положения], вытекающие, как сейчас, само собой одно из другого. Да и человека, который был бы равен или подобен самой добродетели, который в пределах возможного достиг бы совершенства в деле и слове и владычествовал бы в государстве подобного рода, они никогда не видали – ни одного, ни многих таких людей. Или, думаешь ты, случалось им видеть?
499
– Ни в коем случае.
– Да и не довелось им, мой милый, стать довольными слушателями прекрасных и благородных рассуждений, усердно и всеми средствами доискивающихся истины ради познания и ничего общего не имеющих с чванными препирательствами ради славы или из‑за соперничества в судах и при личном общении.
b
– Да, таких рассуждений они не слыхали.
– Вот почему, хотя мы и тогда предвидели это и этого опасались, все же, влекомые истиной, мы говорили, что ни государство, ни его строй, так же как и отдельный человек, не станут никогда совершенными, пока не случится какая‑нибудь необходимость, которая заставит этих немногочисленных философов – людей вовсе не дурных, хотя их и называют теперь бесполезными, – принять на себя заботу о государстве, желают ли они того или нет (и государству придется их слушаться);
c
или пока по какому‑то божественному наитию не будут охвачены подлинной страстью к подлинной философии сыновья нынешних властителей и царей либо они сами. Считать, что какая‑нибудь одна из этих двух возможностей пли они обе – дело неосуществимое, я лично не нахожу никаких оснований. Иначе нас справедливо высмеяли бы за то, что мы занимаемся пустыми пожеланиями. Разве не так?
– Да, так. Осуществимость идеального государства
d
– Если для людей выдающихся в философии возникала когда‑либо в беспредельности минувшего или существует теперь необходимость взять на себя заботу о государстве – в какой‑либо варварской местности, далеко, вне нашего кругозора – или если такая необходимость возникнет впоследствии, мы готовы упорно отстаивать взгляд, что такой государственный строй был, есть и будет, коль скоро именно эта Муза оказывается владычицей государства. Осуществление такого строя вполне возможно, и о невозможном мы не говорим. А что это трудно, признаем и мы.
– И я с этим согласен.
– Но ты скажешь, что большинство с этим все‑таки несогласно.
– Пожалуй.
e
– Милый мой, не стоит так уж винить большинство. Оно переменит свое мнение, если ты без резкостей, мягко опровергнешь дурную славу любви к познанию, покажешь, каковы, по‑твоему, философы, и определишь их природу и занятие, чтобы большинство по думало, будто ты говоришь о тех, кого оно само считает философами.
500
Если оно так взглянет на них, право же, ты скажешь, что у него составилось уже другое мнение и оно по‑другому о них отзывается. Уж не думаешь ли ты, что кто‑нибудь станет относиться с раздражением к тому, кто не раздражителен, и с завистью к тому, кто не завистлив? Предвосхищаю твой E ответ и скажу, что, по‑моему, столь тяжелый нрав; встречается у очень немногих людей, большинству же не свойствен.
– Успокойся, я разделяю твой взгляд.
b
– А согласен ли ты и с тем, что виновниками нерасположения большинства к философии бывают те посторонние лица, которые шумной ватагой вторгаются куда не следует, поносят людей, проявляя к ним враждебность, и все время позволяют себе личные выпады – иначе говоря, ведут себя совершенно неподобающим для философов образом?
– Полностью согласен.
– Между тем, Адимант, тому, кто действительно направил свою мысль на бытие, уже недосуг смотреть вниз, на человеческую суету и, борясь с людьми, преисполняться недоброжелательства и зависти.
c
Видя и созерцая нечто стройное и вечно тождественное, не творящее несправедливости и от нее не страдающее, полное порядка и смысла, он этому подражает и как можно более ему уподобляется. Или ты думаешь, будто есть какое‑то средство не подражать тому, чем восхищаешься при общении?
– Это невозможно.
– Общаясь с божественным и упорядоченным, философ также становится упорядоченным и божественным, насколько это в человеческих силах. Оклеветать же можно все на свете.
d
– И даже очень.
– Так вот, если у философа возникнет необходимость позаботиться о том, чтобы внести в частный и общественный быт людей то, что он там усматривает, и не ограничиваться собственным совершенствованием, думаешь ли ты, что из него выйдет плохой мастер по части рассудительности, справедливости и всей вообще добродетели, полезной народу?
e
– Совсем неплохой.
– Но если люди поймут, что мы говорим о нем правду, станут ли они негодовать на философов и выражать недоверие нашему утверждению, что никогда, ни в коем случае не будет процветать государство, если его не начертят художники но божественному образцу?
– Раз поймут, то уже не будут негодовать. Но о каком способе начертания ты говоришь?
501
– Взяв, словно доску, государство и нравы людей, они сперва очистили бы их, что совсем нелегко. Но, как ты знаешь, они с самого начала отличались бы от других тем, что не пожелали бы трогать ни частных лиц, ни государства и не стали бы вводить в государстве законы, пока не получили бы его чистым или сами не сделали бы его таким.
– Это верно.
– После этого, правда ведь, они сделают набросок государственного устройства?
– Как же иначе?
b
– Затем, думаю я, разрабатывая этот набросок, они пристально будут вглядываться в две вещи: в то, что но природе справедливо, прекрасно, рассудительно и так далее, и в то, каково же все это в людях. Смешивая и сочетая навыки людей, они создадут прообраз человека, определяемый тем, что уже Гомер назвал боговидным и богоподобным свойством, присущим людям[1507]
.
– Это верно.
– И я думаю, кое‑что они будут стирать, кое‑что рисовать снова, пока не сделают человеческие нравы, насколько это осуществимо, угодными богу.
c
– Это была бы прекраснейшая картина!
– А тех, кто, по твоим словам, сомкнутым строем шел против нас, разве мы не убедили бы, что именно таков начертатель государственных устройств, которого мы им хвалили раньше, а они негодовали, что мы ему вверили государство? Если бы они послушались нас сейчас, неужели они не смягчились бы?
– Конечно, если они в здравом уме.
d
– Какие же у них могут быть возражения? Разве только что философы не страстные поклонники истины и бытия?
– Это было бы нелепо.
– Или что философская натура, которую мы разобрали, не родственна наивысшему благу?
– И это звучало бы так же.
– Далее. Если уж не эта, то какая другая натура, коль скоро ей найдется надлежащее применение, будет полностью добродетельной и философской? Может быть, мы скорее в состоянии это утверждать о тех натурах, что мы отвергли?
e
– Конечно, нет.
– Или их все еще приводят в ярость наши слова, что ни для государства, ни для граждан не будет конца несчастьям, пока владыкой государства не станет племя философов или пока не осуществится на деле тот государственный строй, который мы словесно обрисовали?
– Быть может, это их злит, хотя теперь уже меньше.
– Если ты не против, давай скажем, что они не только меньше злятся, но совсем уже стали кроткими и дали себя убедить, пусть только из стыдливости.
502
– Я, конечно, не против.
– Итак, будем считать, что в этом мы их убедили. Но кто же станет оспаривать следующее: ведь может лучиться, что среди потомков царей и властителей встретятся философские натуры…
– С этим не будет спорить никто.
– А раз такие натуры встречаются, так ли уж неизбежно предстоит им подвергнуться порче? Что трудно им себя охранить, это и мы признаем. Но разве бесспорно, что во все времена ни одному из всех них никогда не удалось уберечься?
b
– Вовсе нет.
– Между тем достаточно появиться одному такому лицу, имеющему в своем подчинении государство, и человек этот совершит все то, чему теперь не верят.
– Его одного было бы достаточно.
– Ведь если правитель будет устанавливать законы и обычаи, которые мы разбирали, не исключено, что граждане охотно станут их выполнять.
– Это вовсе не исключено.
– А разве примкнуть к нашим взглядам будет для других чем‑то диковинным и невозможным?
c
– Я лично этого не думаю.
– Между тем мы раньше в достаточной мере, думаю я, разобрали, что предложенное нами – это наилучшее, будь оно только осуществимо.
– Да, мы разобрали это достаточно.
– А теперь у нас так выходит насчет законодательства: всего лучше, если бы осуществилось то, о чем мы говорим, и хотя это трудно, однако не невозможно.
– Выходит так.
d
– После того как мы насилу покончили с этим вопросом, надо сказать и об остальном. Каким образом и посредством каких наук и занятий получаются люди, на которых зиждется все государственное устройство? В каком возрасте каждый из них приступает к каждому из этих дел?
– Да, об этом надо сказать.
– Я ничего не выгадал, стараясь раньше опустить тягостный вопрос, касающийся обзаведения женами, деторождения и назначения на правительственные должности, – я знал тогда, что полная правда будет неприятна и тяжела;
e
но все равно вышло, что необходимость рассмотрения этого вопроса сейчас нисколько не меньше. Впрочем, что касается жен и детей, это уже выполнено, а вот насчет правителей приходится приниматься за разбор как бы сызнова.
503
Если ты помнишь, мы говорили, что им должна быть присуща любовь к своему государству, испытанная и в радости, и в горе, и должно быть заметно, что от этого своего правила они не откажутся ни при каких трудностях, опасностях или иных превратностях. Кто здесь окажется слаб, того придется отвергнуть, но тот, кто чистым выйдет из этого испытания, словно золото из огня, того надо поставить правителем, оказывать ему особые почести и присуждать награды как при жизни, так и после кончины. Вот что примерно было сказано, когда наша беседа мимоходом коснулась этого, но тотчас же спряталась из страха возбудить то, что сейчас перед нами возникло.
b
– Сущая правда; я ведь помню.
– Тогда я, мой друг, не решался сказать то, что теперь решился. Осмелимся же сказать и то, что в качестве самых тщательных стражей следует ставить философов.
– Пусть это будет сказано. Еще о природе философа и четырех добродетелях
– Прими во внимание, что у тебя их, естественно, будет немного: ведь природа их должна быть такой, как мы разобрали, между тем все свойства подобных натур редко встречаются вместе: большей частью они бывают разбросаны.
c
– Что ты имеешь в виду?
– Способность к познанию, память, остроумие, проницательность и все, что с этим связано, обычно, как ты знаешь, не встречаются все зараз, а люди по‑юношески задорные и с блестящим умом не склонны всегда жить размеренно и спокойно; напротив, из‑за своей живости они мечутся во все стороны, и все постоянное их покидает.
– Ты прав.
d
– Если же люди отличаются постоянством нрава и переменчивость им чужда, на их верность можно скорее положиться, и на войне они с трудом поддаются страху, но эти же их свойства сказываются при усвоении знаний: они неподатливы, невосприимчивы и словно находятся в оцепенении, а когда надо над чем‑нибудь таким потрудиться, их одолевают сон и зевота.
– Это бывает.
– Между тем мы говорили, что человек должен в полной мере обладать и теми, и этими свойствами, иначе не стоит давать ему столь тщательное воспитание, удостаивать его почестей и вручать ему власть.
– Это верно.
e
– Но не находишь ли ты, что указанное сочетание редко встречается?
– Да, редко!
– Значит, надо проверять человека в трудностях, опасностях и радостях, о чем мы и говорили раньше. Кроме того, добавим сейчас то, что мы тогда пропустили: надо упражнять его во многих науках, наблюдая, способен ли он воспринять самые высокие познания или он их убоится, подобно тому как робеют люди в случае усилий иного рода.
504
– Это следует наблюдать. Но какие познания ты называешь высокими?
– Вероятно, ты помнишь, что, различив три вида души[1508]
, мы сделали вывод относительно справедливости, рассудительности, мужества и мудрости, определив, что такое каждое из них.
– Если бы я не помнил, я не был бы вправе слушать дальнейшее.
– А помнишь ли ты то, что было сказано перед этим?
b
– Что именно?
– Мы как‑то говорили, что для наилучшего рассмотрения этих свойств есть другой, более долгий путь, и, если пойти по нему, они станут вполне ясными, но уже и из ранее сказанного можно сделать нужные заключения. Последнее вы признали достаточным, и, таким образом, получились выводы, на мой взгляд, не вполне точные. А удовлетворяют ли они вас, пожалуйста, скажите сами.
– Но мне‑то, – отвечал Адимант, – они показались в меру доказательными, да и остальным тоже.
c
– Но, дорогой мой, мера в таких вещах, если она хоть сколько‑нибудь отстает от действительности, уже не будет в надлежащей степени доказательной. Ведь несовершенное не может служить мерой чего бы то ни было. Впрочем, некоторым иной раз уже и это кажется достаточным, а дальнейшие поиски излишними.
– Такое впечатление создается очень у многих из‑за их равнодушия.
– Но всего менее должен этому поддаваться страж государства и законов.
– Конечно.
d
– Значит, мой друг, ему надо идти более долгим путем и не меньше усилий приложить к приобретению знаний, чем к гимнастическим упражнениям, иначе, как мы только что говорили, он никогда не достигнет совершенства в самом важном и наиболее ему нужном знании.
– Да разве не это самое важное и есть что‑то важнее справедливости и всего того, что мы разбирали?
– Да, есть нечто более важное, и это следует рассматривать не только в общих чертах, как мы делаем теперь: напротив, там нельзя ничего упустить, все должно быть завершенным.
e
Разве не смешно, что в вещах незначительных прилагают старания, чтобы все вышло как можно точнее и чище, а в самом важном деле будто бы и вовсе не требуется величайшая тщательность! Идея (эйдос) блага
– Конечно, твое замечание ценно. Но что такое это важнейшее знание и о чем оно, как ты считаешь? Или, ты думаешь, тебя отпустят, не задав этого вопроса?
– На это я не слишком рассчитываю – пожалуйста, задавай вопросы и ты. Во всяком случае ты уже нередко об этом слышал, а сейчас ты либо не соображаешь, либо умышленно хочешь снова мне наделать хлопот своим вмешательством; последнее, думаю я, вероятнее.
505
Ты часто уже слышал: идея блага[1509]
– вот, это самое важное знание; ею обусловлена пригодность и полезность справедливости и всего остального. Ты и сейчас почти наверное знал, что я именно так скажу и вдобавок, что идею эту мы недостаточно знаем. А коль скоро не знаем, то без нее, даже если у нас будет наибольшее количество сведений обо всем остальном, уверяю тебя, ничто не послужит нам на пользу: это вроде того как приобрести себе какую‑нибудь вещь, не думая о благе, которое она принесет.
b
Или, ты думаешь, главное дело в том, чтобы приобрести побольше имущества, не думая о том, хорошее ли оно? Может быть, надо понимать все что угодно, а о прекрасном и благом вовсе не помышлять?
– Клянусь Зевсом, я этого не думаю.
– Но ведь ты знаешь, что, по мнению большинства, благо состоит в удовольствии, а для людей более тонких – в понимании?[1510]
– Конечно.
– И знаешь, мой Друг, те, кто держится этого взгляда, не в состоянии указать, что представляет собой это понимание, но в конце концов бывают вынуждены сказать, будто оно есть понимание того, что хорошо.
– Это просто смешно.
c
– Еще бы не смешно, если, упрекая нас в неведении блага, она затем говорят с нами как с ведающими это, называя благом понимание того, что хорошо: как будто нам станет понятно, что они говорят, если они будут часто произносить слово «благо».
– Сущая правда.
– Что же? Те, кто определяет благо как удовольствие, меньше ли исполнены заблуждений? Разве им не приходится признать, что бывают дурные удовольствия?
– И даже очень дурные.
d
– Выходит, думаю я, что они признают, будто благо и зло – одно и то же[1511]
. Разве нет?
– Именно так.
– Следовательно, ясно, что во всем этом очень много спорного.
– Конечно.
e
– Далее. Разве не ясно и это: в качестве справедливого и прекрасного многие выбрали бы то, что кажется им таким, хотя бы оно и не было им на самом деле, и соответственно действовали бы, приобретали и выражали бы свои мнения; что же касается блага, здесь никто не довольствуется обладанием мнимого, но все ищут подлинного блага, а мнимым всякий пренебрегает.
– Безусловно.
– К благу стремится любая душа и ради него все совершает; она предчувствует, что есть нечто такое, но ей трудно и не хватает сил понять, в чем же оно состоит. Она не может на это уверенно опереться, как на все остальное,
506
вот почему она терпит неудачу и в том остальном, что могло бы быть ей на пользу. Неужели мы скажем, что и те лучшие в государстве люди, которым мы готовы все вверить, тоже должны быть в таком помрачении относительно этого важного предмета?
– Ни в коем случае.
– Я думаю, что справедливость и красота, если неизвестно, в каком отношении они суть благо, не найдут для себя достойного стража в лице человека, которому это неведомо. Да, я предвижу, что без этого никто и не может их познать.
– Ты верно предвидишь.
b
– Между тем государственный строй будет у нас в совершенном порядке только в том случае, если его будет блюсти страж, в этом сведущий.
– Это необходимо. Но ты‑то сам, Сократ, считаешь благо знанием или удовольствием? Или чем‑то иным, третьим?
– Ну что ты за человек! Мне хорошо известно, да и ты прежде явно показывал, что тебя не могут удовлетворить обычные мнения об этих вещах.
– Мне кажется, Сократ, неправильным, когда чужие взгляды умеют излагать, а свои собственные – нет, несмотря на долгие занятия в этой области.
c
– Как так? По‑твоему, человек вправе говорить о том, чего он не знает, выдавая себя за знающего?
– Вовсе не за знающего, но пусть он изложит, что он думает, именно как свои соображения.
– Как? Разве ты не замечал, что все мнения, не основанные на знании[1512]
, никуда не годятся? Даже лучшие из них и те слепы. Если у людей бывают какие‑то верные мнения, не основанные на понимании, то чем они, по‑твоему, отличаются от слепых, которые правильно идут по дороге?
– Ничем.
d
– Ты предпочитаешь наблюдать безобразное, туманное и неясное, хотя есть возможность узнать от других, что и ясно и красиво?
– Ради Зевса, Сократ, – воскликнул Главкон, – не отстраняйся, словно ты уже закончил рассуждение. С нас будет достаточно, если ты разберешь вопрос о благе так, как ты рассматривал справедливость, рассудительность и все остальное.
– Мне же, дорогой мой, этого тем более будет достаточно. Как бы мне только не сплоховать, а то своим нелепым усердием я вызову смех. Но, мои милые, что такое благо само по себе, это мы пока оставим в стороне,
e
потому что, мне кажется, оно выше тех моих мнений, которых можно было достигнуть при нынешнем нашем размахе. А вот о том, что рождается от блага и чрезвычайно на него походит, я охотно поговорил бы, если вам угодно, а если нет, тогда оставим и это.
– Пожалуйста, говори, а о его родителе[1513]
ты нам расскажешь в дальнейшем.
507
– Хотелось бы мне быть в состоянии отдать вам целиком этот мой долг, а не только проценты, как теперь. Но взыщите пока хоть проценты, то есть то, что рождается от самого блага. Однако берегитесь, как бы я нечаянно не провел вас, представив неверный счет.
– Мы остережемся по мере сия. Но ты продолжай.
– Все же только заручившись вашим согласием и напомнив вам о том, что мы с вами уже говорили, раньше да и вообще нередко упоминали.
b
– А именно?
– Мы считаем, что есть много красивых вещей, много благ и так далее, и мы разграничиваем их с помощью определения.
– Да, мы так считаем.
– А также, что есть прекрасное само по себе, благо само по себе и так далее в отношении всех вещей, хотя мы и признаем, что их много. А что такое каждая вещь, мы уже обозначаем соответственно единой идее, одной для каждой вещи.
– Да, это так.
c
– И мы говорим, что те вещи можно видеть, но не мыслить, идеи же, напротив, можно мыслить, но не видеть.
– Конечно.
– Посредством чего в нас видим мы то, что мы видим?
– Посредством зрения.
– И не правда ли, посредством слуха мы слышим все то, что можно слышать, а посредством остальных чувств мы ощущаем все, что поддается ощущению?
– Ну и что же?
– Обращал ли ты внимание, до какой степени драгоценна эта способность видеть и восприниматься зрением, созданная в наших ощущениях демиургом?
d
– Нет, не особенно.
– А ты взгляни на это вот как: чтобы слуху слышать, а звуку звучать, требуется ли еще нечто третье, д так, что когда оно отсутствует, ничто не слышится и не звучит?
– Ничего третьего тут не нужно.
– Я думаю, что и для многих остальных ощущений – но не для всех – не требуется ничего подобного. Или ты можешь что‑нибудь возразить?
– Нет, не могу.
– А разве ты не замечал, что это требуется для зрения и для всего того, что можно видеть?
– Что ты говоришь?
e
– Какими бы зоркими и восприимчивыми к цвету ни были у человека глаза, ты ведь знаешь, он ничего не увидит и не различит, если попытается пользоваться своим зрением без наличия чего‑то третьего, специально для этого предназначенного.
– Что же это, по‑твоему, такое?
– То, что ты называешь светом.
– Ты прав.
– Значит, немаловажным началом связуются друг с другом зрительное ощущение и возможность зрительно восприниматься; их связь ценнее всякой другой, потому что свет драгоценен.
508
– Еще бы ему не быть!
– Кого же из небесных богов можешь ты признать владычествующим над ним и чей это свет позволяет нашему зрению всего лучше видеть, а предметам – восприниматься зрением?
– Того же бога, что и ты, и все остальные. Ведь ясно, что ты спрашиваешь о Солнце.
– А не находится ли зрение по своей природе вот в каком отношении к этому богу…
– В каком?
b
– Зрение ни само по себе, ни в том, в чем оно, возникает, – мы называем это глазом – не есть Солнце.
– Конечно, нет.
– Однако из орудий наших ощущений оно самое солнцеобразное.
– Да, самое.
– И та способность, которой обладает зрение, уделена ему Солнцем, как некое истечение.
– Конечно.
– Значит, и Солнце не есть зрение. Хотя оно – причина зрения, но само зрение его видит.
– Да, это так.
c
– Вот и считай, что я утверждаю это и о том, что порождается благом, – ведь благо произвело его подобным самому себе: чем будет благо в умопостигаемой области по отношению к уму и умопостигаемому, тем в области зримого будет Солнце по отношению к зрению и зрительно постигаемым вещам.
– Как это? Разбери мне подробнее.
– Ты знаешь, когда напрягаются, чтобы разглядеть предметы, озаренные сумеречным сиянием ночи, а не те, цвет которых предстает в свете дня, зрение притупляется, и человека можно принять чуть ли не за слепого, как будто его глаза не в порядке.
– Действительно, это так.
d
– Между тем те же самые глаза отчетливо видят предметы, освещенные Солнцем: это показывает, что зрение в порядке.
– И что же?
– Считай, что так бывает и с душой: всякий раз, когда она устремляется туда, где сияют истина и бытие, она воспринимает их и познает, а это показывает ее разумность. Когда же она уклоняется в область смешения с мраком, возникновения и уничтожения, она тупеет, становится подверженной мнениям, меняет их так и этак, и кажется, что она лишилась ума.
e
– Похоже на это.
– Так вот, то, что придает познаваемым вещам истинность, а человека наделяет способностью познавать, это ты и считай идеей блага – причиной знания и познаваемости истины. Как ни прекрасно и то и другое – познание и истина, но если идею блага ты будешь считать чем‑то еще более прекрасным, ты будешь прав.
509
Как правильно было считать свет и зрение солнцеобразными, но признать их Солнцем было бы неправильно, так и здесь: правильно считать познание и истину имеющими образ блага, но признать которое‑либо из них самим благом было бы неправильно: благо по его свойствам надо ценить еще больше.
– Каким же ты считаешь его несказанно прекрасным, если по твоим словам, от него зависят и познание, и истина, само же оно превосходит их своей красотой! Но конечно, ты понимаешь под этим не удовольствие?
– Не кощунствуй! Лучше вот как рассматривай его образ…
– Как?
b
– Солнце дает всему, что мы видим, не только возможность быть видимым, но и рождение, рост, а также питание, хотя само оно не есть становление.
– Как же иначе?
– Считай, что и познаваемые вещи могут познаваться лишь благодаря благу; оно же дает им и бытие, и существование, хотя само благо не есть существование, оно – за пределами существования, превышая его достоинством и силой.
c
Тут Главкон очень забавно воскликнул:
– Аполлон! Как удивительно высоко мы взобрались!
– Ты сам виноват, – сказал я, – ты заставляешь меня излагать мое мнение о благе. – И ты ни в коем случае не бросай этого; не говоря уж о другом, разбери снова это сходство с Солнцем – не пропустил ли ты чего.
– Ну, там у меня многое пропущено.
– Не оставляй в стороне даже мелочей!
– Думаю, их слишком много; впрочем, насколько это сейчас возможно, постараюсь ничего не пропустить.
– Непременно постарайся. Мир умопостигаемый и мир видимый
d
– Так вот, считай, что есть двое владык, как мы и говорили: один –надо всеми родами и областями умопостигаемого, другой, напротив, надо всем зримым – не хочу называть это небом, чтобы тебе не казалось, будто я как‑то мудрю со словами. Усвоил ты эти два вида, зримый и умопостигаемый?
– Усвоил.
– Для сравнения возьми линию, разделенную на два неравных отрезка. Каждый такой отрезок, то есть область зримого и область умопостигаемого, раздели опять таким же путем, причем область зримого ты разделишь по признаку большей или меньшей отчетливости.
e
Тогда один из получившихся там отрезков будет содержать образы. Я называю так прежде всего тени, затем отражения в воде и в плотных, гладких и глянцевитых предметах – одним словом, все подобное этому.
510
– Понимаю.
– В другой раздел, сходный с этим, ты поместишь находящиеся вокруг нас живые существа, все виды растений, а также все то, что изготовляется.
– Так я это и размещу.
– И разве не согласишься ты признать такое разделение в отношении подлинности и неподлинности: как то, что мы мним, относится к тому, что мы действительно знаем, так подобное относится к уподобляемому.
b
– Я с этим вполне согласен.
– Рассмотри в свою очередь и разделение области умопостигаемого – по какому признаку надо будет ее делить.
– По какому же? Беспредпосылочное начало. Разделы умопостигаемого и видимого.
– Один раздел умопостигаемого душа вынуждена искать на основании предпосылок, пользуясь образами из получившихся у нас тогда отрезков и устремляясь поэтому не к началу, а к завершению. Между тем другой раздел душа отыскивает, восходя от предпосылки к началу, такой предпосылки не имеющему. Без образов, какие были в первом случае, но при помощи самих идей пролагает она себе путь[1514]
.
c
– То, что ты говоришь, я недостаточно понял.
– Тебе легче будет понять, если сперва я скажу вот что: я думаю, ты знаешь, что те, кто занимается геометрией, счетом и тому подобным, предполагают в любом своем исследовании, будто им известно, что такое чет и нечет, фигуры, три вида углов и прочее в том же роде.
d
Это они принимают за исходные положения и не считают нужным отдавать в них отчет ни себе, ни другим, словно это всякому и без того ясно. Исходя из этих положений, они разбирают уже все остальное и последовательно доводят до конца то, что было предметом их рассмотрения.
– Это‑то я очень хорошо знаю.
– Но ведь когда они вдобавок пользуются чертежами и делают отсюда выводы, их мысль обращена но на чертеж, а на те фигуры, подобием которых он служит. Выводы свои они делают только для четырехугольника самого по себе и его диагонали, а не для той диагонали, которую они начертили.
e
Так и во всем остальном. То же самое относится к произведениям ваяния и живописи: от них может падать тень, и возможны их отражения в воде, но сами они служат лишь образным выражением того, что можно видеть не иначе как мысленным взором.
511
– Ты прав.
– Вот об этом виде умопостигаемого я тогда и говорил: душа в своем стремлении к нему бывает вынуждена пользоваться предпосылками и потому не восходит к его началу, так как она не в состоянии выйти за пределы предполагаемого и пользуется лишь образными подобиями, выраженными в низших вещах, особенно в тех, в которых она находит и почитает более отчетливое их выражение.
b
– Я понимаю: ты говоришь о том, что изучают при помощи геометрии и родственных ей приемов.
– Пойми также, что вторым разделом умопостигаемого я называю то, чего наш разум достигает с помощью диалектической способности. Свои предположения он не выдает за нечто изначальное, напротив, они для него только предположения, как таковые, то есть некие подступы и устремления к началу всего, которое уже не предположительно.
c
Достигнув его и придерживаясь всего, с чем оно связано, он приходит затем к заключению, вовсе не пользуясь ничем чувственным, но лишь самими идеями в их взаимном отношении, и его выводы относятся только к ним.
– Я понимаю, хотя и не в достаточной степени:
мне кажется, ты говоришь о сложных вещах. Однако ты хочешь установить, что бытие и все умопостигаемое при помощи диалектики можно созерцать яснее, чем то, что рассматривается с помощью только так называемых наук, которые исходят из предположений.
d
Правда, и такие исследователи бывают вынуждены созерцать область умопостигаемого при помощи рассудка, а не посредством ощущений, но поскольку они рассматривают ее на основании своих предположений, не восходя к первоначалу, то, по‑твоему, они и не могут постигнуть ее умом, хотя она вполне умопостигаема, если постичь ее первоначало. Рассудком же ты называешь, по‑моему, ту способность, которая встречается у занимающихся геометрией и им подобных. Однако это еще не ум, так как рассудок[1515]
занимает промежуточное положение между мнением и умом.
e
– Ты выказал полнейшее понимание. С указаннными четырьмя отрезками соотнеси мне те четыре состояния, что возникают в душе: на высшей ступени – разум, на второй – рассудок, третье место удели вере, а последнее – уподоблению[1516]
, и расположи их соответственно, считая, что насколько то или иное состояние причастно истине, столько же в нем и достоверности.
– Понимаю. Я согласен и расположу их так, как ты говоришь.
Перевод А. Н. Егунова.
В кн.: Платон. Соб. соч. в 3‑х тт. Т.3 (1). М., 1971
КHИГА VII
Символ пещеры
514
– После этого, – сказал я, – ты можешь уподобить нашу человеческую природу в отношении просвещенности и непросвещенности вот какому состоянию… посмотри‑ка: ведь люди как бы находятся в подземном жилище наподобие пещеры, где во всю ее длину тянется широкий просвет. С малых лет у них там на ногах и на шее оковы, так что людям не двинуться с места, и видят они только то, что у них прямо перед глазами, ибо повернуть голову они не могут из‑за этих оков.
b
Люди обращены спиной к свету, исходящему от огня, который горит далеко в вышине, а между огнем и узниками проходит верхняя дорога, огражденная – глянь‑ка – невысокой стеной вроде той ширмы, за которой фокусники помещают своих помощников, когда поверх ширмы показывают кукол.
– Это я себе представляю.
– Так представь же себе и то, что за этой стеной другие люди несут различную утварь, держа ее так, что она видна поверх стены; проносят они и статуи,
515
и всяческие изображения живых существ, сделанные из камня и дерева. При этом, как водится, одни из несущих разговаривают, другие молчат.
– Странный ты рисуешь образ и странных узников!
– Подобных нам. Прежде всего разве ты думаешь, что, находясь в таком положении, люди что‑нибудь видят, свое ли или чужое, кроме теней, отбрасываемых огнем на расположенную перед ними стену пещеры?
b
– Как же им видеть что‑то иное, раз всю свою жизнь они вынуждены держать голову неподвижно?
– А предметы, которые проносят там, за стеной; Не то же ли самое происходит и с ними?
– То есть?
– Если бы узники были в состоянии друг с другом беседовать, разве, думаешь ты, не считали бы они, что дают названия именно тому, что видят?
– Непременно так.
– Далее. Если бы в их темнице отдавалось эхом все, что бы ни произнес любой из проходящих мимо, думаешь ты, они приписали бы эти звуки чему‑нибудь иному, а не проходящей тени?
– Клянусь Зевсом, я этого не думаю.
c
– Такие узники целиком и полностью принимали бы за истину тени проносимых мимо предметов.
– Это совершенно неизбежно.
– Понаблюдай же их освобождение от оков неразумия и исцеление от него, иначе говоря, как бы это все у них происходило, если бы с ними естественным путем случилось нечто подобное.
Когда с кого‑нибудь из них снимут оковы, заставят его вдруг встать, повернуть шею, пройтись, взглянуть вверх – в сторону света, ему будет мучительно выполнять все это, он не в силах будет смотреть при ярком сиянии на те вещи, тень от которых он видел раньше.
d
И как ты думаешь, что он скажет, когда ему начнут говорить, что раньше он видел пустяки, а теперь, приблизившись к бытию и обратившись к более подлинному, он мог бы обрести правильный взгляд? Да еще если станут указывать на ту или иную мелькающую перед ним вещь и задавать вопрос, что это такое, и вдобавок заставят его отвечать! Не считаешь ли ты, что это крайне его затруднит и он подумает, будто гораздо больше правды в том, что он видел раньше, чем в том, что ему показывают теперь?
– Конечно, он так подумает.
e
– А если заставить его смотреть прямо на самый свет, разве не заболят у него глаза, и не вернется он бегом к тому, что он в силах видеть, считая, что это действительно достовернее тех вещей, которые ему показывают?
– Да, это так.
– Если же кто станет насильно тащить его по крутизне вверх, в гору и не отпустит, пока не извлечет его на солнечный свет, разве он не будет страдать и не возмутится таким насилием?
516
А когда бы он вышел на свет, глаза его настолько были бы поражены сиянием, что он не мог бы разглядеть ни одного предмета из тех, о подлинности которых ему теперь говорят.
– Да, так сразу он этого бы не смог.
– Тут нужна привычка, раз ему предстоит увидеть все то, что там, наверху. Начинать надо с самого легкого: сперва смотреть на тени, затем – на отражения в воде людей и различных предметов, а уж потом – на самые вещи; при этом то, что на небе, и самое небо ему легче было бы видеть не днем, а ночью, то есть смотреть на звездный свет и Луну, а не на Солнце и, его свет.
b
– Несомненно.
– И наконец, думаю я, этот человек был бы в состоянии смотреть уже на самое Солнце, находящееся в его собственной области, и усматривать его свойства, не ограничиваясь наблюдением его обманчивого отражения в воде или в других, ему чуждых средах.
– Конечно, ему это станет доступно.
– И тогда уж он сделает вывод, что от Солнца зависят и времена года, и течение лет, и что оно ведает всем в видимом пространстве и оно же каким‑то образом есть причина всего того, что этот человек и другие узники видели раньше в пещере.
c
– Ясно, что он придет к такому выводу после тех наблюдений.
– Так как же? Вспомнив свое прежнее жилище, тамошнюю премудрость и сотоварищей по заключению, разве не сочтет он блаженством перемену своего положения и разве не пожалеет своих друзей?
– И даже очень.
– А если они воздавали там какие‑нибудь почести и хвалу друг другу, награждая того, кто отличался наиболее острым зрением при наблюдении текущих мимо предметов и лучше других запоминал, что обычно появлялось сперва,
d
что после, а что и одновременно, и на этом основании предсказывал грядущее, то, как ты думаешь, жаждал бы всего этого тот, кто уже освободился от уз, и разве завидовал бы он тем, кого почитают узники и кто среди них влиятелен? Или он испытывал бы то, о чем говорит Гомер, то есть сильнейшим образом желал бы как поденщик, работая в поле,
службой у бедного пахаря хлеб добывать свой насущный[1517]
и скорее терпеть что угодно, только бы не разделять представлений узников и не жить так, как они?
e
– Я‑то думаю, он предпочтет вытерпеть все что угодно, чем жить так.
– Обдумай еще и вот что: если бы такой человек опять спустился туда и сел бы на то же самое место, разве не были бы его глаза охвачены мраком при таком внезапном уходе от света Солнца?
– Конечно.
– А если бы ему снова пришлось состязаться с этими вечными узниками, разбирая значение тех теней? Пока его зрение не притупится и глаза не привыкнут – а на это потребовалось бы немалое время, – разве не казался бы он смешон?
517
О нем стали бы говорить, что из своего восхождения он вернулся с испорченным зрением, а значит, не стоит даже и пытаться идти ввысь. А кто принялся бы освобождать узников, чтобы повести их ввысь, того разве они не убили бы, попадись он им в руки?
– Непременно убили бы.
– Так вот, дорогой мой Главкон, это уподобление следует применить ко всему, что было сказано ранее: область, охватываемая зрением, подобна тюремному жилищу, а свет от огня уподобляется в ней мощи Солнца.
b
Восхождение и созерцание вещей, находящихся в вышине, – это подъем души в область умопостигаемого. Если ты все это допустишь, то постигнешь мою заветную мысль – коль скоро ты стремишься ее узнать, – а уж богу ведомо, верна ли она. Итак, вот что мне видится: в том, что познаваемо, идея блага – это предел, и она с трудом различима, но стоит только ее там различить, как отсюда напрашивается вывод, что именно она – причина всего правильного и прекрасного.
c
В области видимого она порождает свет и его владыку, а в области умопостигаемого она сама – владычица, от которой зависят истина и разумение, и на нее должен взирать тот, кто хочет сознательно действовать как в частной, так и в общественной жизни.
– Я согласен с тобой, насколько мне это доступно.
– Тогда будь со мной заодно еще вот в чем: не удивляйся, что пришедшие ко всему этому не хотят заниматься человеческими делами; их души всегда стремятся ввысь. Да это и естественно, поскольку соответствует нарисованной выше картине.
d
– Да, естественно. Созерцание божественных вещей (справедливости самой по себе) и вещей человеческих
– Что же? А удивительно разве, по‑твоему, если кто‑нибудь, перейдя от божественных созерцании к человеческому убожеству, выглядит неважно и кажется крайне смешным? Зрение еще не привыкло, а между тем, прежде чем он привыкнет к окружающему мраку,
e
его заставляют выступать на суде или еще где‑нибудь и сражаться по поводу теней справедливости или изображений, отбрасывающих эти тени, так что приходится спорить о них в том духе, как это воспринимают люди, никогда не видавшие самое справедливость.
– Да, в этом нет ничего удивительного.
518
– Всякий, кто соображает, вспомнил бы, что есть два рода нарушения зрения, то есть по двум причинам: либо когда переходят из света в темноту, либо из темноты – на свет. То же самое происходит и с душой: это можно понять, видя, что душа находится в замешательстве и не способна что‑либо разглядеть. Вместо того чтобы бессмысленно смеяться, лучше понаблюдать, пришла ли эта душа из более светлой жизни и потому с непривычки омрачилась,
b
или же, наоборот, перейдя от полного невежества к светлой жизни, она ослеплена ярким сиянием: такое ее состояние и такую жизнь можно счесть блаженством, той же, первой посочувствовать[1518]
. Если, однако, при взгляде на нее кого‑то все‑таки разбирает смех, пусть он меньше смеется над ней, чем над той, что явилась сверху, из света.
– Ты очень правильно говоришь.
c
– Раз это верно, вот как должны мы думать об этих душах: просвещенность – это совсем не то, что утверждают о ней некоторые лица, заявляющие, будто в душе у человека нет знания и они его туда вкладывают, вроде того как вложили бы в слепые глаза зрение.
– Верно, они так утверждают.
– А это наше рассуждение показывает, что у каждого в душе есть такая способность; есть у души и орудие, помогающее каждому обучиться. Но.как глазу невозможно повернуться от мрака к свету иначе чем вместе со всем телом, так же нужно отвратиться всей душой ото всего становящегося:
d
тогда способность человека к познанию сможет выдержать созерцание бытия и того, что в нем всего ярче, а это, как мы утверждаем, и есть благо. Не правда ли?
– Да. Искусство обращения человека к созерцанию идей (эйдосов)
– Как раз здесь и могло бы проявиться искусство обращения – каким образом всего легче и действеннее можно обратить человека: это вовсе не значит вложить в него способность видеть – она у него уже имеется, но неверно направлена, и он смотрит не туда, куда надо. Вот здесь‑то и надо приложить силы.
– Видимо, так.
e
– Некоторые положительные свойства, относимые к душе, очень близки, пожалуй, к таким же свойствам тела: в самом деле, у человека сперва их может и не быть, они развиваются позднее путем упражнения и входят в привычку. Но способность понимания, как видно, гораздо более божественного происхождения; она никогда не теряет своей силы, но в зависимости от направленности бывает то полезной и пригодной, то непригодной и даже вредной.
519
Разве ты не замечал у тех, кого называют хотя и дурными людьми, но умными, как проницательна их душонка и как они насквозь видят то, что им надо? Значит, зрение у них неплохое, но оно вынуждено служить их порочности, и, чем острее они видят, тем больше совершают зла.
– Конечно, я это замечал.
– Однако если сразу же, еще в детстве пресечь природные наклонности такой натуры, которые, словно свинцовые грузила, влекут ее к чревоугодию, лакомству и различным другим наслаждениям и направляют взор души вниз,
b
то, освободившись от всего этого, душа обратилась бы к истине, и те же самые люди стали бы различать там все так же остро, как теперь в том, на что направлен их взор. Это естественно. Роль этого искусства в управлении государством
– Что же? А разве естественно и неизбежно не вытекает из сказанного раньше следующее: для управления государством не годятся как люди непросвещенные и не сведущие в Истине, так и те, кому всю жизнь предоставлено заниматься самоусовершенствованием, –
c
первые потому, что в их жизни нет единой цели, стремясь к которой они должны были бы действовать, что бы они ни совершали в частной или общественной жизни, а вторые – потому, что по доброй воле они не станут действовать, полагая, что уже при жизни переселились на Острова блаженных[1519]
.
– Это верно.
– Раз мы – основатели государства, нашим делом будет заставлять лучшие натуры учиться тому познанию, которое мы раньше назвали самым высоким,
d
то есть умению видеть благо и совершать к нему восхождение; но когда, высоко поднявшись, они в достаточной мере его узрят, мы не позволим им того, что в наше время им разрешается.
– Что ты имеешь в виду?
– Мы не позволим им оставаться там, на вершине, из нежелания спуститься снова к тем узникам[1520]
, и, худо ли бедно ли, они должны будут разделить с ними труды их и почести.
– Выходит, мы будем несправедливы к этим выдающимся людям и из‑за нас они будут жить хуже, чем могли бы.
e
– Ты опять забыл, мой друг, что закон ставит своей целью не благоденствие одного какого‑нибудь слоя населения, но благо всего государства. То убеждением, то силой обеспечивает он сплоченность всех Граждан, делая так, чтобы они были друг другу взаимно Полезны в той мере, в какой они вообще могут быть полезны для всего общества.
520
Выдающихся людей он включает в государство не для того, чтобы предоставить им возможность уклоняться куда кто хочет, но чтобы самому пользоваться ими для укрепления государства.
– Правда, я позабыл об этом.
– Заметь Главкон, что мы не будем несправедливы к тем, кто становится у нас философами, напротив, мы предъявим к ним лишь справедливое требование, заставляя их заботиться о других и стоять на страже их интересов.
b
Мы окажем им так: «Во всех других государствах люди, обратившиеся к философии, вправе не принимать участия в государственных делах, потому что люди сделались такими сами собой, вопреки государственному строю, а то, что вырастает само собой, никому не обязано своим питанием, и там не может возникнуть желание возместить по нему расходы. А вас родили мы, для вас же самих и для остальных граждан, подобно тому как у пчел среди их роя бывают вожди и цари. Вы воспитаны лучше и совершеннее, чем те философы, и более их способны заниматься и тем и другим.
c
Поэтому вы должны, каждый в свой черед, спускаться в обитель прочих людей и привыкать созерцать темные стороны жизни. Привыкнув, вы в тысячу раз лучше, чем живущие там, разглядите и распознаете, что представляет собой каждая тень и образ чего она есть, так как вы уже раньше лицезрели правду относительно всего прекрасного, справедливого и доброго. Тогда государство будет у нас с вами устроено уже наяву, а не во сне, как это происходит сейчас в большинстве государств, где идут междоусобные д войны и призрачные сражения за власть, – будто это какое‑то великое благо.
d
По правде же дело обстоит вот как: где всего менее стремятся к власти те, кому предстоит править, там государство управляется лучше всего и распри отсутствуют полностью; совсем иначе бывает в государстве, где правящие настроены противоположным образом.
– Безусловно.
– Но ты думаешь, что наши питомцы, слыша это, выйдут из нашего повиновения и не пожелают трудиться, каждый в свой черед, вместе с гражданами, а предпочтут все время пребывать друг с другом в области чистого [бытия]?[1521]
e
– Этого не может быть, потому что мы обращаемся к людям справедливым с нашим справедливым требованием. Но во всяком случае каждый из них пойдет управлять только потому, что это необходимо – в полную противоположность современным правителям в любом государстве.
– Так уж обстоит дело, дорогой мой. Если ты найдешь для тех, кому предстоит править, лучший образ жизни, чем обладание властью, тогда у тебя может осуществиться государство с хорошим государственным строем.
521
Ведь только в таком государстве будут править те, кто на самом деле богат, – не золотом, а тем, чем должен быть богат счастливый: добродетельной и разумной жизнью. Если же бедные и неимущие добиваются доступа к общественным благам, рассчитывая урвать себе оттуда кусок, тогда не быть добру: власть становится чем‑то таким, что можно оспаривать, и подобного рода домашняя, внутренняя война губит и участвующих в ней, и остальных граждан.
– Совершенно верно.
b
– А можешь ты назвать какой‑нибудь еще образ жизни, выражающий презрение к государственным должностям, кроме того, что посвящен истинной философии?
– Клянусь Зевсом, нет.
– Однако не следует, чтобы к власти приходили те, кто прямо‑таки в нее влюблен. А то с ними будут сражаться соперники в этой любви.
– Несомненно.
– Кого же иного заставишь ты встать на страже государства, как не тех, кто вполне сведущ в деле наилучшего государственного правления, а вместе с тем имеет и другие достоинства и ведет жизнь более добродетельную, чем ведут государственные деятели?
– Никого.
c
– Хочешь, рассмотрим, каким образом получаются такие люди и с помощью чего можно вывести их наверх, к свету, подобно тому, как, по преданию, некоторые поднялись из Аида к богам?
– Очень хочу!
– Но ведь это не то же самое, что перевернуть черепок[1522]
; тут надо душу повернуть от некоего сумеречного дня к истинному дню бытия: такое восхождение мы, верно, назовем стремлением к мудрости,
– Конечно.
d
– Не следует ли нам рассмотреть, какого рода познание обладает этой возможностью?
– Да, это надо сделать. Разделы наук, направленных на познание чистого бытия
– Так какое же познание, Главкон, могло бы увлечь душу от становления к бытию? Но чуть только я задал этот вопрос, мне вот что пришло на ум: разве мы не говорили, что [будущие философы] непременно должны в свои юные годы основательно знакомиться с военным делом?
– Говорили.
– Значит, то познание, которое мы ищем, должно дополняться еще и этим.
– То есть чем?
– Оно не должно быть бесполезным для воинов.
e
– Конечно, не должно, если только это возможно.
– Как мы уже говорили раньше, их воспитанию служат у нас гимнастические упражнения и мусическое искусство.
– Да, это у нас уже было.
– Между тем гимнастика направлена на то, что может как возникать, так и исчезать, – ведь от нее зависит, прибавляется ли или убавляется крепость тела.
– Понятно.
522
– А ведь это совсем не то, искомое, познание.
– Нет, не то.
– Но быть может, таково мусическое искусство, которое мы разобрали раньше?
– Но именно оно, если ты помнишь, служило как бы противовесом гимнастике; ведь оно воспитывает нравы стражей: гармония делает их уравновешенными, хоть и не сообщает им знания, а ритм сообщает их действиям последовательность.
b
В речах их также оказываются родственные этим свойства мусического искусства, будь то в произведениях вымышленных или более близких к правде. Но познания, ведущего к тому благу, которое ты теперь ищешь, в мусическом искусстве нет вовсе.
– Ты очень точно напомнил мне: действительно, ничего такого в нем нет, как мы говорили. Но, милый Главкон, в чем могло бы оно содержаться? Ведь все искусства оказались грубоватыми.
– Конечно. Какое же еще остается познание, если отпадают и мусическое искусство, и гимнастика, и все остальные искусства?
– Погоди‑ка. Если кроме них мы уже ничем не располагаем, давай возьмем то, что распространяется на них всех.
c
– Что же это такое?
– Да то общее, чем пользуется любое искусство, а также рассудок и знания; то, что каждый человек должен узнать прежде всего.
– Что же это? Счет и число как один из разделов познания чистого бытия
– Да пустяк: надо различать, что такое один, два и три. В общем я называю это числом и счетом. Разве дело не так обстоит, что любое искусство и знание вынуждено приобщаться к нему?
– Да, именно так.
– А военное дело?
– И для него это совершенно неизбежно.
d
– Между тем в трагедиях Паламед всякий раз делает так, что Агамемнон оказывается полководцем, вызывающим всеобщий смех. Ведь Паламед – изобретатель чисел – говорит там про себя (обратил ли ты на это внимание?), что это именно он распределил по отрядам войско под Илионом, произвел подсчет кораблей и всего прочего, как будто до того они не были сосчитаны, – видно, Агамемнон не знал даже, сколько у него самого ног, раз он не умел считать![1523]
Каким уж там полководцем может он быть, по‑твоему?
– Нелепым, если только это действительно было так.
e
– Признаем ли мы необходимой для полководца эту науку, то есть чтобы он умел вычислять и считать?
– Это крайне необходимо, если он хочет хоть что‑нибудь понимать в воинском деле, более того, если он вообще хочет быть человеком.
– Но замечаешь ли ты в этой науке то же, что и я?
– А именно?
523
– По своей природе она относится, пожалуй, к тому, что ведет человека к размышлению, то есть к тому, что мы с тобой ищем, но только никто не пользуется ею действительно как наукой, увлекающей нас к бытию.
– Что ты имеешь в виду?
– Попытаюсь объяснить свою мысль. Но как я для самого себя устанавливаю различие между тем, что ведет нас к предмету нашего обсуждения, а что нет, это ты посмотри вместе со мной, говоря прямо, с чем ты согласен, а с чем нет, чтобы мы могли таким образом яснее разглядеть, верны ли мои догадки.
– Так указывай же мне путь.
b
– Я указываю, а ты смотри. Кое‑что в наших восприятиях не побуждает наше мышление к дальнейшему исследованию, потому что достаточно определяется самим ощущением; но кое‑что решительно требует такого исследования, поскольку ощущение не дает ничего надежного.
– Ясно, что ты говоришь о предметах, видных издалека, как бы в смутной дымке.
– Не очень‑то ты схватил мою мысль!
– Но о чем же ты говоришь?
c
– Не побуждает к исследованию то, что не вызывает одновременно противоположного ощущения, а то, что вызывает такое ощущение, я считаю побуждающим к исследованию, поскольку ощущение обнаруживает одно нисколько не больше, чем другое, ему противоположное, все равно, относится ли это ощущение к предметам, находящимся вблизи или к далеким. Ты поймешь это яснее на следующем примере: вот, скажем, три пальца – мизинец, указательный и средний…
– Ну, да.
– Считай, что я говорю о них как о предметах, рассматриваемых вблизи, но обрати здесь внимание вот на что…
– На что же?
d
– Каждый из них одинаково является пальцем – в этом отношении между ними нет никакой разницы, все равно, смотришь ли на его середину или край, белый ли он или черный, толстый или тонкий и так далее. Во всем этом душа большинства людей не бывает вынуждена обращаться к мышлению с вопросом: «А что это собственно такое – палец?», потому что зрение никогда не показывало ей, что палец одновременно есть и нечто противоположное пальцу.
– Конечно, не показывало.
– Так что здесь это, естественно, не побуждает к размышлению и не вызывает его.
e
– Естественно.
– Далее. А большую или меньшую величину пальцев разве можно в достаточной мере определить на глаз и разве для зрения безразлично, какой палец находится посредине, а какой с краю? А на ощупь можно ли в точности определить, толстый ли палец, тонкий ли, мягкий или жесткий? Да и остальные ощущения разве не слабо обнаруживают все это?
524
С каждым из них не так ли бывает: ощущение, назначенное определять жесткость, вынуждено приняться и за определение мягкости и потому извещает душу, что одна и та же вещь ощущается им и как жесткая, и как мягкая.
– Да, так бывает.
– В подобных случаях душа в свою очередь недоумевает, что обозначено этим ощущением как жесткое, когда та же самая вещь названа им мягкой. То же самое и при ощущении легкого и тяжелого: душа не понимает, легкая это вещь или тяжелая, если восприятие обозначает тяжелое как легкое, а легкое как тяжелое.
– Такие сообщения странны для души и нуждаются в рассмотрении. Рассуждение и размышление как путь познания чистого бытия
b
– Естественно, что при таких обстоятельствах душа привлекает себе на помощь рассуждение и размышление и прежде всего пытается разобраться, об одном ли предмете или о двух разных предметах сообщает ей в том или ином случае ощущение.
– Как же иначе?
– И если выяснится, что это два предмета, то каждый из них окажется и иным, и одним и тем же.
– Да.
– Если каждый из них один, а вместе их два, то эти два будут в мышлении разделены, ибо, если два не разделены, они мыслятся уже не как два, а как одно.
c
– Верно.
– Ведь зрение, утверждаем мы, воспринимает большое и малое не раздельно, а как нечто слитное, не правда ли?
– Да.
– Для выяснения этого мышление в свою очередь вынуждено рассмотреть большое и малое, но не в их слитности, а в их раздельности: тут полная противоположность зрению.
– Это верно.
– Так вот не из‑за этого ли и возникает у нас прежде всего вопрос: что же это собственно такое – большое и малое?
– Именно из‑за этого.
– И таким образом, одно мы называем умопостигаемым, а другое – зримым.
d
– Совершенно верно.
– Так вот как раз это я и пытался теперь сказать:
кое‑что побуждает рассудок к деятельности, а кое‑что – нет. То, что воздействует на ощущения одновременно со своей противоположностью, я определил как побуждающее, а что таким образом не воздействует, то и не будит мысль.
– Теперь я уже понял, и мне тоже кажется, что это так.
– Далее. К какому из этих двух разрядов относятся единица и число?
– Не соображу.
e
– А ты сделай вывод из сказанного ранее. Если нечто единичное достаточно хорошо постигается само по себе, будь то зрением, будь то каким‑либо иным чувством, то не возникает стремления выяснить его сущность, как я это показал на примере с пальцем. Если же в нем постоянно обнаруживается и какая‑то противоположность, так что оно оказывается единицей не более чем ее противоположностью, тогда требуется уже какое‑либо суждение:
525
в этом случае душа вынуждена недоумевать, искать, будоражить в самой себе мысль и задавать себе вопрос, что же это такое – единица сама по себе? Таким‑то образом познание этой единицы вело бы и побуждало к созерцанию бытия[1524]
. Созерцание тождественного
– Но конечно, не меньше это наблюдается и в том случае, когда мы созерцаем тождественное: одно и то же мы видим и как единое, и как бесконечное множество.
– Раз так бывает с единицей, не то же ли самое и со всяким числом вообще?
– Как же иначе?
– Но ведь арифметика и счет целиком касаются числа?
– Конечно.
b
– И оказывается, что как раз они‑то и ведут к истине.
– Да к тому же превосходным образом.
– Значит, они принадлежат к тем познаниям, которые мы искали. Воину необходимо их усвоить для войскового строя, а философу – для постижения сущности, всякий раз как он вынырнет из области становящегося, иначе ему никогда не стать мыслителем.
– Это так.
– А ведь наш страж – он и воин, и философ.
– Так что же? Обращение души от становления к истинному бытию. Искусство счета
c
– Эта наука, Главкон, подходит для того, чтобы установить закон и убе дить всех, кто собирается занять высшие должности в государстве, обратиться к искусству счета, причем заниматься им они должны будут не как попало, а до тех пор, пока не придут с помощью самого мышления к созерцанию природы чисел – не ради купли‑продажи, о чем заботятся купцы и торговцы, но для военных целей и чтобы облегчить самой душе ее обращение от становления к истинному бытию.
– Прекрасно сказано!
d
– Действительно, теперь, после разбора искусства счета, я понимаю, как оно тонко и во многом полезно нам для нашей цели, если занимаются им ради познания, а не по‑торгашески.
– А чем именно оно полезно?
– Да тем, о чем мы только что говорили: оно усиленно влечет душу ввысь и заставляет рассуждать о числах самих по себе, ни в коем случае не допуская, чтобы кто‑нибудь подменял их имеющими число видимыми и осязаемыми телами.
e
Ты ведь знаешь, что те, кто силен в этой науке, осмеют и отвергнут попытку мысленно разделить самое единицу, но если ты все‑таки ее раздробишь, они снова умножат части, боясь, как бы единица оказалась не единицей, а многими долями одного.
– Ты совершенно прав.
526
– Как ты думаешь, Главкон, если спросить их: «Достойнейшие люди, о каких числах вы рассуждаете? Не о тех ли, в которых единица действительно такова, какой вы ее считаете, – то есть всякая единица равна всякой единице, ничуть от нее не отличается и не имеет в себе никаких частей?» – как ты думаешь, что они ответят?
– Да, по‑моему, что они говорят о таких числах, которые допустимо лишь мыслить, а иначе с ними никак нельзя обращаться[1525]
.
b
– Вот ты и видишь, мой друг, что нам и в самом деле необходима эта наука, раз оказывается, что она заставляет душу пользоваться самим мышлением ради самой истины.
– И как умело она это делает!
– Что же? Приходилось ли тебе наблюдать, как люди с природными способностями к счету бывают восприимчивы, можно сказать, ко всем наукам? Даже все те, кто туго соображает, если они обучаются этому и упражняются, то хотя бы они не извлекали из этого для себя никакой иной пользы, все же становятся более восприимчивыми, чем были раньше.
– Да, это так.
c
– Право, я думаю, ты нелегко и немного найдешь таких предметов, которые представляли бы для обучающегося, даже усердного, больше трудностей, чем этот.
– Конечно, не найду.
– И ради всего этого нельзя оставлять в стороне такую науку, напротив, именно с ее помощью надо воспитывать людей, имеющих прекрасные природные задатки.
– Я с тобой согласен.
– Стало быть, пусть это будет первым нашим допущением. Рассмотрим же и второе, связанное, впрочем, с первым: подходит ли нам это?
– Что именно? Или ты говоришь о геометрии?
– Да, именно. Геометрия
d
– Поскольку она применяется в военном деле, ясно, что подходит. При устройстве лагерей, занятии местностей, стягивании и развертывании войск и разных других военных построениях как во время сражения, так и в походах, конечно, скажется разница между знатоком геометрии и тем, кто ее не знает.
– Но для этого было бы достаточно какой‑то незначительной части геометрии и счета. Надо, однако, рассмотреть преобладающую ее часть, имеющую более широкое применение: направлена ли она к нашей цели, помогает ли она нам созерцать идею блага?
e
Да, помогает, отвечаем мы, душе человека обратиться к той области, в которой заключено величайшее блаженство бытия – а ведь это‑то ей и должно увидеть любым способом.
– Ты прав.
– Значит, если геометрия заставляет созерцать бытие, она нам годится, если же становление – тогда нет.
– Действительно, мы так утверждаем.
527
– Но кто хоть немного знает толк в геометрии, не будет оспаривать, что наука эта полностью противоположна тем словесным выражениям, которые в ходу у занимающихся ею.
– То есть?
– Они выражаются как‑то очень забавно и принужденно. Словно они заняты практическим делом и имеют в виду интересы этого дела, они употребляют выражения «построим» четырехугольник, «проведем» линию, «произведем наложение» и так далее: все это так и сыплется из их уст. А между тем все это наука, которой занимаются ради познания.
b
– Разумеется.
– Не оговорить ли нам еще вот что…
– А именно?
– Это наука, которой занимаются ради познания (вечного бытия, а не того, что возникает и гибнет.
– Хорошая оговорка: действительно, геометрия – это познание вечного бытия.
c
– Значит, она влечет душу к истине и воздействует на философскую мысль, стремя ее ввысь, между тем как теперь она у нас низменна вопреки должному.
– Да, геометрия очень даже на это воздействует.
– Значит, надо по возможности строже предписать, чтобы граждане Прекрасного города ни в коем случае не оставляли геометрию: ведь немаловажно даже побочное ее применение.
– Какое?
– То, о чем ты говорил, – в военном деле да, впрочем, и во всех науках – для лучшего их усвоения: мы ведь знаем, какая бесконечная разница существует между человеком причастным к геометрии и непричастным.
– Бесконечная, клянусь Зевсом! – Так примем это как второй, предмет изучения для наших юношей?[1526]
d
– Примем. Астрономия
– Что же? Третьим предметом будет у нас астрономия, как по‑твоему?
– По‑моему, да, потому что внимательные наблюдения за сменой времен года, месяцев и лет пригодны не только для земледелия и мореплавания, но не меньше и для руководства военными действиями.
– Это у тебя приятная черта: ты, видно, боишься, как бы большинству не показалось, будто ты предписываешь бесполезные науки. Между тем вот что очень важно, хотя поверить этому трудно:
e
в науках очищается и вновь оживает некое орудие души каждого человека, которое другие занятия губят и делают слепым, а между тем сохранить его в целости более ценно, чем иметь тысячу глаз, – ведь только при его помощи можно увидеть истину. Кто с этим согласен, тот решит, что ты говоришь удивительно хорошо, а кто этого никак не ощущает, тот, естественно, будет думать, будто ты несешь вздор, от которого, по их мнению, нет никакой пользы и нет в нем ничего заслуживающего упоминания.
528
Так вот, ты сразу же учти, с каким из этих двух разрядов людей ты беседуешь. Или, может быть, ни с тем ни с другим, но главным образом ради себя самого берешься ты за исследования? Но и тогда ты не должен иметь ничего против, если кто‑нибудь другой сумеет извлечь из них для себя пользу.
– Чаще всего я люблю рассуждать вот так, посредством вопросов и ответов, но для самого себя.
– В таком случае дай задний ход[1527]
, потому что мы сейчас неверно назначили следующий после геометрии предмет.
– В чем же мы ошиблись?
b
– После плоскостей мы взялись за твердые тела, находящиеся в круговращении, а надо бы раньше изучить их самих по себе[1528]
– ведь правильнее было бы после второго измерения рассмотреть третье: оно касается измерения кубов и всего того, что имеет глубину[1529]
.
– Это так, Сократ, но здесь, кажется, ничего еще не открыли.
– Причина тут двоякая: нет такого государства, где наука эта была бы в почете, а исследуют ее слабо, так как она трудна. Исследователи нуждаются в руководителе: без него им не сделать открытий.
c
Прежде всего трудно ожидать, чтобы такой руководитель появился, а если даже он и появится, то при нынешнем положении вещей те, кто исследует эти вещи, не стали бы его слушать, так как они слишком высокого мнения о себе. Если бы все государство в целом уважало такие занятия и содействовало им, исследователи подчинились бы, и их непрерывные усиленные поиски раскрыли бы свойства изучаемого предмета. Ведь даже и теперь, когда большинство не оказывает почета этим занятиям и препятствует им,
d
да и сами исследователи не отдают себе отчета в их полезности, они все же вопреки всему этому развиваются, настолько они привлекательны. Поэтому не удивительно, что наука эта появилась на свет.
– Действительно, в ней очень много привлекательного. Но скажи мне яснее о том, что ты только что говорил: изучение всего плоскостного ты отнес к геометрии?
– Да.
– А после нее ты взялся за астрономию, но потом отступился.
e
– Я так спешил поскорее все разобрать, что от этого все получилось медленнее. Далее по порядку шла наука об измерении глубины, но так как с ее изучением дело обстоит до смешного плохо, я перескочил через нее и после геометрии заговорил об астрономии, то есть о вращении тел, имеющих глубину.
– Ты правильно говоришь.
– Итак, четвертым предметом познания мы назовем астрономию – в настоящее время она как‑то забыта, но она воспрянет, если ею займется государство.
529
– Естественно. Ты недавно упрекнул меня, Сократ, в том, что моя похвала астрономии была пошлой, – так вот, теперь я произнесу ей похвалу в твоем духе: ведь, по‑моему, всякому ясно, что она заставляет душу взирать ввысь и ведет ее туда, прочь ото всего здешнего.
– Возможно, что всякому это ясно, кроме меня, – мне‑то кажется, что это не так.
– А как же?
– Если заниматься астрономией таким образом, как те, кто возводит ее до степени философии, то она даже слишком обращает наши взоры вниз.
b
– Что ты имеешь в виду?
– Ты великолепно, по‑моему, сам про себя решил, что такое наука о вышнем. Пожалуй, ты еще скажешь, будто если кто‑нибудь, запрокинув голову, разглядывает узоры на потолке и при этом кое‑что распознает, то он видит это при помощи мышления, а не глазами. Возможно, ты думаешь правильно, – я‑то ведь простоват и потому не могу считать, что взирать ввысь нашу душу заставляет какая‑либо иная наука, кроме той, что изучает бытие и незримое.
c
Глядит ли кто, разинув рот, вверх или же, прищурившись, вниз, когда пытается с помощью ощущений что‑либо распознать, все равно, утверждаю я, он никогда этого не постигнет, потому что для подобного рода вещей не существует познания и человек при этом смотрит не вверх, а вниз, хотя бы он и лежал ничком на земле или умел плавать на спине в море.
– Да, поделом мне досталось! Ты прав. Но как, по‑твоему, следует изучать астрономию в отличие от того, что делают теперь? В чем польза ее изучения для нашей цели?
– А вот как. Эти узоры на небе[1530]
, украшающие область видимого, надо признать самыми прекрасными и совершенными из подобного рода вещей,
d
но все же они сильно уступают вещам истинным с их перемещениями друг относительно друга, происходящими с подлинной быстротой и медленностью, в истинном количестве и всевозможных истинных формах, причем перемещается всё содержимое. Это постигается разумом и рассудком, но не зрением. Или, по‑твоему, именно им?
– Ни в коем случае.
– Значит, небесным узором надо пользоваться как пособием для изучения подлинного бытия, подобно тому как если бы нам подвернулись чертежи Дедала[1531]
e
или какого‑нибудь иного мастера либо художника, отлично и старательно вычерченные. Кто сведущ в геометрии, тот, взглянув на них, нашел бы прекрасным их выполнение, но было бы смешно их всерьез рассматривать как источник истинного познания равенства, удвоения или каких‑либо иных отношений.
530
– Еще бы не смешно!
– А разве, по‑твоему, не был бы убежден в этом и подлинный астроном, глядя на круговращение звезд? Он нашел бы, что все это устроено как нельзя более прекрасно – ведь так создал демиург и небо и все, что на небе: соотношение ночи и дня, их отношение к месяцу, а месяца – к году,
b
звезд – ко всему этому и друг к другу. Но он, конечно, будет считать нелепым того человека, который полагает, что все это всегда происходит одинаково и ни в чем не бывает никаких отклонений, причем всячески старается добиться здесь истины, между тем как небесные светила имеют тело и воспринимаются с помощью зрения.
– Я согласен с твоими доводами.
– Значит, мы будем изучать астрономию так же, как геометрию, с применением общих положений, а то, что на небе, оставим в стороне, раз мы хотим действительно освоить астрономию и использовать еще неиспользованное разумное по своей природе начало нашей души.
c
– Ты намного осложняешь задачу астрономии в сравнении с тем, как ее теперь изучают.
– Я думаю, что и остальные наши предписания будут в таком же роде, если от нас, как от законодателей, ожидается какой‑либо толк. Но можешь ли ты напомнить еще о какой‑нибудь из подходящих наук?
– Сейчас, так сразу, не могу.
– Я думаю, что движение бывает не одного вида, а нескольких. Указать все их сумеет, быть может, знаток, но и нам представляются два вида…
d
– Какой же?
– Кроме указанного, еще и другой, ему соответствующий.
– Какой же это? Музыка
– Пожалуй, как глаза наши устремлены к астрономии, так уши – к движению стройных созвучий: эти две науки – словно родные сестры; по крайней мере так утверждают пифагорейцы, и мы с тобой, Главкон, согласимся с ними[1532]
. Поступим мы так?
– Непременно.
e
– Предмет это сложный, поэтому мы расспросим их, как они все это объясняют – может быть, они и еще кое‑что добавят. Но что бы там ни было, мы будем настаивать на своем.
– А именно?
– Те, кого мы воспитываем, пусть даже не пытаются изучать что‑нибудь несовершенное и направленное не к той цели, к которой всегда должно быть направлено все, как мы только что говорили по поводу астрономии.
531
Разве ты не знаешь, что и в отношении гармонии повторяется та же ошибка? Так же как астрономы, люди трудятся там бесплодно: они измеряют и сравнивают воспринимаемые на слух созвучия и звуки.
– Клянусь богами, у них это выходит забавно: что‑то они называют «уплотнением» и настораживают уши, словно ловят звуки голоса из соседнего дома; одни говорят, что различают какой‑то отзвук посреди, между двумя звуками и что как раз тут находится наименьший промежуток, который надо взять за основу для измерений; другие спорят с ними, уверяя, что здесь нет разницы в звуках, но и те и другие ценят уши выше ума.
b
– Ты говоришь о тех добрых людях, что не дают струнам покоя и подвергают их пытке, накручивая на колки. Чтобы не затягивать все это, говоря об ударах плектром, о том, как винят струны, отвергают их или кичатся ими, я прерву изображение и скажу, что имел в виду ответы не этих людей, а пифагорейцев, которых мы только что решили расспросить о гармонии.
c
Ведь они поступают совершенно так же, как астрономы: они ищут числа в воспринимаемых на слух созвучиях, но не подымаются до рассмотрения общих вопросов и не выясняют, какие числа созвучны, а какие – нет и почему[1533]
.
– Чудесное это было бы дело – то, о чем ты говоришь!
– Да, действительно полезное для исследования красоты и блага, иначе бесполезно и стараться.
– Безусловно. Диалектический метод
d
– Я по крайней мере думаю, что если изучение всех разобранных нами предметов доходит до установления их общности и родства и приводит к выводу относительно того, в каком именно отношении они друг к другу близки, то оно будет способствовать достижению поставленной нами цели, так что труд этот окажется небесполезным. В противном же случае он бесполезен.
– Мне тоже так сдается. Но ты говоришь об очень сложном деле, Сократ.
– Ты разумеешь вводную часть или что‑нибудь другое? Разве мы не знаем, что все это лишь вступление к тому напеву, который надо усвоить? Ведь не считаешь же ты, что кто в этом силен, тот и искусный диалектик?
e
– Конечно, нет, клянусь Зевсом! Разве что очень немногие из тех, кого я встречал.
– А кто не в состоянии привести разумный довод или его воспринять, тот никогда не будет знать ничего Из необходимых, по нашему мнению, знаний.
– Да, не иначе.
532
– Так вот, Главкон, это и есть тот самый напев, который выводит диалектика. Он умопостигаем, а между тем зрительная способность хотела бы его воспроизвести; но ведь ее попытки что‑либо разглядеть обращены, как мы говорили, лишь на животных, как таковых, на звезды, как таковые, наконец, на Солнце, как таковое. Когда же кто‑нибудь делает попытку рассуждать, он, минуя ощущения, посредством одного лишь разума, устремляется к сущности любого предмета и не отступает, пока при помощи самого мышления не постигнет сущности блага. Так он оказывается на самой вершине умопостигаемого, подобно тому как другой взошел на вершину зримого.
b
– Совершенно верно.
– Так что же? Не назовешь ли ты этот путь диалектическим?
– И дальше?
– Это будет освобождением от оков, поворотом от теней к образам и свету, подъемом из подземелья к Солнцу. Если же и тогда будет невозможно глядеть на живые существа, растения и на Солнце, все же лучше смотреть на божественные отражения в воде и на тени сущего,
c
чем на тени образов, созданные источником света, который сам не более как тень в сравнении с Солнцем. Взятое в целом, занятие теми науками, о которых мы говорили, дает эту возможность и ведет прекраснейшее начало нашей души ввысь, к созерцанию самого совершенного в существующем, подобно тому как в первом случае самое отчетливое [из ощущений], свойственных нашему телу, направлено на самое яркое в теловидной и зримой области.
d
– Я допускаю, что это так, хотя допустить это мне кажется очень трудным; с другой стороны, трудно это и не принять. Впрочем (ведь не только сейчас об этом речь, придется еще не раз к этому возвращаться), допустив, что дело обстоит так, как сейчас было сказано, давал перейдем к самому напеву и разберем его таким образом, как мы разбирали это вступление.
e
Скажи, чем отличается эта способность рассуждать, из каких видов она состоит и каковы ведущие к ней пути? Они, видимо, приводят к цели, достижение которой было бы словно отдохновением для путника и завершением его странствий.
533
– Милый мой Главкон, у тебя пока еще не хватит сил следовать за мной, хотя с моей стороны нет недостатка в готовности. А ведь ты увидел бы уже не образ того, о чем мы говорим, а самое истину, по крайней мере как она мне представляется. Действительно ли так обстоит или нет – на это не стоит пока напирать. Но вот увидеть нечто подобное непременно надо – на этом следует настаивать. Не так ли?
– И что же дальше?
– Надо настаивать и на том, что только способность рассуждать может показать это человеку, сведущему в разобранных нами теперь науках, иначе же это никак невозможно.
b
– Стоит утверждать и это.
– Никто не докажет нам, будто можно сделать попытку каким‑нибудь иным путем последовательно охватить всё, то есть сущность любой вещи: ведь все другие способы исследования либо имеют отношение к человеческим мнениям и вожделениям, либо направлены на возникновение и сочетание [вещей] или же целиком на поддержание того, что растет и сочетается. Что касается остальных наук, которые, как мы говорили, пытаются постичь хоть что‑нибудь из бытия (речь идет о геометрии и тех науках, которые следуют за ней),
c
то им всего лишь снится бытие, а наяву пум невозможно его увидеть, пока они, пользуясь своими предположениями, будут сохранять их незыблемыми и не отдавать себе в них отчета. У кого началом служит то, чего он не знает, а заключение и середина состоят из того, что нельзя сплести воедино, может ли подобного рода несогласованность когда‑либо стать знанием?
– Никогда.
– Значит, в этом отношении один лишь диалектический метод придерживается правильного пути[1534]
: отбрасывая предположения, он подходит к первоначалу в целью его обосновать;
d
он потихоньку высвобождает, словно из какой‑то варварской грязи, зарывшийся туда взор нашей души и направляет его ввысь, пользуясь в качестве помощников и попутчиков теми искусствами, которые мы разобрали. По привычке мы не раз называли их науками, но тут требовалось бы другое название, потому что приемы эти не столь очевидны, как наука, хотя и более отчетливы, чем мнение. А сам рассудок мы уже определили прежде. Впрочем, по‑моему, нечего спорить о названии, когда предмет рассмотрения столь значителен, как сейчас у нас.
e
– Да, не стоит, лишь бы только название ясно Выражало, что под ним подразумевается. Разделы диалектического метода – познание, рассуждение, вера, уподобление
– Тогда нас удовлетворят, как и раньше, следующие названия: первый раздел – познание, второй – рассуждение,
534
третий – вера, четвертый – уподобление. Оба последних, вместе взятые, составляют мнение, оба первых – мышление. Мнение относится к становлению, мышление – к сущности. И как сущность относится к становлению, так мышление – к мнению. А как мышление относится к мнению, так познание вносится к вере, а рассуждение – к уподоблению. Разделение же на две области – того, что мы мним, и того, что мы постигаем умом – и соответствие этих обозначений тем предметам, к Которым они относятся, мы оставим с тобой, Главкон, в стороне, чтобы избежать рассуждений, еще во много раз более длинных, чем уже проделанные.
b
– Но я согласен и с остальным, насколько я в силах за тобой следовать[1535]
. Определение диалектики
– Конечно, ты называешь диалектиком того, кому доступно доказательство сущности каждой вещи. Если кто этого лишен, то насколько он не может дать
отчета ни себе ни другому, настолько же, скажешь ты, у него и ума не хватает для этого.
– Как этого не сказать!
c
– Точно так же обстоит дело и относительно блага. Кто не в силах с помощью доказательства определить идею блага, выделив ее из всего остального; кто не идет, словно на поле битвы, сквозь все препятствия, стремясь к опровержению, основанному не на мнении, а на понимании сущности; кто не продвигается через все это вперед с непоколебимой уверенностью, – про того, раз он таков, ты скажешь, что ему неведомо ни самое благо, ни какое бы то ни было благо вообще, а если он и прикоснется каким‑то путем к призраку блага, то лишь при помощи мнения, а не знания. Такой человек проводит нынешнюю свою жизнь в спячке и сновидениях, и, прежде чем он здесь пробудится, он, придя в Аид, окончательно погрузится в сон.
d
– Клянусь Зевсом, я решительно стану утверждать все это.
– А своим детям – правда, пока что ты их растишь и воспитываешь лишь мысленно, – если тебе придется растить их на самом деле, ты ведь не позволил бы, пока они бессловесны, как чертежный набросок[1536]
, быть в государстве правителями и распоряжаться важнейшими делами?
– Конечно, нет.
– И ты законом обяжешь их получать преимущественно такое воспитание, которое позволило бы им быть в высшей степени сведущими в деле вопросов и ответов?
e
– Мы вместе с тобой издадим подобный закон.
– Так не кажется ли тебе, что диалектика будет у нас подобной карнизу, венчающему все знания, и было бы неправильно ставить какое‑либо иное знание выше нее: ведь она вершина их всех.
535
– По‑моему, это так.
– Тебе остается только распределить, кому мы; будем сообщать эти познания и каким образом.
– Очевидно. Еще об отборе правителей и их воспитании
– Помнишь, каких правителей мы отобрали, когда раньше говорили об их выборе?
– Как не помнить!
– Вообще‑то считай, что нужно выбирать указанные тогда натуры, то есть отдавать предпочтение самым надежным, мужественным и по возможности самым благообразным; но, кроме того, надо отыскивать не только людей благородных и строгого нрава, но и обладающих также свойствами, подходящими для такого воспитания.
b
– Кто же это, по‑твоему?
– У них, друг мой, должна быть острая восприимчивость к наукам и быстрая сообразительность. Ведь души робеют перед могуществом наук гораздо больше, чем перед гимнастическими упражнениями: эта трудность ближе касается души, она – ее особенность, которую душа не разделяет с телом.
– Это верно.
– Надо искать человека с хорошей памятью, несокрушимо твердого и во всех отношениях трудолюбивого. Иначе какая ему, по‑твоему, охота переносить телесные тягости, и в довершение всего еще столько учиться и упражняться?
c
– Такого нам не найти, разве что это будет исключительно одаренная натура.
– В том‑то и состоит ошибка нашего времени и потому‑то недооценивают философию, что за нее берутся не так, как она того заслуживает, – об этом мы говорили уже и раньше. Не подлым надо бы людям на нее браться, а благородным.
– То есть как?
d
– Прежде всего у того, кто за нее берется, не должно хромать трудолюбие, что бывает, когда человек трудолюбив лишь наполовину, а в остальном избегнет трудностей. Это наблюдается, если кто любит гимнастику, охоту и вообще все, что развивает тело, но не любит учиться, исследовать, не любознателен: тогда подобного рода трудности ему ненавистны. Хромым можно назвать и того, чье трудолюбие обращено на трудности, противоположные этим.
– Ты вполне прав.
e
– Значит, и в том, что касается истины, мы будем считать душу покалеченной точно так же, если она, несмотря на свое отвращение к намеренной лжи (этого она и у себя не выносит, и возмущается ложью других людей), все же снисходительно станет допускать ложь нечаянную и не стесняться, когда ей укажут на невежество, в котором она легкомысленно выпачкалась не хуже свиньи.
536
– Все это совершенно верно.
– И что касается рассудительности, мужества, великодушия, а также всех других частей добродетели, надо не меньше наблюдать, кто проявляет благородство, а кто – подлость. Не умеющий это различать – будь то частное лицо или государство, – сам того не замечая, привлечет для тех или иных надобностей – в качестве друзей ли или правителей – людей, хромающих на одну ногу и подлых.
– Это действительно часто бывает.
b
– А нам как раз этого‑то и надо избежать. Если. мы подберем людей здравых телом и духом и воспитаем их на возвышенных знаниях и усиленных упражнениях, то самой справедливости не в чем будет нас упрекнуть и мы сохраним в целости и государство, и его строй; а если мы возьмем неподходящих для этого людей, то всё у нас выйдет наоборот и еще больше насмешек обрушится на философию.
– Это был бы позор.
– Конечно. Но видно я уже и сейчас оказался в смешном положении.
– Почему?
c
– Позабыв, что все это у нас – только забава, я говорил, напрягаясь изо всех сил. А говоря, я то и дело оглядывался на философию и видел, как ею помыкают. В негодовании на тех, кто тому виной, я неожиданно вспылил и говорил уж слишком всерьез.
– Клянусь Зевсом, у меня как у слушателя не сложилось такого впечатления.
– Зато у меня оно сложилось – как у оратора. Но не забудем вот чего: говоря тогда об отборе, мы выбирали пожилых, а теперь выходит, что это не годится –
d
ведь нельзя верить Солону, будто человек, старея, может многому научиться; напротив, к этому он становится способен еще менее, чем к бегу[1537]
: именно юношам принадлежат все великие и многочисленные труды.
– Безусловно. Возрастная градация воспитания
– Значит, счет, геометрию и разного рода другие предварительные познания, которые должны предшествовать диалектике, надо преподавать нашим стражам еще в детстве, не делая, однако, принудительной форму обучения.
– То есть?
e
– Свободнорожденному человеку ни одну науку не следует изучать рабски. Правда, если тело насильно наставляют преодолевать трудности, оно от этого не делается хуже, но насильственно внедренное в душу знание непрочно.
– Это верно.
– Поэтому, друг мой, питай своих детей науками не насильно, а играючи, чтобы ты лучше мог наблюдать природные наклонности каждого.
537
– То, что ты говоришь, не лишено основания.
– Помнишь, мы говорили: надо брать с собой детей н на войну – конечно, зрителями, на конях, а где безопасно, так и поближе; пусть они отведают крови, словно щенки.
– Помню.
– Кто во всем этом – в трудах, в науках, в опасностях – всегда будет выказывать себя самым находчивым, тех надо занести в особый список.
b
– В каком возрасте?
– Когда они уже будут уволены от обязательных занятий телесными упражнениями. Ведь в течение этого срока, продолжается ли он два или три года, у них нет возможности заниматься чем‑либо другим. Усталость и сон – враги наук. А вместе с тем ведь это немаловажное испытание: каким кто себя выкажет в телесных упражнениях.
– Еще бы!
c
– По истечении этого срока юноши, отобранные нз числа двадцатилетних, будут пользоваться большим почетом сравнительно с остальными, а наукам, порознь преподававшимся им, когда они были детьми, должен быть сделан общий обзор, чтобы показать их сродство между собою и с природой бытия.
– Знание будет прочным, только когда оно приобретено подобным путем.
– И это самая главная проверка, имеются ли у человека природные данные для занятий диалектикой или нет. Кто способен все обозреть, тот – диалектик, кому же это не под силу, тот – нет.
– Я тоже так думаю.
d
– Вот тебе и придется подмечать, кто наиболее отличится в этом, кто будет стойким в науках, на войне, и во всем том, что предписано законом. Из этих юношей, когда им исполнится тридцать лет, надо будет опять‑таки произвести отбор, окружить их еще большим почетом и подвергнуть испытанию их способность к диалектике, наблюдая, кто из них умеет, не обращая внимания на зрительные и остальные ощущения, подняться до истинного бытия. Но здесь требуется величайшая осторожность, мой друг.
– А собственно, почему?
e
– Разве ты не замечаешь зла, связанного в наше время с умением рассуждать, – насколько оно распространилось?
– В чем же оно состоит?
– Люди, занимающиеся этим, преисполнены беззакония.
– И в очень сильной степени.
– Удивляет ли тебя их состояние? Заслуживают ли они, по‑твоему, снисхождения?
– В каком же главным образом отношении?
538
– Возьмем такой пример: какой‑нибудь подкинутый ребенок вырастает в богатстве, в большой и знатной семье, ему всячески угождают. Став взрослым, он узнаёт, что те, кого он считал своими родителями, ему чужие, а подлинных родителей ему не найти. Можешь ты предугадать, как будет он относиться к тем, кто его балует, и к своим мнимым родителям – сперва в то время, когда он не знал, что он подкидыш, а затем, когда уже это узнает? Или хочешь, я тебе скажу, что я тут усматриваю?
– Хочу.
b
– Я предвижу, что, пока он не знает истины, он. будет почитать мнимых родственников – мать, отца и всех остальных – больше, чем тех, кто его балует. С его стороны будет меньше пренебрежения к нуждам родственников, меньше беззаконных поступков или выражений по отношению к ним, меньше неповиновения им, чем тем, кто его балует.
– Естественно.
– Когда же он узнает правду, то, думаю я, его почтение и внимательность к мнимым родственникам ослабеет, а к тем, кто его балует, увеличится;
c
он будет слушаться их гораздо больше, чем раньше, жить на их лад, откровенно примкнув к ним, а о прежнем своем отце и об остальных мнимых родственниках вовсе перестанет заботиться, разве что по натуре он будет исключительно порядочным человеком.
– Все так и бывает, как ты говоришь. Но какое отношение имеет твой пример к людям, причастным к рассуждениям? Справедливость воспитывается в человеке с детства
– А вот какое: относительно того, что справедливо и хорошо, у нас с детских лет имеются взгляды, в которых мы воспитаны под воздействием наших родителей, – мы подчиняемся им и их почитаем.
d
– Да, это так.
– Но им противоположны другие навыки, сопряженные с удовольствиями, они ласкают нам душу своей привлекательностью. Правда, люди хоть сколько‑нибудь умеренные не поддаются им, послушно почитая заветы отцов.
– Это все так…
– Далее. Когда перед человеком, находящимся в таком положении, встанет Вопрос, вопрошая[1538]
: «Что такое прекрасное?» – человек ответит так, как привычно усвоил от законодателя, однако дальнейшее рассуждение это опровергнет.
e
При частых и всевозможных опровержениях человек этот падет так низко, что будет придерживаться мнения, будто прекрасное ничуть не более прекрасно, чем безобразно. Так же случится и со справедливостью, с благом и со всем тем, что он особенно почитал. После этого что, по‑твоему, станется с его почтительностью и послушанием?
– У него неизбежно уже не будет такого почтения и убежденности.
– Если же он перестанет считать все это ценным и дорогим, как бывало, а истину найти будет не в состоянии, то, спрашивается, к какому же иному образу сод жизни ему естественно обратиться, как не к тому, который ему будет лестен?
539
– Все другое исключено.
– Так окажется, что он стал нарушителем законов, хотя раньше соблюдал их предписания.
– Да, это неизбежно.
– Значит, подобное состояние естественно для тех, кто причастен к рассуждениям, и, как я говорил прежде, такие люди вполне заслуживают сочувствия.
– И сожаления.
– Значит, чтобы люди тридцатилетнего возраста не вызывали у тебя подобного рода сожаления, надо со всевозможными предосторожностями приступать к рассуждениям.
– Несомненно.
b
– Разве не будет одной из постоянных мер предосторожности не допускать, чтобы вкус к рассуждениям появлялся смолоду?[1539]
Я думаю, от тебя не укрылось, что подростки, едва вкусив от таких рассуждений, злоупотребляют ими ради забавы, увлекаясь противоречиями и подражая тем, кто их опровергает, да и сами берутся опровергать других, испытывая удовольствие от того, что своими доводами они, словно щенки, разрывают на части всех, кто им подвернется.
– Да, в этом они не знают удержу.
c
– После того как они сами опровергнут многих о и многие опровергнут их, они вскорости склоняются к полному отрицанию прежних своих утверждений, а это опорочивает в глазах других людей и их самих да заодно и весь предмет философии.
– Совершенно верно.
– Ну, а кто постарше, тот не захочет принимать участия в подобном бесчинстве; скорее он будет подражать человеку, желающему в беседе дойти до истины, чем тому, кто противоречит ради забавы, в шутку. Он и сам будет сдержан и занятие свое сделает почетным, а не презренным.
d
– Правильно.
– Разве не относится к мерам предосторожности все то, о чем мы говорили раньше: допускать к отвлеченным рассуждениям лишь упорядоченные и стойкие натуры, а не так, как теперь, когда за это берется кто попало, в том числе совсем неподходящие люди?
– Конечно, это необходимая мера.
– В сравнении с тем, кто развивает свое тело путем гимнастических упражнений, будет ли достаточен вдвое больший срок для овладения искусством рассуждать, если постоянно и напряженно заниматься лишь этим?
e
– Ты имеешь в виду шесть лет или четыре года?
– Это неважно. Пусть даже пять. После этого они будут у тебя вынуждены вновь спуститься в ту пещеру[1540]
: их надо будет заставить занять государственные должности – как военные, так и другие, подобающие молодым людям: пусть они никому не уступят и в опытности. Вдобавок надо на всем этом их проверить – устоят ли они перед разнообразными влияниями или же кое в чем поддадутся.
540
– Сколько времени ты на это отводишь?
– Пятнадцать лет. А когда им будет пятьдесят, то тех из них, кто уцелел и всячески отличился – как на деле, так и в познаниях – пора будет привести к окончательной цели: заставить их устремить ввысь свой духовный взор и взглянуть на то самое, что всему дает свет, а увидев благо само по себе, взять его за образец и упорядочить и государство, и частных лиц,
b
а также самих себя – каждого в свой черед – на весь остаток своей жизни. Большую часть времени они станут проводить в философствовании, а когда наступит черед, будут трудиться над гражданским устройством, занимать государственные должности – не потому, что это нечто прекрасное, а потому, что так необходимо ради государства. Таким образом, они постоянно будут воспитывать людей, подобных им самим, и ставить их стражами государства взамен себя, а сами отойдут на Острова блаженных, чтобы там обитать.
c
Государство на общественный счет соорудит им памятники и будет приносить жертвы как божествам, если это подтвердит Пифия, а если нет, то как счастливым и божественным людям.
– Ты, Сократ, словно ваятель, прекрасно завершил лепку созданных тобою правителей.
– И правительниц, Главкон, – все, что я говорил, касается женщин ничуть не меньше, чем мужчин: правда, конечно, тех женщин, у которых есть на то природные способности.
d
– Это верно, раз женщины будут во всем участвовать наравне с мужчинами, как мы говорили.
– Что же? Вы согласны, что относительно государства и его устройства мы высказали совсем не пустые пожелания? Конечно, все это трудно, однако как‑то возможно, притом не иначе чем было сказано: когда властителями в государстве станут подлинные философы, будет ли их несколько или хотя бы один, нынешними почестями они пренебрегут, считая их низменными и ничего не стоящими,
e
и будут высоко ценить порядочность и ту честь, что с нею связана, но самым великим и необходимым будут считать справедливость; служа ей и умножая ее, устроят они свое государство.
– Но как именно?
541
– Всех, кому в городе больше десяти лет, они отошлют в деревню, а остальных детей, оградив их от воздействия современных нравов, свойственных родителям, воспитают на свой лад, в тех законах, которые мы разобрали раньше. Таким‑то вот образом всего легче и скорее установится тот государственный строй, о котором мы говорили, государство расцветет, а народ, у которого оно возникнет, для себя извлечет великую пользу.
b
– Да, огромную. А как это могло бы произойти, если когда‑нибудь осуществится, ты, Сократ, по‑моему, хорошо разъяснил.
– Значит, мы уже достаточно поговорили об этом государстве н о соответствующем ему человеке? Ведь ясно, каким он, по‑нашему, должен быть.
– Да, ясно. И поставленный тобою вопрос, кажется мне, получил свое завершение.
Перевод А. Н. Егунова.
В кн.: Платон. Соб. соч. в 3‑х тт. Т.3 (1). М., 1971
КHИГА VIII
543
– Пусть так. Мы с тобой уже согласились, Главкон, что в образцово устроенном государстве жены должны быть общими, дети – тоже, да и все их воспитание будет общим; точно так же общими будут военные и мирные занятия, а царями надо всем этим должны быть наиболее отличившиеся в философии и в военном деле.
– Да, мы в этом согласились.
b
– И договорились насчет того, что как только будут назначены правители, они возьмут своих воинов и расселят их по тем жилищам, о которых мы упоминали ранее; ни у кого не будет ничего собственного, но все у всех общее. Кроме жилищ мы уже говорили, если ты помнишь, какое у них там будет имущество.
c
– Помню, мы держались взгляда, что никто не должен ничего приобретать, как это все делают теперь. За охрану наши стражи, подвизающиеся в военном деле, будут получать от остальных граждан вознаграждение в виде запаса продовольствия на год, а обязанностью их будет заботиться обо всем государстве.
– Ты правильно говоришь. Раз с этим у нас покончено, то, чтобы продолжить наш прежний путь, давай припомним, о чем у нас была речь перед тем, как мы уклонились в сторону.
d
– Нетрудно припомнить. Ты закончил свое рассуждение об устройстве государства примерно теми же словами, что и сейчас: а именно, что ты считаешь хорошим рассмотренное нами тогда государство и соответствующего ему человека, хотя мог бы указать на государство еще более прекрасное и соответственно на такого человека[1541]
. Раз подобное государственное устройство правильно, сказал ты, все остальные порочны. Четыре вида государственного устройства
544
Насколько помню, ты говорил, что имеется четыре вида порочного государственного устройства и что стоило бы в них разобраться, дабы увидеть их порочность воочию; то же самое, сказал ты, касается и соответствующих людей: их всех тоже стоит рассмотреть. Согласившись между собой, мы взяли бы самого лучшего человека и самого худшего и посмотрели бы, правда ли, что наилучший человек – самый счастливый, а наихудший – самый жалкий, или дело обстоит иначе. Когда я задал вопрос, о каких четырех видах государственного устройства ты говоришь, тут нас прервали Полемарх и Адимант и ты вел с ними беседу, пока мы не подошли к этому вопросу.
b
– Ты совершенно верно припомнил.
– Так вот ты снова и займи подобно борцу то же самое положение[1542]
и на тот же самый мой вопрос постарайся ответить так, как ты тогда собирался.
– Если только это в моих силах.
– А мне и в самом деле не терпится услышать, о каких это четырех видах государственного устройства ты говорил.
c
– Услышишь, это нетрудно. Я говорю как раз о тех видах, которые пользуются известностью. Большинство одобряет критско‑лакедемонское устройство[1543]
. На втором месте, менее одобряемая, стоит олигархия[1544]
: это государственное устройство, преисполненное множества зол. Из нее возникает отличная от нее демократия[1545]
. Прославленная тирания[1546]
отлична от них всех – это четвертое и крайнее заболевание государства.
d
Может быть, у тебя есть какая‑нибудь иная идея государственного устройства, которая ясно проявлялась бы в каком‑либо виде? Ведь наследственная власть[1547]
и приобретаемая за деньги царская власть[1548]
, а также разные другие, подобные этим государственные устройства занимают среди указанных устройств какое‑то промежуточное положение[1549]
и у варваров встречаются не реже, чем у эллинов.
– Много странного рассказывают об этом.
– Итак, ты знаешь, что у различных людей непременно бывает столько же видов духовного склада, сколько существует видов государственного устройства[1550]
.
e
Или ты думаешь, что государственные устройства рождаются невесть откуда – от дуба либо от скалы[1551]
, а не от тех нравов, что наблюдаются в государствах и влекут за собой все остальное, так как на их стороне перевес?
– Ни в коем случае, но только от этого. Еше о соответствии пяти складов характера пяти видам государственного устройства
– Значит, раз видов государств пять, то и у различных людей должно быть пять различных устройств души.
– И что же?
– Человека, соответствующего правлению лучших – аристократическому, мы уже разобрали и правильно признали его хорошим и справедливым.
545
– Да, его мы уже разобрали.
– Теперь нам надо описать и худших, иначе говоря, людей, соперничающих между собой и честолюбивых – соответственно лакедемонскому строю, затем – человека олигархического, демократического и тиранического, чтобы, указав на самого несправедливого, противопоставить его самому справедливому и этим завершить наше рассмотрение вопроса,
b
как относится чистая справедливость к чистой несправедливости с точки зрения счастья или несчастья для ее обладателя. И тогда мы либо поверим Фрасимаху и устремимся к несправедливости, либо придем к тому выводу, который теперь становится уже ясен, и будем соблюдать справедливость.
– Безусловно, надо так сделать.
– Раз мы начали с рассмотрения государственных нравов, а не отдельных лиц, потому что там они более четки, то и теперь возьмем сперва государственный строй, основывающийся на честолюбии (не могу подобрать другого выражения, все равно назовем ли мы его «тимократией»[1552]
или «тимархией»), и соответственно рассмотрим подобного же рода человека; затем – олигархию и олигархического человека;
c
далее бросим взгляд на демократию и понаблюдаем человека демократического; наконец, отправимся в государство, управляемое тиранически, и посмотрим, что там делается, опять‑таки обращая внимание на тиранический склад души. Таким образом, мы постараемся стать достаточно сведущими судьями в намеченных нами вопросах.
– Такое рассмотрение было бы последовательным и основательным. Тимократия
d
– Ну так давай попытаемся указать, каким способом из аристократического правления может получиться тимократическое. Может быть, это совсем просто, и изменения в государстве обязаны своим происхождением той его части, которая обладает властью, когда внутри нее возникают раздоры? Если же в ней царит согласие, то, хотя бы она была и очень мала, строй остается незыблемым.
– Да, это так.
– Что же именно может, Главкон, пошатнуть наше государство и о чем могут там спорить между собой попечители и правители? Или хочешь, мы с e тобой, как Гомер, обратимся с мольбой к Музам[1553]
,
e
чтобы они нам поведали, как впервые вторгся раздор, и вообразим, что они станут отвечать нам высокопарно, на трагический лад и как будто всерьез, на самом же деле это будет с их стороны лишь шутка, и они будут поддразнивать нас, как детей.
– Что же они нам скажут?
546
– Что‑нибудь в таком роде: «Трудно пошатнуть государство, устроенное подобным образом. Однако раз всему, что возникло, бывает конец, то даже и такой строй не сохранится вечно, но подвергнется разрушению. Означать же это будет следующее: урожай и неурожай бывает не только на то, что произрастает из земли, но и на то, что на ней обитает, – на души и на тела, всякий раз как круговращение приводит к полному завершению определенного цикла: у недолговечных существ этот цикл краток, у долговечных – наоборот.
b
Хотя и мудры те, кого вы воспитали как руководителей государства, однако и они ничуть не больше других людей будут способны установить путем рассуждения, основанного на ощущении, наилучшую пору плодоношения и, напротив, время бесплодия для вашего рода: этого им не постичь, и они станут рожать детей в неурочное время. Для божественного потомства существует кругооборот, охватываемый совершенным числом, а для человеческого есть число[1554]
, в котором – первом из всех – возведение в квадратные и кубические степени, содержащие три промежутка и четыре предела (уподобление, неуподобление, рост и убыль) делает все соизмеримым и выразимым.
c
Из этих чисел четыре трети, сопряженные с пятеркой, после трех увеличении дадут два гармонических сочетания, одно – равностороннее, то есть взятое сотней столько же раз, а другое – с той же длиной, но продолговатое: иначе говоря, число выразимых диаметров пятерки берется сто раз с вычетом каждый раз единицы, а из невыразимых вычитается по двойке и они сто раз берутся кубом тройки. Все в целом это число геометрическое, и оно имеет решающее значение для лучшего или худшего качества рождений.
d
Коль это останется невдомек нашим стражам и они не в пору сведут невест с женихами, то не родятся дети с хорошими природными задатками и со счастливой участью. Прежние стражи назначат своими преемниками лучших из этих детей, но все равно те не будут достойны и чуть лишь займут должности своих отцов, станут нами пренебрегать, несмотря на то что они стражи. Мусические искусства, а вслед за тем и гимнастические они не оценят, как должно;
e
от этого юноши у нас будут менее образованны и из их среды выйдут правители, не слишком способные блюсти и испытывать Гесиодовы поколения, – ведь и у вас они те же, то есть золотое, серебряное, медное и железное[1555]
. Когда железо примешается к
547
серебру, а медь к золоту, возникнут несоответствия и нелепые отклонения[1556]
, а это, где бы оно ни случилось, сразу порождает вражду и раздор. Надо признать, что, где бы ни возник раздор, он вечно такой природы».
– Признаться, Музы отвечают нам правильно.
– Это и не мудрено, раз они Музы.
– А что они говорят после этого?
b
– Если возник раздор, это значит, что каждые два рода увлекали в свою сторону: железный и медный влекли к наживе, приобретению земли и дома, а также золота и серебра, а золотой и серебряный род, не бедные, но, наоборот, по своей природе богатые, вели души к добродетели и древнему устроению.
c
Применяя силу и соперничая друг с другом, они пришли, наконец, к чему‑то среднему: согласились установить частную собственность на землю и дома, распределив их между собою, а тех, кого они до той поры охраняли как своих свободных друзей и кормильцев, решили обратить в рабов, сделав из них сельских рабочих и слуг, сами же занялись военным делом и сторожевой службой.
– Эта перемена, по‑моему, оттуда и пошла.
– Значит, такой государственный строи – нечто среднее между аристократией и олигархией.
– Несомненно.
d
– Так совершится этот переход; и каким же будет тогда государственное устройство? По‑видимому, отчасти оно будет подражанием предшествовавшему строю, отчасти же – олигархии, раз оно занимает промежуточное положение, но кое‑что будет в нем и свое, особенное.
– Да, будет.
– В почитании правителей, в том, что защитники страны будут воздерживаться от земледельческих работ, ремесел и остальных видов наживы, в устройстве совместных трапез, в телесных упражнениях и воинских состязаниях – во всем подобном этот строй будет подражать предшествовавшему.
– Да.
e
– Там побоятся ставить мудрых людей на государственные должности, потому что там уже нет подобного рода простосердечных и прямых людей, а есть лишь люди смешанного нрава; там будут склоняться на сторону тех, что яростны духом, а также и тех, что г, о попроще – скорее рожденных для войны, чем для мира; там будут в чести военные уловки и ухищрения: ведь это государство будет вечно воевать. Вот каковы будут многочисленные особенности этого строя.
548
– Да.
– Такого рода люди будут жадны до денег, как это водится при олигархическом строе; в омрачении они, как дикари, почитают золото и серебро, у них заведены кладовые и домашние хранилища, чтобы все это прятать, свои жилища они окружают оградой и там, прямо‑таки как в собственном логове, они тратятся, не считаясь с расходами, на женщин и на кого угодно других.
– Совершенно верно.
b
– Они бережливы, так как деньги у них в чести; свое состояние они скрывают и не прочь пожить на чужой счет. Удовольствиям они предаются втайне, убегая от закона, как дети от строгого отца, – ведь воспитало их насилие, а не убеждение, потому что они пренебрегали подлинной Музой, той, чья область – речи н философия, а телесные упражнения ставили выше мусического искусства.
c
– Ты говоришь о таком государственном строе, где зло полностью смешалось с добром.
– Действительно, в нем все смешано; одно только там бросается в глаза – соперничество и честолюбие, так как там господствует яростный дух.
– И это очень сильно заметно.
– Подобный государственный строй возникает, не правда ли, именно таким образом и в таком виде. В моем изложении он очерчен лишь в общем и подробности опущены[1557]
,
d
ибо уже и так можно заметить, каким там будет человек, отличающийся справедливостью, или, напротив, очень несправедливый, а рассматривать все правления и все нравы, вовсе ничего не пропуская, было бы делом очень и очень долгим.
– Это верно. «Тимократический» человек
– Каким же станет человек в соответствии с этим государственным строем? Как он сложится и каковы будут его черты?
– Я думаю, – сказал Адимант, – что по своему стремлению непременно выдвинуться он будет близок нашему Главкону.
e
– Это‑то возможно, но, по‑моему, вот чем его натура отличается от Главконовой…[1558]
– Чем?
– Он пожестче, менее образован и, хотя ценит
549
образованность и охотно слушает других, сам, однако, нисколько не владеет словом. С рабами такой человек жесток, хотя их и не презирает, так как достаточно воспитан; в обращении со свободными людьми он учтив, а властям чрезвычайно послушен; будучи властолюбив и честолюбив, он считает, что основанием власти должно быть не умение говорить или что‑либо подобное, но военные подвиги и вообще все военное: потому‑то он и любит гимнастику и охоту.
– Да, именно такой характер развивается при этом государственном строе.
b
– В молодости такой человек с презрением относится к деньгам; но чем старше он становится, тем больше он их любит – сказывается его природная наклонность к сребролюбию да и чуждая добродетели примесь, поскольку он покинут своим доблестным стражем.
– Какой же это страж? – спросил Адимант.
– Дар слова в сочетании с образованностью; только присутствие того и другого будет всю жизнь спасительным для добродетели человека, у которого это имеется.
– Прекрасно сказано!
– А этот юноша похож на свое тимократическое государство…
– И даже очень.
c
– Складывается же его характер приблизительно так: иной раз это взрослый сын хорошего человека, живущего в неважно устроенном государстве и потому избегающего почестей, правительственных должностей, судебных дел и всякой такой суеты; он предпочитает держаться скромнее, лишь бы не иметь хлопот.
– И как же это действует на его сына?
d
– Прежде всего тот слышит, как сокрушается его мать: ее муж не принадлежит к правителям, и из‑за этого она терпит унижения в женском обществе; затем она видит, что муж не особенно заботится о деньгах, не дает отпора оскорбителям ни в судах, ни на собраниях, но беспечно все это сносит; он думает только о себе – это она постоянно замечает, – а ее уважает не слишком, хотя и не оскорбляет. Все это ей тяжело, она говорит сыну, что отец его лишен мужества, что он слишком слаб и так далее, то есть все, что в подобных случаях любят напевать женщины.
e
– Да, в этом они всегда себе верны.
– Ты знаешь, что у таких людей и слуги иной раз потихоньку говорят детям подобные вещи – якобы из сочувствия, когда видят, что хозяин не возбуждает
судебного дела против какого‑нибудь своего должника или иного обидчика; в таких случаях слуги внушают хозяйскому сыну примерно следующее: «Вот вырастешь большой, непременно отомсти им за это и будешь тогда настоящим мужчиной, не то что твой отец».
550
Да и вне дома юноша слышит и видит почти то же самое: кто среди граждан делает свое дело, тех называют простаками и не принимают их в расчет, а кто берется не за свое дело, тех уважают и хвалят. Тогда, слыша и видя подобные вещи, юноша, с другой стороны, прислушивается и к тому, что говорит его отец, близко видит, чем тот занимается наперекор окружающим, и вот как то, так и другое на него действует:
b
под влиянием отца в нем развивается и крепнет разумное начало души, а под влиянием остальных людей – вожделеющее и яростное, а так как по своей натуре он неплохой человек, но только попал в дурное общество, то влияния эти толкают его на средний путь, и он допускает в себе господство чего‑то среднего – наклонности к соперничеству и ярости: вот почему он становится человеком честолюбивым и стремится выдвинуться.
– Ты вполне объяснил, как складывается его характер.
c
– Итак, мы имеем второй по порядку государственный строй н соответствующего ему человека.
– Да, второй.
– Так не упомянуть ли нам теперь выражение Эсхила: «Приставлен муж иной к иному граду»[1559]
, или же, согласно нашему предположению, сперва рассмотрим само государство?
– Лучше, конечно так. Олигархия
– Следующим после этого государственным строем была бы, я так думаю, олигархия.
– Как же она устанавливается?
d
– Это строй, основывающийся на имущественном цензе; у власти стоят там богатые, а бедняки не участвуют в правлении.
– Понимаю.
– Надо ли сперва остановиться на том, как тимократия переходит в олигархию?
– Да, конечно.
– Но ведь и слепому ясно, как совершается этот переход.
– Как?
– Скопление золота в кладовых у частных лиц губит тимократию; они прежде всего выискивают, на что бы его употребить, и для этого перетолковывают законы, мало считаясь с ними: так поступают и сами богачи, и их жены.
e
– Естественно.
– Затем, наблюдая, в чем кто преуспевает, и соревнуясь друг с другом, они уподобляют себе и все население.
– Это также естественно.
– Чем больше они ценят дальнейшее продвижение по пути наживы, тем меньше почитают они добродетель. Разве не в таком соотношении находятся богатство и добродетель, что положи их на разные чаши весов, и одно всегда будет перевешивать другое?
– Конечно.
551
– Раз в государстве почитают богатство и богачей, значит, там меньше ценятся добродетель и ее обладатели.
– Очевидно.
– А люди всегда предаются тому, что считают ценным, и пренебрегают тем, что не ценится.
– Это так.
– Кончается это тем, что вместо стремления выдвинуться и удостоиться почестей развивается наклонность к стяжательству и наживе и получают одобрение богачи – ими восхищаются, их назначают на государственные должности, а бедняк там не пользуется почетом.
– Конечно.
b
– Установление имущественного ценза становится законом и нормой олигархического строя: чем более этот строй олигархичен, тем выше ценз; чем менее олигархичен, тем ценз ниже. Заранее объявляется, что к власти не допускаются те, у кого нет установленного имущественного ценза. Такого рода государственный строй держится применением вооруженной силы или же был еще прежде установлен путем запугивания. Разве это не верно?
– Да, верно.
– Короче говоря, так он и устанавливается.
c
– Да. Но какова его направленность и в чем состоит та порочность, которая, как мы сказали, ему свойственна?
– Главный порок – это норма, на которой он основан. Посуди сам: если кормчих на кораблях назначать согласно имущественному цензу, а бедняка, будь он и больше способен к управлению кораблем, не допускать…
– Никуда бы не годилось такое кораблевождение!
– Так разве не то же самое и в любом деле, где требуется управление?
– Я думаю, то же самое.
– За исключением государства? Или в государстве так же?
– Еще гораздо больше, поскольку управлять им крайне трудно, а значение этого дела огромно.
– Так вот уже это было бы первым крупным недостатком олигархии.
d
– По‑видимому.
– А разве не так важно следующее…
– Что именно?
– Да то, что подобного рода государство неизбежно не будет единым, а в нем как бы будут два государства: одно – государство бедняков, другое – богачей. Хотя они и будут населять одну и ту же местность, однако станут вечно злоумышлять друг против друга.
– Клянусь Зевсом, этот порок не менее важен.
e
– Но нехорошо еще и то, что они, пожалуй, не смогут вести какую бы то ни было войну, так как неизбежно получилось бы, что олигархи, дав оружие в руки толпы, боялись бы ее больше, чем неприятеля, либо, отказавшись от вооружения толпы, выказали бы себя подлинными олигархами даже в самом деле сражения. Вдобавок они не пожелали бы тратиться на войну, так как держатся за деньги.
– Это нехорошо.
552
– Так как же? Ведь мы уже и раньше не одобрили, что при таком государственном строе одни и те же лица будут и землю обрабатывать, и деньги наживать, и нести военную службу, то есть заниматься всем сразу. Или, по‑твоему, это правильно?
– Ни в коем случае.
– Посмотри, ни при таком ли именно строе разовьется величайшее из всех этих зол?
– Какое именно?
– Возможность продать все свое имущество – оно станет собственностью другого, – а продавши, продолжать жить в этом же государстве, не принадлежа ни к одному из его сословий, то есть не будучи ни дельцом, ни ремесленником, ни всадником, ни гоплитом, но тем, кого называют бедняками и неимущими.
b
– Такой строй словно создан для этого!
– При олигархиях ничто не препятствует такому положению, иначе не были бы в них одни черезмерно богатыми, а другие совсем бедными.
– Верно.
– Взгляни еще вот на что: когда богатый человек расходует свои средства, приносит ли это хоть какую‑нибудь пользу подобному государству в том смысле, как мы только что говорили? Или это лишь видимость, будто он принадлежит к тем, кто правит, а по правде говоря, он в государстве и не правитель, и не подданный, а попросту растратчик готового?
c
– Да, это лишь видимость, а на деле он не что иное, как расточитель.
– Если ты не возражаешь, мы скажем, что как появившийся в сотах трутень – болезнь для роя, так и подобный человек в своем доме – болезнь для государства.
– Конечно, Сократ.
– И не правда ли, Адимант, всех летающих трутней бог сотворил без жала, а вот из тех, что ходят пешком, он одним не дал жала, зато других наделил ужаснейшим. Те, у кого жала нет, весь свой век – бедняки, а из наделенных жалом выходят те, кого кличут преступниками.
d
– Сущая правда.
– Значит, ясно, что, где бы ты ни увидел бедняков в государстве, там укрываются и те, что воруют, срезают кошельки, оскверняют храмы и творят много других злых дел.
– Это ясно.
– Так что же? Разве ты не замечаешь бедняков в олигархических государствах?
– Да там чуть ли не все бедны, за исключением правителей.
e
– Так не вправе ли мы думать, что там, с другой стороны, много и преступников, снабженных жалом и лишь насильственно сдерживаемых стараниями властей?
– Конечно, мы можем так думать.
– Не признать ли нам, что такими люди становятся там по необразованности, вызванной дурным воспитанием и скверным государственным строем?
– Да, будем считать именно так.
– Вот каково олигархическое государство и сколько в нем зол (а возможно, что и еще больше).
– Да, все это примерно так.
553
– Пусть же этим завершится наш разбор того строя, который называют олигархией: власть в нем основана на имущественном цензе. «Олигархический» человек
Вслед за тем давай рассмотрим и соответствующего человека – как он складывается и каковы его свойства.
– Конечно, это надо рассмотреть.
– Его переход от тимократического склада к олигархическому совершается главным образом вот как…
– Как?
b
– Родившийся у него сын сперва старается подражать отцу, идет по его следам, а потом видит, что отец во всем том, что у него есть, потерпел крушение, столкнувшись неожиданно с государством, словно с подводной скалой: это может случиться, если отец был стратегом или занимал другую какую‑либо высокую.должность, а затем попал под суд по навету клеветников и был приговорен к смертной казни, к изгнаннию или к лишению гражданских прав и всего имущества…
– Естественно.
c
– Увидев все это, мой друг, пострадав и потеряв состояние, даже испугавшись, думаю я, за свою голову, он в глубине души свергает с престола честолюбие и присущий ему прежде яростный дух. Присмирев из‑за бедности, он ударяется в стяжательство, в крайнюю бережливость и своим трудом понемногу копит деньги. Что ж, разве, думаешь ты, такой человек не возведет на тот трон свою алчность и корыстолюбие и не сотворит себе из них Великого царя в тиаре и ожерельях, с коротким мечом за поясом?
– По‑моему, да.
d
– А у ног этого царя, прямо на земле, он там и сям рассадит в качестве его рабов разумность и яростный дух. Он не допустит никаких иных соображений, имея в виду лишь умножение своих скромных средств. Кроме богатства и богачей, ничто не будет вызывать у него восторга и почитания, а его честолюбие будет направлено лишь на стяжательство и на все то, что к этому ведет.
– Ни одна перемена не происходит у юноши с такой быстротой и силой, как превращение любви к почестям в любовь к деньгам.
– Разве это не пример того, каким бывает человек при олигархическом строе?
e
– По крайней мере это пример извращения того типа человека, который соответствовал строю, предшествовавшему олигархии.
– Так давай рассмотрим, соответствует ли ей этот человек.
– Давай.
– Прежде всего сходство здесь в том, что он чрезвычайно ценит деньги.
– Конечно.
554
– Он бережлив и деятелен, удовлетворяет лишь самые насущные свои желания, не допуская других трат и подавляя прочие вожделения как пустые.
– Безусловно.
– Ходит он замухрышкой, из всего извлекая прибыль и делая накопления; таких людей толпа одобряет. Разве черты его не напоминают подобный же государственный строй?
– По‑моему, да. По крайней мере деньги чрезвычайно почитают и подобное государство, и такой человек.
b
– И я думаю, раз уж он такой, он не обращал внимания на свое воспитание.
– Наверное. А то бы он не поставил слепого хорегом и не оказывал бы ему особых почестей[1560]
.
– Хорошо. Посмотри еще вот что: разве мы не признаем, что у него из‑за недостатка воспитания появляются наклонности трутня – отчасти нищенские, отчасти преступные, хотя он всячески их и сдерживает из предосторожности?
c
– Конечно.
– А знаешь, на что тебе надо взглянуть, чтобы заметить преступность таких людей?
– На что?
– На то, как они опекают сирот или вообще получают полную возможность поступать вопреки справедливости.
– Верно.
– Разве отсюда не ясно, что в других деловых отношениях такой человек, пользуясь доброй славой, поскольку его считают справедливым, с помощью остатков порядочности насильно сдерживает другие свои дурные наклонности, хотя он и не убежден, что так будет лучше; он укрощает их не по разумным соображениям, а в силу необходимости, из страха, потому Что дрожит за судьбу своего имущества.
d
– Конечно.
– И, клянусь Зевсом, ты у многих из этих людей обнаружишь наклонности трутней, когда дело идет об издержках за чужой счет.
– Несомненно, эти наклонности у них очень сильны.
– Значит, такой человек раздираем внутренней борьбой, его единство нарушено, он раздвоен: одни вожделения берут верх над другими – по большей части лучшие над худшими.
e
– Да, так бывает.
– По‑моему, такой человек все же приличнее многих, хотя подлинная добродетель душевной гармонии и невозмутимости весьма от него далека.
– Да, мне тоже так кажется.
555
– И конечно, его бережливость будет препятствовать ему выступить за свой счет, когда граждане будут соревноваться в чем‑либо ради победы или ради удовлетворения благородного честолюбия: он не желает тратить деньги ради таких состязаний и славы, боясь пробудить в себе наклонность к расточительству и сделать ее своим союзником в честолюбивых устремлениях. Воюет он поистине олигархически, с малой затратой собственных средств и потому большей частью терпит поражение, но зато остается богатым.
– И даже очень.
– Так будет ли у нас еще сомнение в том, что человека бережливого, дельца можно сопоставить с олигархическим государством?
b
– Нет, ничуть.
– После этого, как видно, надо рассмотреть демократию – каким образом она возникает, а возникнув, какие имеет особенности, – чтобы познакомиться в свою очередь со свойствами человека подобного склада и вынести о нем свое суждение.
– Так по крайней мере мы продвинулись бы вперед по избранному нами пути.
– Олигархия переходит в демократию примерно следующим образом: причина здесь в ненасытной погоне за предполагаемым благом, состоящим якобы в том, что надо быть как можно богаче.
– Как ты это понимаешь?
c
– Да ведь при олигархии правители, стоящие у власти, будучи богатыми, не захотят ограничивать законом распущенность молодых людей и запрещать им расточать и губить свое состояние; напротив, правители будут скупать их имущество или давать им под проценты ссуду, чтобы самим стать еще богаче и могущественнее.
– Это у них – самое главное.
– А разве не ясно, что гражданам такого государства невозможно и почитать богатство, и вместе с тем обладать рассудительностью – тут неизбежно либо то, либо другое будет у них в пренебрежении.
– Это достаточно ясно.
d
– В олигархических государствах не обращают внимания на распущенность, даже допускают ее, так что и людям вполне благородным иной раз не избежать там бедности.
– Конечно.
– В таком государстве эти люди, думаю я, сидят без дела, но зато у них есть и жало[1561]
, и оружие; одни из них кругом в долгах, другие лишились гражданских прав, а иных постигло и то и другое; они полны ненависти к тем, кто владеет теперь их имуществом, а также и к прочим и замышляют переворот.
e
– Да, все это так.
– Между тем дельцы, поглощенные своими делами, по‑видимому, не замечают таких людей; они приглядываются к остальным и своими денежными ссудами наносят раны тем, кто податлив; взимая проценты, во много раз превышающие первоначальный долг, они разводят в государстве множество трутней и нищих.
556
– И еще какое множество!
– А когда в государстве вспыхнет такого рода зло, они не пожелают его тушить с помощью запрета распоряжаться своим имуществом кто как желает и не прибегнут к приему, который устраняет всю эту беду согласно другому закону…
– Какому это?
– Тому, который следует за уже упомянутым и заставляет граждан стремиться к добродетели. Ведь если предписать, чтобы большую часть добровольных сделок граждане заключали на свой страх и риск, стремление к наживе не отличалось бы таким бесстыдством и в государстве меньше было бы зол, подобных только что нами указанным.
b
– И даже намного меньше.
– В наше время из‑за подобных вещей правители именно так настроили подвластных им граждан. Что же касается самих правителей и их окружения, то молодежь у них избалованная, ленивая телом и духом и слабая; у нее нет выдержки ни в страданиях, ни в удовольствиях, и вообще она бездеятельна.
– Как же иначе?
c
– Самим же им, кроме наживы, ни до чего нет дела, а о добродетели они радеют ничуть не больше, чем бедняки.
– Да, ничуть.
– Вот каково состояние и правящих, и подвластных. Между тем они бывают бок о бок друг с другом и в путешествиях, и при любых других видах общения: на праздничных зрелищах, в военных походах, на одном и том же корабле, в одном и том же войске; наконец, и посреди опасностей они находятся вместе, и ни в одном из этих обстоятельств бедняки не оказываются презренными в глазах богатых.
d
Наоборот, нередко бывает, что человек неимущий, весь высохший, опаленный солнцем, оказавшись во время боя рядом с богачом, выросшим в тенистой прохладе и нагулявшим себе за чужой счет жирок, видит, как тот задыхается и совсем растерялся. Разве, по‑твоему, этому бедняку не придет на мысль, что подобного рода люди богаты лишь благодаря малодушию бедняков, и разве при встрече без посторонних глаз с таким же бедняком не скажет e он ему, что господа‑то наши – никчемные люди?
e
– Я уверен, что бедняки так и делают.
– Подобно тому как для нарушения равновесия болезненного тела достаточно малейшего толчка извне, чтобы ему расхвораться, – а иной раз неурядица в нем бывает и без внешних причин, – так и государство, находящееся в подобном состоянии, заболевает[1562]
и воюет само с собой по малейшему поводу, причем некоторые его граждане опираются на помощь со стороны какого‑либо олигархического государства, а другие – на помощь демократического; впрочем, иной раз междоусобица возникает и без постороннего вмешательства.
557
– И даже очень часто. Демократия
– Демократия, на мой взгляд, осуществляется тогда, когда бедняки, одержав победу, некоторых из своих противников уничтожат, иных изгонят, а остальных уравняют в гражданских правах и в замещении государственных должностей, что при демократическом строе происходит большей частью по жребию.
– Да, именно так устанавливается демократия, происходит ли это силой оружия или же потому, что ее противники, устрашившись, постепенно отступят.
b
– Как же людям при ней живется? И каков этот государственный строй? Ведь ясно, что он отразится и на человеке, который тоже приобретет демократические черты.
– Да, это ясно.
– Прежде всего это будут люди свободные: в государстве появится полная свобода и откровенность и возможность делать что хочешь.
– Говорят, что так.
– А где это разрешается, там, очевидно, каждый устроит себе жизнь по своему вкусу.
– Да, это ясно.
c
– Я думаю, что при таком государственном строе люди будут очень различны.
– Конечно.
– Казалось бы, это самый лучший государственный строй. Словно ткань, испещренная всеми цветами, так и этот строй, испещренный разнообразными нравами, может показаться всего прекраснее. Вероятно, многие подобно детям и женщинам, любующимся всем пестрым, решат, что он лучше всех.
– Конечно.
– При нем удобно, друг мой, избрать государственное устройство.
d
– Что ты имеешь в виду?
– Да ведь вследствие возможности делать что хочешь он заключает в себе все роды государственных устройств. Пожалуй, если у кого появится желание, как у нас с тобой, основать государство, ему необходимо будет отправиться туда, где есть демократия, и уже там, словно попав на рынок, где торгуют всевозможными правлениями, выбрать то, которое ему нравится, а сделав выбор, основать свое государство.
e
– Вероятно, там не будет недостатка в образчиках.
– В демократическом государстве нет никакой надобности принимать участие в управлении, даже если ты к этому и способен; не обязательно и подчиняться, если ты не желаешь, или воевать, когда другие воюют, Или соблюдать подобно другим условия мира, если ты мира не жаждешь. И опять‑таки, если какой‑нибудь закон запрещает тебе управлять либо судить, ты все же можешь управлять и судить, если это тебе придет в голову. Разве не чудесна на первый взгляд и не соблазнительна подобная жизнь?
558
– Пожалуй, но лишь ненадолго.
– Далее. Разве не великолепно там милосердие в отношении некоторых осужденных? Или ты не видел, как при таком государственном строе люди, приговоренные к смерти или к изгнанию, тем не менее остаются и продолжают вращаться в обществе: словно никому до него нет дела и никто его не замечает, разгуливает такой человек прямо как полубог.
– Да, и таких бывает много.
b
– Эта снисходительность вовсе не мелкая подробность демократического строя; напротив, в этом сказывается презрение ко всему тому, что мы считали важным, когда основывали наше государство. Если у человека, говорили мы, не выдающаяся натура, он никогда не станет добродетельным; то же самое если с малолетства – в играх и в своих занятиях – он не соприкасается с прекрасным. Между тем демократический строй, высокомерно поправ все это, нисколько не озабочен тем, от каких кто занятий переходит к государственной деятельности. Человеку оказывается почет, лишь бы он обнаруживал свое расположение к толпе.
c
– Да, весьма благородная снисходительность!
– Эти и подобные им свойства присущи демократии – строю, не имеющему должного управления, но приятному и разнообразному. При нем существует своеобразное равенство – уравнивающее равных и неравных.
– Нам хорошо знакомо – то, о чем ты говоришь. «Демократический» человек
– Взгляни же, как эти свойства отразятся на отдельной личности. Или, может быть, надо сперва рассмотреть, как в ней складываются эти черты, подобно тому как мы рассматривали сам государственный строй?
– Да, это надо сделать.
d
– Не будет ли это происходить вот как: у бережливого представителя олигархического строя, о котором мы говорили, родится сын и будет воспитываться, я думаю, в нравах своего отца.
– Так что же?
– Он тоже будет усилием воли подавлять в себе те вожделения, что ведут к расточительству, а не к наживе: их можно назвать лишенными необходимости.
– Ясно.
– Хочешь, чтобы избежать неясности в нашей беседе, сперва определим, какие вожделения необходимы, а какие нет?
– Хочу.
e
– Те вожделения, от которых мы не в состоянии избавиться, можно было бы по справедливости назвать e необходимыми, а также и те, удовлетворение которых приносит нам пользу: подчиняться как тем, так и другим неизбежно уже по самой нашей природе. Разве не так?
– Конечно, так.
– Значит, об этих наклонностях мы вправе будем сказать, что они неизбежны.
– Да, вправе.
559
– Что же? А те, от которых человек может избавиться, если приложит старания с юных лет, и которые вдобавок не приносят ничего хорошего, а некоторые из них, наоборот, ведут к дурному? Назвав их лишенными необходимости, мы дали бы верное обозначение.
– Да, вполне верное.
– Не взять ли нам сперва примеры тех и других вожделений и не посмотреть ли, каковы они, чтобы дать затем общий их образец?
– Да, это нужно сделать.
– Потребность в питании, то есть в хлебе и в приправе, не является ли необходимостью для того, чтобы быть здоровым и хорошо себя чувствовать?
b
– Думаю, что да.
– Потребность в хлебе необходима в двух отношениях, поскольку она и на пользу нам, и не может прекратиться, пока человек живет.
– Да.
– Потребность же в приправе необходима постольку, поскольку приправа полезна для хорошего самочувствия.
– Конечно.
– А как обстоит с тем, что сверх этого, то есть с вожделением к иной, избыточной пище? Если это вожделение обуздывать с малолетства и отвращать от него путем воспитания, то большинство может от него избавиться: ведь оно вредно для тела, вредно и для души, так как не развивает ни разума, ни рассудительности. Правильно было бы назвать его лишенным необходимости.
c
– Да, более чем правильно.
– И не назвать ли нам эти вожделения разорительными, а те, другие, прибыльными, потому что они помогают работе?
– Да, конечно.
– Так же точно скажем мы о любовных и прочих подобных же вожделениях.
– Да, именно так.
– А тот, кого мы теперь назвали трутнем, весь преисполнен таких лишенных необходимости желаний и вожделений, под властью которых он находится, тогда как человеком бережливым, олигархического типа, владеют лишь необходимые вожделения.
d
– Ну конечно.
– Так вот, вернемся к тому, как из олигархического человека получается демократический. Мне кажется, что большей частью это происходит следующим образом…
– А именно?
– Когда юноша, выросший, как мы только что говорили, без должного воспитания и в обстановке бережливости, вдруг отведает меда трутней и попадет в общество опасных и лютых зверей, которые способны доставить ему всевозможные наслаждения, самые пестрые и разнообразные, это‑то и будет у него, поверь мне, началом перехода от олигархического типа к демократическому.
e
– Да, совершенно неизбежно.
– Как в государстве происходит переворот, когда некоторой части его граждан оказывается помощь извне вследствие сходства взглядов, так и юноша меняется, когда некоторой части его вожделений помогает извне тот вид вожделений, который им родствен и подобен.
– Да, несомненно.
– И я думаю, что в случае, когда в противовес этому что‑то помогает его олигархическому началу, будь то уговоры или порицания отца либо остальных членов семьи, в нем возникает возмущение и противоборство ему, а также борьба с самим собою.
560
– Конечно.
– Иной раз, по‑моему, демократическое начало уступает олигархическому, часть вожделений отмирает, иные изгоняются, в душе юноши появляется какая‑то стыдливость, и все опять приходит в порядок.
– Это случается иногда.
– Но затем, думаю я, другие вожделения, родственные изгнанным, потихоньку развиваясь, вследствие неумелости отца как воспитателя становятся многочисленными и сильными.
b
– Обычно так и бывает.
– Они влекут юношу к его прежнему окружению, и от этого тайного общения рождается множество других вожделений.
– Конечно.
– В конце же концов, по‑моему, они, заметив, что акрополь его души пуст, захватывают его у юноши, ибо пет там ни знаний, ни хороших навыков, ни правдивых речей – всех этих лучших защитников и стражей рассудка людей, любезных богам.
c
– Несомненно.
– Вместо них, думаю я, на него совершат набег ложные мнения и хвастливые речи и займут у юноши эту крепость.
– Безусловно.
– И вот он снова вернется к тем лотофагам[1563]
и открыто поселится там. Если же его родные двинут войско на выручку бережливого начала его души, то его хвастливые речи запрут в нем ворота царской стены, не впустят союзного войска, не примут даже послов, то есть разумных доводов людей постарше и поумнее, хотя бы то были всего лишь частные лица;
d
в битве с бережливым началом они одержат верх и с бесчестием, как изгнанницу, вытолкнут вон стыдливость, обозвав ее глупостью, а рассудительность назовут недостатком мужества и выбросят ее, закидав грязью[1564]
. В убеждении, что умеренность и порядок в расходовании средств – это деревенское невежество и черта низменная, они удалят их из своих пределов, опираясь на множество бесполезных прихотей.
– Да, это‑то уж непременно.
e
– Опорожнив и очистив душу юноши, уже захваченную ими и посвященную в великие таинства, они затем низведут туда, с большим блеском, в сопровождении многочисленного хора, наглость, разнузданность и распутство, увенчивая их венками и прославляя в смягченных выражениях: наглость они будут называть просвещенностью, разнузданность – свободою, распутство – великолепием, бесстыдство – мужеством.
561
Разве не именно так человек, воспитанный в границах необходимых вожделений, уже в юные годы переходит к развязному потаканию вожделениям, лишенным необходимости и бесполезным?
– Это совершенно очевидно.
– Потом в жизни такого юноши, думаю я, трата денег, усилий и досуга на необходимые удовольствия станет ничуть не больше, чем на лишенные необходимости. Но если, на его счастье, вакхическое неистовство не будет у него чрезмерным, а к тому же он станет немного постарше и главное смятение отойдет уже в прошлое,
b
он отчасти вернется к своим изгнанным было вожделениям, не полностью станет отдаваться тем, которые вторглись, и в его жизни установится какое‑то равновесие желаний: всякий раз он будет подчиняться тому из них, которое ему словно досталось по жребию, пока не удовлетворит его полностью, а уж затем другому желанию, причем ни одного он не отвергнет, но все будет питать поровну.
– Конечно.
– И все же он не примет верного рассуждения, не допустит его в свою крепость, если кто‑нибудь ему скажет, что одни удовольствия бывают следствием хороших, прекрасных вожделений, а другие – дурных
c
и что одни вожделения надо развивать и уважать, другие же – пресекать и подчинять. В ответ он будет отрицательно качать головой и говорить, что все вожделения одинаковы и заслуживают равного уважения.
– Подобного рода люди именно так и поступают.
– Изо дня в день такой человек живет, угождая первому налетевшему на него желанию: то он пьянствует под звуки флейт, то вдруг пьет одну только воду и изнуряет себя, то увлекается телесными упражнениями; а бывает, что нападает на него лень, и тогда ни до чего ему нет охоты.
d
Порой он проводит время в беседах, кажущихся философскими. Часто занимают его общественные дела: внезапно он вскакивает, и что придется ему в это время сказать, то он и выполняет. Увлечется он людьми военными – туда его и несет, а если дельцами, то тогда в эту сторону. В его жизни нет порядка, в ней не царит необходимость: приятной, вольной и блаженной называет он эту жизнь и так все время ею и пользуется.
e
– Ты отлично показал уклад жизни человека, которому все безразлично.
– Я нахожу, что этот человек так же разнообразен, многолик, прекрасен и пестр, как его государство. Немало мужчин и женщин позавидовали бы жизни, в которой совмещается множество образчиков государственных укладов и нравов.
– Да, это так.
562
– Что ж? Допустим ли мы, что подобного рода человек соответствует демократическому строю и потому мы вправе назвать его демократическим?
– Допустим.
– Но самое дивное государственное устройство и самого дивного человека нам еще остается разобрать: это – тирания и тиран.
– Вот именно. Тирания
– Ну, так давай рассмотрим, милый друг, каким образом возникает тирания. Что она получается из демократии, это‑то, пожалуй, ясно.
– Ясно.
– Как из олигархии возникла демократия, не так же ли и из демократии получается тирания?
– То есть?
b
– Благо, выдвинутое как конечная цель – в результате чего и установилась олигархия, – было богатство, не так ли?
– Да.
– А ненасытное стремление к богатству и пренебрежение всем, кроме наживы, погубили олигархию.
– Правда.
– Так вот, и то, что определяет как благо демократия и к чему она ненасытно стремится, именно это ее и разрушает.
– Что же она, по‑твоему, определяет как благо?
c
– Свободу. В демократическом государстве только и слышишь, как свобода прекрасна и что лишь в таком государстве стоит жить тому, кто свободен по своей природе.
– Да, подобное изречение часто повторяется.
– Так вот, как я только что и начал говорить, такое ненасытное стремление к одному и пренебрежение к остальному искажает этот строй и подготовляет нужду в тирании.
– Как это?
d
– Когда во главе государства, где демократический строй и жажда свободы, доведется встать дурным виночерпиям, государство это сверх должного опьяняется победой в неразбавленном виде, а своих должностных лиц карает, если те недостаточно снисходительны и не предоставляют всем полной свободы, и обвиняет их в мерзком олигархическом уклоне.
– Да, так оно и бывает.
– Граждан, послушных властям, там смешивают с грязью как ничего не стоящих добровольных рабов, зато правители, похожие на подвластных, и подвластные, похожие на правителей,
e
там восхваляются и уважаются как в частном, так и в общественном обиходе. Разве в таком государстве не распространится неизбежно на все свобода?
– Как же иначе?
– Она проникнет, мой друг, и в частные дома, а в конце концов неповиновение привьется даже животным.
– Как это понимать?
563
– Да, например, отец привыкает уподобляться ребенку и страшиться своих сыновей, а сын – значить больше отца; там не станут почитать и бояться роди‑телей (все под предлогом свободы!), переселенец уравняется с коренным гражданином, а гражданин – с переселенцем; то же самое будет происходить и с чужеземцами.
– Да, бывает и так.
– А кроме того, разные другие мелочи: при таком порядке вещей учитель боится школьников и заискивает перед ними, а школьники ни во что не ставят своих учителей и наставников.
b
Вообще молодые начинают подражать взрослым и состязаться с ними в рассуждениях и в делах, а старшие, приспособляясь к молодым и подражая им, то и дело острят и балагурят, чтобы не казаться неприятными и властными.
– Очень верно подмечено.
– Но крайняя свобода для народа такого государства состоит в том, что купленные рабы и рабыни ничуть не менее свободны, чем их покупатели. Да, мы едва не забыли сказать, какое равноправие и свобода существуют там у женщин по отношению к мужчинам и у мужчин по отношению к женщинам.
– По выражению Эсхила, «мы скажем то, что на устах теперь»[1565]
.
c
– Вот именно, я тоже так говорю. А насколько здесь свободнее, чем в других местах, участь животных, подвластных человеку, – этому никто не поверил бы, пока бы сам не увидел. Прямо‑таки по пословице: «Собаки – это хозяйки»[1566]
, лошади и ослы привыкли здесь выступать важно и с полной свободой, напирая на встречных, если те не уступают им дороги! Так‑то вот и все остальное преисполняется свободой.
d
– Ты мне словно пересказываешь мой же собственный сон: я ведь и сам часто терплю от них, когда езжу в деревню.
– Если собрать все это вместе, самым главным будет, как ты понимаешь, то, что душа граждан делается Крайне чувствительной, даже по мелочам: все принудительное вызывает у них возмущение как нечто недопустимое. А кончат они, как ты знаешь, тем, что перестанут считаться даже с законами – писаными или Неписаными, – чтобы уже вообще ни у кого и ни в чем Be было над ними власти.
e
– Я это хорошо знаю.
– Так вот, мой друг, именно из этого правления, такого прекрасного и по‑юношески дерзкого, и вырастает, как мне кажется, тирания.
– Действительно, оно дерзкое. Что же, однако, дальше?
– Та же болезнь, что развилась в олигархии и ее погубила, еще больше и сильнее развивается здесь – из‑за своеволия – и порабощает демократию. В самом деле,
564
все чрезмерное обычно вызывает резкое изменение в противоположную сторону, будь то состояние погоды, растений или тела. Не меньше наблюдается это и в государственных устройствах.
– Естественно.
– Ведь черезмерная свобода, по‑видимому, и для отдельного человека, и для государства обращается не по что иное, как в чрезмерное рабство.
– Оно и естественно.
– Так вот, тирания возникает, конечно, не из какого иного строя, как из демократии; иначе говоря, из крайней свободы возникает величайшее и жесточайшее рабство.
– Это не лишено основания.
b
– Но, думаю я, ты не об этом спрашивал, а о том, какая болезнь, встречающаяся в олигархии, так же точно подтачивает демократию и порабощает ее.
– Ты верно говоришь.
– Этой болезнью я считал появление особого рода людей, праздных и расточительных, под предводительством отчаянных смельчаков, за которыми тянутся и не столь смелые: мы их уподобили трутням, часть которых имеет жало, а часть его лишена.
– Это правильно.
c
– Оба этих разряда, чуть появятся, вносят расстройство в любой государственный строй, как воспаление и желчь – в тело. И хорошему врачу, и государственному законодателю надо заранее принимать против них меры не менее, чем опытному пчеловоду, – главным образом, чтобы не допустить зарождения трутней, – но, если уж они появятся, надо вырезать вместе с ними и соты.
– Клянусь Зевсом, это уж непременно.
– Чтобы нам было виднее то, что мы хотим различить, сделаем следующее…
– А именно? Три «части» демократического государства: трутни, богачи и народ
d
– Разделим мысленно демократическое государство на три части – да это и в действительности так обстоит. Одну часть составят подобного рода трутни: они возникают здесь хоть и вследствие своеволия, но не меньше, чем при олигархическом строе.
– Это так.
– Но здесь они много ядовитее, чем там.
– Почему?
– Там они не в почете, наоборот, их отстраняют от занимаемых должностей, и потому им не на чем набить себе руку и набрать силу. А при демократии они, за редкими исключениями, чуть ли не стоят во главе: самые ядовитые из трутней произносят речи и действуют, а остальные усаживаются поближе к помосту, жужжат и не допускают, чтобы кто‑нибудь говорил иначе. Выходит, что при таком государственном строе всем, за исключением немногого, распоряжаются подобные люди.
e
– Конечно.
– Из состава толпы всегда выделяется и другая часть…
– Какая?
– Из дельцов самыми богатыми большей частью становятся самые упорядоченные по своей природе.
– Естественно.
– С них‑то трутням всего удобнее собрать побольше меду.
– Как же его и возьмешь с тех, у кого его мало?
– Таких богачей обычно называют сотами трутней.
565
– Да, пожалуй.
– Третий разряд составляет народ – те, что трудятся своими руками, чужды делячества, да и имущества у них немного. Они всего многочисленнее и при демократическом строе всего влиятельнее, особенно когда соберутся вместе.
– Да, но у них нет желания делать это часто, если им не достается их доля меда.
– А разве они не всегда в доле, поскольку власти имеют возможность отнять собственность у имущих и раздать ее народу, оставив, правда, большую часть себе?
– Таким‑то способом они всегда получат свою долю.
b
– А те, у кого отбирают имущество, бывают вынуждены защищаться, выступать в народном собрании и вообще действовать насколько это возможно.
– Конечно.
– И хотя бы они и не стремились к перевороту, кое‑кто все равно обвинит их в кознях против народа и в стремлении к олигархии.
– И что же?
– В конце концов, когда они видят, что народ, обманутый клеветниками, готов не со зла, а по неведению расправиться с ними, тогда они волей‑неволей становятся уже действительными приверженцами олигархии. Они тут не при чем: просто тот самый трутень ужалил их и от этого в них зародилось такое зло.
c
– Вот именно.
– Начинаются обвинения, судебные разбирательства, тяжбы.
– Конечно.
– А разве народ не привык особенно отличать кого‑то одного, ухаживать за ним и его возвеличивать?
– Конечно, привык.
– Значит, уж это‑то ясно, что, когда появляется тиран, он вырастает именно из этого корня, то есть как ставленник народа[1567]
.
d
– Да, совершенно ясно.
«Тиранический» человек
– С чего же начинается превращение такого ставленника в тирана? Впрочем, ясно, что это происходит, когда он начинает делать то же самое, что в том сказании, которое передают относительно святилища Зевса Ликейского в Аркадии.
– А что именно?
– Говорят, что, кто отведал человеческих внутренностей, мелко нарезанных вместе с мясом жертвенных животных, тому не избежать стать волком. Или ты не слыхал такого предания?
e
– Слыхал.
– Разве не то же и с представителем народа? Имея в руках чрезвычайно послушную толпу, разве он воздержится от крови своих соплеменников? Напротив, как это обычно бывает, он станет привлекать их к суду по несправедливым обвинениям и осквернит себя, отнимая у человека жизнь: своими нечестивыми устами и языком он будет смаковать убийство родичей.
566
Карая изгнанием и приговаривая к страшной казни, он между тем будет сулить отмену задолженности и передел земли. После всего этого разве не суждено такому человеку неизбежно одно из двух: либо погибнуть от руки своих врагов, либо же стать тираном и превратиться из человека в волка?
– Да, это ему неизбежно суждено.
– Он – тот, кто подымает восстание против обладающих собственностью.
– Да, он таков.
– Если он потерпел неудачу, подвергся изгнанию, а потом вернулся – назло своим врагам, – то возвращается он уже как законченный тиран.
– Это ясно.
b
– Если же те, кто его изгнал, не будут в состоянии его свалить снова и предать казни, очернив в глазах граждан, то они замышляют его тайное убийство.
– Обычно так и бывает.
– Отсюда это общеизвестное требование со стороны тиранов: чуть только они достигнут такой власти, они велят народу назначить им телохранителей, чтобы народный заступник был невредим.
– Это уж непременно.
c
– И народ, конечно, дает их ему, потому что дорожит его жизнью, за себя же пока вполне спокоен.
– Безусловно.
– А когда увидит это человек, имеющий деньги, вместе с деньгами и основание ненавидеть народ, он тотчас же, мой друг, как гласило прорицание Крезу, …к берегам песчанистым Герма
Без оглядки бежит, не стыдясь прослыть малодушным[1568]
.
– Во второй раз ему и не довелось бы стыдиться.
– Если бы его захватили, он был бы казнен.
– Непременно.
d
– А тот, народный ставленник, ясно, не покоится «величествен… на пространстве великом»[1569]
, но, повергнув многих других, прямо стоит на колеснице своего государства уже не как представитель народа, а как совершенный тиран.
– Еще бы.
– Разбирать ли нам, в чем счастье этого человека того государства, в котором появляется подобного рода смертный?
– Конечно, надо разобрать.
e
– В первые дни, вообще в первое время он приветливо улыбается всем, кто бы ему ни встретился, а о себе утверждает, что он вовсе не тиран; он дает много обещаний частным лицам и обществу; он освобождает людей от долгов и раздает землю народу и своей свите. Так притворяется он милостивым ко всем и кротким.
– Это неизбежно.
– Когда же он примирится кое с кем из своих врагов, а иных уничтожит, так что они перестанут его беспокоить, я думаю, первой его задачей будет постоянно вовлекать граждан в какие‑то войны, чтобы народ испытывал нужду в предводителе…
– Это естественно.
567
– …да и для того, чтобы из‑за налогов люди обеднели и перебивались со дня на день, меньше злоумышляя против него.
– Это ясно.
– А если он заподозрит кого‑нибудь в вольных мыслях и в отрицании его правления, то таких людей он уничтожит под предлогом, будто они предались неприятелю. Ради всего этого тирану необходимо постоянно будоражить всех посредством войны.
– Да, необходимо.
– Но такие действия сделают его все более и более ненавистным для граждан.
b
– Конечно.
– Между тем и некоторые из влиятельных лиц, способствовавших его возвышению, станут открыто, да и в разговорах между собой выражать ему свое недовольство всем происходящим – по крайней мере, те, что посмелее.
– Вероятно.
– Чтобы сохранить за собою власть, тирану придется их всех уничтожить, так что в конце концов не останется никого ни из друзей, ни из врагов, кто бы на что‑то годился.
– Ясно.
c
– Значит, тирану надо зорко следить за тем, кто мужествен, кто великодушен, кто разумен, кто богат. Благополучие тирана основано на том, что он поневоле враждебен всем этим людям и строит против них козни, пока не очистит от них государство.
– Дивное очищение, нечего сказать!
– Да, оно противоположно тому, что применяют врачи: те удаляют из тела все наихудшее, оставляя самое лучшее, здесь же дело обстоит наоборот.
– По‑видимому, для тирана это необходимо, если. он хочет сохранить власть.
d
– Он связан блаженной необходимостью либо обитать вместе с толпой негодяев, притом тех, кто его ненавидит, либо проститься с жизнью.
– Да, связан.
– И не правда ли, чем более он становится ненавистен гражданам своими этими действиями, тем больше требуется ему верных телохранителей?
– Конечно.
– А кто ему верен? Откуда их взять?
– Их налетит сколько угодно, стоит лишь заплатить.
e
– Клянусь собакой, мне кажется, ты опять заговорил о каких‑то трутнях, о чужеземном сброде.
– Это тебе верно кажется.
– Что же? Разве тиран не захочет иметь местных телохранителей?
– Каким образом?
– Он отберет у граждан рабов, освободит их и сделает своими копейщиками.
– В самом деле, к тому же они будут и самыми верными.
568
– Блаженным же существом назовешь ты тирана, раз подобного рода люди – его верные друзья, а прежних, подлинных, он погубил!
– Он принужден довольствоваться такими.
– Эти его сподвижники будут им восхищаться, его общество составят эти новые граждане, тогда как люди порядочные будут ненавидеть и избегать его.
– Несомненно.
– Недаром, видно, мудреное дело – сочинять трагедии, а ведь в этом особенно отличился Эврипид.
– Что ты имеешь в виду?
– Да ведь у него есть выражение, полное глубокого смысла:
b
Тираны мудры ведь, общаясь с мудрыми[1570]
.
Он считает – это ясно, – что тиран общается с мудрецами.
– И как он до небес превозносит тираническую власть[1571]
и многое другое в этом деле – он и остальные поэты!
– Поэтому, раз уж трагические поэты такие мудрецы, пусть они и нас, и всех тех, кто разделяет наши Взгляды на общественное устройство, извинят, если мы не примем их в наше государство именно из‑за того, что они так прославляют тираническую власть.
c
– Я‑то думаю, они нас извинят, по крайней мере те, кто из них поучтивее.
– Обходя другие государства, собирая густую толпу, подрядив исполнителей с прекрасными, сильными, впечатляющими голосами, они привлекают граждан к тирании и демократии.
– Да, и при этом очень стараются.
– Мало того, они получают вознаграждение и им оказываются почести всего более, как это и естественно, со стороны тиранов, а на втором месте и от демократии. Но чем выше взбираются они к вершинам государственной власти, тем больше слабеет их почет, словно ему не хватает дыхания идти дальше.
d
– Действительно это так.
– Но мы с тобой сейчас отклонились, давай вернемся снова к этому войску тирана, столь многочисленному, великолепному, пестрому, всегда меняющему свой состав, и посмотрим, на какие средства оно содержится.
– Очевидно, тиран тратит на него храмовые средства, если они имеются в государстве, и, пока их изъятием можно будет покрывать расходы, он уменьшает обложение населения налогами.
– А когда эти средства иссякнут?
e
– Ясно, что тогда он будет содержать и самого себя, и своих сподвижников и сподвижниц уже на отцовские средства.
– Понимаю: раз народ породил тирана, народу же и кормить его и его сподвижников.
– Это тирану совершенно необходимо.
– Как это ты говоришь? А если народ в негодовании скажет, что взрослый сын не вправе кормиться за счет отца, скорей уж, наоборот, отец за счет сына, и что отец не для того родил сына и поставил его на ноги, чтобы самому, когда тот подрастет, попасть в рабство к своим же собственным рабам и кормить и сына, и рабов, и всякое отребье?
569
Напротив, раз представитель народа так выдвинулся, народ мог бы рассчитывать освободиться от богачей и от так называемых достойных[1572]
людей; теперь же народ велит и ему, и его сподвижникам покинуть пределы государства: так отец выгоняет из дому сына вместе с его пьяной ватагой.
b
– Народ тогда узнает, клянусь Зевсом, что за тварь он породил, да еще и любовно вырастил; он убедится, насколько мощны те, кого он пытается выгнать своими слабыми силами.
– Что ты говоришь? Тиран посмеет насильничать над своим отцом и, если тот не отступится, прибегнет даже к побоям?
– Да, он отнимет оружие у своего отца.
– Значит, тиран – отцеубийца и плохой кормилец для престарелых; по‑видимому, общепризнано, что таково свойство тиранической власти. По пословице, «избегая дыма, угодишь в огонь»[1573]
: так и народ из подчинения свободным людям попадает в услужение к деспотической власти и свою неумеренную свободу меняет на самое тяжкое и горькое рабство – рабство у рабов.
c
– Это именно так и бывает.
– Что же? Можно ли без преувеличения сказать, что мы достаточно разобрали, как из демократии получается тирания и каковы ее особенности?
– Вполне достаточно.
Перевод А. Н. Егунова.
В кн.: Платон. Соб. соч. в 3‑х тт. Т.3 (1). М., 1971
КHИГА IX
571
– Остается рассмотреть самого человека при тираническом строе, иначе говоря, как он развивается из человека демократического, каковы его свойства и что у него за жизнь – бедственная или, напротив, счастливая.
– Да, пока он остался у нас без рассмотрения.
– Знаешь ли, что мне еще желательно?
– Что? Анализ вожделений
– По‑моему, мы недостаточно разобрали вожделения – в чем они состоят и сколько их. А раз этого не хватает, не будет полной ясности и в том исследовании, которое мы предпринимаем.
b
– Стало быть, уместно разобрать это сейчас.
– Конечно. Посмотри, что мне хочется здесь выяснить: из тех удовольствий и вожделений, которые лишены необходимости, некоторые представляются мне противозаконными. Они, пожалуй, присущи всякому человеку, но, обуздываемые законами и лучшими вожделениями, либо вовсе исчезают у некоторых людей, либо ослабевают, и их остается мало. Однако есть и такие люди, у которых они становятся и сильнее, и многочисленнее.
c
– О каких вожделениях ты говоришь? Вожделения, пробуждающиеся во время сна
– О тех, что пробуждаются во время сна когда дремлет главное, разумное и кроткое, начало души, зато начало дикое, звероподобное под влиянием сытости и хмеля вздымается на дыбы, отгоняет от себя сон и ищет, как бы это удовлетворить свой норов.
d
Тебе известно, что в таком состоянии оно отваживается на все, откинув всякий стыд и разум. Если ему вздумается, оно не остановится даже перед попыткой сойтись с своей собственной матерью, да и с кем попало из людей, богов или зверей; оно осквернит себя каким угодно кровопролитием и не воздержится ни от какой пищи. Одним словом, ему все нипочем в его бесстыдстве и безрассудстве.
– Сущая правда.
e
– Когда же человек соблюдает себя в здоровой воздержности, он, отходя ко сну, пробуждает свое разумное начало, потчует его прекрасными доводами и рассуждениями и таким образом воздействует на свою совесть. Вожделеющее же начало он хоть и не заглушает вовсе, но и не удовлетворяет его до пресыщения: пусть оно успокоится и не тревожит своими радостями и скорбями благороднейшее в человеке;
572
пусть это последнее без помехи, само по себе, в совершенной своей чистоте стремится к исследованию и ощущению того, что ему еще не известно, будь то прошлое, настоящее или будущее. Точно так же человек укротит и яростное свое начало, для того чтобы не отходить ко сну взволнованным и разгневанным. Успокоив эти два вида свойственных ему начал и приведя в действие третий вид – тот, которому присуща разумность, – человек предается отдыху. Ты знаешь, что при таких условиях он скорее всего соприкоснется с истиной и меньше всего будут ему мерещиться во сне всякие беззаконные видения.
b
– Я совершенно с тобой согласен.
– Но мы слишком отклонились в сторону, говоря об этом. Мы хотели убедиться лишь вот в чем: какой‑то страшный, беззаконный и дикий вид желаний таится внутри каждого человека, даже в тех из нас, что кажутся вполне умеренными: это‑то и обнаруживается в сновидениях'. Суди сам, дело ли я говорю и допускаешь ли ты это.
– Конечно, допускаю.
c
– Так припомни, как мы обрисовали человека, ставшего демократом. Он чуть ли не с рождения, во всяком случае с малых лет, воспитывался бережливым отцом, который почитал лишь стяжательские вожделения и никакого почета не оказывал тем желаниям, без которых, по его мнению, можно обойтись и которые, как он считал, возникают лишь для забавы и красоты. Не так ли?
– Да, так.
– Общаясь с более изысканными людьми, преисполненными вожделений, которые мы только что разбирали, юноша втягивается в их образ жизни и всяческую разнузданность, потому что ему отвратительна отцовская скупость.
d
Но по своей природе он лучше тех, кто его портит, поэтому он останавливается как бы посредине между обоими этими подходами к жизни: его тянет и в ту, и в другую сторону. Вкушая, как он считает, умеренно от обеих этих жизней, он живет не низменной жизнью и не беззаконной и превращается из человека олигархического в демократа.
– О подобного рода человеке составилось, да и до сих пор держится именно такое мнение. Тирания и незаконные вожделения. Образ тирана (продолжение)
– Предположим опять‑таки, что у этого человека, когда он станет постарше, будет молодой сын, воспитанный в нравах своего отца.
– Предположим.
e
– Предположи еще, что и с ним произойдет то же самое, что с его отцом: его станет тянуть ко всяческому беззаконию, которое его совратители называют полнейшей свободой. Отец и все остальные его близкие поддерживают в нем склонность соблюдать середину, но его совратители этому противодействуют.
573
Когда же эти искусные чародеи и творцы тиранов не надеются как‑либо иначе завладеть юношей, они ухитряются внушить ему какую‑нибудь страсть, руководящую вожделениями к праздности и к растрате накопленного; такая страсть – прямо‑таки огромный крылатый трутень. Или, по‑твоему, это нечто иное?
– По моему, именно так.
– Вокруг этой страсти ходят ходуном прочие вожделения, за которыми тянется поток благовонных курений и мазей, венков, вин, безудержных наслаждений, обычных при такого рода общениях.
b
До крайности раздув и вскормив жало похоти, эти вожделения снабжают им трутня, и тогда этот защитник души, охваченный неистовством, жалит. И если он захватит в юноше какое‑нибудь мнение или желание, притязающее на порядочность и не лишенное еще стыдливости, он убивает их, выталкивает вон, пока тот совсем не очистится от рассудительности и не преисполнится нахлынувшим на него неистовством.
– Ты описываешь появление вылитого тирана.
– А разве не из‑за всего этого и тому подобного Эрот[1574]
искони зовется тираном?
– Пожалуй.
– Да и у пьяного в голове, мой друг, разве происходит не то же, что у тирана?
c
– Видимо, так.
– Ну, а кто тронулся в уме и неистовствует, тот надеется справиться не то что с людьми, но даже с богами.
– Действительно.
– Человек, мой друг, становится полным тираном тогда, когда он пьян, или слишком влюбчив, или же сошел с ума от разлития черной желчи, – а все это из‑за того, что либо такова его натура, либо привычки, либо то и другое.
– Совершенно верно.
d
– Видно, вот так и рождается подобный человек. Ну, а как же он живет?
– Есть шутливая поговорка: «Это и ты мне скажешь»[1575]
.
– Скажу. По‑моему, после этого пойдут у них празднества, шествия всей ватагой, пирушки, заведутся подружки, ну и так далее: ведь тиран‑Эрот, обитающий в их душе, будет править всем, что в ней есть.
– Это неизбежно.
– С каждым днем и с каждой ночью будет расцветать много ужаснейших вожделений, предъявляющих непомерные требования.
– Да, их расцветет много.
– Значит, доходы, если какие и были, скоро иссякнут.
– Конечно.
e
– А за этим последуют заклады имущества и сокращение средств.
– И что же?
– Когда все истощится, тогда рой раздувшихся вожделений, угнездившихся в этих людях, начнет жужжать, и люди, словно гонимые стрекалом различных желаний, а особенно Эротом (ведь он ведет за собой все желания, словно телохранителей), станут жалить, высматривая, у кого что есть и что можно отнять с помощью обмана или насилия.
– Да, конечно.
574
– У них настоятельная потребность грабить, иначе придется терпеть невыносимые муки и страдания.
– Да, это неизбежно.
– Все возрастая, стремление такого человека к удовольствиям превосходит его прежние прихоти и их обездоливает; точно так же он сам начинает притязать на превосходство перед своим отцом и матерью, поскольку он их моложе, и, издержав свою долю, он будет присваивать и тратить отцовские деньги.
– И что же дальше?
b
– Если родители не допустят этого, разве он не попытается первым делом обокрасть их и обмануть?
– Непременно.
– А если бы это было ему невозможно, разве он не ограбил бы их, прибегнув к насилию?
– Я думаю, да.
– А если старики окажут сопротивление и вступят с ним в борьбу, разве он пощадит их и остережется поступков, свойственных тиранам?
– Я не поручусь за участь родителей такого человека.
c
– Но, ради Зевса, Адимант, неужели из‑за какой‑то новой своей подружки, без которой он мог бы и обойтись, он станет бить любимую с детства мать? Или ради цветущего юноши, с которым он только что подружился, хотя и без этого можно бы обойтись, он подымет руку на своего родного отца, пусть престарелого и отцветшего, но самого давнишнего из своих друзей? Неужели этот человек отдаст, по‑твоему, своих родителей в рабство подобным людям, введя их в свой дом?
– Отдаст, клянусь Зевсом.
– Великое же счастье родить сына с тираническими наклонностями![1576]
– Да, величайшее!
d
– А что же с ним будет, когда истощатся у него и отцовские, и материнские средства, а между тем в нем скопился целый рой прихотей? Не заставит ли его это сначала покуситься на стены чужого дома либо на плащ запоздалого ночного прохожего, а затем дочиста ограбить какой‑нибудь храм? Во всех этих поступках прежние его мнения о том, что прекрасно, а что гадко, усвоенные им с детских лет и считавшиеся правильными, покорятся власти недавно выпущенных на волю желании, сопровождающих Эрота и им возглавляемых.
e
Раньше, пока человек подчинялся обычаям, законам и своему отцу и внутренне ощущал себя демократом, эти желания высвобождались у него лишь в сновидениях; теперь же, когда его тиранит Эрот, человек навсегда становится таким, каким изредка бывал во сне, – ему не удержаться ни от убийства, ни от обжорства, ни от проступка, как бы ужасно все это ни было: посреди всяческого безначалия и беззакония в нем тиранически живет Эрот.
575
Как единоличный властитель, он доведет объятого им человека, словно подвластное ему государство, до всевозможной дерзости, чтобы любой ценой удовлетворить и себя, и сопровождающую его буйную ватагу, составившуюся из всех тех вожделений, что нахлынули на человека отчасти извне, из его дурного окружения, отчасти же изнутри, от бывших в нем самом такого же рода вожделений, которые он теперь распустил, дав им волю. Разве не такова жизнь подобного человека?
– Да, такова.
b
– Когда подобного рода людей в государстве немного, а все прочие мыслят здраво, те уезжают в чужие земли, служат там телохранителями какого‑нибудь тирана или в наемных войсках, если где идет война. Когда же подобные вожделения проявляются у них в мирных условиях, то и у себя на родине они творят много зла, хотя и по мелочам.
– Что ты имеешь в виду?
– Да то, что они совершают кражи, подкапываются под стены, отрезают кошельки, раздевают прохожих, святотатствуют, продают людей в рабство. Бывает, что они занимаются и доносами, если владеют словом, а то и выступают с ложными показаниями или берут взятки.
c
– Нечего сказать, по мелочам! Так ведь ты выразился о причиняемом ими зле, когда таких людей немного?
– Да, по мелочам, потому что сравнительно с великим злом это действительно мелочи: ведь в смысле вреда и несчастья для государства все это лишено, как говорится, того размаха, каким отличается тиран. Когда в государстве наберется много таких людей и их последователей и они ощутят свою многочисленность, то как раз из их среды и рождается тиран, чему способствует безрассудство народа. Это будет тот из них, кто сам в себе, то есть в своей душе, носит самого великого и отъявленного тирана.
d
– Естественно, ведь такой человек и будет самым большим тираном.
– Если ему уступят без сопротивления; если же государство не допустит этого, тогда, как в недавно упомянутом примере у него поднялась рука на родных мать и отца, точно так же поступит он и со своей родиной, лишь только окажется в состоянии: он покарает ее тем, что введет в нее своих новых сподвижников; в рабстве у них будет содержаться и воспитываться некогда милая ему «родина‑мать»[1577]
, как говорят критяне, то есть его отечество. Вот конечная цель вожделений подобного человека.
e
– Она состоит именно в этом.
– Подобного рода люди таковы и в частной жизни, еще прежде, чем станут у власти. С кем бы они ни вступали в общение, они требуют лести и полной готовности к услугам, а когда сами в чем‑нибудь нуждаются, тогда так и льнут к человеку, без стеснения делая вид, будто с ним близки, но чуть добьются своего – они опять чужие.
576
– Это очень верно подмечено.
– Значит, за всю свою жизнь они ни разу ни с кем не бывали друзьями; они вечно либо господствуют, либо находятся в рабстве: тираническая натура никогда не отведывала ни свободы, ни подлинной дружбы.
– Конечно.
– Разве не правильно было бы назвать таких людей не заслуживающими доверия?
– Как же иначе!
– Да и в высшей степени несправедливыми, если в нашей беседе мы правильно сделали раньше вывод относительно того, в чем заключается справедливость.
b
– Конечно, мы сделали его правильно.
– Итак, о крайне дурном человеке давай мы в общих чертах скажем так: это человек, который и наяву таков, как в тех сновидениях, что мы разбирали.
– Совершенно верно.
– А таким становится тот, кто при своих природных тиранических склонностях достигает единоличной власти, и, чем дольше он обладает такой властью, тем более он становится таким.
– Это уж обязательно, – сказал Главкон, в свою очередь вступая в беседу. Тираническая душа несчастна
c
– Так вот, разве не окажется самым несчастным человеком тот, кто является отъявленным негодяем? И чем дальше и больше была бы в его руках власть, тем больше и на более долгий срок он был бы таким в действительности, хотя большинство представляет это себе по‑разному.
– Нет, это необходимо обстоит именно так.
– А также и в отношении сходства: человек тиранический соответствует тиранически управляемому государству, а демократ – государству демократическому. И в остальных случаях то же самое?
– Как же иначе?
– И как государство относится к государству в смысле добродетели и благополучия, так и человек относится к человеку?
d
– Не иначе.
– А как, в смысле добродетели, относится государство с тираническим строем к государству, управляемому царем, которое мы разбирали раньше?
– Они совершенно противоположны друг другу: одно из них – самое благородное, другое – самое низкое.
– Я не стану спрашивать, какое из них ты считаешь каким, – это и без того ясно. Но в смысле процветания или, наоборот, бедности ты так же решаешь или иначе? Нас не должно поражать зрелище тирана,
e
отдельно взятого или окруженного немногочисленной свитой, нам надо рассмотреть все государство в целом, войти в него, во все вникнуть и, присмотревшись, уже тогда высказывать о нем свое мнение.
– Твое требование правильно. Однако всякому ясно, что нет более жалкого государства, чем управляемое тиранически, и более благополучного, чем то, в котором правят цари.
577
– А если и применительно к отдельным людям я потребовал бы того же самого, разве мое требование не было бы правильным? Я считаю, что о них может судить лишь тот, кто способен рассматривать человека, вникая мысленно в его нрав, а не глядеть, как ребенок, только на внешность и поражаться всему тому, что у тиранов придумывается для представительства, чтобы произвести впечатление на посторонних: надо уметь в этом разбираться. Мне думается, всем нам следовало бы прислушаться к отзывам того, кто действительно имел возможность составить себе суждение, то есть кто проживал бы в одном доме с тираном, наблюдал бы его домашний обиход и его отношение к членам семьи:
b
тогда тиран предстал бы перед нами в наиболее обнаженном виде, без этих пышных одеяний, словно для постановки трагедии. То же самое и когда положение в государстве принимает опасный оборот: кто наблюдал все это, пусть бы сообщил нам, как обстоит у тирана дело в смысле благополучия либо несчастья сравнительно с остальными людьми.
– И это твое требование было бы в высшей степени правильным.
– Хочешь, мы предположим, что принадлежим к числу тех, кто может так судить, или что мы уже встретились с подобного рода людьми? Тогда у нас было бы кому отвечать на наши вопросы.
– Конечно, хочу.
c
– Ну так подойди к рассмотрению этого вопроса вот каким образом: припомни, в чем сходство между государством и отдельным человеком, и по очереди бери ту или иную черту, указывая, каково при этом состояние того и другого.
– А именно как это делать?
– Прежде всего, если начать с государства: свободным или рабским ты назовешь государство с тираническим строем?
– Как нельзя более рабским.
– Однако ж ты видишь, что там есть господа и свободные люди.
– Да, вижу, но их совсем мало, а все государство
в целом, да и самое в нем порядочное находится в позорном и бедственном рабстве.
d
– Раз отдельный [тиранический] человек подобен такому же государству, то и в нем необходимо должен быть тот же порядок: душа его преисполнена рабством и низостью, те же ее части, которые были наиболее порядочными, находятся в подчинении, а господствует лишь малая ее часть, самая порочная и неистовая.
– Это неизбежно.
– Что же, назовешь ли ты такую душу рабской или свободной?
– Я‑то назову ее рабской.
– А ведь рабское и тиранически управляемое государство всего менее делает то, что хочет.
– Конечно.
e
– Значит, и тиранически управляемая душа всего менее будет делать что ей вздумается, если говорить о душе в целом. Всегда подстрекаемая и насилуемая яростным слепнем, она будет полна смятения и раскаяния.
– Несомненно.
– Богатым или бедным бывает по необходимости тиранически управляемое государство?
– Бедным.
578
– Значит, и тиранически управляемой душе приходится неизбежно быть всегда бедной и неудовлетворенной.
– Да, это так.
– Что же? Разве такое государство и такой человек не преисполнены неизбежно страха?
– И даже очень.
– Где еще, в каком государстве, по‑твоему, больше горя, стонов, плача, страданий?
– Нигде.
– А думаешь ли ты, что всего этого больше у кого‑нибудь другого, чем у человека тиранического, неистовствующего из‑за своих вожделений и страстей?
– Конечно, у него этих переживаний больше, чем у любого.
b
– Глядя на все это и тому подобное, я думаю, ты решил, что такое государство – самое жалкое из государств?
– А разве это неверно?
– Даже очень верно. Но что ты скажешь о человеке с тираническими наклонностями, если заметишь в нем то же самое?
– Он много несчастливее всех остальных.
– Вот это ты уже говоришь неверно.
– Как так?
– Я думаю, что вовсе не он всех несчастнее.
– А кто же?
– Еще несчастнее его покажется тебе, пожалуй, вот какой человек…
– Какой?
c
– Да тот, кому при его тиранических наклонностях не удастся прожить весь свой век частным лицом, раз уж его постигнет такая беда, что какое‑нибудь стечение обстоятельств позволит ему стать тираном.
– Из того, о чем у нас раньше шла речь, я заключаю, что ты прав.
– Да, но в таких вопросах нельзя довольствоваться общими соображениями, а нужно таким же способом, как раньше, исследовать все досконально. Ведь тут исследование касается самого главного – хорошей и дурной жизни.
– Совершенно верно.
d
– Посмотри же, дело ли я говорю. При рассмотрении этого вопроса надо, по‑моему, исходить из следующего…
– Из чего именно?
– Да из того, в каком положении находится любой из богатых граждан, владелец многих рабов. Эти люди очень похожи на тиранов тем, что им подвластны многие: тут разница только в том, что тирану подвластно больше народа.
– Да, в этом вся разница.
– Как ты знаешь, такие люди живут спокойно и не боятся своей челяди.
– С чего же им бояться?
– Да не с чего. Но понимаешь ли ты, что этому причиной?
e
– Да то, что любому из частных лиц приходит на e помощь все государство.
– Вот именно. Ну, а если кто из богов возьмет такого человека, имеющего пятьдесят или больше рабов, и перенесет его в пустыню вместе с женой, детьми, челядью и со всем имуществом – туда, где не найдется свободнорожденных людей, чтобы оказать ему помощь, – сколько бы у него, по‑твоему, возникло разных опасений, страхов за себя, за детей и за жену, как бы их всех не погубила челядь?
– По‑моему, он всегда был бы в страхе.
579
– Разве не стал бы он заискивать кое перед кем из своих рабов, не давал бы разные обещания, не начал бы отпускать их на волю без всякой надобности? Он сам оказался бы льстецом у своей прислуги.
– Это для него неизбежно: иначе он погибнет.
– Ну, а если вокруг него бог поселит множество соседей, однако таких, что они не выносят притязаний человека на господство и, если уж им подвернется такой человек, карают его крайними мерами?
b
– Тогда он и вовсе попадет в беду, раз его кругом сторожат одни лишь враги.
– А разве не в такой тюрьме содержится тот тиран, чью натуру мы разбирали? Ведь он полон множества разных страстей и страхов; со своей алчной душой только он один во всем государстве не смеет ни выехать куда‑либо, ни пойти взглянуть на то, до чего охотники все свободнорожденные люди;
c
большей частью он, словно женщина, живет затворником в своем доме и завидует остальным гражданам, когда кто‑нибудь уезжает в чужие земли и может увидеть что‑то хорошее. Осуществление тиранических наклонностей – еще худшее зло для человека, чем их подавление
– Это бывает именно так.
– Вдобавок ко всем этим бедам еще хуже придется тому, кто внутренне плохо устроен, то есть человеку с тираническими наклонностями (ты недавно признал его самым несчастным), если он не проведет всю свою жизнь как частное лицо, а будет вынужден каким‑то случаем действительно стать тираном и, не умея справиться с самим собой, попытается править другими.
d
Это вроде того, как если бы человек слабого здоровья, не справляющийся со своими болезнями, проводил свою жизнь не в уединении, а, напротив, был бы вынужден бороться и состязаться с сильными и крепкими людьми.
– Между ними полнейшее сходство, Сократ, ты совершенно прав.
– Так не правда ли, дорогой мой Главкон, такое состояние – это, безусловно, несчастье, и жизнь того, кто сделался тираном, еще тяжелее жизни, которую ты признал самой тяжкой для человека?
– Да, это очевидно.
e
– Значит, хотя иной с этим и не согласится, но, по правде говоря, кто подлинно тиран, тот подлинно раб величайшей угодливости и рабства, вынужденный льстить самым дурным людям. Ему не удовлетворить своих вожделений, очень многого ему крайне недостает, он оказывается поистине бедняком, если кто умеет охватить взглядом всю его душу. Всю свою жизнь он полон страха, он содрогается и мучается, коль скоро он сходен со строем того государства, которым управляет. А сходство между ними ведь есть, не правда ли?
– И притом большое.
580
– Кроме того, мы отметим в этом человеке те черты, о которых мы уже говорили раньше: власть неизбежно делает его завистливым, вероломным, несправедливым, недружелюбным и нечестивым; он поддерживает и питает всяческое зло; все это постепенно разовьется в нем еще больше; он будет чрезвычайно несчастен и такими же сделает своих близких.
– Никто из людей со здравым смыслом не станет. этого оспаривать. Градация пяти складов души по степени счастья
b
– Так подойди же! В таком случае у нас словно уже имеется судья по всем этим вопросам. Итак, выноси решение: кто, по‑твоему, займет первое место по счастью, кто – второе и так далее из пяти представителей – царского строя, тимократии, олигархии, демократии и тирании?
– Решение вынести нетрудно: в смысле добродетели и порока, счастья и его противоположности я ставлю их в том же порядке, в каком они выступали перед нами подобно театральным хорам[1578]
.
c
– Так давай наймем глашатая! Или я сам объявлю, что сын Аристона вынес решение считать самым счастливым самого добродетельного и справедливого человека, а таким будет человек наиболее царственный, властвующий над самим собой; самым несчастным он считает самого порочного и несправедливого, а таким будет тот, кто и сам для себя худший тиран, да еще и до крайности тиранит свое государство.
– Пусть у тебя так и будет объявлено!
– А не добавить ли мне еще, что все это независимо от того, останутся ли эти их свойства тайной для всех людей и богов?
– Добавь и это.
– Пусть так! Пусть это будет нашим первым доказательством. Другим должно быть вот какое, если только оно убедительно…
– Что же это за доказательство? Соответствие трех начал человеческой души
трем сословиям государства и трем видам удовольствий
d
– Раз государство подразделяется на три сословия, то и в душе каждого отдельного человека можно различить три начала[1579]
. Здесь, мне кажется, возможно еще одно доказательство.
– Какое же?
– Следующее: раз в душе имеются три начала, им, на мой взгляд, соответствуют три вида удовольствий, каждому началу свой. Точно так же подразделяются вожделения и власть над ними.
– Что ты имеешь в виду?
e
– Мы говорили, что одно начало – это то, посредством которого человек познает, другое – посредством которого он распаляется, третьему же, из‑за его многообразия, мы не смогли подыскать какого‑нибудь одного, присущего ему, обозначения и потому назвали его по тому признаку, который в нем выражен наиболее резко: мы нарекли его вожделеющим – из‑за необычайной силы вожделений к еде, питью, любовным утехам и всему тому, что с этим связано. Сюда относится и сребролюбие, потому что для удовлетворения таких вожделений очень нужны деньги.
581
– Да, мы правильно это назвали.
– Если бы мы даже про наслаждение и любовь этого начала сказали, что они направлены на выгоду, мы всего более выразили бы таким образом одну из его главных особенностей, так что нам всякий раз было бы ясно, о какой части души идет речь; и, если бы мы назвали это начало сребролюбивым и корыстолюбивым, разве не было бы правильным такое наименование?
– Мне‑то кажется, что да.
– Дальше. Не скажем ли мы, что яростный дух всегда и всецело устремлен на то, чтобы взять верх над кем‑нибудь, победить и прославиться?
b
– Безусловно.
– Так что, если мы назовем его честолюбивым и склонным к соперничеству, это будет уместно?
– В высшей степени.
– Ну, а то начало, посредством которого мы познаем? Всякому ясно, что оно всегда и полностью направлено на познание истины, то есть того, в чем она состоит, а о деньгах и молве заботится всего менее.
– Даже совсем не заботится.
– Назвав его познавательным и философским, мы обозначили бы его подходящим образом?
– Конечно.
c
– Но у одних людей правит в душе одно начало, а у других – другое; это уж как придется.
– Да, это так.
– Поэтому давай прежде всего скажем, что есть три рода людей: одни – философы, другие – честолюбцы, третьи – сребролюбцы.
– Конечно.
– И что есть три вида удовольствий соответственно каждому из этих видов людей.
– Несомненно.
d
– А знаешь, если у тебя явится желание спросить поочередно этих трех людей, какая жизнь всего приятнее, каждый из них будет особенно хвалить свою. Делец скажет, что в сравнении с наживой удовольствие от почета или знаний ничего не стоит, разве что и из этого можно извлечь доход.
– Верно.
– А честолюбец? Разве он не считает, что удовольствия, доставляемые деньгами, – это нечто пошлое, а с другой стороны, удовольствие от знаний, поскольку наука не приносит почета, – это просто дым?
– Да, он так считает.
e
– Чем же, думаем мы, считает философ все прочие удовольствия сравнительно с познанием истины – в чем она состоит – и постоянным расширением своих знаний в этой области? Разве он не находит, что все прочее очень далеко от удовольствия? Да и в других удовольствиях он ничуть не нуждается, разве что их уж нельзя избежать: поэтому‑то он и называет их необходимыми.
– Это следует хорошо знать.
582
– А когда под сомнение берутся удовольствия и даже сам образ жизни каждого из трех видов людей – не с точки зрения того, чье существование прекраснее или постыднее, лучше или хуже, а просто спор идет о том, что приятнее и в чем меньше страданий, – как нам узнать, кто из них всего более прав?
– На это я затрудняюсь ответить.
– А ты взгляни вот как: на чем должно основываться суждение, чтобы оно было верным? Разве не на опыте, на разуме и на доказательстве? Или есть лучшее мерило, чем это?
– Нет, конечно.
b
– Так посмотри: из этих трех человек кто всего опытнее в тех удовольствиях, о которых мы говорили? У корыстолюбца ли больше опыта в удовольствии от познания, когда человек постигает самое истину, какова она, или же философ опытнее в удовольствии от корысти?
– Философ намного превосходит корыстолюбца; ведь ему неизбежно пришлось отведать того и другого с самого детства, тогда как корыстолюбцу, даже если он по своим природным задаткам способен постигнуть сущее, нет необходимости отведать этого удовольствия и убедиться на опыте, как оно сладостно; более того, пусть бы он и стремился к этому, для него это нелегко.
c
– Стало быть, философ намного превосходит корыстолюбца опытностью в том и другом удовольствии.
– Конечно, намного.
– А как насчет честолюбца? Более ли неопытен философ в удовольствии, получаемом от почета, чем тот – в удовольствии от разумения?
– Но ведь почетом пользуется каждый, если достиг своей цели. Многие почитают богатого человека, мужественного или мудрого, так что в удовольствии от почета все имеют опыт и знают, что это такое. А какое удовольствие доставляет созерцание бытия, этого никому, кроме философа, вкусить не дано.
d
– Значит, из тех трех его суждение благодаря его опытности будет наилучшим.
– Несомненно.
– И лишь один он будет обладать опытностью в сочетании с разумом.
– Конечно.
– Но и то орудие, посредством которого можно судить, принадлежит не корыстолюбцу и не честолюбцу, а философу.
– Какое орудие?
– Мы сказали, что судить надо при помощи доказательств, не так ли?
– Да.
– Доказательства – это и есть преимущественно орудие философа.
– Безусловно.
e
– Если то, что подлежит суду, судить на основании богатства или корысти, тогда похвала либо порицание со стороны корыстолюбца непременно были бы самыми верными суждениями.
– Наверняка.
– А если судить на основании почета, победы, мужества, тогда, не правда ли, верными были бы суждения честолюбца, склонного к соперничеству?
– Это ясно.
– А если судить с помощью опыта и доказательства?
– То, что одобряет человек, любящий мудрость п доказательство, непременно должно быть самым верным.
583
– Итак, поскольку имеются три вида удовольствии, значит, то из них, что соответствует познающей части души, будет наиболее полным, и, в ком из нас эта часть преобладает, у того и жизнь будет всего приятнее.
– Как же ей и не быть? Недаром так расценивает свою жизнь человек разумный – главный судья в этом деле.
– А какой жизни и каким удовольствиям отведет наш судья второе место?
– Ясно, что удовольствиям человека воинственного и честолюбивого – они ближе к первым, чем удовольствия приобретателя.
– По‑видимому, на последнем месте стоят удовольствия корыстолюбца.
– Конечно.
b
– Итак, вот прошли подряд как бы два состязания и дважды вышел победителем человек справедливый, а несправедливый проиграл. Теперь пойдет третье состязание[1580]
, олимпийское, в честь Олимпийского Зевса: заметь, что у всех, кроме человека разумного, удовольствия не вполне подлинны, скорее они напоминают теневой набросок; так, помнится, я слышал от кого‑то из знатоков, – а ведь это означало бы уже полнейшее поражение.
– Еще бы! Но что ты имеешь в виду? Удовольствие и страдание.
Отличие подлинного удовольствия от простого прекращения страданий
– Я это найду, если ты мне поможешь своими ответами.
c
– Задавай же вопросы.
– Скажи‑ка, не говорим ли мы, что страдание противоположно удовольствию?
– Конечно.
– А бывает ли что‑нибудь ни радостным, ни печальным?
– Бывает.
– Посредине между этими двумя состояниями будет какое‑то спокойствие души в отношении того и другого? Или ты это называешь иначе?
– Нет, так.
– Ты помнишь слова больных – что они говорят, когда хворают?
– А именно?
– Они говорят: пет ничего приятнее, чем быть здоровым. Но до болезни они не замечали, насколько это приятно.
d
– Да, помню.
– И если человек страдает от какой‑либо боли, ты слышал, как говорят, что приятнее всего, когда боль прекращается?
– Слышал.
– И во многих подобных же случаях ты замечаешь, я думаю, что люди, когда у них горе, мечтают не о радостях, как о высшем удовольствии, а о том, чтобы не было горя и наступил бы покой.
– Покой становится тогда, пожалуй, желанным и приятным.
e
– А когда человек лишается какой‑нибудь радости, покой после удовольствия будет печален.
– Пожалуй.
– Стало быть, то, что, как мы сейчас сказали, занимает середину между двумя крайностями, то есть покой, бывает и тем и другим, и страданием и удовольствием.
– По‑видимому.
– А разве возможно, не будучи ни тем ни другим, оказаться и тем и другим?
– По‑моему, нет.
– И удовольствие, возникающее в душе, и страдание – оба они суть какое‑то движение. Или нет?
– Да, это так.
584
– А то, что не есть ни удовольствие, ни страдание, разве не оказалось только что посредине между ними? Это – покой.
– Да, он оказался посредине.
– Так может ли это быть верным – считать удовольствием отсутствие страдания, а страданием – отсутствие удовольствия?
– Ни в коем случае.
– Следовательно, этого на самом деле не бывает, оно лишь таким представляется: покой только тогда и будет удовольствием, если его сопоставить со страданием, и, наоборот, он будет страданием в сравнении с удовольствием. Но с подлинным удовольствием эта игра воображения не имеет ничего общего: в ней нет ровно ничего здравого, это одно наваждение.
– Наше рассуждение это показывает.
b
– Рассмотри же те удовольствия, которым не предшествует страдание, а то ты, может быть, думаешь, будто ныне самой природой устроено так, что удовольствие – это прекращение страдания, а страдание – прекращение удовольствия.
– Где же существуют такие удовольствия и в чем они состоят?
– Их много, и притом разных, но особенно, если хочешь это понять, Возьми удовольствия, связанные с обонянием[1581]
: мы испытываем их вдруг, без всякого предварительного страдания, а когда эти удовольствия прекращаются, они не оставляют по себе никаких мучений.
– Сущая правда.
c
– Стало быть, мы не поверим тому, будто прекращение страдания – это удовольствие, а прекращение удовольствия – страдание.
– Не поверим.
– Однако так называемые удовольствия, испытываемые душой при помощи тела, – а таких чуть ли не большинство, и они едва ли не самые сильные, – как раз и относятся к этому виду, иначе говоря, они возникают как прекращение страданий.
– Это правда.
– Не так же ли точно обстоит дело и с предчувствием будущих удовольствий и страданий, иначе говоря, когда мы заранее испытываем радость или страдаем?
– Да, именно так.
d
– Знаешь, что это такое и на что это очень похоже?
– На что?
– Считаешь ли ты, что в природе действительно есть верх, низ и середина?
– Считаю, конечно.
– Так вот, если кого‑нибудь переносят снизу к середине, не думает ли он, по‑твоему, что поднимается вверх, а не куда‑нибудь еще? А остановившись посредине и оглядываясь, откуда он сюда попал, не считает ли он, что находится наверху, а не где‑нибудь еще, – ведь он не видел пока подлинного верха?
– Клянусь Зевсом, по‑моему, такой человек не может думать иначе.
e
– Но если бы он понесся обратно, он считал бы, что несется вниз, и правильно бы считал.
– Конечно.
– С ним бы происходило все это потому, что у него нет опыта в том, что такое действительно верх, середина и низ.
– Это ясно. Без знания истины невозможно отличить подлинное удовольствие от мнимого
– Удивишься ли ты, если люди, не ведающие истины относительно многих других вещей, не имеют здравых мнений об этом? Насчет удовольствия, страдания и промежуточного состояния люди настроены так, что, когда их относит в сторону страдания, они судят верно и подлинно страдают,
585
но, когда они переходят от страдания к промежуточному состоянию, они очень склонны думать, будто это способствует удовлетворению и радости. Можно подумать, что они глядят на серое, сравнивая его с черным и не зная белого, – так заблуждаются они, сравнивая страдание с его отсутствием и не имея опыта в удовольствии.
– Клянусь Зевсом, меня это не удивило бы, скорее уж если бы дело обстояло иначе.
b
– Вдумайся вот во что: голод, жажда и тому подобное – разве это не ощущение состояния пустоты в нашем теле?
– Ну и что же?
– А незнание и непонимание – разве это не состояние пустоты в душе?
– И даже очень.
– Подобную пустоту человек заполнил бы, приняв пищу или поумнев.
– Конечно.
– А что было бы подлиннее: заполнение более действительным или менее действительным бытием?
– Ясно, что более действительным.
– А какие роды [вещей] считаешь ты более причастными чистому бытию? Будут ли это такие вещи, как, например, хлеб, напитки, приправы, всевозможная пища, или же это будет какой‑то вид истинного мнения, знания, ума, вообще всяческого совершенства?
c
Суди об этом вот как: то, что причастно вечно тождественному, подлинному и бессмертному, само тождественно и возникает в тождественном, не находишь ли ты более действительным, чем то, что причастно вечно изменчивому и смертному, само таково и в таком же и возникает?
– Вечно тождественное много действительнее.
– А сущность не‑тождественного разве более причастна бытию, чем познанию?
– Вовсе нет.
– Что же? А истине она больше причастна?
– Тоже нет.
– Если же она меньше причастна истине, то не меньше ли и бытию?
– Непременно.
d
– Значит, всякого рода попечение о теле меньше причастно истине и бытию, чем попечение о душе?
– Гораздо меньше.
– Не думаешь ли ты, что то же самое относится к самому телу сравнительно с душой?
– По‑моему, да.
– Значит, то, что заполняется более действительным и само более действительно, в самом деле заполняется больше, чем то, что заполняется менее действительным и само менее действительно?
– Как же иначе?
e
– Раз бывает приятно, когда тебя наполняет что‑нибудь подходящее по своей природе, то и действительное наполнение чем‑то более действительным заставляло бы более действительно и подлинно радоваться подлинному удовольствию, между тем как добавление менее действительного наполняло бы менее подлинно и прочно и доставляло бы менее достоверное и подлинное удовольствие.
– Это совершенно неизбежно.
586
– Значит, у кого нет опыта в рассудительности и добродетели, кто вечно проводит время в пирушках и других подобных увеселениях, того, естественно, относит вниз, а потом опять к середине, и вот так они блуждают всю жизнь. Им не выйти за эти пределы: ведь они никогда не взирали на подлинно возвышенное и не возносились к нему, не наполнялись в действительности действительным, не вкушали надежного и чистого удовольствия; подобно скоту они всегда смотрят вниз, склонив голову к земле… и к столам: они пасутся, обжираясь и совокупляясь,
b
и из‑за жадности ко всему этому лягают друг друга, бодаясь железными рогами, забивая друг друга насмерть копытами – все из‑за ненасытности, так как они не заполняют ничем действительным ни своего действительного начала, ни своей утробы[1582]
.
– Великолепно, – сказал Главкон, – словно прорицатель, изображаешь ты, Сократ, жизнь большинства.
– И разве не неизбежно примешиваются к удовольствиям страдания? Хотя это только призрачные образы подлинного удовольствия, при сопоставлении с ним оказывающиеся более бледными по краскам, тем не менее они производят сильное впечатление, приводят людей в неистовство,
c
внушают безумцам страстную в них влюбленность и служат предметом раздора: так, по утверждению Стесихора, сражались под Троей мужи лишь за призрак Елены, не ведая правды[1583]
.
– Да, это непременно должно было быть чем‑то подобным.
– Что же? Разве не вызывается нечто подобное и яростным началом нашей души? Человек творит то же самое либо из зависти – вследствие честолюбия, либо прибегает к насилию из‑за соперничества, либо впадает в гнев из‑за своего тяжелого нрава, когда бессмысленно и неразумно преследует лишь одно: насытиться почестями, победой, яростью.
d
– И в этом случае все это неизбежно.
– Так что же? Отважимся ли мы сказать, что даже там, где господствуют вожделения, направленные на корыстолюбие и соперничество, если они сопутствуют познанию и разуму и вместе с ними преследуют удовольствия, проверяемые разумным началом, они все же разрешатся в самых подлинных удовольствиях,
e
поскольку подлинные удовольствия доступны людям, добивающимся истины? Это были бы соответствующие удовольствия, ибо что для кого‑нибудь есть наилучшее, то ему всего более и соответствует.
– Да, соответствует всего более. Самые подлинные удовольствия – у души, следующей за философским началом
– Стало быть, если вся душа в целом следует за своим философским началом и не бывает раздираема противоречиями, то для каждой ее части возможно не только делать все остальное по справедливости, но и находить в этом свои особые удовольствия, самые лучшие и по мере сил самые истинные.
587
– Совершенно верно.
– А когда возьмет верх какое‑нибудь другое начало, то для него будет невозможно отыскать присущее ому удовольствие, да и остальные части будут вынуждены стремиться к чуждому им и не истинному.
– Это так.
– И чем дальше отойти от философии и разума, тем больше это будет происходить.
– Да, намного больше. Два полюса: тиранические и царственные вожделения и удовольствия
– А всего дальше отходит от разума то, что отклоняется от закона и порядка.
– Это ясно.
– Уже было выяснено, что всего дальше отстоят от разума любовные и тиранические вожделения.
– Да, всего дальше.
– А всего ближе к нему вожделения царственные и упорядоченные.
b
– Да.
– Всего дальше, я думаю, отойдет от подлинного и собственного своего удовольствия тиран, а всего ближе к нему будет царь.
– Неизбежно.
– Значит, тиран будет вести жизнь, совсем лишенную удовольствий, а у царя их будет много.
– Да, и это совсем неизбежно.
– А знаешь, во сколько раз меньше удовольствий в жизни тирана, чем у царя?
– Скажи мне, пожалуйста, ты.
– Существуют, как видно, три вида удовольствий: один из них – подлинный, два – ложных. Тиран, избегая закона и разума, перешел в запредельную область ложных удовольствий.
c
Там он и живет, и телохранителями ему служат какие‑то рабские удовольствия. Во сколько раз умалились его удовольствия, не так‑то легко сказать, разве что вот как…
– Как?
– После олигархического человека тиран стоит на третьем месте, а посредине между ними будет находиться демократ.
– Да.
– И сравнительно с подлинным удовольствием у тирана, считая от олигарха, получится уже третье призрачное его подобие, если верно все сказанное нами раньше.
– Да, это так.
– Между тем человек олигархический и сам‑то стоит на третьем месте от человека царственного, если мы будем считать последнего тождественным человеку аристократическому.
d
– Да, на третьем.
– Значит, трижды три раза – вот во сколько раз меньше, чем подлинное, удовольствие тирана.
– По‑видимому.
– Значит, это призрачное подобие было бы [квадратной] плоскостью, выражающей размер удовольствия тирана.
– Верно.
– А если взять вторую и третью степень, станет ясно, каким будет расстояние, отделяющее тирана [от царя].
e
– По крайней мере ясно тому, кто умеет вычислять.
– Если же кто в обратном порядке станет определять, насколько отстоит царь от тирана в смысле подлинности удовольствия, то, доведя умножение до конца, он найдет, что царь живет в семьсот двадцать девять раз приятнее, а тиран во столько же раз тягостнее.
588
– Ты сделал поразительное вычисление! Вот как велика разница между этими двумя людьми, то есть между человеком справедливым и несправедливым, в отношении к удовольствию и страданию.
– Однако это число верно и вдобавок оно подходит к [их] жизням, поскольку с ними находятся в соответствии сутки, месяцы и годы[1584]
.
– Да, в соответствии.
– Если даже в смысле удовольствия хороший и справедливый человек стоит настолько выше человека подлого и несправедливого, то насколько же выше будет он по благообразию своей жизни, по красоте и. добродетели!
b
– Клянусь Зевсом, бесконечно выше. Недостаточность показной справедливости
– Хорошо. А теперь, раз мы заго ворили об этом, давай вернемся к тому, что было сказано раньше и что привело нас к этому вопросу. Тогда говорилось, что человеку, полностью несправедливому, выгодно быть несправедливым при условий, что его считают справедливым. Не так ли было сказано?
– Да, так.
– Давай же теперь обсудим это утверждение, раз мы пришли к согласию насчет значения справедливой и несправедливой деятельности.
– Как же мы будем это обсуждать?
– Мы создадим некое словесное подобие души, чтобы тот, кто тогда это утверждал, увидел, что он, собственно, говорит[1585]
.
– Каким же будет это подобие?
c
– Чем‑нибудь вроде древних чудовищ – Химеры, Скиллы, Кербера, – какими уродились они согласно сказаниям. Да и о многих других существах говорят, что в них срослось несколько разных образов[1586]
.
– Да, говорят.
– Так вот, создай образ зверя, многоликого и многоголового. Эти лики – домашних и диких зверей – расположены у него кругом, он может их изменять и производить все это из самого себя.
d
– Тут потребовался бы искусный ваятель! Впрочем, поскольку гораздо легче лепить из слов, чем из воска или других подобных вещей, допустим, что такой образ уже создан.
– И еще создай образ льва[1587]
и образ человека, причем первый будет намного большим, а второй будет уступать ему по величине.
– Это легче: они уже готовы.
– Хоть здесь и три образа, но ты объедини их так, чтобы они крепко срослись друг с другом.
– Готово, они скреплены.
e
– Теперь придай им снаружи, вокруг, единый облик – облик человека, так чтобы все это выглядело как одно живое существо, иначе говоря, как человек, по крайней мере для того, кто не в состоянии рассмотреть, что находится там, внутри, и видит только внешнюю оболочку.
– Готово и это.
– В ответ тому, кто утверждает, будто такому человеку полезно творить несправедливость, а действовать по справедливости невыгодно, мы скажем, что тем самым, собственно говоря, утверждается, будто полезно откармливать многоликого зверя, делать мощным и его, и льва, и все, что ко льву относится, а человека морить голодом, ослаблять,
589
чтобы те могли тащить его куда им вздумается, и он не был бы в состоянии приучить их к взаимной дружбе, а вынужден был бы предоставить им грызться между собой, драться и пожирать друг друга.
– Именно такой смысл заключался бы в утверждении того, кто одобряет несправедливость.
– В свою очередь тот, кто признает полезность справедливости, тем самым утверждает, что нужно делать и говорить все то, при помощи чего внутренний человек сумеет совладать с тем [составным] человеком и как хозяин возьмет на себя попечение об этой многоголовой твари,
b
взращивая и облагораживая то, что в ней есть кроткого, и препятствуя развитию ее диких свойств. Он заключит союз со львом и сообща с ним будет заботиться обо всех частях, заставляя их быть дружными между собою и с ним самим. Вот как бы он их растил.
– Конечно, именно это утверждает тот, кто хвалит справедливость.
c
– Как ни поверни, выходит, что говорит правду тот, кто прославляет справедливость, а кто хвалит несправедливость, тот лжет. Рассматривать ли это с точки зрения удовольствия, доброй славы или пользы, всегда будет прав тот, кто одобряет справедливость, а тот, кто ее бранит, ровно ничего не смыслит – лишь бы ему браниться.
– По‑моему, этот человек ни в чем не разбирается.
d
– Мы станем кротко убеждать его – ведь не по доброй же воле он ошибается – и зададим ему такой вопрос: «Чудак, не таким же ли образом возникли общепринятые взгляды на прекрасное и постыдное? Когда звероподобную сторону своей натуры подчиняют человеческой – вернее, пожалуй, божественной, – это прекрасно, когда же кротость порабощается дикостью, это постыдно и безобразно». Согласится он, как ты думаешь?
– Да, если последует моему совету.
– Исходя из этого рассуждения, принесет ли кому‑нибудь пользу обладание золотом, полученным несправедливым путем? Ведь при этом происходит примерно вот что: золото он возьмет, но одновременно с этим поработит наилучшую свою часть самой скверной.
e
Или если за золото человек отдаст сына или дочь в рабство, да еще людям злым и диким, этим он ничего не выгадает, даже если получит за это очень много. Коль скоро он безжалостно порабощает самую божественную свою часть, подчиняя ее самой безбожной и гнусной, разве это не жалкий человек и разве полученная им мзда не ведет его к еще более ужасной гибели, чем Эрифилу[1588]
, обретшую ожерелье ценой души своего мужа?
590
– Конечно, он еще много несчастнее, отвечу я тебе вместо твоего собеседника, – сказал Главкон.
– А как по‑твоему, не потому ли с давних пор осуждали невоздержность, что она сверх всякой меры дает волю в невоздержном человеке той страшной, огромной и многообразной твари?
– Конечно, поэтому.
b
– А самодовольство и брюзгливость порицаются не тогда ли, когда усиливается и без меры напрягается та сторона человека, которая имеет сходство со львом или со змеей?
– Несомненно.
– Изнеженность и вялость осуждаются из‑за расслабленности и распущенности, из‑за того, что они вселяют в человека робость.
– Безусловно.
– Низкая угодливость вызывается тем, что как раз яростное начало души человек подчиняет тому неуемному, как толпа, зверю, который из алчности к деньгам и ненасытности смолоду приучается помыкать этим своим началом, превращаясь из льва в обезьяну.
c
– Конечно, это именно так.
– Почему, как ты думаешь, ставятся человеку в упрек занятия ремеслами и ручным трудом? Укажем ли мы какую‑нибудь иную причину, или здесь дело н том, что, когда у человека лучшая его часть ослаблена, так что ему не под силу справиться с теми тварями, которые находятся у него внутри, он способен лишь угождать им? Как их ублажать – вот единственное, в чем он знает толк.
– Видимо, да.
d
– Для того чтобы и такой человек управлялся началом, подобным тому, каким управляются лучшие люди, мы скажем, что ему надлежит быть рабом лучшего человека, в котором господствующее начало – божественное. Не во вред себе должен быть в подчинении раб, как это думал Фрасимах[1589]
относительно всех подвластных; напротив, всякому человеку лучше быть под властью божественного и разумного начала, особенно если имеешь его в себе как нечто свое; если же этого нет, тогда пусть оно воздействует извне, чтобы по мере сил между всеми нами было сходство и дружба и мы все управлялись бы одним и тем же началом.
– Это верно.
e
– Да и закон, поскольку он союзник всех граждан государства, показывает, что он ставит себе такую же цель. То же и наша власть над детьми: мы не даем им воли до тех пор, пока не научим их, словно некое государство, какому‑то распорядку и, развивая в себе лучшее начало, не поставим его стражем и правителем над таким же началом у них: после этого мы отпускаем их на свободу.
591
– Это очевидно.
– Так каким же образом, Главкон, и на каком основании могли бы мы сказать, будто полезно поступать несправедливо, быть невоздержным и делать гадости? От этого человек будет только хуже, хотя бы он и приобрел много денег и в других отношениях стал бы могущественным.
– Такого основания нет.
– А какая польза для несправедливого человека, если его поступки останутся втайне и он не будет привлечен к ответственности? Разве тот, кто утаился, не делается от этого еще хуже?
b
У человека, который не скрывается и подвергается наказанию, звероподобное начало его души унимается и укрощается, а кроткое высвобождается, и вся его душа в целом, направленная теперь уже в лучшую сторону, проникается рассудительностью и справедливостью наряду с разумностью, причем становится настолько же более ценной, чем тело – хотя бы и развивающее свою силу, красоту и здоровье, – насколько вообще ценнее тела душа.
– В этом нет никакого сомнения.
c
– И не правда ли, человек разумный построит свою жизнь, направив все свои усилия именно на это? Он будет прежде всего ценить те познания, которые делают его душу такой, а прочими пренебрежет.
– Это ясно.
– Далее. Он не подчинит состояние своего тела и его питание звероподобному и бессмысленному удовольствию, обратив в эту сторону все свое существование. Даже на здоровье он не будет обращать особого внимания, не поставит себе целью непременно быть сильным, здоровым, красивым, если это не будет способствовать рассудительности. Он обнаружит способность наладить гармонию своего тела ради гармонической согласованности души.
d
– Непременно, раз он хочет быть поистине просвещенным и сведущим.
– И в обладании имуществом у него также будет порядок и согласованность? Большинство людей превозносит богатство, но разве он поддастся этому и станет беспредельно его увеличивать, так что и конца не будет беде?
– Не думаю.
e
– Он будет соблюдать свой внутренний строй и е будет начеку – как бы там что ни нарушилось из‑за изобилия или, наоборот, недостатка имущества: так станет он управлять своими доходами и расходами.
– Несомненно.
– Но и в том, что касается почестей, он будет учитывать то же самое: он не отклонит их и даже охотно отведает, если найдет, что они делают его добродетельнее,
592
но, если они нарушат достигнутое им состояние согласованности, он будет избегать их и в частной, и в общественной жизни.
– Раз он заботится об этом, значит, он не захочет заниматься государственными делами.
– Клянусь собакой, очень даже захочет, но только в своем государстве, а у себя на родине, может быть, и нет, разве уж определит так божественная судьба.
– Понимаю: ты говоришь о государстве, устройство которого мы только что разобрали, то есть о том, которое находится лишь в области рассуждений, потому что на земле, я думаю, его нигде нет.
b
– Но быть может, есть на небе[1590]
его образец, доступный каждому желающему: глядя на него, человек задумается над тем, как бы это устроить самого себя. А есть ли такое государство на земле и будет ли оно – это совсем неважно. Человек этот занялся бы делами такого – и только такого – государства.
– Да, так и следует.
Перевод А. Н. Егунова.
В кн.: Платон. Соб. соч. в 3‑х тт. Т.3 (1). М., 1971
КHИГА X
Еще раз о месте поэзии в идеальном государстве
595
– Право же, я и по многим другим признакам замечаю, что мы всего правильнее устроили наше государство: говорю я это, особенно имея в виду поэзию.
– Что же ты об этом думаешь?
– Ее никоим образом нельзя допускать, поскольку она подражательна. Это, по‑моему, стало теперь еще яснее – после разбора порознь каждого вида души.
b
– Как ты это понимаешь?
– Говоря между нами, – вы ведь не донесете на меня ни творцам трагедий, ни всем остальным подражателям – все это прямо‑таки язва для ума слушателей, раз у них нет средства узнать, что это, собственно, такое.
– В каком смысле ты это говоришь?
– Придется это сказать, хотя какая‑то любовь к Гомеру[1591]
и уважение к нему, владеющие мною с детства, препятствуют мне говорить.
c
Похоже, что он – первый наставник и вождь всех этих великолепных трагедийных поэтов. Однако нельзя ценить человека больше, чем истину, вот и приходится сказать то, что я говорю.
– Конечно.
– Так слушай же, а главное, отвечай.
– Спрашивай.
– Можешь ли ты мне вообще определить, что такое подражание? Сам‑то я как‑то не очень понимаю, в чем оно состоит.
– Значит, и мне не сообразить.
596
– Нисколько не удивительно: ведь часто, прежде чем разглядят зоркие, это удается сделать людям подслеповатым.
– Бывает. Но в твоем присутствии я не решился бы ничего сказать, даже если бы мне это и прояснилось. Ты уж рассматривай сам. Искусство как подражание подражанию идее (эйдосу)
– Хочешь, мы начнем разбор отсюда, с помощью обычного нашего метода: для каждого множества вещей, обозначаемых одним именем, мы обычно устанавливаем только один определенный вид. Понимаешь?
– Понимаю.
b
– Возьмем и теперь какое тебе угодно множество. Ну, если хочешь, например, кроватей и столов на свете множество…
– Конечно.
– Но идей этих предметов только две – одна для кровати и одна для стола.
– Да.
– И обычно мы говорим, что мастер изготовляет ту или иную вещь, всматриваясь в ее идею: один делает кровати, другой столы, нужные нам, и то же самое и в остальных случаях. Но никто из мастеров не создает самое идею. Разве он это может?
– Никоим образом.
– Но смотри, назовешь ли ты мастером еще и такого человека…
c
– Какого?
– Того, кто создает все, что делает в отдельности каждый из ремесленников.
– Ты говоришь о человеке на редкость искусном.
– Это еще что! Вот чему ты, пожалуй, поразишься: тот самый мастер не только способен изготовлять разные вещи, но он творит все, что произрастает на земле, производит на свет все живые существа, в том числе и самого себя, а вдобавок землю, небо, богов и все, что на небе, а также все, что под землей, в Аиде.
d
– О поразительном искуснике ты рассказываешь.
– Ты не веришь? Скажи‑ка, по‑твоему, совсем не бывает таких мастеров или же можно как‑то стать творцом всего этого, но лишь одним определенным способом? Разве ты не замечаешь, что ты и сам был бы способен каким‑то образом сделать все это?
– Но каким именно?
– Это нетрудное дело, и выполняется оно часто и быстро. Если тебе хочется поскорее, возьми зеркало и води им в разные стороны – сейчас же у тебя получится и Солнце, и все, что на небе, и земля, и ты сам, и остальные живые существа, а также предметы, растения и все, о чем только что шла речь.
e
– Да, но все это будет одна лишь видимость, а не подлинно сущие вещи.
– Прекрасно. Ты должным образом приступаешь к этому рассуждению. К числу таких мастеров относится, думаю я, и живописец? Или нет?
– Почему же нет?
– Но по‑моему, ты скажешь, что он не на самом деле производит то, что производит, хотя в некотором роде и живописец производит кровать. Разве нет?
– Да, но у него это только видимость.
597
– А что же плотник? Разве ты не говорил сейчас, что он производит не идею [кровати] – она‑то, считаем мы, и была бы кроватью, как таковой, – а только некую кровать?
– Да, я говорил это.
– Раз он делает не то, что есть, он не сделает подлинно сущего; он сделает только подобное, но не само существующее. И если бы кто признал изделие плотника или любого другого ремесленника совершенной сущностью, он едва ли был бы прав.
– По крайней мере не такого мнения были бы те, кто привык заниматься подобного рода рассуждениями.
– Значит, мы не станем удивляться, если его изделие будет каким‑то смутным подобием подлинника?
– Не станем.
b
– Хочешь, исходя из этого, мы поищем, каким будет этот подражатель?
– Пожалуйста.
– Так вот, эти самые кровати бывают троякими: одна существует в самой природе, и ее мы признали бы, думаю я, произведением бога. Или, может быть, кого‑то другого?
– Нет, я думаю, только его.
– Другая – это произведение плотника.
– Да.
– Третья – произведение живописца, не так ли?
– Допустим.
– Живописец, плотник, бог – вот три создателя этих трех видов кровати.
– Да, их трое.
c
– Бог, потому ли, что не захотел или в силу необходимости, требовавшей, чтобы в природе была завершена только одна кровать, сделал, таким образом, лишь одну‑единственную – она‑то и есть кровать, как таковая, а двух подобных, либо больше, не было создано богом и не будет в природе.
– Почему же?
– Потому что, если бы он сделал их всего две, все равно оказалось бы, что это одна, и именно та, вид которой имели бы они обе: это была бы та единственная кровать, кровать, как таковая, а двух кроватей бы не было.
– Это верно.
d
– Я думаю, что бог, зная это, хотел быть действительным творцом действительно существующей кровати, но не какой‑то кровати и не каким‑то мастером по кроватям. Поэтому‑то он и произвел одну кровать, единственную по своей природе.
– Похоже, что это так.
– Хочешь, мы назовем его творцом этой вещи или чем‑то другим, подобным?
– Это было бы справедливо, потому что и эту вещь, и все остальное он создал согласно природе.
– А как же нам назвать плотника? Не мастером ли по кроватям?
– Да.
– А живописца – тоже мастером и творцом этих вещей?
– Ни в коем случае.
– Что же он тогда такое в этом отношении, как ты скажешь?
e
– Вот что, мне кажется, было бы для него наиболее подходящим именем: он подражатель творениям мастеров.
– Хорошо. Значит, подражателем ты называешь того, кто порождает произведения, стоящие на третьем месте от сущности?
– Конечно.
– Значит, таким будет и творец трагедий: раз он подражатель, он, естественно, стоит на третьем месте от царя и от истины[1592]
; точно так же и все остальные подражатели.
– Пожалуй.
– Итак, относительно подражателей мы с тобой согласны. Скажи мне насчет живописца вот еще что: как, по‑твоему, пытается ли он воспроизвести все то, что содержится в природе, или же он подражает творениям мастеров?
598
– Творениям мастеров.
– Таким ли, каковы эти творения на самом деле или какими они кажутся? Это ведь ты тоже должен разграничить.
– А как ты это понимаешь?
– Вот как: ложе, если смотреть на него сбоку, или прямо, или еще с какой‑нибудь стороны, отличается ли от самого себя? Или же здесь нет никакого отличия, а оно лишь кажется иным, и то же самое происходит и с другими вещами?
– Да, то же самое. Оно только кажется иным, а отличия здесь нет никакого.
b
– Вот это ты и рассмотри. Какую задачу ставит перед собой каждый раз живопись? Стремится ли она воспроизвести действительное бытие или только кажимость? Иначе говоря, живопись – это воспроизведение призраков или действительности?
– Призраков.
– Значит, подражательное искусство далеко от действительности. Поэтому‑то, сдается мне, оно и может воспроизводить все, что угодно: ведь оно только чуть‑чуть касается любой вещи, да и тогда выходит лишь призрачное ее отображение.
c
Например, художник нарисует нам сапожника, плотника, других мастеров, но сам‑то он ничего не понимает в этих ремеслах. Однако если он хороший художник, то, нарисовав плотника и издали показав это детям или людям не очень умным, он может ввести их в заблуждение, и они примут это за настоящего плотника.
– Конечно.
– Но я считаю, мой друг, что такого взгляда надо придерживаться относительно всех подобных вещей. Если кто‑нибудь станет нам рассказывать, что ему встретился человек, умеющий делать решительно все лучше любого другого и сведущий во всем, что бы кто в отдельности ни знал,
d
надо возразить такому рассказчику, что сам‑то он, видно, простоват, раз дал себя провести какому‑то шарлатану и подражателю, которого при встрече принял за великого мудреца, так как не смог отличить знание от невежества и подражания.
– Совершенно верно. Критика эпоса и трагедии
– Итак, после этого надо рассмотреть трагедию и ее зачинателя – Гомера, потому что мы слышали от некоторых людей, будто трагическим поэтам знакомы все искусства, все человеческие дела –
e
добродетельные и подлые, а вдобавок еще и дела божественные. Ведь хорошему поэту, чтобы его творчество было прекрасно, необходимо знать то, чего он касается, иначе он не сможет творить. Следует рассмотреть, обманывались ли люди, встречая этих подражателей, замечали ли они, глядя на их творения,
599
что такие вещи втрое отстоят от подлинного бытия и легко выполнимы для того, кто не знает истины: ведь тут творят призраки, а не подлинно сущее. Или, может быть, люди правы, и хорошие поэты в самом деле знают то, о чем, по мнению большинства, они так хорошо говорят.
– Да, это очень даже заслуживает исследования.
– А если бы кто‑нибудь был в состоянии творить и то и другое – и подлинник, и его подобие, – думаешь ли ты, что такой человек старательно стал бы делать одни подобия и считал бы это лучшим и самым главным в своей жизни?
b
– Не думаю.
– Если бы он поистине был сведущ в том, чему подражает, тогда, думаю я, все его усилия были бы направлены на созидание, а не на подражание. Он постарался бы оставить по себе в качестве памятника много прекрасных произведений и скорее предпочел бы, чтобы ему воспевали хвалу, чем самому прославлять других.
– Я думаю! Ведь это принесло бы ому больше и чести, и пользы.
c
– Насчет всяких прочих дел мы не потребуем отчета у Гомера или у кого‑либо еще из поэтов; мы не спросим их, были ли они врачами или только подражателями языку врачей. И существует ли на свете предание, чтобы хоть один из поэтов – древних или же новых – вернул кому‑то здоровье, как это делая Асклепий, или чтобы поэт оставил по себе учеников по части врачевания, какими были потомки Асклепия?[1593]
Не станем мы их спрашивать и о разных других искусствах – оставим это в покое. Но когда Гомер пытается говорить о самом великом и прекрасном – о войнах, о руководстве военными действиями, об управлении государствами, о воспитании людей, –
d
тогда мы вправе полюбопытствовать и задать ему такой вопрос: «Дорогой Гомер, если ты в смысле совершенства стоишь не на третьем месте от подлинного, если ты творишь не только подобие, что было бы, по нашему определению, лишь подражанием, то, занимая второе место, ты был в состоянии знать, какие занятия делают людей лучше или хуже, в частном ли или в общественном обиходе: вот ты и скажи нам, какое из государств получило благодаря тебе лучшее устройство,
e
подобно тому как это было с Лакедемоном благодаря Ликургу и со многими крупными и малыми государствами – благодаря многим другим законодателям? Какое государство признаёт тебя своим благим законодателем, которому оно всем обязано? Италия и Сицилия считают таким Харонда, мы – Солона[1594]
, а тебя кто?» Сумеет Гомер назвать какое‑либо государство?
– Не думаю, – отвечал Главкон, – об этом не говорят даже Гомериды.
600
– Ну, а упоминается ли хоть какая‑нибудь война во времена Гомера, удачная потому, что он был военачальником или советчиком?
– Никакой такой войны не было.
– А рассказывают ли о разных замысловатых изобретениях – в искусствах или других родах деятельности, – где Гомер выказал бы себя искусным на деле, как люди передают о милетце Фалесе и о скифе Анахарсисе?[1595]
– Ни в чем подобном Гомер не выделялся.
– Но если не в государственных делах, то, быть может, говорят, что в частном обиходе Гомер, когда он еще был в живых, руководил чьим‑либо воспитанием и эти люди ценили общение с ним и передали потомкам
b
некий гомеровский путь жизни, подобно тому как за это особенно ценили Пифагора[1596]
, а его последователи даже и до сих пор называют свой образ жизни пифагорейским и явно выделяются среди остальных людей?
– Ничего такого о Гомере не рассказывают, Сократ. Ведь Креофил, который был, возможно, близким человеком Гомеру, по своей невоспитанности покажется еще смешнее своего имени[1597]
, если правда то, что рассказывают о Гомере: ведь говорят, что Гомером совершенно пренебрегали при его жизни.
c
– Да, так рассказывают. Но подумай, Главкон, если бы Гомер действительно был в состоянии воспитывать людей и делать их лучшими, руководствуясь в этом деле знанием, а не подражанием, неужели он не приобрел бы множества приверженцев, не почитался бы и не ценился бы ими? Абдерит Протагор, Продик‑кеосец и очень многие другие при частном общении могут внушить окружающим, будто те не сумеют справиться ни со своими домашними делами, ни с государственными, если не пойдут в обучение:
d
за эту премудрость ученики так их любят, что чуть ли не носят на своих головах[1598]
. Неужели же Гомеру, если бы он был способен содействовать человеческой добродетели, да и Гесиоду[1599]
люди предоставили бы вести жизнь бродячих певцов, а не дорожили бы ими больше,
e
чем золотом, и не заставили бы их обосноваться оседло, причем если бы те не согласились, разве не следовали бы за ними неотступно их современники, куда бы они ни двинулись, чтобы у них учиться?
– Мне представляется, Сократ, что ты говоришь сущую правду. Поэт творит призраки, а не подлинное бытие
– Так не установим ли мы, что все поэты, начиная с Гомера, воспроизводят лишь призраки добродетели и всего остального, что служит предметом их творчества, но истины не касаются? Это как в только что приведенном нами примере:
601
живописец нарисует сапожника, который покажется настоящим сапожником, а между тем этот живописец ничего не смыслит в сапожном деле; да и зрители его картины тоже – они судят лишь по краскам и очертаниям.
– Конечно.
– То же самое, думаю я, мы скажем и о поэте: с помощью слов и различных выражений он передает оттенки тех или иных искусств и ремесел, хотя ничего в них не смыслит, а умеет лишь подражать, так что другим людям, таким же несведущим,
b
кажется под впечатлением его слов, что это очень хорошо сказано, – говорит ли поэт в размеренных, складных стихах о сапожном деле, или о военных походах, или о чем бы то ни было другом, – так велико какое‑то природное очарование всего этого. Но если лишить творения поэтов всех красок мусического искусства, тогда, думаю я, ты знаешь, как они будут выглядеть сами по себе, в таком обнаженном виде; вероятно, ты это наблюдал.
– Да.
– Разве они не похожи на лица хоть и молодые, но некрасивые, так как видно, что в них нет ни кровинки?
– Очень похожи.
– Ну так обрати внимание вот на что: тот, кто творит призраки, – подражатель, – как мы утверждаем, нисколько не разбирается в подлинном бытии, но знает одну только кажимость. Разве не так?
c
– Да, так.
– Пусть сказанное не остается у нас сказанным лишь наполовину: давай рассмотрим это с достаточной полнотой.
– Я тебя слушаю.
– Мы говорим, что живописец может нарисовать поводья и уздечку…
– Да.
– А изготовят их шорник и кузнец.
– Конечно.
– Разве живописец знает, какими должны быть поводья и уздечка? Это знают даже не те, кто их изготовил, то есть кузнец и шорник, а лишь тот, кто умеет ими пользоваться, то есть наездник.
– Совершенно верно.
– Не так ли бывает, скажем мы, и со всеми вещами?
– А именно?
d
– Применительно к каждой вещи умение может быть трояким: умение ею пользоваться, умение ее изготовить и умение ее изобразить.
– Да
– А качество, красота и правильность любой утвари, живого существа или действия соотносятся не с чем иным, как с тем применением, ради которого что‑либо сделано или возникло от природы.
– Это так.
– Значит, пользующийся какой‑либо вещью, безусловно, будет обладать наибольшим опытом и может указать тому, кто делает эту вещь, на достоинства и недостатки его работы, испытанные в деле.
e
Например, флейтист сообщает мастеру флейт, какие именно флейты удобнее для игры на них, указывает, какие флейты надо делать, и тот следует его совету.
– Конечно.
– Кто сведущ, тот отмечает достоинства и недостатки флейт, а кто ему верит, тот так и будет их делать.
– Да.
– Значит, относительно достоинств и недостатков одного и того же предмета создатель его приобретет правильную уверенность, общаясь с человеком сведущим и волей‑неволей выслушивая его указания; но знанием будет обладать лишь тот, кто этим предметом пользуется.
602
– Несомненно.
– А подражатель? На опыте ли приобретет он знание о предметах, которые он рисует: хороши ли они и правильны ли, или у него составится верное мнение о них благодаря необходимости общаться с человеком сведущим и выполнять его указания насчет того, как надо рисовать?
– У подражателя не будет ни того ни другого.
– Стало быть, относительно достоинств и недостатков тех предметов, которые он изображает, у подражателя не будет ни знания, ни правильного мнения.
– По‑видимому, нет.
– Прелестным же и искусным творцом будет такой подражатель!
– Ну, не слишком‑то это прелестно!
b
– Но он все‑таки будет изображать предметы, хотя ни об одном из них не будет знать, в каком отношении он хорош или плох. Поэтому, естественно, он изображает прекрасным то, что кажется таким невежественному большинству.
– Что же иное ему и изображать?
– На этот счет мы с тобой пришли, очевидно, к полному согласию: о том предмете, который он изображает, подражатель не знает ничего стоящего; его творчество – просто забава, а не серьезное занятие. А кто причастен к трагической поэзии – будь то ямбические или эпические стихи, – все они подражатели по преимуществу.
c
– Несомненно.
– Но, ради Зевса, такое подражание не относится ли к чему‑то, стоящему на третьем месте после подлинного?[1600]
Или ты мыслишь это иначе?
– Нет, именно так.
– А воздействие, которым обладает подражание, направлено на какую из сторон человека?
– О каком воздействии ты говоришь?
– Вот о каком: одна и та же величина вблизи или издалека кажется неодинаковой – из‑за нашего зрения.
– Да, неодинаковой.
d
– То же самое и с изломанностью и прямизной предметов, смотря по тому, разглядывать ли их в воде или нет, и с их вогнутостью и выпуклостью, обусловленной обманом зрения из‑за их окраски: ясно, что вся эта сбивчивость присуща нашей душе, и на такое состояние нашей природы как раз и опирается живопись со всеми ее чарами[1601]
, да и фокусы и множество разных подобных уловок.
– Правда. Поэзия не поддается критериям истинности – измерению, счету и взвешиванию
– Зато измерение, счет и взвешивание оказались здесь самыми услужливыми помощниками, так что в нас берет верх не то, что кажется большим, меньшим, многочисленным или тяжелым, а то, что в нас считает, измеряет и взвешивает.
– Конечно.
– А ведь все это – дело разумного начала нашей души.
e
– Да, это его дело.
– Посредством частых измерений это начало обнаружило, что некоторые предметы больше, другие меньше, третьи равны друг другу – в полную противоположность тому, какими они в то же самое время кажутся нам на вид.
– Да.
– А мы утверждали, что одно и то же начало не может одновременно иметь противоположные суждения об одном и том же предмете.
– И правильно утверждали.
603
– Следовательно, то начало нашей души, которое судит вопреки [подлинным] размерам [предметов], не тождественно с тем ее началом, которое судит согласно этим размерам.
– Да, не тождественно.
– Между тем то, что в нас доверяет измерению и рассуждению, было бы наилучшим началом души.
– Конечно.
– А то, что всему этому противится, было бы одним из наших скверных начал.
– Это неизбежно.
b
– Как раз к этому выводу я и клонил, утверждая, что живопись – и вообще подражательное искусство –творит произведения, далекие от действительности, и имеет дело с началом нашей души, далеким от разумности; поэтому такое искусство и не может быть сподвижником и другом всего того, что здраво и истинно.
– Это поистине так.
– Стало быть, подражательное искусство, будучи и само по себе низменным, от совокупления с низменным и порождает низменное.
– Естественно.
– Касается ли это только подражания зрительного или также и воспринимаемого на слух – того, которое мы называем поэзией?
– Видимо, и этого тоже.
c
– Не будем доверять видимости только на основании живописи, но разберемся в том духовном начале человека, с которым имеет дело подражательное искусство поэзии, и посмотрим, легкомысленное ли это начало или серьезное.
– Да, в этом надо разобраться. Подражательная поэзия нарушает душевную гармонию
– Мы вот как поставим вопрос: подражательная поэзия изображает людей действующими вынужденно либо добровольно, причем на основании своей деятельности люди считают, что поступили либо хорошо, либо плохо, и во всех этих обстоятельствах они либо скорбят, либо радуются. Или она изображает еще что‑нибудь, кроме этого?
– Нет, больше ничего.
d
– А разве во всех этих обстоятельствах человек остается невозмутимым Или как в отношении зрительно воспринимаемых предметов, когда у него получалась распря с самим собой и об одном и том же одновременно возникали противоположные мнения, так и в действиях у человека бывает такая же распря и внутренняя борьба? Впрочем, припоминаю, что теперь у нас вовсе нет надобности это доказывать: в предшествовавших рассуждениях все это было нами достаточно доказано, а именно что душа наша кишит тысячами таких одновременно возникающих противоречий.
– Это верно.
– Да, верно, но, по‑моему, необходимо теперь разобрать то, что мы тогда пропустили.
e
– А что именно?
– Мы где‑то там говорили, что настоящий человек легче, чем остальные, переносит какое‑нибудь постигшее его несчастье – потерю сына или утрату чего‑либо, чем он особенно дорожит.
– Конечно.
– А теперь мы рассмотрим вот что: разве такой человек вовсе не будет горевать (ведь это немыслимо!) или же он будет как‑то умереннее в своей скорби?
– Вернее последнее.
604
– Скажи мне о нем еще вот что: бороться со своей скорбью и сопротивляться ей он будет, по‑твоему, больше тогда, когда он на виду у людей, подобных ему, или когда он окажется в одиночестве, наедине с самим собой?
– На виду он будет гораздо сдержаннее.
– В одиночестве, думаю я, он не вытерпит, чтобы не разрыдаться, а если бы кто это слышал, он устыдился бы. Да и много другого он сделает, чего не хотел бы видеть в других.
– Так и бывает.
b
– И не правда ли, то, что побуждает его противиться горю, это – разум и обычай, а то, что влечет к скорби, это – само страдание?
– Правда.
– Раз по одному и тому же поводу у человека одновременно возникают противоположные стремления, необходимо сказать, что в человеке есть два каких‑то различных начала.
– Конечно.
– Одно из них послушно следует руководству обычая.
– Каким образом?
c
– Обычай, между прочим, говорит, что в несчастьях самое лучшее – по возможности сохранять спокойствие и не возмущаться: ведь еще не ясна хорошая и плохая их сторона, и, сколько ни горюй, это тебя ничуть не продвинет вперед, да и ничто из человеческих дел не заслуживает особых страданий, а скорбь будет очень мешать тому, что важнее всего при подобных обстоятельствах.
– Чему именно она будет мешать, по‑твоему?
– Тому, чтобы разобраться в случившемся и, раз уж это, словно при игре в кости, выпало нам на долю, распорядиться соответственно своими делами, разумно выбрав наилучшую возможность, и не уподобляться детям, которые, когда ушибутся, держатся за ушибленное место и только и делают что ревут. Нет, мы должны приучать душу как можно скорее обращаться к врачеванию и возмещать потерянное и больное, заглушая лечением скорбный плач.
d
– Да, всего правильнее было бы так относиться к несчастьям.
– Самое лучшее начало нашей души охотно будет следовать этим разумным соображениям.
– Это ясно.
– А то начало, что ведет нас к памяти о страдании, к сетованиям и никогда этим не утоляется, мы будем считать неразумным, бездеятельным, подстать трусости.
– Да, будем считать именно так. Яростное начало души легче поддается воспроизведению, чем разумное
605
– Негодующее начало души часто поддается разнообразному воспроиз ведению, а вот рассудительный и спокойный нрав человека, который никогда не выходит из себя, нелегко воспроизвести, и, если уж он воспроизведен, людям бывает трудно его заметить и понять, особенно на всенародных празднествах или в театрах, где собираются самые разные люди: ведь для них это было бы воспроизведением чуждого им состояния.
– Да, безусловно, чуждого.
– Ясно, что подражательный поэт по своей природе не имеет отношения к разумному началу души и не для его удовлетворения укрепляет свое искусство, когда хочет достичь успеха у толпы. Он обращается к негодующему и переменчивому нраву, который хорошо поддается воспроизведению.
– Да, это ясно.
b
– Значит, мы были бы вправе взять такого поэта да и поместить его в один ряд с живописцем, на которого он похож, так как творит негодное с точки зрения истины: он имеет дело с тем же началом души, что и живописец, то есть далеко не с самым лучшим, и этим ему уподобляется. Таким образом, мы по праву не приняли бы его в будущее благоустроенное государство, раз он пробуждает, питает и укрепляет худшую сторону души и губит ее разумное начало: это все равно что предать государство во власть людей негодных, а кто поприличнее, тех истребить; то же самое, скажем мы, делает и подражательный поэт:
c
он внедряет в душу каждого человека в отдельности плохой государственный строй, потакая неразумному началу души, которое не различает, что больше, а что меньше, и одно и то же считает иногда великим, а иногда малым, создавая поэтому образы, очень далеко отстоящие от действительности.
– Безусловно. Подражательная поэзия портит нравы и подлежит изгнанию из государства
– Однако мы еще не предъявили поэзии самого главного обвинения: она обладает способностью портитьдаже настоящих людей, разве что очень немногие составят исключение; вот в чем весь ужас.
– Раз она и это творит, дальше идти уже некуда!
d
– Выслушай и суди сам: мы – даже и лучшие из нас, – слушая, как Гомер или кто иной из творцов трагедий изображает кого‑либо из героев охваченным скорбью и произносящим длиннейшую речь, полную сетований, а других заставляет петь и в отчаянии бить себя в грудь, испытываем, как тебе известно, удовольствие и, поддаваясь этому впечатлению, следим за переживаниями героя, страдая с ним вместе и принимая все это всерьез. Мы хвалим и считаем хорошим того поэта, который настроит нас по возможности именно так.
– Это я знаю. Как же иначе?
e
– А когда с кем‑нибудь из нас приключится собственное горе, заметил ли ты, что мы щеголяем обратным – способностью сохранять спокойствие и не терять самообладание? В этом ведь достоинство мужчины, а то, что мы хвалили тогда, – это свойство женщин.
– Да, я это замечал.
– Так хорошо ли обстоит дело с этой похвалой, когда зрелище человека, каким не хотелось бы быть и каким быть считалось бы даже постыдным, почему‑то не вызывает отвращения, а доставляет удовольствие и восхваляется?
– Нехорошо, клянусь Зевсом! Это похоже на недоразумение.
606
– Да, если ты взглянешь вот с какой стороны…
– С какой?
– Если ты сообразишь, что в этом случае испытывает удовольствие и удовлетворяется поэтами то начало нашей души, которое при собственных наших несчастьях мы изо всех сил сдерживаем, – а ведь оно жаждет выплакаться, вволю погоревать и тем насытиться: таковы уж его природные стремления. Лучшая по своей природе сторона нашей души, еще недостаточно наученная разумом и привычкой, ослабляет тогда свой надзор за этим плачущимся началом и при зрелище чужих страстей считает, что ее нисколько не позорит,
b
когда другой человек хотя и притязает на добродетель, однако неподобающим образом выражает свое горе: она его хвалит и жалеет, даже думает, будто такого рода удовольствие обогащает ее и она не хотела бы его лишиться, выказав презрение ко всему произведению в целом. Я думаю, мало кто отдает себе отчет в том, что чужие переживания неизбежно для нас заразительны: если к ним разовьется сильная жалость, нелегко удержаться от нее и при собственных своих страданиях.
– Сущая правда.
c
– То же самое не касается разве смешного? В то время как самому тебе стыдно смешить людей, на представлении комедий или дома, в узком кругу, ты с большим удовольствием слышишь такие вещи и не отвергаешь их как нечто дурное; иначе говоря, ты поступаешь точно так же, как в случае, когда ты разжалобился. Разумом ты подавляешь в себе склонность к забавным выходкам, боясь прослыть шутом, но в этих случаях ты даешь ей волю, там у тебя появляется задор, и часто ты незаметно для самого себя в домашних условиях становишься творцом комедий.
– Да, несомненно, это бывает.
d
– Будь то любовные утехи, гнев или всевозможные другие влечения нашей души – ее печали и наслаждения, которыми, как мы говорим, сопровождается любое наше действие, – все это возбуждает в нас поэтическое подражание. Оно питает все это, орошает то, чему надлежало бы засохнуть, и устанавливает его власть над нами; а между тем следовало бы держать эти чувства в повиновении, чтобы мы стали лучше и счастливее, вместо того чтобы быть хуже и несчастнее.
– Я не могу против этого возразить.
e
– Так вот, Главкон, когда ты встретишь людей, прославляющих Гомера и утверждающих, что поэт этот воспитал Элладу и ради руководства человеческими делами и просвещения его стоит внимательно изучать, чтобы, согласно ему, построить всю свою жизнь, тебе надо отнестись к ним дружелюбно и приветливо, потому что, насколько возможно, это превосходные люди.
607
Ты уступи им, что Гомер самый творческий и первый из творцов трагедий, но не забывай, что в наше государство поэзия принимается лишь постольку, поскольку это гимны богам и хвала добродетельным людям. Если же ты допустишь подслащенную Музу, будь то мелическую или эпическую, тогда в этом государстве воцарятся у тебя удовольствие и страдание вместо обычая и разумения, которое, по общему мнению, всегда признавалось наилучшим.
– Сущая правда.
b
– Это напоминание пусть послужит нам оправданием перед поэзией за то, что мы выслали ее из нашего государства, поскольку она такова. Ведь нас побудило к этому разумное основание. А чтобы она не винила нас в жесткости и неотесанности, мы добавим еще, что искони наблюдался какой‑то разлад между философией и поэзией[1602]
. Многочисленные пословицы, такие, как, например, «это та собака, что лает[1603]
и рычит на хозяина», или «он велик в пустословии безумцев»,
c
или «толпа мудрецов одолеет и Зевса», или «они вдаются в мелочи, значит, они нищие», и тысячи других свидетельствуют об их стародавней распре. Тем не менее надо сказать, что, если подражательная поэзия, направленная лишь на то, чтобы доставлять удовольствие, сможет привести хоть какой‑нибудь довод в пользу того, что она уместна в благоустроенном государстве, мы с радостью примем ее. Мы сознаем, что и сами бываем очарованы ею; но предать то, что признаешь истинным, – нечестиво. Не очаровываешься ли ею и ты, мой друг, особенно когда рассматриваешь ее чрез посредство Гомера?
d
– И даже очень.
– Таким образом, если она оправдается, будь то в мелических размерах или в каких‑то других, она получит право вернуться из изгнания.
– Несомненно.
– И тем ее приверженцам, кто сам не поэт, но любит поэтов, мы дали бы возможность защитить ее даже в прозе и сказать, что она не только приятна, но и полезна для государственного устройства и человеческой жизни. Ведь мы обогатились бы, если бы она оказалась не только приятной, но и полезной.
e
– Конечно, обогатились бы! В идеальном государстве допустима лишь та поэзия, польза которой очевидна
– Если же не удастся ее защитить, тогда, дорогой мой друг, остается поступить как те, кто когда‑то в кого‑то влюбились, но потом рассудили, что любовь бесполезна, и потому хоть и через силу, но все‑таки от нее воздержались. Вот и мы: из‑за дивного устройства нынешних государств в нас развилась любовь к подобного рода поэзии, и мы желаем ей добра, то есть чтобы она оказалась и превосходной, и вполне правдивой.
608
Но до тех пор пока она не оправдается, мы, когда придется ее слушать, будем повторять для самих себя как целительное заклинание то самое рассуждение, о котором мы говорим, и остережемся, как бы не поддаться опять той ребячливой любви, свойственной большинству. Нельзя считать всерьез, будто такая поэзия серьезна и касается истины. Слушающему ее надо остерегаться, опасаясь за свое внутреннее устройство, и придерживаться того, что нами было сказано о поэзии.
b
– Я полностью с тобой согласен.
– Ведь спор идет, дорогой мой Главкон, о великом деле, гораздо более великом, чем это кажется, – о том, быть ли человеку хорошим или плохим. Так что ни почет, ни деньги, ни любая власть, ни даже поэзия не стоят того, чтобы ради них пренебрегать справедливостью и прочей добродетелью.
– Я поддерживаю тебя на основании того, что мы разобрали. Думаю, что и всякий другой тебя поддержит, кто бы он ни был.
c
– Однако мы еще не разбирали величайшего воздаяния за добродетель и назначенных за нее наград.
– Если есть другие награды кроме упомянутых, то, очевидно, ты говоришь о чем‑то великом.
– Что великое может случиться за короткое время? Ведь в сравнении с вечностью этот промежуток от нашего детства до старости очень краток[1604]
.
– И даже совсем ничтожен.
d
– Так что же? Думаешь ли ты, что бессмертному существу нужно заботиться лишь об этом небольшом промежутке, а не о вечности?
– Я‑то, конечно, думаю, что о вечности. Но к чему это говоришь? Вечность (бессмертие) души
– Разве ты не сознавал, что душа наша бессмертна и никогда не погибнет?
Главкон взглянул на меня с удивлением и сказал:
– Клянусь Зевсом, нет. А ты можешь это сказать?
– Если бы я не мог, я был бы не прав. Да я думаю, и ты это можешь – ничего трудного здесь нет.
– Для меня это трудно. Но я с удовольствием услышал бы от тебя об этой нетрудной вещи.
e
– Пожалуйста, слушай.
– Говори, говори!
– Называешь ли ты что‑нибудь благом и злом?
– Я – да.
– А думаешь ли ты об этом то же, что и я?
– А именно?
– Все губительное и разрушительное – это зло, а хранительное и полезное – благо.
– Да.
609
– Что же? Считаешь ли ты, что благо и зло существуют для каждой вещи? Например, для глаз – воспаление, для всего тела – болезнь, для хлебов – спорынья, гниение – для древесины, для меди и железа – ржавчина, словом, чуть ли не для каждой вещи есть особо ей свойственное зло и болезнь?
– Да.
– Когда что‑нибудь такое появится в какой‑либо вещи, оно делает негодным то, к чему оно пристало, и в конце концов разрушает и губит всю вещь целиком.
– Конечно.
b
– Значит, каждую вещь губят свойственные ей зло и негодность, но если это ее не губит, то уж ничто другое ее не разрушит. Благо, конечно, никогда ничего не погубит, а также не может быть губительным то, что не будет ни злом, ни благом.
– Конечно.
– Значит, если среди существующего мы найдем нечто имеющее свое зло, которое его портит, но не в состоянии его совсем уничтожить, мы будем знать, что это нечто по своей природе неуничтожимо.
– Видимо, так.
– Что же? У души разве нет чего‑то такого, что ее портит?
c
– Разумеется, есть: это все то, что мы недавно разбирали, – несправедливость, невоздержность, трусость, невежество.
– А может ли хоть что‑нибудь из всего этого ее погубить и уничтожить? Поразмысли об этом, но так, чтобы нам не обмануться, думая, будто человек несправедливый и неразумный погибает вследствие своей несправедливости, этой порчи души, тогда, когда его уличат в преступлении. Нет, ты подойди к этому так: порча тела – болезнь – измождает и разрушает тело, а это приводит к тому, что оно уже перестает быть телом; так и все то, что мы теперь перечислили, приходит к небытию вследствие собственной порочности, которая своим назойливым присутствием губит все изнутри. Или не так?
d
– Да, так.
– Значит, и душу рассмотри точно так же. Может ли присутствующая в ней несправедливость и прочая порочность извести и уничтожить ее своим присутствием до такой степени, чтобы довести ее до смерти, отделив от тела?
– Уж это‑то ни в коем случае.
– Но ведь нет разумного основания для того, чтобы что‑то гибло от посторонней порчи, а от своей собственной не разрушалось?
– Такого основания нет.
e
– Поразмысли, Главкон, что мы не считаем, будто тело должно гибнуть непосредственно от испорченной пищи, в чем бы эта порча ни состояла, то есть если пища несвежая, протухшая и так далее. А вот когда испорченная пища вызывает в теле телесный недуг, тогда мы скажем, что тело гибнет хотя и через посредство пищи, но от своего собственного порока, иначе говоря от болезни.
610
А от порчи съестного, поскольку съестное и тело – это разные вещи, мы считаем, тело никогда не погибнет, пока это постороннее телу зло не вызовет в нем зла, свойственного телу.
– Ты говоришь очень правильно.
– На том же самом основании, если порча тела не вызывает испорченности души, присущей ей самой, мы никогда не признаем, будто душа гибнет от постороннего зла, помимо своей собственной испорченности:
это зло и присущее ей зло – разные вещи.
– Да, это имеет под собой основание.
b
– Так вот, либо мы опровергнем сказанное как неверное, либо до тех пор, пока это не опровергнуто, мы ни за что не согласимся, будто душа гибнет от горячки или другой болезни либо от перерезанного горла: если даже изрубить все тело на мелкие кусочки – все это нисколько не увеличивает возможности ее гибели, пока нам не докажут, что из‑за этих страданий тела она сама становится менее справедливой и благочестивой. Если постороннее зло возникает в чем‑либо постороннем, а собственное зло не рождается, мы не позволим утверждать, будто душа или что‑то другое гибнет.
c
– Но ведь этого никто никогда не докажет – что души умирающих становятся менее справедливыми именно из‑за смерти.
– Если кто наберется смелости выступить в поход против нашего утверждения, лишь бы только не быть вынужденным согласиться с тем, что души бессмертны, и будет настаивать, что умирающий становится менее справедливым и более порочным, мы станем тогда, если он прав, считать несправедливость смертельной, словно болезнь, для ее обладателя и говорить, что
d
те, у кого она есть, умирают от ее смертоносной природы – одни скорее, другие медленнее, – а вовсе не так, как это бывает теперь, когда нарушители справедливости умирают потому, что их казнят другие люди.
– Клянусь Зевсом, значит, несправедливость окажется вовсе не столь ужасной, раз она смертоносна для того, у кого она есть: ведь это было бы избавлением от бед! Но я думаю, что выйдет как раз наоборот: она убийственна для всех прочих, раз это в ее силах, по своего носителя она делает очень живучим –
e
и мало того, что живучим, еще и неутомимым. В этих случаях она, как видно, располагается где‑то вдалеке от того, что смертоносно.
– Хорошо сказано! Раз даже собственные порочность и зло не способны убить и погубить душу, то от зла, назначение которого – губить другие вещи, вряд ли погибнет душа или что‑нибудь иное, кроме того, для чего это зло предназначено.
– Вряд ли; да оно и естественно.
611
– Но раз что‑то не гибнет ни от одного из этих зол – ни от собственного, ни от постороннего, то ясно, что это непременно должно быть чем‑то вечно существующим, а раз оно вечно существует, оно бессмертно.
– Непременно. Самотождественность души
– Пусть же и будет сделан такой вывод, а из него, как ты понимаешь, следует, что души всегда самотождественны[1605]
. И раз ни одна из них не погибает, то количество их не уменьшается и не увеличивается. Ведь если бы увеличилось количество того, что бессмертно, это могло бы произойти, как тебе известно, только за счет того, что смертно, и в конце концов бессмертным –стало бы все.
– Ты прав.
b
– Но мы не признаем ни этого – ведь рассуждение наше этого не допускает, – ни того, будто истинная природа души такова, что она полна всевозможного разнообразия, нетождественности и различия.
– Что ты имеешь в виду?
– Нелегко быть вечным тому, что состоит из многих начал да к тому же еще составлено не наилучшим образом: между тем как раз такой оказалась теперь у нас душа.
– Понятно, это нелегко.
c
– А что душа бессмертна, необходимо следует как из нашего недавнего рассуждения, так и из многих других. Чтобы узнать, какова душа на самом деле, надо рассматривать ее не в состоянии растления, в котором она пребывает из‑за общения с телом и разным иным злом, как наблюдаем мы это теперь, а такой, какой она бывает в своем чистом виде. Именно это надо как следует рассмотреть с помощью размышления, и тогда ты найдешь ее значительно более прекрасной, а также можно будет отчетливее разглядеть различные степени справедливости и несправедливости и вообще все то, что мы теперь разбирали.
d
Пока что мы верно говорили о душе – о том, какой она оказывается в настоящее время; однако мы рассматривали лишь нынешнее ее достояние, подобно тому как при виде морского божества Главка[1606]
трудно разглядеть его древнюю природу, потому что прежние части его тела либо переломаны, либо стерлись, либо изуродованы волнами, а вдобавок еще он оброс раковинами, водорослями и камешками, гак что гораздо больше походит на чудовище, чем на то, чем он был по своей природе. Так и душа от несчетного множества различного зла находится в сходном состоянии, когда мы ее наблюдаем[1607]
. Между тем, Главкон, надо обратить внимание вот на что…
– На что?
e
– На стремление души к мудрости. Надо посмотреть, каких предметов она касается, каких общений она ищет, коль скоро она сродни божественному, бессмертному и вечно сущему, и какой она стала бы, гели бы, всецело следуя подобному началу, вынырнула
бы в этом своем порыве из омута, в котором теперь обретается, и стряхнула бы с себя те камешки и ракушки, которые к ней прилипли. Так как она вкушает земное, то от этих праздничных пиршеств, в которых, как говорят, заключается счастье, к ней много пристало землистого, каменистого, дикого:
612
если бы она это стряхнула, можно было бы увидеть ее подлинную природу – многообразна она или единообразна и как она устроена в прочих отношениях. А пока что, я думаю, мы надлежащим образом разобрали ее состояния, возможные в человеческой жизни, и ее виды.
– Да, разобрали полностью. Самодовлеющее значение справедливости
b
– И не правда ли, в этой беседе мы отделались и от остальных возражений, причем не прибегали к прославлению воздаяний за справедливость или доброй молвы, вызываемой ею, что, как вы указывали, делают Гесиод и Гомер. Напротив, мы нашли, что справедливость сама по себе есть нечто наилучшее для самой души и что душа должна поступать по справедливости, все равно, достался ли ей перстень Гига, а в придачу к перстню еще и шлем Аида[1608]
или же нет.
– Ты совершенно прав.
c
– Теперь, Главкон, к нам уже нельзя будет придраться, если мы вдобавок укажем, что все же есть воздаяние за справедливость и за прочую добродетель, и разберем, в каком размере и как получает его душа от людей и богов, будь то при жизни человека или после его кончины.
– Нет, теперь уже к нам не придраться.
– Так вы вернете мне то, что вы взяли взаймы во время рассуждения?
– Что именно?
– Я уступил вам допущение, что справедливый человек может казаться несправедливым, а несправедливый – справедливым. Хотя и невозможно, чтобы это осталось тайной от богов и от людей,
d
тем не менее вы находили нужным, ради рассуждения, допустить это для сопоставления справедливости самой по себе с такой же несправедливостью. Или ты этого не помнишь?
– Я нарушил бы справедливость, если бы сказал, будто не помню.
– Так вот, раз такое сопоставление уже было сделано, я во имя справедливости настаиваю на возврате нашего допущения. Согласитесь, что, в какой чести у богов и у людей справедливость, такую же честь и вы должны ей воздать. Кто справедлив, тех она награждает хотя бы тем, что она в такой чести; а что она на самом деле неложное благо для того, кто действительно ее придерживается, это уже было нами выяснено.
– Твое требование справедливо.
e
– Так вот, прежде всего верните мне допущение, будто боги не различают свойств того или иного человека.
– Вернем.
– А раз от богов это не может утаиться, то один человек будет им угоден, а другой – ненавистен, как, мы признали уже вначале.
– Это так.
613
– Разве не признаем мы, что для того, кто угоден богам, все, что исходит от них, будет величайшим благом, если только не положено им какого‑нибудь неизбежного зла вследствие допущенного проступка?
– Конечно, признаем.
– Стало быть, то же самое надо признать и для справедливого человека, все равно, постигнет ли его нищета, болезни или что иное из того, что считается алом: все это в конце концов будет ему во благо при жизни или после смерти. Ведь боги никогда не оставят Своего попечения о человеке, который стремится быть справедливым и, упражняясь в добродетели, уподобляется богу, насколько это возможно для человека.
b
– Естественно, что не оставит своего о нем попечения тот, кому он подобен.
– А о человеке несправедливом следует думать как раз противоположное.
– Безусловно.
– Для справедливого человека нашлись бы у богов соответствующие награды.
– По моему мнению, да.
– А что же со стороны людей? Не так ли обстоит дело, если считаться с действительностью: несправедливые люди, при всей их ловкости, действуют как те участники двойного пробега, которые в один конец бегут хорошо, а на дальнейшее их не хватает;
c
сперва они несутся во весь опор, а в заключение делаются посмешищем и, не добившись венка, уходят с поникшей головой и повесив нос[1609]
. Между тем подлинные бегуны достигают цели, получают награды и увенчиваются венками: не так ли большей частью случается и с людьми справедливыми? Каждый поступок этих людей, каждое общение и весь их образ жизни вызывают в конце концов уважение со стороны других: вот в чем состоит эта награда. Конечная награда за справедливость
– Несомненно.
– Значит, ты стерпишь, если я повторю о справедливых людях то, что ты сам говорил о несправедливых? Я скажу, что все справедливые люди с летами становятся правителями в своем государстве, если им этого хочется;
d
они берут себе жен из любых, каких пожелают, семейств и дочерей своих тоже выдают за кого хотят; словом, все, что ты тогда говорил о людях несправедливых, я теперь утверждаю относительно людей справедливых. А с другой стороны, о несправедливых людях я говорю, что большинство из них, если смолоду им и удалось притаиться, под конец жизни все равно уличат, они станут посмешищем, и под старость их ждет жалкая участь:
e
ими будут помыкать и чужеземцы, и свои, не обойдется дело и без побоев, наконец, – что ты упомянул тогда как самое жестокое (и ты был прав) – их будут пытать на дыбе и раскаленным железом. Считай, что обо всех этих муках говорил тогда я, а не ты. Ну как, стерпишь ты, если я так скажу?
– Вполне, ведь слова твои справедливы.
614
– Так вот каковы будут награды, воздаяния и дары справедливому человеку от богов и людей при его жизни вдобавок к благам, доставляемым самой справедливостью.
– Да, это прекрасные и надежные воздаяния.
– Но и по числу и по величине они ничто по сравнению с тем, что ждет обоих, то есть справедливого и несправедливого человека, после их смерти. Об этом стоит послушать, чтобы и тот и другой вынесли ил нашей беседы, что должно.
b
– Пожалуйста, продолжай: вряд ли что иное можно слушать с большей охотой. Миф о загробных воздаяниях
– Я передам тебе не Алкиноево по вествование, а рассказ одного отважного человека, Эра, сына Армения, родом из Памфилии[1610]
. Как‑то он был убит на войне; когда через десять дней стали подбирать тела уже разложившихся мертвецов, его нашли еще целым, привезли домой, и когда на двенадцатый день приступили к погребению, то, лежа уже на костре, он вдруг ожил, а оживши, рассказал, что он там видел[1611]
.
c
Он говорил, что его душа, чуть только вышла из тела, отправилась вместе со многими другими, и все они пришли к какому‑то божественному месту, где в земле были две расселины, одна подле другой, а напротив, наверху в небе, тоже две[1612]
. Посреди между ними восседали судьи. После вынесения приговора они приказывали справедливым людям идти по дороге направо, вверх по небу, и привешивали им спереди знак приговора, а несправедливым – идти по дороге налево, вниз, причем и эти имели – позади – обозначение всех своих проступков.
d
Когда дошла очередь до Эра, судьи сказали, что он должен стать для людей вестником всего, что здесь видел, и велели ему все слушать и за всем наблюдать.
Он видел там, как души после суда над ними уходили по двум расселинам – неба и земли, а по двум другим приходили: по одной подымались с земли души, полные грязи и пыли, а по другой спускались с неба чистые души. И все, кто бы ни приходил, казалось, вернулись из долгого странствия:
e
они с радостью располагались на лугу, как это бывает при всенародных празднествах. Они приветствовали друг друга, если кто с кем был знаком, и расспрашивали пришедших с земли, как там дела, а спустившихся с неба – о том, что там у них.
615
Они, вспоминая, рассказывали друг другу – одни, со скорбью и слезами, сколько они чего натерпелись и насмотрелись в своем странствии под землей (а странствие это тысячелетнее), а другие, те, что с неба, о блаженстве и о поразительном по своей красоте зрелище.
Но рассказывать все подробно потребовало бы, Главкон, много времени. Главное же, по словам Эра, состояло вот в чем: за всякую нанесенную кому‑либо
b
обиду и за любого обиженного все обидчики подвергаются наказанию в десятикратном размере (рассчитанному на сто лет, потому что такова продолжительность человеческой жизни), чтобы пеня была в десять раз больше преступления. Например, если кто стал виновником смерти многих людей, предав государство и войско, и многие из‑за него попали в рабство или же если он был соучастником в каком‑нибудь другом злодеянии, за все это, то есть за каждое преступление, он должен терпеть десятикратно большие муки. С другой стороны, кто оказывал благодеяния, был справедлив и благочестив, тот вознаграждался согласно заслугам.
c
Что Эр говорил о тех, кто, родившись, жил лишь короткое время, об этом не стоит упоминать. Он рассказывал также о еще большем воздаянии за непочитание – и почитание – богов и родителей и за самоубийство. Он говорил, что в его присутствии один спрашивал там другого, куда же девался великий Ардией. Этот Ардией был тираном в каком‑то из городов Памфилии еще за тысячу лет до того. Рассказывали, что он убил своего старика отца и старшего брата и совершил много других нечестии и преступлений.
d
Тот, кому был задан этот вопрос, отвечал на него, по словам Эра, так: «Ардией не пришел, да и не придет сюда. Ведь из разных ужасных зрелищ видели мы и такое: когда после многочисленных мук были мы уже недалеко от устья и собирались войти, вдруг мы заметили Ардиея и еще некоторых – там были едва ли не сплошь все тираны, а из простых людей разве лишь величайшие преступники;
e
они уже думали было войти, но устье их не принимало и издавало рев, чуть только кто из этих злодеев, неисцелимых по своей порочности или недостаточно еще наказанных, делал попытку войти. Рядом стояли наготове дикие люди с огненным обличьем.
616
Послушные этому реву, они схватили некоторых и увели, а Ардиея и других связали по рукам и ногам, накинули им петлю на шею, повалили наземь, содрали с них кожу и поволокли по бездорожью, по вонзающимся колючкам, причем всем встречным объясняли, за что такая казнь, и говорили, что сбросят этих преступников в Тартар. Хотя мы и натерпелись уже множества разных страхов, но всех их сильнее был тогда страх, как бы не раздался этот рев, когда кто‑либо из нас будет у устья; поэтому величайшей радостью было для каждого из нас, что рев этот умолкал, когда мы входили».
b
Вот какого рода были приговоры и наказания и прямо противоположными им были вознаграждения[1613]
. Всем, кто провел на лугу семь дней, на восьмой день надо было встать и отправиться в путь, чтобы за четыре дня прийти в такое место, откуда сверху виден луч света, протянувшийся через все небо и землю, словно столп, очень похожий на радугу, только ярче и чище.
c
К нему они прибыли, совершив однодневный переход, и там увидели, посредине этого столпа света, свешивающиеся с неба концы связей: ведь этот свет – узел неба; как брус на кораблях, так он скрепляет небесный свод[1614]
. На концах этих связей висит веретено Ананки, придающее всему вращательное движение. У веретена ось и крючок – из адаманта, а вал – из адаманта в соединении с другими породами.
d
Устройство вала следующее: внешний вид у него такой же, как у здешних, но, по описанию Эра, надо представлять себе его так, что в большой полый вал вставлен пригнанный к нему такой же вал, только поменьше, как вставляются ящики. Таким же образом и третий вал, и четвертый, и еще четыре. Всех валов восемь, они вложены один в другой, их края сверху имеют вид кругов на общей оси, так что снаружи они как бы образуют непрерывную поверхность единого вала, ось же эта прогнана насквозь через середину восьмого вала.
e
Первый, наружный вал имеет наибольшую поверхность круга, шестой вал – вторую по величине, четвертый – третью, восьмой – четвертую, седьмой – пятую, пятый – шестую, третий – седьмую, второй – восьмую по величине[1615]
. Круг самого большого вала – пестрый, круг седьмого вала – самый яркий; круг восьмого заимствует свой цвет от света, испускаемого седьмым;
617
круги второго и пятого валов близки друг к другу по цвету и более желтого, чем те, оттенка, третий же круг – самого белого цвета, четвертый – красноватого, а шестой стоит на втором месте по белизне[1616]
. Все веретено в целом, вращаясь, совершает всякий раз один и тот же оборот, но при его вращательном движении внутренние семь кругов медленно поворачиваются в направлении, противоположном вращению целого.
b
Из них всего быстрее движется восьмой круг, на втором месте по быстроте – седьмой, шестой и пятый, которые движутся с одинаковой скоростью; на третьем месте, как им было заметно, стоят вращательные обороты четвертого круга; на четвертом месте находится третий круг, а на пятом – второй. Вращается же это веретено на коленях Ананки[1617]
.
Сверху на каждом из кругов веретена восседает по Сирене; вращаясь вместе с ними, каждая из них издает только один звук, всегда той же высоты. Из всех звуков – а их восемь – получается стройное созвучие[1618]
. Около Сирен на равном от них расстоянии сидят, каждая на своем престоле, другие три существа –
c
это Мойры, дочери Ананки: Лбхесис, Клоту и Бтропос; они – во всем белом, с венками на головах. В лад с голосами Сирен Лахесис воспевает прошлое, Клото – настоящее, Атропос – будущее. Время от времени Клото касается своей правой рукой наружного обода веретена, помогая его вращению, тогда как Атропос своей левой рукой делает то же самое с внутренними кругами, а Лахесис поочередно касается рукой того и другого[1619]
.
d
Так вот, чуть только они пришли туда, они сразу же должны были подойти к Лахесис. Некий прорицатель расставил их по порядку, затем взял с колен Лахесис жребии и образчики жизней, взошел на высокий помост и сказал:
– «Слово дочери Ананки, девы Лахесис. Однодневные души! Вот начало другого оборота, смертоносного для смертного рода. Не вас получит по жребию гений[1620]
, а вы его себе изберете сами. Чей жребий будет первым, тот первым пусть выберет себе жизнь, неизбежно ему предстоящую. Добродетель не есть достояние кого‑либо одного: почитая или не почитая ее, каждый приобщится к ней больше либо меньше. Это – вина избирающего: бог невиновен».
Сказав это, прорицатель бросил жребий в толпу, и каждый, кроме Эра, поднял тот жребий, который упал подле него: Эру же это не было дозволено.
618
Всякому поднявшему стало ясно, какой он по счету при жеребьевке. После этого прорицатель разложил перед ними на земле образчики жизней в количестве значительно большем, чем число присутствующих. Эти образчики были весьма различны – жизнь разных животных и все виды человеческой жизни. Среди них были даже тирании, пожизненные либо приходящие в упадок посреди жизни и кончающиеся бедностью, изгнанием и нищетой. Были тут и жизни людей, прославившихся своей наружностью, красотой, силой либо в состязаниях, а также родовитостью и доблестью своих предков.
b
Соответственно была здесь и жизнь людей неприметных, а также жизнь женщин. Но это не определяло душевного склада, потому что душа непременно изменится, стоит лишь избрать другой образ жизни. Впрочем, тут были вперемежку богатство и бедность, болезнь и здоровье, а также промежуточные состояния.
Для человека, дорогой Главкон, вся опасность заключена как раз здесь, и потому следует по возможности заботиться, чтобы каждый из нас, оставив без внимания остальные познания, стал бы исследователем
c
и учеником в области этого, если он будет в состоянии его откуда‑либо почерпнуть. Следует отыскать и того, кто дал бы ему способность и умение распознавать порядочный и дурной образ жизни, а из представляющихся возможностей всегда и везде выбирать лучшее. Учитывая, какое отношение к добродетельной жизни имеет все то, о чем шла сейчас речь, и сопоставляя это все между собой, человек должен понимать,
d
что такое красота, если она соединена с бедностью или богатством, и в сочетании с каким состоянием души она творит зло или благо, а также что значит благородное или низкое происхождение, частная жизнь, государственные должности, мощь и слабость, восприимчивость и неспособность к учению. Природные свойства души в сочетании друг с другом и с некоторыми благоприобретенными качествами делают то, что из всех возможностей человек способен, считаясь с природой души, по размышлении произвести выбор:
e
худшим он будет считать образ жизни, который ведет к тому, что душа становится несправедливее, а лучшим, когда она делается справедливее; все же остальное он оставит в стороне. Мы уже видели, что и при жизни, и после смерти это самый важный выбор для человека.
619
В Аид надо отойти с этим твердым, как адамант, убеждением, чтобы и там тебя не ошеломило богатство и тому подобное зло и чтобы ты не стал тираном, такой и подобной ей деятельностью не причинил бы много непоправимого зла, и не испытал бы еще большего зла сам. В жизни всегда надо уметь выбирать средний путь, избегая крайностей – как, по возможности, в здешней, так и во. всей последующей: в этом – высшее счастье для человека.
b
Да и вестник из того мира передавал, что прорицатель сказал тогда вот что: «Даже для того, кто приступит последним к выбору, имеется здесь приятная жизнь, совсем не плохая, если произвести выбор с умом и жить строго. Кто выбирает вначале, не будь невнимательным, а кто в конце, не отчаивайся!»
После этих слов прорицателя сразу же подошел тот, кому достался первый жребий: он взял себе жизнь могущественнейшего тирана. Из‑за своего неразумия и ненасытности он произвел выбор, не поразмыслив,
c
а там таилась роковая для него участь – пожирание собственных детей и другие всевозможные беды. Когда он потом, не торопясь, поразмыслил, он начал бить себя в грудь, горевать, что, делая свой выбор, не посчитался с предупреждением прорицателя, винил в этих бедах не себя, а судьбу, божества – все, что угодно, кроме себя самого. Между тем он был из числа тех, кто явился с неба и прожил свою предшествовавшую жизнь при упорядоченном государственном строе;
d
правда, эта его добродетель была всего лишь делом привычки, а не плодом философского размышления. Вообще говоря, немало тех, кто пришел с неба, попалось на этом, потому что они не были закалены в трудностях. А те, кто приходил с земли, производили выбор, не торопясь: ведь они и сами испытали всякие трудности, да и видели их на примере других людей. Поэтому, а также из‑за случайностей жеребьевки для большинства душ наблюдается смена плохого и хорошего.
e
Если же, приходя в здешнюю жизнь, человек здраво философствовал и при выборе ему выпал жребий не из последних, тогда, согласно вестям из того мира, он скорее всего будет счастлив не только здесь, но и путь его отсюда туда и обратно будет не подземным, тернистым, но ровным, небесным.
620
Стоило взглянуть, рассказывал Эр, на это зрелище, как разные души выбирали себе ту или иную жизнь. Смотреть на это было жалко, смешно и странно. Большей частью выбор соответствовал привычкам предшествовавшей жизни. Эр видел, как душа бывшего Орфея[1621]
выбрала жизнь лебедя: из‑за ненависти к женскому полу, так как от них он претерпел смерть, его душа не пожелала родиться от женщины. Он видел и душу Фамиры[1622]
– она выбрала жизнь соловья.
b
Видел он и лебедя, который предпочел выбрать жизнь человеческую; то же самое и другие мусические существа. Душа, имевшая двадцатый жребий, выбрала жизнь льва: это была душа Аякса, сына Теламона[1623]
, – она избегала стать человеком, памятуя об истории с присуждением доспехов. После него шла душа Агамемнона[1624]
. Вследствие перенесенных страданий она тоже неприязненно относилась к человеческому роду и сменила свою жизнь на жизнь орла. Между тем выпал жребий душе Аталанты[1625]
: заметив, каким великим почетом пользуется победитель на состязаниях, она не могла устоять и выбрала себе эту участь.
c
После нее он видел, как душа Эпея, сына Панопея[1626]
, входила в природу женщины, искусной в ремеслах. Где‑то далеко, среди самых последних, он увидел душу Ферсита[1627]
, этого всеобщего посмешища: она облачалась в обезьяну. Случайно самой последней из всех выпал жребий идти выбирать душе Одиссея[1628]
. Она помнила прежние тяготы и, отбросив всякое честолюбие, долго бродила, разыскивая жизнь обыкновенного человека, далекого от дел; наконец она насилу нашла ее, где‑то валявшуюся:
d
все ведь ею пренебрегли, но душа Одиссея, чуть ее увидела, сразу же избрала себе, сказав, что то же самое она сделала бы и в том случае, если бы ей выпал первый жребий. Души разных зверей точно так же переходили в людей и друг в друга, несправедливые – в диких, а справедливые – в кротких; словом, происходили всевозможные смешения.
Так вот, когда все души выбрали себе ту или иную жизнь, они в порядке жребия стали подходить к Лахесис. Какого кто избрал себе гения, того она с ним и посылает как стража жизни и исполнителя сделанного выбора.
e
Прежде всего этот страж ведет душу к Клото, под ее руку и под кругообороты вращающегося веретена: этим он утверждает участь, какую кто себе выбрал по жребию. После прикосновения к Клото он ведет душу к пряже Атропос, чем делает нити жизни уже неизменными.
621
Отсюда душа, не оборачиваясь, идет к престолу Ананки и сквозь него проникает. Когда и другие души проходят его насквозь, они все вместе в жару и страшный зной отправляются на равнину Леты[1629]
, где нет ни деревьев, ни другой растительности. Уже под вечер они располагаются у реки Амелет[1630]
, вода которой не может удержаться ни в каком сосуде. В меру все должны были выпить этой воды, но, кто не соблюдал благоразумия, те пили без меры, а кто ее пьет таким образом, тот все забывает.
b
Когда они легли спать, то в самую полночь раздался гром и разразилось землетрясение. Внезапно их понесло оттуда вверх в разные стороны, к местам, где им суждено было родиться, и они рассыпались по небу, как звезды. Эру же не было дозволено испить этой воды. Он не знает, где и каким образом душа его вернулась в тело[1631]
. Внезапно очнувшись на рассвете, он увидел себя на костре. Заключение: призыв соблюдать справедливость
c
Таким‑то вот образом, Главкон, сказание это спаслось, а не погибло. Оно и нас спасет; если мы поверим ему, тогда мы и через Лету легко перейдем и души своей не оскверним. Но в убеждении, что душа бессмертна и способна переносить любое зло и любое благо, мы все – если вы мне поверите – всегда будем держаться вышнего пути и всячески соблюдать справедливость вместе с разумностью, чтобы, пока мы здесь, быть друзьями самим себе и богам.
d
А раз мы заслужим себе награду, словно победители на состязаниях, отовсюду собирающие дары, то и здесь, и в том тысячелетнем странствии, которое мы разбирали, нам будет хорошо[1632]
.
Перевод А. Н. Егунова.
В кн.: Платон. Соб. соч. в 3‑х тт. Т.3 (1). М., 1971
XXVII. ТИМЕЙ
Сократ, Тимей, Критий, Гермократ
17
Сократ.
Один, два, три – а где же четвертый из тех, что вчера были нашими гостями, любезный Тимей, а сегодня взялись нам устраивать трапезу?
Тимей.
С ним приключилась, Сократ, какая‑то хворь, уж по доброй воле он ни за что не отказался бы от нашей беседы.
Сократ.
Если так, не на тебя ли и вот на них ложится долг восполнить и его долю?
b
Тимей.
О, разумеется, и мы сделаем все, что в наших силах! После того как вчера ты как подобает исполнил по отношению к нам долг гостеприимства, с нашей стороны было бы просто нечестно не приложить усердия, чтобы отплатить тебе тем же.
Сократ.
Так. Но помните ли вы, сколько предметов и какие именно я предложил вам для рассуждения?
Тимей.
Кое‑что помним, а если что и забыли, ты здесь, чтобы напомнить нам; а еще лучше, если это тебя не затруднит, повтори вкратце все с самого начала, чтобы оно тверже укрепилось у нас в памяти.
c
Сократ.
Будь по‑твоему! Если я не ошибаюсь, главным предметом моих рассуждений вчера было государственное устройство – каким должно оно быть и каких граждан требует для своего совершенства.
Тимей.
Так, Сократ; и описанное тобой государство всем нам очень по сердцу.
Сократ.
Не правда ли, мы начали с того, что отделили искусство землепашцев и прочие ремесла от сословия, предназначенного защищать государство на войне?[1633]
Тимей.
Да.
d
Сократ.
И, определив, что каждый будет иметь сообразно своей природе подходящий лишь ему род занятий и лишь одно искусство, мы решили: те, кому придется сражаться за всех, не должны быть никем иным, как только стражами города против любой обиды, чинимой извне или изнутри;
18
им должно кротко творить справедливость по отношению к своим подчиненным, их друзьям по природе, но быть суровыми в битве против любого, кто поведет себя как враг.
Тимей.
Совершенно верно.
Сократ.
Притом мы рассудили, что по природе душа этих стражей должна быть и пылкой, и в то же время по преимуществу философической, чтобы они могли в надлежащую меру вести себя и кротко, и сурово по отношению к тем и другим.[1634]
Тимей.
Да.
Сократ.
А как быть с воспитанием? Их нужно упражнять в гимнастических, мусических и прочих науках, которые им приличествуют, не правда ли?[1635]
Тимей.
Еще бы!
b
Сократ.
А еще мы говорили, что, когда они пройдут все эти упражнения, они не должны считать своей собственностью ни золота, ни серебра, ни чего‑либо иного. Вместо этого они будут получать от тех, кого они охраняют, содержание, соразмерное их скромным нуждам, и тратить его сообща, кормясь все вместе от общего стола. Они должны непрерывно соревноваться в добродетели, а от прочих трудов их надо избавить.[1636]
Тимей.
Именно так и было сказано.
c
Сократ.
Речь зашла и о женщинах, и мы решили, что их природные задатки следует развивать примерно так же, как и природные задатки мужчин, и что они должны делить все мужские занятия как на войне, так и в прочем житейском обиходе.[1637]
Тимей.
Да, так было решено.
Сократ.
А как с произведением потомства? Это уж, наверно, хорошо запомнилось по своей необычности. Не правда ли, речь шла о том, что все относящееся к браку и деторождению должно быть общим, и мы хотели добиться того, чтобы никто и никогда не мог знать, какой младенец родился именно от него, но каждый почитал бы каждого родным себе:
d
тех, кто родился недалеко по времени от него самого, – за братьев и сестер, а старших и младших соответственно либо за родителей и родителей родителей, либо же за детей и внуков?[1638]
Тимей.
Да, это в самом деле легко запомнить, как ты говоришь.
Сократ.
Затем мы сказали, как ты, может быть, помнишь, что ради обеспечения возможно лучшего потомства на должностных лиц обоего пола возлагается обязанность устраивать браки посредством хитрости со жребием,
e
так, чтобы лучшие и худшие сочетались бы с равными себе и в то же время никто не испытывал бы неудовольствия, но все полагали бы, что этим распорядилась судьба.[1639]
Тимей.
Да, я припоминаю.
19
Сократ.
Далее, дети лучших родителей подлежат воспитанию, а дети худших должны быть тайно отданы в другие сословия; когда же они войдут в возраст, правителям надлежит следить и за теми, и за другими и достойных возвращать на прежнее место, а недостойных отправлять на место тех, кто возвращен. Не так ли?[1640]
Тимей.
Да.
Сократ.
Что же, любезный Тимей, удалось нам вкратце восстановить ход наших вчерашних рассуждений, или мы что‑нибудь упустили?
b
Тимей.
Да нет, Сократ, ты перечислил все, о чем мы говорили.
Сократ.
Тогда послушайте, какое чувство вызывает у меня наш набросок государственного устройства. Это чувство похоже на то, что испытываешь, увидев каких‑нибудь благородных, красивых зверей, изображенных на картине, а то и живых, но неподвижных: непременно захочется поглядеть, каковы они в движении и как они при борьбе выявляют те силы,
c
о которых с позволяет догадываться склад их тел. В точности то же самое испытываю я относительно изображенного нами государства: мне было бы приятно послушать описание того, как это государство ведет себя в борьбе с другими государствами, как оно достойным его образом вступает в войну, как в ходе войны его граждане совершают то, что им подобает, сообразно своему обучению и воспитанию, будь то на поле брани или в переговорах с каждым из других государств.
d
Так вот, Критий и Гермократ, мне ясно, что сам я не справлюсь с задачей прочесть подобающее похвальное слово мужам и государству. И в моей неспособности нет ничего странного: мне кажется, что этого не могут и поэты, будь то древние или новейшие. Не то чтобы я хотел обидеть род поэтов, но ведь всякому ясно, что племя подражателей легче и лучше всего будет воссоздавать то, к чему каждый из них привык с ранних лет, а то, что лежит за пределом привычного, для них еще труднее хорошо воссоздать в речи, нежели на деле.
e
Что касается рода софистов,[1641]
я, разумеется, всегда считал его весьма искушенным в составлении разнообразных речей и в других прекрасных вещах, но из‑за того, что эти софисты привыкли странствовать из города в город и нигде не заводят собственного дома, у меня есть подозрение, что им не под силу те дела и слова, которые свершили и сказали бы в обстоятельствах войны, сражений или переговоров как философы, так и государственные люди. Итак, остается только род людей вашего склада, по природе и по воспитанию равно причастный философским и государственным занятиям.
20
Вот перед нами Тимей: будучи гражданином государства со столь прекрасными законами, как Локры Италийские,[1642]
и не уступая никому из тамошних уроженцев по богатству и родовитости, он достиг высших должностей и почестей, какие только может предложить ему город, но в то же время поднялся, как мне кажется, и на самую вершину философии. Что касается Крития, то уж о нем‑то все в Афинах знают, что он не невежда ни в одном из обсуждаемых нами предметов. Наконец, Гермократ, по множеству достоверных свидетельств, подготовлен ко всем этим рассуждениям и природой, и выучкой.
b
Потому‑то и я вчера по зрелом размышлении охотно согласился, вняв вашей просьбе, изложить свои мысли о государственном устройстве, ибо знал, что, если только вы согласитесь продолжать, никто лучше вас этого не сделает; вы так способны представить паше государство вовлеченным в достойную его войну и действующим сообразно своим свойствам, как никто из ныне живущих людей. Сказав все, что от меня требовалось, я в свою очередь обратил к вам то требование, о котором сейчас вам напоминаю.
c
Посовещавшись между собой, вы согласились отдарить меня словесным угощением сегодня; и сейчас я, как видите, приготовился к нему и с нетерпением его ожидаю.
Гермократ.
Конечно же, Сократ, как сказал наш Тимей, у нас не будет недостатка в усердии, да мы и не нашли бы никакого себе извинения, если бы отказались. Ведь и вчера, едва только мы вошли к Критию, в тот покой для гостей, где и сейчас проводим время, и даже на пути туда, мы рассуждали об этом самом предмете.
d
Критий тогда еще сообщил нам одно сказание, слышанное им в давнее время. Расскажи‑ка его теперь и Сократу, чтобы он помог нам решить, соответствует ли оно возложенной на нас задаче или не соответствует.
Критий.
Так и надо будет сделать, если согласится Тимей, третий соучастник беседы.
Тимей.
Конечно, я согласен.
Критий.
Послушай же, Сократ, сказание хоть и весьма странное, но, безусловно, правдивое, как засвидетельствовал некогда Солон, мудрейший из семи мудрецов.[1643]
e
Он был родственником и большим другом прадеда нашего Дропида, о чем сам неоднократно упоминает в своих стихотворениях;[1644]
и он говорил деду нашему Критию – а старик в свою очередь повторял это нам, – что нашим городом в древности были свершены великие и достойные удивления дела, которые были потом забыты по причине бега времени и гибели людей;
21
величайшее из них то, которое сейчас нам будет кстати припомнить, чтобы сразу и отдарить тебя, и почтить богиню в ее праздник[1645]
достойным и правдивым хвалебным гимном.
Сократ.
Прекрасно. Однако что же это за подвиг, о котором Критий со слов Солона рассказывал как о замалчиваемом, но действительно совершенном нашим городом?
Критий.
Я расскажу то, что слышал как древнее сказание из уст человека, который сам был далеко не молод. Да, в те времена нашему деду было, по собственным его словам, около девяноста лет, а мне – самое большее десять.[1646]
b
Мы справляли тогда как раз праздник Куреотис на Апатуриях,[1647]
и по установленному обряду для нас, мальчиков, наши отцы предложили награды за чтение стихов. Читались различные творения разных поэтов, и в том числе многие мальчики исполняли стихи Солона, которые в то время были еще новинкой. И вот один из членов фратрии,[1648]
то ли впрямь по убеждению, то ли думая сделать приятное Критию, заявил,
c
что считает Солона не только мудрейшим во всех о прочих отношениях, но и в поэтическом своем творчестве благороднейшим из поэтов. А старик – помню это, как сейчас, – очень обрадовался и сказал, улыбнувшись: «Если бы, Аминандр, он занимался поэзией не урывками, но всерьез, как другие, и если бы он довел до конца сказание, привезенное им сюда из Египта, а не был вынужден забросить его из‑за смут и прочих бед, которые встретили его по возвращении на родину,[1649]
d
я полагаю, что тогда ни Гесиод, ни Гомер, ни какой‑либо иной поэт не мог бы превзойти его славой». «А что это было за сказание, Критий?» – спросил тот. «Оно касалось, – ответил наш дед, – величайшего из деянии, когда‑либо совершенных нашим городом, которое заслуживало бы стать и самым известным из всех, но по причине времени и гибели совершивших это деяние рассказ о нем до нас не дошел». «Расскажи с самого начала, – попросил Аминандр, – в чем дело, при каких обстоятельствах и от кого слышал Солон то, что рассказывал как истинную правду?»
e
«Есть в Египте, – начал наш дед, – у вершины Дельты, где Нил расходится на отдельные потоки, ном, именуемый Саисским; главный город этого нома – Саис, откуда, между прочим, был родом царь Амасис.[1650]
Покровительница города – некая богиня, которая по‑египетски зовется Нейт, а по‑эллински, как утверждают местные жители, это Афина: они весьма дружественно расположены к афинянам и притязают на некое родство с последними.[1651]
Солон рассказывал, что, когда он в своих странствиях прибыл туда, его приняли с большим почетом;
22
когда же он стал расспрашивать о древних временах самых сведущих среди жрецов, ему пришлось убедиться, что ни сам он, ни вообще кто‑либо из эллинов, можно сказать, почти ничего об этих предметах не знает. Однажды, вознамерившись перевести разговор на старые предания, он попробовал рассказать им наши мифы о древнейших событиях – о Форонсе, почитаемом за первого человека, о Ниобо и о том, как Девкалион и Пирра пережили потоп;
b
при этом он пытался вывести родословную их потомков, а также исчислить по количеству поколений сроки, истекшие с тех времен.[1652]
И тогда воскликнул один из жрецов, человек весьма преклонных лет:[1653]
«Ах, Солон, Солон! Вы, эллины, вечно остаетесь детьми, и пет среди эллинов старца!» «Почему ты так говоришь?» – спросил Солон. «Все вы юны умом, – ответил тот, – ибо умы ваши не сохраняют в себе никакого предания, искони переходившего из рода в род, и никакого учения, поседевшего от времени. Причина же тому вот какая.
c
Уже были и еще будут многократные и различные случаи погибели людей, и притом самые страшные – из‑за огня и воды, а другие, менее значительные, – из‑за тысяч других бедствий. Отсюда и распространенное у вас сказание о Фаэтоне, сыне Гелиоса, который будто бы некогда запряг отцовскую колесницу, но не смог направить ее по отцовскому пути, а потому спалил все на Земле и сам погиб, испепеленный молнией.[1654]
Положим, у этого сказания облик мифа, но в нем содержится и правда:
d
в самом деле, тела, вращающиеся по небосводу вокруг Земли, отклоняются от своих путей, и потому через известные промежутки времени все на Земле гибнет от великого пожара. В такие времена обитатели гор и возвышенных либо сухих мест подвержены более полному истреблению, нежели те, кто живет возле рек или моря; а потому постоянный наш благодетель Нил избавляет нас и от этой беды, разливаясь.[1655]
Когда же боги, творя над Землей очищение, затопляют ее водами, уцелеть могут волопасы и скотоводы в горах, между тем как обитатели ваших городов оказываются унесены потоками в море,
e
но в нашей стране вода ни в такое время, ни в какое‑либо иное не падает на поля сверху, а, напротив, по природе своей поднимается снизу. По этой причине сохраняющиеся у нас предания древнее всех, хотя и верно, что во всех землях, где тому не препятствует чрезмерный холод или жар, род человеческий неизменно существует в большем или меньшем числе.
23
Какое бы славное или великое деяние или вообще замечательное событие ни произошло, будь то в нашем краю или в любой стране, о которой мы получаем известия, все это с древних времен запечатлевается в записях, которые мы храним в наших храмах; между тем у вас и прочих пародов всякий раз, как только успеет выработаться письменность и все прочее, что необходимо для городской жизни, вновь и вновь в урочное время с небес низвергаются потоки, словно мор, оставляя из всех вас лишь неграмотных и неученых.
b
И вы снова начинаете все сначала, словно только что родились, ничего не зная о том, что совершалось в древние времена в нашей стране или у вас самих. Взять хотя бы те ваши родословные. Солон, которые ты только что излагал, ведь они почти ничем не отличаются от детских сказок. Так, вы храните память только об одном потопе, а ведь их было много до этого; более того, вы даже не знаете, что прекраснейший и благороднейший род людей жил некогда в вашей стране. Ты сам и весь твои город происходите от тех немногих, кто остался из этого рода,
c
но вы ничего о нем не ведаете, ибо их потомки на протяжении многих поколений умирали, не оставляя никаких записей и потому как бы немотствуя. Между тем, Солон, перед самым большим и разрушительным наводнением государство, ныне известное под именем Афин, было и в делах военной доблести первым, и по совершенству своих законов стояло превыше сравнения; предание приписывает ему такие деяния и установления, которые прекраснее всего, что нам известно под небом».
d
Услышав это Солон, по собственному его признанию, был поражен и горячо упрашивал жрецов со всей обстоятельностью и по порядку рассказать об этих древних афинских гражданах.
Жрец ответил ему: «Мне не жаль, Солон; я все расскажу ради тебя и вашего государства, но прежде всего ради той богини,[1656]
что получила в удел, взрастила и воспитала как ваш, так и наш город. Однако Афины она основала на целое тысячелетие раньше, восприняв о ваше семя от Геи и Гефеста,[1657]
а этот наш город – позднее.
e
Между тем древность наших городских установлении определяется по священным записям в восемь тысячелетий. Итак, девять тысяч лет назад жили эти твои сограждане, и чьих законах и о чьем величайшем подвиге мне предстоит вкратце тебе рассказать; позднее, на досуге, мы с письменами в руках выясним все обстоятельнее и по порядку.
24
Законы твоих предков ты можешь представить себе по здешним: ты найдешь ныне в Египте множество установлении, принятых в те времена у вас, и прежде всего сословие жрецов, обособленное от всех прочих, затем сословие ремесленников, в котором каждый занимается своим ремеслом, ни во что больше не вмешиваясь, и, наконец, сословия пастухов, охотников и земледельцев;
b
да и воинское сословие, как ты, должно быть, заметил сам, отделено от прочих, и членам его закон предписывает не заботиться ни о чем, кроме войны. Добавь к этому, что снаряжены наши воины щитами и копьями, этот род вооружения был явлен богиней, и мы ввели его у себя первыми в Азии,[1658]
как вы – первыми в ваших землях. Что касается умственных занятий, ты и сам видишь, какую заботу о них проявил с самого начала наш закон, исследуя космос и из наук божественных с выводя науки человеческие,
c
вплоть до искусства гадания и пекущегося о здоровье искусства врачевания, а равно и всех прочих видов знания, которые стоят в связи с упомянутыми. Но весь этот порядок и строй богиня еще раньше ввела у вас, устроя ваше государство, а начала она с того, что отыскала для вашего рождения такое место, где под действием мягкого климата вы рождались бы разумнейшими на Земле людьми.
d
Любя брани и любя мудрость, богиня избрала и первым заселила такой край, который обещал порождать мужей, более кого бы то ни было похожих на нее самое. И вот вы стали обитать там, обладая прекрасными законами, которые были тогда еще более совершенны, н превосходя всех людей во всех видах добродетели, как это и естественно для отпрысков и питомцев богов. Из великих деяний вашего государства немало таких, которые известны по нашим записям и служат предметом восхищения; однако между ними есть одно, которое превышает величием и доблестью все остальные.
e
Ведь по свидетельству наших записей, государство ваше положило предел дерзости несметных воинских сил, отправлявшихся на завоевание всей Европы и Азии, а путь державших от Атлантического моря. Через море это в те времена возможно было переправиться, ибо еще существовал остров, лежавший перед тем проливом, который называется на вашем языке Геракловыми столпами.[1659]
Этот остров превышал своими размерами Ливию[1660]
и Азию, вместо взятые, и с него тогдашним путешественникам легко было перебраться на другие острова, а с островов – на весь противолежащий материк, который охватывал то море,
25
что и впрямь заслуживает такое название (ведь море по эту сторону упомянутого пролива является всего лишь заливом с узким проходом в него, тогда как море по ту сторону пролива есть море в собственном смысле слова, равно как и окружающая его земля воистину и вполне справедливо может быть названа материком). На этом‑то острове, именовавшемся Атлантидой, возникло удивительное по величине и могуществу царство, чья власть простиралась на весь остров, на многие другие острова и на часть материка, а сверх того, по эту сторону пролива они овладели Ливией вплоть до Египта
b
и Европой вплоть до Тиррении.[1661]
И вот вся эта сплоченная мощь была брошена на то, чтобы одним ударом ввергнуть в рабство и ваши и наши земли и все вообще страны по эту сторону пролива. Именно тогда, Солон, государство ваше явило всему миру блистательное доказательство своей доблести и силы: всех превосходя твердостью духа и опытностью в военном деле, оно сначала встало во главе эллинов,
c
но из‑за измены союзников оказалось предоставленным самому себе, в одиночество встретилось с крайними опасностями и все же одолело завоевателей и воздвигло победные трофеи.[1662]
Тех, кто еще не был порабощен, оно спасло от угрозы рабства; всех же остальных, сколько ни обитало нас по эту сторону Геракловых столпов, оно великодушно сделало свободными. Но позднее, когда пришел срок для невиданных землетрясении и наводнении,
d
за одни ужасные сутки вся ваша воинская сила была поглощена разверзнувшейся землей; равным образом и Атлантида исчезла, погрузившись в пучину.[1663]
После этого море в тех местах стало вплоть до сего дня несудоходным и недоступным по причине обмеления, вызванного огромным количеством ила,[1664]
который оставил после себя осевший остров».
e
Ну, вот я и пересказал тебе, Сократ, возможно короче то, что передавал со слов Солона старик Критий. Когда ты вчера говорил о твоем государстве и его гражданах, мне вспомнился этот рассказ, и я с удивлением заметил, как многие твои слова по какой‑то поразительной случайности совпадают со словами Солона.
26
Но тогда мне не хотелось ничего говорить, ибо по прошествии столь долгого времени я недостаточно помнил содержание рассказа; поэтому я решил, что мне не следует говорить до тех пор, пока я не припомню всего с достаточной обстоятельностью. И вот почему я так охотно принял на себя те обязанности, которые ты вчера мне предложил: мне представилось, что если в таком деле важнее всего положить в основу речи согласный с нашим замыслом предмет, то нам беспокоиться не о чем. Как уже заметил Гермократ, я начал в беседе с ними припоминать суть дела, едва только вчера ушел отсюда,
b
а потом, оставшись один, восстанавливал в памяти подробности всю ночь напролет и вспомнил почти все. Справедливо изречение, что затверженное в детстве куда как хорошо держится в памяти. Я совсем не уверен, что мне удалось бы полностью восстановить в памяти то, что я слышал вчера; но вот если из этого рассказа, слышанного мною давным‑давно, от меня хоть что‑то ускользнет, мне это покажется странным. Ведь в свое время я выслушивал все это с таким истинно мальчишеским удовольствием,
c
а старик так охотно давал разъяснения в ответ на мои всегдашние расспросы, что рассказ неизгладимо запечатлелся в моей памяти, словно выжженная огнем по воску картина. А сегодня рано поутру я поделился рассказом вот с ними, чтобы им тоже, как и мне, было о чем поговорить.
Итак, чтобы наконец‑то дойти до сути дела, я согласен, Сократ, повторить мое повествование уже не в сокращенном виде, но со всеми подробностями, с которыми я сам его слышал.
d
Граждан и государство, что были тобою вчера нам представлены как в некоем мифе,[1665]
мы перенесем в действительность и будем исходить из того, что твое государство и есть вот эта наша родина, а граждане, о которых ты размышлял, суть вправду жившие наши предки из рассказов жреца. Соответствие будет полное, и мы не погрешим против истины, утверждая, что в те‑то времена они и жили. Что же, поделим между собой обязанности и попытаемся сообща должным образом справиться с той задачей, что ты нам поставил. Остается поразмыслить, Сократ, по сердцу ли нам такой предмет или вместо него нужно искать какой‑либо иной.
e
Сократ.
Да что ты, Критий, какой же предмет мы могли бы предпочесть этому? Ведь он как нельзя лучше подходит к священнодействиям в честь богини, ибо сродни ей самой; притом важно, что мы имеем дело не с вымышленным мифом, но с правдивым сказанием. Если мы его отвергнем, где и как найдем мы что‑нибудь лучше? Это невозможно. Так в добрый час! Начинайте, а я в отплату за мои вчерашние речи буду молча вас слушать.
27
Критий.
Если так, узнай же, Сократ, в каком порядке будем мы тебя угощать. Мы решили, что, коль скоро Тимей являет собою среди нас самого глубокого знатока астрономии и главнейшим своим занятием сделал познание природы всех вещей, он и будет говорить первым, начав с возникновения космоса и закончив природой человека. После него – мой черед; я как бы приму из его рук людей, которые в его речи претерпят рождение, а от тебя некоторых из них получу еще и с превосходным воспитанием.
b
Затем в соответствии с Солоновым рассказом и законоположением я представлю их на наш суд, чтобы добиться для них права гражданства, исходя из того что они и есть те самые афиняне былых времен, о которых после долгого забвения возвестили нам священные записи, и в дальнейшем нам придется говорить о них уже как о наших согражданах и подлинных афинянах.
Сократ.
Я вижу, вы собираетесь отблагодарить меня сполна и щедро! Что ж, Тимей, тебе, кажется, пора говорить, по обычаю сотворив молитву богам.
c
Тимей.
Еще бы, Сократ! Все, в ком есть хоть малая толика рассудительности, перед любым неважным или важным начинанием непременно призывают на помощь божество. Но ведь мы приступаем к рассуждениям о Вселенной, намереваясь выяснить, возникла ли она и каким именно образом; значит, нам просто необходимо, если только мы не впали в совершенное помрачение, воззвать к богам и богиням и испросить у них, чтобы речи паши были угодны им, а вместе с тем удовлетворяли бы нас самих.
d
Таким да будет наше воззвание к богам! Но и к самим себе нам следует воззвать, дабы вы наилучшим образом меня понимали, а я возможно более правильным образом развивал свои мысли о предложенном предмете.
Представляется мне, что для начала дулжно разграничить вот какие две вещи: чту есть вечное, не имеющее возникновения бытие и чту есть вечно возникающее, но никогда не сущее.
28
То, что постигается с помощью размышления и рассуждения, очевидно, и есть вечно тождественное бытие; а то, что подвластно мнению и неразумному ощущению, возникает и гибнет, но никогда не существует на самом деле. Однако все возникающее должно иметь какую‑то причину для своего возникновения, ибо возникнуть без причины совершенно невозможно. Далее, если демиург любой вещи взирает на неизменно сущее и берет его в качестве первообраза при создании идеи и свойств данной вещи, все необходимо выйдет прекрасным;
b
если же он взирает на нечто возникшее и пользуется им как первообразом, произведение его выйдет дурным.
А как же всеобъемлющее небо? Назовем ли мы его космосом или иным именем,[1666]
которое окажется для него самым подходящим, мы во всяком случае обязаны поставить относительно него вопрос, с которого должно начинать рассмотрение любой вещи: было ли оно всегда, не имея начала своего возникновения, или же оно возникло, выйдя из некоего начала?
c
Оно возникло, ведь оно зримо, осязаемо, телесно, а все вещи такого рода ощутимы и, воспринимаясь в результате ощущения мнением, оказываются возникающими и порождаемыми. Но мы говорим, что все возникшее нуждается для своего возникновения в некоей причине. Конечно, творца и родителя[1667]
этой Вселенной нелегко отыскать, а если мы его и найдем, о нем нельзя будет всем рассказывать. И все же поставим еще один вопрос относительно космоса:
29
взирая на какой первообраз работал тот, кто его устроял, – на тождественный и неизменный или на имевший возникновение? Если космос прекрасен, а его демиург благ, ясно, что он взирал на вечное; если же дело обстояло так, что и выговорить‑то запретно, значит, он взирал на возникшее. Но для всякого очевидно, что первообраз был вечным: ведь космос – прекраснейшая из возникших вещей, а его демиург – наилучшая из причин. Возникши таким, космос был создан по тождественному и неизменному [образцу], постижимому с помощью рассудка и разума.
b
Если это так, то в высшей степени необходимо, чтобы этот космос был образом чего‑то. Но в каждом рассуждении важно избрать сообразное с природой начало. Поэтому относительно изображения и первообраза надо принять вот какое различение: слово о каждом из них сродни тому предмету, который оно изъясняет. О непреложном, устойчивом и мыслимом предмете и слово должно быть непреложным и устойчивым; в той мере, в какой оно может обладать неопровержимостью и бесспорностью, ни одно из этих свойств не может отсутствовать.
c
Но о том, что лишь воспроизводит первообраз и с являет собой лишь подобие настоящего образа, и говорить можно не более как правдоподобно. Ведь как бытие относится к рождению, так истина относится к вере.[1668]
А потому не удивляйся, Сократ, что мы, рассматривая во многих отношениях много вещей, таких, как боги и рождение Вселенной, не достигнем в наших рассуждениях полной точности и непротиворечивости. Напротив, мы должны радоваться, если наше рассуждение окажется не менее правдоподобным, чем любое другое, и притом помнить, что и я, рассуждающий, и вы, мои судьи, всего лишь люди, а потому нам приходится довольствоваться в таких вопросах правдоподобным мифом, не требуя большего.
d
Сократ.
Отлично, Тимей! Мы так и поступим, как ты предлагаешь. Запев твой мы выслушали с восторгом, а теперь поскорее переходи к самой песне.[1669]
Тимей.
Рассмотрим же, по какой причине устроил возникновение и эту Вселенную тот, кто их устроил. Он был благ, а тот, кто благ,[1670]
никогда и ни в каком деле не испытывает зависти.
e
Будучи чужд зависти, он пожелал, чтобы все вещи стали как можно более подобны ему самому. Усмотреть в этом вслед за разумными мужами подлинное и наиглавнейшее начало рождения и космоса было бы, пожалуй, вернее всего.
30
Итак, пожелавши, чтобы все было хорошо и чтобы ничто по возможности не было дурно, бог позаботился обо всех видимых вещах, которые пребывали не в покое, но в нестройном и беспорядочном движении; он привел их из беспорядка в порядок,[1671]
полагая, что второе, безусловно, лучше первого. Невозможно ныне и было невозможно издревле, чтобы тот, кто есть высшее благо, произвел нечто, что не было бы прекраснейшим;
b
между тем размышление явило ему, что из всех вещей, по природе своей видимых, ни одно творение, лишенное ума, не может быть прекраснее такого, которое наделено умом, если сравнивать то и другое как целое; а ум отдельно от души ни в ком обитать не может. Руководясь этим рассуждением, он устроил ум в душе, а душу в теле и таким образом построил Вселенную, имея в виду создать творение прекраснейшее и по природе своей наилучшее. Итак, согласно правдоподобному рассуждению, следует признать, что наш космос есть живое существо, наделенное душой и умом, и родился он поистине с помощью божественного провидения.
c
Коль скоро это так, мы сейчас же должны поставить другой вопрос: что же это за живое существо, по образцу которого устроитель устроил космос? Мы не должны унижать космос, полагая, что дело идет о существе некоего частного вида, ибо подражание неполному никоим образом не может быть прекрасным. Но предположим, что было такое [живое существо], которое объемлет все остальное живое по особям и родам как свои части, и что оно было тем образцом, которому более всего уподобляется космос, ведь как оно вмещает в себе все умопостигаемые живые существа, так космос дает в себе место нам и всем прочим видимым существам.
d
Ведь бог, пожелавши возможно более уподобить мир прекраснейшему и вполне совершенному среди мыслимых предметов, устроил его как единое видимое живое существо, содержащее все сродные ему по природе живые существа в себе самом.[1672]
31
Однако правы ли мы, говоря об одном небе, или вернее было бы говорить о многих, пожалуй, даже неисчислимо многих? Нет, оно одно, коль скоро оно создано в соответствии с первообразом. Ведь то, что объемлет все умопостигаемые живые существа, не допускает рядом с собою иного; в противном случае потребовалось бы еще одно существо, которое охватывало бы эти два и частями которого бы они оказались, и уже не их, но его, их вместившего, вернее было бы считать образцом для космоса.
b
Итак, дабы произведение было подобно всесовершенному живому существу в его единственности, творящий не сотворил ни двух, ни бесчисленного множества космосов, лишь одно это единородное небо, возникши, пребывает и будет пребывать.[1673]
Итак, телесным, а потому видимым и осязаемым – вот каким надлежало быть тому, что рождалось. Однако видимым ничто не может стать без участия огня, а осязаемым – без чего‑то твердого, твердым же ничто не может стать без земли. По этой причине бог, приступая к составлению тела Вселенной, сотворил его из огня и земли.[1674]
Однако два члена сами по себе не могут быть хорошо сопряжены без третьего, ибо необходимо, чтобы между одним и другим родилась некая объединяющая их связь.
c
Прекраснейшая же из связей такая, которая в наибольшей степени единит себя и связуемое, и задачу эту наилучшим образом выполняет пропорция, ибо, когда из трех чисел – как кубических, так и квадратных –
32
при любом среднем числе первое так относится к среднему, как среднее к последнему, и соответственно последнее к среднему, как среднее к первому, тогда при перемещении средних чисел на первое и последнее место, а последнего и первого, напротив, на средние места выяснится, что отношение необходимо остается прежним, а коль скоро это так, значит, все эти числа образуют между собой единство.
При этом, если бы телу Вселенной надлежало стать простой плоскостью без глубины, было бы достаточно одного среднего члена для сопряжения его самогу с крайними.
b
Однако оно должно было стать трехмерным, а трехмерные предметы никогда не сопрягаются через один средний член, но всегда через два. Поэтому бог поместил между огнем и землей воду и воздух, после чего установил между ними возможно более точные соотношения, дабы воздух относился к воде, как огонь к воздуху, и вода относилась к земле, как воздух к воде. Так он сопряг их, построя из них небо, видимое и осязаемое.
c
На таких основаниях и из таких составных частей числом четыре родилось тело космоса, упорядоченное благодаря пропорции, и благодаря этому в нем возникла дружба, так что разрушить его самотождественпость не может никто, кроме лишь того, кто сам его сплотил.[1675]
При этом каждая из четырех частей вошла в состав космоса целиком: устроитель составил его из всего огня, из всей воды, и воздуха, и земли, не оставив за пределами космоса ни единой их части или силы.
d
Он имел в виду, во‑первых, чтобы космос был целостным и совершеннейшим живым существом с совершенными то частями;
33
далее, чтобы космос оставался единственным и чтобы не было никаких остатков, из которых мог бы родиться другой, подобный, и, наконец, чтобы он был недряхлеющим и непричастным недугам. Устроителю пришло па ум, что, если тело со сложным составом будет извне окружено теплом, холодом и другими могучими силами, то, в недобрый час на него обрушиваясь, они его подточат, ввергнут в недуги и дряхление и принудят погибнуть. По такой причине и согласно такому усмотрению он построил космос как единое целое, составленное из целостных же частей, совершенное и непричастное дряхлению и недугам.
b
Очертания же он сообщил Вселенной такие, какие были бы для нее пристойны и ей сродны. В самом деле, живому существу, которое должно содержать в себе все живые существа, подобают такие очертания, которые содержат в себе все другие. Итак, он путем вращения округлил космос до состояния сферы,[1676]
поверхность которой повсюду равно отстоит от центра, то есть сообщил Вселенной очертания, из всех очертаний наиболее совершенные и подобные самим себе, а подобное он нашел в мириады раз более прекрасным, чем неподобное. Всю поверхность сферы он вывел совершенно ровной, и притом по различным соображениям.
c
Так, космос не имел никакой потребности ни в глазах, ни в слухе, ибо вне его не осталось ничего такого, что можно было бы видеть или слышать. Далее, его не окружал воздух, который надо было бы вдыхать. Равным образом ему не было нужды в каком‑либо органе, посредством которого он принимал бы пищу или извергал обратно уже переваренную: ничто не выходило за его пределы и не входило в него откуда бы то ни было, ибо входить было нечему. [Тело космоса] было искусно устроено так, чтобы получать пищу от своего собственного тления,
d
осуществляя все свои действия и состояния в себе самом и само через себя. Ибо построявший его нашел, что пребывать самодовлеющим[1677]
много лучше, нежели нуждаться в чем‑либо. Что касается рук, то не было никакой надобности что‑то брать ими или против кого‑то обороняться, и потому он счел излишним прилаживать их к телу, равно как и ноги или другое устройство для хождения.
34
Ибо такому телу из семи родов движения он уделил соответствующий род, а именно тот, который близко всего к уму и разумению. Поэтому он заставил его единообразно вращаться в одном и том же месте, в самом себе, совершая круг за кругом, а остальные шесть родов движения были устранены, чтобы не сбивать первое.[1678]
Поскольку же для такого круговращения не требовалось ног, он породил [это существо] без голеней и без стоп.
b
Весь этот замысел вечносущего бога относительно бога, которому только предстояло быть, требовал, чтобы тело [космоса] было сотворено гладким, повсюду равномерным, одинаково распространенным во все стороны от центра, целостным, совершенным и составленным из совершенных тел. В его центре построявший дал место душе,[1679]
откуда распространил ее по всему протяжению и в придачу облек ею тело извне. Так он создал небо, кругообразное и вращающееся, одно‑единственное, но благодаря своему совершенству способное пребывать в общении с самим собою, не нуждающееся ни в ком другом и довольствующееся познанием самого себя и содружеством с самим собой. Предоставив космосу все эти преимущества, [демиург] дал ему жизнь блаженного бога.
c
Если мы в этом пашем рассуждении только позднее попытаемся перейти к душе, то это отнюдь не означает, будто и бог построил ее после [тела], ведь при сопряжении их он не дал бы младшему [началу] главенства над старшим.[1680]
Это лишь мы, столь подверженные власти случайного и приблизительного, и в речах наших руководимся этим, но бог сотворил душу первенствующей и старейшей по своему рождению и совершенству, как госпожу и повелительницу тела, а составил он ее вот из каких частей и вот каким образом:
35
из той сущности, которая неделима и вечно тождественна, и той, которая претерпевает разделение в телах, он создал путем смешения третий, средний вид сущности, причастный природе тождественного и природе иного, и подобным же образом поставил его между тем, что неделимо, и тем, что претерпевает разделение в телах. Затем, взяв эти три [начала], он слил их все в единую идею, силой принудив не поддающуюся смешению природу иного к сопряжению с тождественным.
b
Слив их таким образом при участии сущности и сделав из трех одно, он это целое в свою очередь разделил на нужное число частей, каждая из которых являла собою смесь тождественного, иного и сущности.[1681]
Делить же он начал следующим образом: прежде всего отнял от целого одну долю, затем вторую, вдвое большую, третью – в полтора раза больше второй и в три раза больше первой, четвертую – вдвое больше второй, пятую – втрое больше третьей, шестую –
c
в восемь раз больше первой, а седьмую – больше первой в двадцать семь раз.
36
После этого он стал заполнять образовавшиеся двойные и тройные промежутки, отсекая от той же смеси все новые доли и помещая их между прежними долями таким образом, чтобы в каждом промежутке было по два средних члена, из которых один превышал бы меньший из крайних членов на такую же его часть, на какую часть превышал бы его больший, а другой превышал бы меньший крайний член и уступал большему на одинаковое число. Благодаря этим скрепам возникли новые промежутки, по 3/2, 4/3 и 9/8, внутри прежних промежутков.
b
Тогда он заполнил все промежутки по 4/3 промежутками по 9/8, оставляя от каждого промежутка частицу такой протяженности, чтобы числа, разделенные этими оставшимися промежутками, всякий раз относились друг к другу как 256 к 243. При этом смесь, от которой бог брал упомянутые доли, была истрачена до конца.[1682]
Затем, рассекши весь образовавшийся состав по длине на две части, он сложил обе части крест‑накрест наподобие буквы Х и согнул каждую из них в круг, заставив концы сойтись в точке, противоположной точке их пересечения.
c
После этого он принудил их единообразно и в одном и том же место двигаться по кругу, причем сделал один из кругов внешним, а другой – внутренним. Внешнее вращение он нарек природой тождественного, а внутреннее – природой иного. Круг тождественного он заставил вращаться слева направо, вдоль стороны [прямоугольника], а круг иного – справа налево, вдоль диагонали [того же прямоугольника], но перевес он даровал движению тождественного и подобного,
d
ибо оставил его единым и неделимым, в то время как внутреннее движение шестикратно разделил на семь неравных кругов, сохраняя число двойных и тройных промежутков, а тех и других было по три. Вращаться этим кругам он определил в противоположных друг другу направлениях, притом так, чтобы скорость у трех кругов была одинаковая, а у остальных четырех – неодинаковая сравнительно друг с другом и с теми тремя, однако отмеренная в правильном соотношении.[1683]
Когда весь состав души был рожден в согласии с замыслом того, кто его составлял, этот последний начал устроить внутри души все телесное и приладил то и другое друг к другу в их центральных точках.[1684]
e
И вот душа, простертая от центра до пределов неба и окутывающая небо по кругу извне, сама в себе вращаясь, вступила в божественное начало непреходящей и разумной жизни на все времена. Притом тело неба родилось видимым, а душа – невидимой, и, как причастная рассуждению и гармонии, рожденная совершеннейшим из всего мыслимого и вечно пребывающего, она сама совершеннее всего рожденного.
37
Она являет собою трехчастное смешение природ тождественного и иного с сущностью, которое пропорционально разделено и слито снова и неизменно вращается вокруг себя самого, а потому при всяком соприкосновении с вещью, чья сущность разделена или, напротив, неделима, она всем своим существом приходит в движение и выражает в слове, чему данная вещь тождественна и для чего она иное,
b
а также в каком преимущественно отношении, где, как и когда каждое находится с каждым, как в становлении, так и в вечной тождественности, будь то бытие или страдательное состояние. Это слово, безгласно и беззвучно изрекаемое в самодвижущемся [космосе], одинаково истинно, имеет ли оно отношение к иному или к тождественному. Но если оно изрекается о том, что ощутимо, и о нем по всей душе космоса возвещает правильно движущийся круг иного, тогда возникают истинные и прочные мнения и убеждения;
c
если же, напротив, оно изрекается о мыслимом предмете и о нем подает весть в своем легком беге круг тождественного, тогда необходимо осуществляют себя ум и знание. Если же кто на вопрос, внутри чего же возникает то и другое, назовет какое‑либо иное вместилище, кроме души, слова его будут всем чем угодно, только не истиной.[1685]
И вот когда Отец усмотрел, что порожденное им, это изваяние вечных богов, движется и живет, он возрадовался и в ликовании замыслил еще больше уподобить [творение] образцу.
d
Поскольку же образец являет собой вечно живое существо, он положил в меру возможного и здесь добиться сходства, но дело обстояло так, что природа того живого существа вечна, а этого нельзя полностью передать ничему рожденному. Поэтому он замыслил сотворить некое движущееся подобие вечности; устроил небо, он вместе с ним творит для вечности, пребывающей в едином, вечный же образ, движущийся от числа к числу, который мы назвали временем.
e
Ведь не было ни дней, ни ночей, ни месяцев, ни годов, пока не было рождено небо, но он уготовил для них возникновение лишь тогда, когда небо было устроено. Все это – части времени, а «было» и «будет» суть виды возникшего времени, и, перенося их на вечную сущность, мы незаметно для себя делаем ошибку. Ведь мы говорим об этой сущности, что она «была», «есть» и «будет», но, если рассудить правильно, ей подобает одно только «есть»,
38
между тем как «было» и «будет» приложимы лишь к возникновению, становящемуся во времени, ибо и то и другое суть движения. Но тому, что вечно пребывает тождественным и неподвижным, не пристало становиться со временем старше или моложе,[1686]
либо стать таким когда‑то, теперь или в будущем, либо вообще претерпевать что бы то ни было из того, чем возникновение наделило несущиеся и данные в ощущении вещи. Нет, все это – виды времени, подражающего вечности и бегущего по кругу согласно [законам] числа.
b
К тому же мы еще говорим, будто возникшее есть
возникшее и возникающее есть
возникающее, а имеющее возникнуть есть
имеющее возникнуть и небытие есть
небытие; во всем этом нет никакой точности. Но сейчас нам недосуг все это выяснять.
Итак, время возникло вместе с небом, дабы, одновременно рожденные, они и распались бы одновременно, если наступит для них распад; первообразом же для времени послужила вечная природа, чтобы оно уподобилось ей, насколько возможно.
c
Ибо первообраз есть то, что пребывает целую вечность, между тем как [отображение] возникло, есть и будет в продолжение целокупного времени. Такими были замысел и намерение бога относительно рождения времени; и вот, чтобы время родилось из разума и мысли бога, возникли Солнце, Луна и пять других светил, именуемых планетами, дабы определять и блюсти числа времени. Сотворив одно за другим их тела, бог поместил их, числом семь, на семь кругов, по которым совершалось круговращение иного:
d
Луну – на ближайший к Земле круг, Солнце – на второй от Земли, Утреннюю звезду и ту звезду, что посвящена Гермесу и по нему именуется, – на тот круг, который бежит равномерно с Солнцем, но в обратном направлении. Оттого‑то Солнце, Гермесова звезда и Утренняя звезда поочередно и взаимно догоняют друг друга.[1687]
Что касается прочих [планет] и того, где именно и по каким именно причинам были они там утверждены,
e
то все это принудило бы нас уделить второстепенным вещам больше внимания, чем того требует предмет нашего рассуждения. Быть может, когда‑нибудь позднее мы займемся как следует и этим, если представится досуг.
Итак, после того как все [эти звезды], назначенные участвовать в устроении времени, получили подобающее каждой из них движение, после того как они, являя собою тела, связанные одушевленными узами, стали живыми существами и уразумели порученное им дело, они начали вращаться вдоль движения иного, которое наискось пересекает движение тождественного[1688]
и ему подчиняется;
39
одни из них описывали больший круг, другие меньший, притом по меньшим кругам они шли быстрее, по большим – медленнее. Однако под действием движения тождественного кажется, будто звезды, которые идут быстрее, нагоняемы теми, которые идут медленнее, в то время как в действительности дело обстоит наоборот, ведь движение тождественного сообщает всем звездным кругам спиралеобразный изгиб по причине противоположной устремленности двух [главных движений],
b
а потому как раз та [звезда], которая больше всего отстает от самого быстрого движения, по видимости больше всего приближается к его скорости. Для того чтобы была дана некая точная мера соотношений медленности и быстроты, с которыми движутся они по своим восьми кругам, бог на второй от Земли окружности возжег свет, который ныне мы называем Солнцем,[1689]
дабы он осветил возможно дальше все небо, а все живые существа, которым это подобает, стали бы причастны числу, научаясь ему из вращения тождественного и подобного.
c
Таким образом и по таким причинам возникли ночь и день,[1690]
этот круговорот единого и наиразумнейшего обращения; месяц же – это когда Луна совершает свой оборот и нагоняет Солнце, а год – когда Солнце обходит свой круг. Что касается круговоротов прочих светил, то люди, за исключением немногих, не замечают их, не дают им имен и но измеряют их взаимных числовых отношений, так что, можно сказать, они и не догадываются, что эти необозримо многочисленные и несказанно многообразные блуждания также суть время.
d
Однако же возможно усмотреть, что полное число времени полного года завершается тогда, когда все восемь кругов, различных по скорости, одновременно придут к своей исходной точке, соотносясь с мерой единообразно бегущего круга тождественного. Вот как и ради чего рождены все звезды, которые блуждают по небу и снова возвращаются на свои пути,
e
дабы [космос] как можно более уподобился совершенному и умопостигаемому живому существу, подражая его вечносущей природе.
Итак, во всем вплоть до возникновения времени [космос] имел сходство с тем, что отображал, кроме одного: он еще не содержал в себе всех живых существ, которым должно было в нем возникнуть, и этим являл несоответствие вечносущей природе. Но и это недостававшее бог решил восполнить, чеканя его соответственно природе первообраза. Сколько и каких [основных] видов[1691]
усматривает ум в живом как оно есть, столько же и таких же он счел нужным осуществить в космосе. Всего же их четыре: из них первый – небесный род богов, второй – пернатый, плывущий по воздуху род, третий – водный, четвертый – пеший и сухопутный род.
40
Идею божественного рода бог в большей части образовал из огня,[1692]
дабы она являла взору высшую блистательность и красоту, сотворил ее безупречно округлой, уподобляя Вселенной, и отвел ей место при высшем разумении, велев следовать за этим последним; притом он распределил этот род кругом по всему небу, все его изукрасив и тем создав истинный космос. Из движений он даровал каждому [богу] по два: во‑первых, единообразное движение на одном и том же месте, дабы о тождественном они всегда мыслили тождественно,
b
а во‑вторых, поступательное движение, дабы они были подчинены круговращению тождественного и подобного. Но остальных пяти движений он им не придал, сделав этот род неподвижным и покоящимся, так чтобы каждый из богов был, сколь возможно, совершенен. По этой причине возникли все неподвижные звезды, являющие собой вочносущие божественные существа, которые всегда тождественно и единообразно вращаются в одном и том же месте; а меняющие свое место и, таким образом, блуждающие звезды возникли как это было сказано раньше.[1693]
c
Земле же, кормилице нашей, он определил вращаться вокруг оси, проходящей через Вселенную, и поставил ее блюстительницей и устроительницей дня и почти как старейшее и почтеннейшее из божеств, рожденных внутри неба. Что касается хороводов этих божеств, их взаимных сближений, обратного вращения их кругов и забеганий вперед, а также того, какие из них сходятся или противостоят друг другу и какие становятся друг перед другом в таком положении по отношению к нам, что через определенные промежутки времени они то скрываются, то вновь появляются,
d
устрашая тех, кто не умеет расчислить сроки, и посылая им знамения грядущего, говорить обо всем этом, не имея перед глазами наглядного изображения,[1694]
было бы тщетным трудом. Пусть поэтому с нас будет достаточно сказанного, и рассуждение о природе видимых и рожденных богов пусть на этом окончится.
Повествовать о прочих божествах и выяснять их рождение – дело для нас непосильное. Здесь остается только довериться тем, кто говорил об этом прежде нас; раз говорившие сами были, по их словам, потомками богов, они должны были отлично знать своих прародителей.
e
Детям богов отказать в доверии никак нельзя, даже если говорят они без правдоподобных и убедительных доказательств, ибо, если они выдают свой рассказ за семейное предание, приходится им верить, чтобы не ослушаться закона. Итак, мы примем и повторим их свидетельство о родословной этих богов: от Геи и Урана родились Океан и Тефия, от этих двух – Форкий, Кронос с Реей и все их поколение, от Кроноса и Реи –
41
Зевс с Герой и все то, кого мы знаем как их братьев и сестер, а уже от них – новое потомство.[1695]
Когда же все боги – как те, чье движение совершается на наших глазах, так и те, что являются нам, лишь когда сами того пожелают, – получили свое рождение, родитель Вселенной обращается к ним с такой речью:
«Боги богов! Я – ваш демиург и отец вещей, а возникшее от меня пребудет неразрушимым, ибо такова моя воля. Разумеется, все то, что составлено из частей, может быть разрушено, однако пожелать разрушить прекрасно слаженное и совершенное было бы злым делом.
b
А потому, хотя вы, однажды возникнув, уже не будете совершенно бессмертны и неразрушимы, все же вам не придется претерпеть разрушение и получить в удел смерть, ибо мой приговор будет для вас еще более мощной и неодолимой связью, нежели то, что соединили при возникновении каждого из вас. Теперь выслушайте, чему наставит вас мое слово. Доселе еще пребывают нерожденными три смертных рода,[1696]
а покуда они не возникли, небо не получит полного завершения: ведь оно не будет содержать в себе все роды живых существ, а это для него необходимо, дабы оказаться достаточно завершенным.
c
Однако, если эти существа возникнут и получат жизнь от меня, они будут равны богам. Итак, чтобы они были смертными и Вселенная воистину стала бы Всем, обратитесь в соответствии с вашей природой к образованию живых существ, подражая моему могуществу,[1697]
через которое совершилось ваше собственное возникновение. Впрочем, поскольку подобает, чтобы в них присутствовало нечто соименное бессмертным, называемое божественным [началом], и чтобы оно вело тех, кто всегда и с охотой будет следовать справедливости и вам, я вручу вам семена и начатки созидания,
d
но в остальном вы сами довершайте созидание живых существ, сопрягая смертное с бессмертным, затем готовьте для них пропитание, кормите и взращивайте их, а после смерти принимайте обратно к себе».
Так он молвил, а затем налил в тот самый сосуд, в котором смешивал состав для вселенской души, остатки прежней смеси и смешал их снова примерно таким же образом, но чистота этой смеси была уже второго или третьего порядка; всю эту новую смесь он разделил на число душ, равное числу звезд, и распределил их по одной на каждую звезду.
e
Возведя души на звезды как на некие колесницы, он явил им природу Вселенной и возвестил законы рока, а именно что первое рождение будет для всех душ установлено одно и то же, дабы ни одна из них не была им унижена, и что теперь им предстоит, рассеявшись, перенестись на подобающее каждой душе орудие времени[1698]
и стать теми живыми существами, которые из всех созданий наиболее благочестивы;
42
поскольку же природа человеческая двойственна, лучшим будет тот род, который некогда получит наименование мужей. Когда же души будут по необходимости укоренены в телах, а каждое тело станет что‑то принимать в себя, а что‑то извергать, необходимо, во‑первых, чтобы в душах зародилось ощущение, общее им всем и соответствующее вынужденным впечатлениям; во‑вторых, чтобы зародился эрос, смешанный с удовольствием и страданием, а кроме того, страх, гнев и все прочие [чувства], либо связанные с названными, либо противоположные им;
b
если души будут над этими страстями властвовать, их жизнь будет справедлива, если же окажутся в их власти, то несправедлива. Тот, кто проживет отмеренный ому срок должным образом, возвратится в обитель соименной ому звезды и будет вести блаженную, обычную для него жизнь, а тот, кто этого не сумеет, во втором рождении сменит свою природу на женскую.
c
Если же он и тогда не перестанет творить зло, ему придется каждый раз перерождаться в такую животную природу, которая будет соответствовать его порочному складу, и конец его мучениям наступит лишь тогда, когда он, решившись последовать вращению тождества и подобия в себе самом, победит рассудком многообразную, имеющую присоединиться к его природе смуту огня и воды, воздуха и земли, одолеет их неразумное буйство и снова придет к идее прежнего и лучшего состояния.[1699]
d
Распорядившись таким образом, чтобы впредь не оказаться виновником ничьей порочности, он перенес посев [душ] отчасти на Землю, отчасти на Луну, отчасти на прочие орудия времени.[1700]
После этого посева он передоверил новым богам изваять смертные тела и притом еще добавить то, чего недоставало человеческой душе,
e
а после, приготовив все к этому относящееся, осуществлять правление и возможно лучше и совершеннее вести смертное существо, чтобы оно не стало само для себя причиной зол.
Сделав все эти распоряжения, он пребывал в обычном своем состоянии. Между тем его дети, уразумев приказ отца, принялись его исполнять: они взяли бессмертное начало смертного существа, а затем, подражая своему демиургу, заняли у космоса частицы огня и земли, а также воды и воздуха,[1701]
обещав впоследствии вернуть их.
43
Эти частицы они принялись скреплять воедино, однако не теми нерушимыми скрепами, которыми были соединены их тела, но частыми и по малости своей неприметными и таким образом сообщали каждому собранному телу целостность и единство; а круговращения бессмертной души они сопрягли с притоком и убылью в тело. И вот эти круговращения, вовлеченные в мощный поток, не могли ни до конца одолеть его, ни до конца ему уступить, по временами насильственно сообщали ему свое направление, а временами получали направление от него.
b
Поэтому все это существо было подвижно, однако устремлялось куда придется, беспорядочно и безрассудно;[1702]
к тому же, обладая возможностью всех шести движений: вперед – назад, направо – налево и вверх – вниз, оно продвигалось в шести направлениях и на все лады блуждало. Если уже поток пищи, переполнявший тело и затем снопа из него уходивший, был достаточно мощен, то еще более мощную смуту вызывали внешние воздействия, когда, например, чье‑нибудь тело натыкалось на чужой, поджидавший его извне огонь, или на твердость земли, или на влажную зыбкость воды, или было охвачено воздушными волнениями ветров.
c
Все эти движения, пройдя сквозь тело, настигали душу и обрушивались на нее, отчего все они тогда получили и доныне сохраняют наименование ощущений. Незамедлительно вызвав сильнейшее и величайшее движение и к тому же соединившись с непрестанно текущим водоворотом, ощущения стали воздействовать на круговращения души и мощно их сотрясать.
d
Движение тождественного они вконец сковали, изливаясь ему навстречу и мешая как его правлению, так и продолжению, а бег иного расстроили до такой степени, что три двойных и три тройных промежутка, а также связующие члены (три вторых, четыре третьих и девять восьмых), которые не могут быть до конца разрушены никем, кроме того, кто их сопряг, все же пошли вкривь и вкось, всемерно нарушая круговое движение;
e
они, все еще с трудом, неслись вместе, но движение это было беспорядочным: они то сталкивались, то двигались наискосок, то опрокидывались. В последнем случае дело обстояло так, как если бы некто уперся головой в землю, а ноги вытянул вверх, прислонив их к чему‑то; в таком положении и ему самому, и всем тем, кто на него смотрит, все померещится перевернутым: правое станет левым, а левое – правым. Таким же и подобным состояниям очень сильно подвержены круговращения души:
44
когда же вовне они встречаются с родом тождественного или иного, они всякий раз изрекают как о тождественном чему‑либо, так и об отличном от чего‑то такое суждение, которое противоположно истине, и выказывают себя лживыми и неразумными; при этом ни одно из круговращений не в силах властвовать и править: когда несущиеся ощущения извне овладевают кругами, вовлекая в это движение и все вместилище души, круги лишь по видимости господствуют, на деле же подчиняются.
b
По причине всех этих состоянии душа и теперь, вступив в смертное тело, поначалу лишается ума; когда же, однако, поток роста и питания ослабевает и круговращения, дождавшись затишья, возвращаются на свои стези и со временем все более выравниваются, тогда каждый из кругов направляет свой бег согласно природным очертаниям и все они изрекают справедливое суждение и об ином, и о тождественном, так что носитель их окончательно становится разумным существом. Если же к этому добавится правильное воспитание, он будет цел, невредим и здоров, избегнув наихудшего из недугов;
c
а если он проявит нерадивость, то, идя по своей жизненной стезе, он будет хромать и сойдет обратно в Аид[1703]
несовершенным и неразумным. Но об этом позднее; сейчас мы обязаны самым обстоятельным образом рассмотреть более близкий предмет, то есть прежде всего возникновение тела во всех его частях, затем возникновение души – по каким причинам и по каким предначертаниям богов оно совершилось. Наше исследование должно идти таким образом, чтобы добиться наибольшей степени вероятности.
d
Итак, боги, подражая очертаниям Вселенной, со всех сторон округлой, включили оба божественных круговращения в сферовидное тело, то самое, которое мы ныне именуем головой и которое являет собою божественнейшую нашу часть, владычествующую над остальными частями. Ей в помощь они придали все устроенное ими же тело, позаботившись, чтобы оно было причастно всем движениям сколько их ни есть; так вот, чтобы голова не катилась по земле, всюду покрытой буграми и ямами, затрудняясь, как тут перескочить, а там выбраться, они даровали ей эту вездеходную колесницу.
e
Поэтому тело стало продолговатым и, по замыслу бога, сделавшего его подвижным, произрастило из себя четыре конечности, которые можно вытягивать и сгибать; цепляясь ими и опираясь на них, оно приобрело способность всюду продвигаться, высоко нося вместилище того, что в нас божественнее всего и святее.
45
Таким образом и по такой причине у всех людей возникли руки и ноги. Найдя, что передняя сторона у нас благороднее и важнее задней, они уделили ей главное место в нашем передвижении. Сообразно с этим нужно было, чтобы передняя сторона человеческого тела получила особое и необычное устройство; потому‑то боги именно на этой стороне головной сферы поместили лицо, сопрягши с ним все орудия промыслительной способности души, и определили, чтобы именно передняя по своей природе часть была причастна руководительству.[1704]
b
Из орудий они прежде всего устроили те, что несут с собой свет, то есть глаза, и сопрягли их [с лицом] вот по какой причине: они замыслили, чтобы явилось тело, которое несло бы огонь, не имеющий свойства жечь, но изливающий мягкое свечение, и искусно сделали его подобным обычному дневному свету. Дело в том, что внутри нас обитает особенно чистый огонь, родственный свету дня, его‑то они заставили ровным и плотным потоком изливаться через глаза; при этом они уплотнили как следует глазную ткань, но особенно в середине, чтобы она не пропускала ничего более грубого, а только этот чистый огонь.
c
И вот когда полуденный свет обволакивает это зрительное истечение и подобное устремляется к подобному, они сливаются, образуя единое и однородное тело в прямом направлении от глаз, и притом в месте, где огонь, устремляющийся изнутри, сталкивается с внешним потоком света. А поскольку это тело благодаря своей однородности претерпевает все, что с ним ни случится, однородно, то стоит ему коснуться чего‑либо
d
или, наоборот, испытать какое‑либо прикосновение, и движения эти передаются уже ему всему, доходя до души: отсюда возникает тот вид ощущения, который мы именуем зрением. Когда же ночь скроет родственный ему огонь дня, внутренний огонь как бы отсекается: наталкиваясь на то, что ему не подобно, он терпит изменения и гаснет, ибо не может слиться с близлежащим воздухом, не имеющим в себе огня. Зрение бездействует и тем самым наводит сон. Дело в том, что, когда мы при помощи устроенных богами природных укрытий для глаз, то есть век, запираем внутри себя силу огня, последняя рассеивает и уравновешивает внутренние движения, отчего приходит покой.
e
Если покой достаточно глубок, то сон почти не нарушается грезами, но если внутри остались еще сильные движения, то они сообразно своей природе и месту порождают соответствующие по свойствам и числу изображения, отражающиеся внутри нас и вспоминающиеся после пробуждения как совершившееся вне нас.
46
Теперь не составит труда уразуметь и то, как рождаются образы на глади зеркал и других блестящих предметов. Ведь если внутренний и внешний огонь вступают в общение и сливаются воедино возле зеркальной глади, многообразно перестраиваясь, то отражение по необходимости возникнет, как только огонь, исходящий от лица, сольется возле гладкого и блестящего предмета с огнем зрения.
b
При этом левое будет казаться правым, ибо каждая часть зрительного потока соприкоснется не с той частью [встречного света], как это бывает обычно, а с противоположной. Однако стоит только свету при сопряжении с другим светом повернуть в противоположную сторону, и правой будет казаться правым, а левое – левым. Именно так происходит, если гладкая поверхность вогнутого зеркала направляет свет, идущий справа, в левую сторону глаза, и наоборот.
c
Если же такое зеркало повернуть в направлении длины лица, почудится, будто человек опрокинут вниз головой, ибо оно будет опять‑таки отбрасывать свет снизу к верхней части зрительного луча, а сверху – к нижней.[1705]
Все это принадлежит к разряду вспомогательных причин, которыми бог пользуется как средством, дабы в меру возможности осуществить идею высшего совершенства.
d
Однако большинству людей кажется, будто это не вспомогательные, но основные причины всего, коль скоро они производят охлаждение и нагревание, сгущение и разрежение и так далее. Между тем все подобные причины ни в каком отношении не могут обладать ни рассудком, ни умом. Должно признать, что из всего сущего стяжать ум подобает одной лишь душе, но душа невидима, в то время как огонь, вода, земля и воздух – это видимые тела. Итак, почитатель ума и знания должен рассматривать прежде всего причины,
e
которые связаны с разумной природой, и лишь во вторую очередь те, которые связаны с вещами, движимыми извне и потому с необходимостью движущими другие вещи. Так надо поступать и нам, а потому будем разграничивать причины двух родов: одаренные умом, которые производят прекрасное и доброе, и лишенные разума, которые вызывают все случайное и беспорядочное.
О вспомогательных причинах, послуживших к тому, чтобы глаза обрели свою нынешнюю способность, мы уже сказали; теперь осталось ответить, какова же высшая польза от глаз, ради которой бог их нам даровал.
47
По моему разумению, зрение – это источник величайшей для нас пользы; вот и в нынешнем нашем рассуждении мы не смогли бы сказать ни единого слова о природе Вселенной, если бы никогда не видели ни звезд, ни Солнца, ни неба. Поскольку же день и ночь, круговороты месяцев и годов, равноденствия и солнцестояния зримы, глаза открыли нам число, дали понятие о времени и побудили исследовать природу Вселенной, а из этого возникло то, что называется философией
b
и лучше чего не было и не будет подарка смертному роду от богов. Я утверждаю, что именно в этом высшая польза очей. Стоит ли воспевать иные, маловажные блага? Ведь даже и чуждый философии человек, ослепнув, примется Стенаньями напрасными оплакивать[1706]
потерю глаз. Как бы то ни было, нам следует считать, что причина, по которой бог изобрел и даровал нам зрение, именно эта: чтобы мы, наблюдая круговращения ума в небе, извлекли пользу для круговращения нашего мышления, которое сродни тем, небесным, хотя в отличие от их невозмутимости оно подвержено возмущению;
c
а потому, уразумев и усвоив природную правильность рассуждений, мы должны, подражая безупречным круговращениям бога, упорядочить непостоянные круговращения внутри нас. О голосе и слухе дулжно сказать то же самое – они дарованы богами по тем же причинам и с такой же целью. Ради этой цели устроена речь, она сильно способствует ее осуществлению; так и в музыке: все, что с помощью звука приносит пользу слуху, даровано ради гармонии.
d
Между тем гармонию, пути которой сродны круговращениям души. Музы даровали каждому рассудительному своему почитателю не для бессмысленного удовольствия – хотя в нем только и видят нынче толк, – но как средство против разлада в круговращении души, долженствующее привести ее к строю и согласованности с самой собой.[1707]
Равным образом, дабы побороть неумеренность и недостаток изящества, которые проступают в поведении большинства из нас, мы из тех же рук и с той же целью получили ритм.
e
Все до сих пор нами сказанное, за незначительными исключениями, описывало вещи как они были созданы умом‑демиургом. Однако рассуждение наше должно перейти к тому, что возникло силой необходимости, ибо из сочетания ума и необходимости произошло смешанное рождение нашего космоса.
48
Правда, ум одержал верх над необходимостью, убедив ее обратить к наилучшему бульшую часть того, что рождалось. Таким‑то образом и по таким‑то причинам путем победы разумного убеждения над необходимостью[1708]
была вначале построена эта Вселенная; и, если мы намерены представить ее рождение так, как оно совершалось на деле, нам следует привнести также и вид беспорядочной причины вместе со способом действия, который по природе этой причине принадлежит.
b
Поэтому мы должны вернуться вспять и, приняв в спой черед для тех же самых вещей другое, подходящее им начало, еще раз, от начала, вести о них речь, как мы это уже делали раньше. Нам необходимо рассмотреть, какова была сама природа огня, воды, воздуха и земли до рождения неба и каково было их тогдашнее состояние. Ибо доныне еще никто не объяснил их рождения, но мы называем их началами и принимаем за стихии Вселенной,[1709]
как если бы мы знали, чту такое огонь и все остальное;
c
между тем каждому мало‑мальски разумному человеку должно быть ясно, что нет никакого основания сравнивать их даже с каким‑либо видом слогов. Вот что мы думаем по этому поводу: мы не будем сейчас высказываться ни о начало всего, ни о началах или как там это еще называется, и притом только по той причине, что при избранном нами способе исследования затруднительно было бы привести паши мысли об этом предмете в должную ясность. Поэтому ни вы не должны требовать от меня последнего слова на этот счет, ни я не могу убедить себя, что поступлю правильно, если взвалю на себя такую задачу.
d
Напротив, я намерен и здесь придерживаться того, что обещал в самом начале, а именно пределов вероятного, и попытаюсь, идя от начала, сказать обо всем в отдельности и обо всем вместе такое слово, которое было бы не менее, а более правдоподобным, нежели любое иное. Итак, приступая к речам, еще раз обратимся с молитвой к богу‑спасителю, дабы он указал нам счастливый путь от странного и необычного повествования к правдоподобному выводу, и затем начнем сызнова.
e
Начало же наших новых речей о Вселенной подвергнется на сей раз более полному, чем прежде, различению, ибо тогда мы обособляли два вида, а теперь придется выделить еще и третий. Прежде достаточно было говорить о двух вещах: во‑первых, об основополагающем первообразе, который обладает мыслимым и тождественным бытием, а во‑вторых, о подражании этому первообразу,[1710]
которое имеет рождение и зримо.
49
В то время мы не выделяли третьего вида, найдя, что достанет двух; однако теперь мне сдастся, что сам ход наших рассуждений принуждает нас попытаться пролить свет на тот вид, который темен и труден для понимания. Какую же силу и какую природу припишем мы ему? Прежде всего вот какую: это – восприемница и как бы кормилица[1711]
всякого рождения. Сколь ни верны, однако, эти слова, нужно определить предмет с большей ясностью, а это весьма затруднительно по разным причинам, и особенно потому, что ради этого необходимо наперед разрешить сомнение относительно огня и всего того, что стоит с ним в одном ряду.
b
Нелегко сказать о каждом из них, чту в самом деле лучше назвать водой, чем огнем, и но правильнее ли к чему‑то одному приложить какое‑нибудь из наименований, чем все наименования, вместе взятые, к каждому, ведь надо употреблять слова в их надежном и достоверном смысле. Что, собственно, желаем мы этим сказать, чем вызваны и оправданы наши недоумения? Но возьмем для начала хотя бы то, что мы теперь называем водой:
c
когда она сгущается, мы полагаем, что видим рождение камней и земли, когда же она растекается и разрежается, соответственно рождаются ветер и воздух, а последний, возгораясь, становится огнем; затем начинается обратный путь, так что огонь, сгустившись и угаснув, снова приходит к виду воздуха, а воздух опять собирается и сгущается в облака и тучи, из которых при дальнейшем уплотнении изливается вода, чтобы в свой черед дать начало земле и камням. Так рождаются они, переходя по кругу одно в другое.[1712]
d
Если, стало быть, ни одно вещество не предстает всякий раз одним и тем же, отважимся ли мы, не испытывая стыда перед самими собой, настойчиво утверждать, что какое‑либо из них именно это, а не иное? Конечно, нет, и куда безопаснее будет выражаться так: когда мы видим, как нечто – хотя бы огонь – постоянно являет себя то одним, то другим, надо говорить не об «этом», но о «таком» огне и также воду именовать не «этой», но «такой», да и вообще не надо приписывать всем подобным вещам устойчивости, выражаемой словами «то» и «это»,
e
посредством которых мы обозначаем нечто определенное. Не дожидаясь, покуда мы успеем приложить к ним слова «то», «это», «нечто» или любое другое речение, описывающее их как пребывающие на одном и том же месте сущности, они от нас ускользают. Значит, таких слов мы и употреблять не будем, а станем описывать вещи словом «такой», одинаково приложимым ко всем им вместе и к каждой порознь, – говоря, например, об огне как о вечно «таком» и соответственно обо всех вещах, которые имеют рождение. Только сущность, внутри которой они получают рождение и в которую возвращаются, погибая, мы назовем «то» и «это»;
50
но любые качества, будь то теплота, белизна или то, что им противоположно либо из них слагается, ни в коем случае не заслуживают такого наименования.[1713]
Надо, однако, постараться сказать о том же самом еще яснее. Положим, некто, отлив из золота всевозможные фигуры, без конца бросает их в переливку, превращая каждую во все остальные; если указать на одну из фигур и спросить, что же это такое,
b
то будет куда осмотрительнее и ближе к истине, если он ответит «золото» и не станет говорить о треугольнике и прочих рождающихся фигурах как о чем‑то сущем, ибо в то мгновение,[1714]
когда их именуют, они уже готовы перейти во что‑то иное, и надо быть довольным, если хотя бы с некоторой долей уверенности можно допустить выражение «такое». Вот так обстоит дело и с той природой, которая приемлет все тела. Ее следует всегда именовать тождественной, ибо она никогда не выходит за пределы своих возможностей; всегда воспринимая все, она никогда и никоим образом не усваивает никакой формы (μορφην),
c
которая была бы подобна формам входящих в нее вещей. Природа эта по сути своей такова, что принимает любые оттиски, находясь в движении и меняя формы под действием того, что в нее входит, и потому кажется, будто она в разное время бывает разной; а входящие в нее и выходящие из нее вещи – это подражания вечносущему, отпечатки по его образцам, снятые удивительным и неизъяснимым способом, к которому мы еще вернемся.
d
Теперь же нам следует мысленно обособить три рода: то, что рождается, то, внутри чего совершается рождение, и то, по образцу чего возрастает рождающееся. Воспринимающее начало можно уподобить матери, образец – отцу, а промежуточную природу – ребенку. Помыслим при этом, что, если отпечаток должен явить взору пестрейшее разнообразие, тогда то, что его приемлет, окажется лучше всего подготовленным к своему делу в случае, если оно будет чуждо всех форм, которые ему предстоит воспринять,
e
ведь если бы оно было подобно чему‑либо привходящему, то всякий раз, когда на него накладывалась бы противоположная или совершенно иная природа, оно давало бы искаженный отпечаток, через который проглядывали бы собственные черты этой природы. Начало, которому предстояло вобрать в себя все роды вещей, само должно было быть лишено каких‑либо форм (ειδων), как при выделывании благовонных притираний прежде всего заботятся о том, чтобы жидкость, в которой должны растворяться благовония, по возможности не имела своего запаха. Или это можно сравнить с тем, как при вычерчивании фигур на каких‑либо мягких поверхностях не допускают, чтобы на них уже заранее виднелась та или иная фигура, но для начала делают все возможно более гладким.
51
Подобно этому и начало, назначение которого состоит в том, чтобы во всем своем объеме хорошо воспринимать отпечатки всех вечно сущих вещей, само должно быть по природе своей чуждо каким бы то ни было формам. А потому мы не скажем, будто мать и восприемница[1715]
всего, что рождено видимым и вообще чувственным, – это земля, воздух, огонь, вода или какой‑либо другой [вид], который родился из этих четырех [стихий] либо из которого сами они родились. Напротив, обозначив его как незримый, бесформенный (αμορφον) и всевосприемлющий вид (ειδος), чрезвычайно странным путем участвующий в мыслимом и до крайности неуловимый, мы не очень ошибемся.
b
Если только предыдущие наши рассуждения помогают нам напасть на след этой природы, справедливее всего было бы, пожалуй, сказать о ней так: огнем всякий раз является ее воспламеняющаяся часть, водой – ее увлажняющаяся часть, землей же и воздухом – те ее части, которые подражают этим [стихиям].
Однако нам следует определить наш предмет еще более точно и для этого рассмотреть, есть ли такая вещь, как огонь сам по себе, и обстоит ли дело таким же образом с прочими вещами, о каждой из которых мы привыкли говорить как о существующей самой по себе?
c
Или же только то, что мы видим либо вообще воспринимаем телесными ощущениями, обладает подобной истинностью, а помимо этого вообще ничего и нигде нет? Может быть, мы понапрасну говорим об умопостигаемой идее каждой вещи, и идея эта не более чем слово? Нехорошо было бы оставить такой вопрос неисследованным и нерешенным, ограничившись простым утверждением, что дело‑де обстоит так и не иначе; с другой стороны, не стоит отягощать нашу и так пространную речь еще и пространным отступлением.
d
Поэтому, если бы удалось в немногих словах определить многое, это было бы наилучшим выходом. Итак, вот каков мой приговор. Если ум и истинное мнение – два разных рода, в таком случае идеи, недоступные нашим ощущениям и постигаемые одним лишь умом, безусловно, существуют сами по себе; если же, как представляется некоторым, истинное мнение ничем не отличается от ума, тогда следует приписать наибольшую достоверность тому, что воспринимается телесными ощущениями. Но следует признать, что это – два различных [рода]: они и рождены порознь, и осуществляют себя неодинаково.
e
Так, ум рождается в нас от наставления, а истинное мнение – от убеждения; первый всегда способен отдать себе во всем правильный отчет, второе – безотчетно; первый не может быть сдвинут с места убеждением, второе подвластно переубождению; наконец, истинное мнение, как приходится признать, дано любому человеку, ум же есть достояние богов и лишь малой горстки людей.[1716]
52
Если все это так, приходится признать, во‑первых, что есть тождественная идея, нерожденная и негибнущая, ничего не воспринимающая в себя откуда бы то ни было и сама ни во что не входящая, незримая и никак иначе не ощущаемая, но отданная на попечение мысли. Во‑вторых, есть нечто подобное этой идее и носящее то же имя – ощутимое, рожденное, вечно движущееся, возникающее в некоем месте и вновь из него исчезающее, и оно воспринимается посредством мнения, соединенного с ощущением. В‑третьих, есть еще один род, а именно пространство:
b
оно вечно, не приемлет разрушения, дарует обитель всему роду, но само воспринимается вне ощущения, посредством некоего незаконного умозаключения, и поверить в него почти невозможно. Мы видим его как бы в грезах и утверждаем, будто всякому бытию непременно должно быть где‑то, в каком‑то месте и занимать какое‑то пространство, а то, что не находится ни на земле, ни на небесах, будто бы и не существует. Эти и родственные им понятия мы в сонном забытьи переносим и на непричастную сну природу истинного бытия,
c
а пробудившись, оказываемся не в силах сделать разграничение и молвить истину, а именно что, поскольку образ не в себе самом носит причину собственного рождения, но неизменно являет собою призрак чего‑то иного, ему и должно родиться внутри чего‑то иного, как бы прилепившись к сущности, или вообще не быть ничем. Между тем на подмогу истинному бытию выступает тот безупречно истинный довод, согласно которому, если некая вещь представляется то чем‑то одним, то другим, причем ни то, ни другое взаимно друг друга не порождает, то вещь эта будет одновременно единой и раздельной.
d
Итак, согласно моему приговору, краткий вывод таков: есть бытие, есть пространство и есть возникновение, и эти три [рода] возникли порознь еще до рождения неба. А о Кормилице рождения скажем вот что: поскольку она и растекается влагой, и пламенеет огнем, и принимает формы земли и воздуха, и претерпевает всю чреду подобных состояний,
e
являя многообразный лик, и поскольку наполнявшие ее силы не были ни взаимно подобны, ни взаимно уравновешены и сама она ни в одной своей части не имела равновесия, она повсюду была неравномерно сотрясаема и колеблема этими силами и в свою очередь сама колебала их своим движением. То, что приводилось в движение, все время дробилось, и образовавшиеся части неслись в различных направлениях точно так, как это бывает при провеивании зерна и отсеивании мякины:
53
плотное и тяжелое ложится в одном месте, рыхлое и легкое отлетает в сторону и находит для себя иное пристанище. Вот наподобие этого и четыре упомянутых рода [стихии] были тогда колеблемы Восприемницей, которая в движении своем являла собой как бы сито: то, что наименее сходно между собой, она разбрасывала дальше всего друг от друга, а то, что более всего сходно, просеивала ближе всего друг к другу; таким образом, четыре рода обособились в пространстве еще до того, как пришло время рождаться устрояемой из них Вселенной.
b
Ранее в них не было ни разума, ни меры: хотя огонь и вода, земля и воздух являли кое‑какие приметы присущей им своеобычности, однако они пребывали всецело в таком состоянии, в котором свойственно находиться всему, чего еще не коснулся бог. Поэтому последний, приступая к построению космоса, начал с того, что упорядочил эти четыре рода с помощью образов и чисел.[1717]
То, что они были приведены богом к наивысшей возможной для них красоте и к наивысшему совершенству из совсем иного состояния, пусть останется для нас преимущественным и незыблемым, утверждением; но теперь мне следует попытаться пояснить вам устройство и рождение каждого из четырех родов.
c
Рассказ мой будет непривычен, но, раз вы сроднились с теми путями научения, без которых не обойтись моим речам, вы последуете за мной.
Во‑первых, каждому, разумеется, ясно, что огонь и земля, вода и воздух суть тела, а всякое тело имеет глубину. Между тем любая глубина по необходимости должна быть ограничена некоторыми поверхностями; притом всякая прямолинейная поверхность состоит из треугольников. Однако все вообще треугольники восходят к двум, из которых каждый имеет по одному прямому углу и по два острых,
d
но при этом у одного по обе стороны от прямого угла лежат равные углы величиной в одну и ту же долю прямого угла, ограниченные равными сторонами, а у другого – неравные углы, ограниченные неравными сторонами. Здесь‑то мы и полагаем начало огня и всех прочих тел, следуя в этом вероятности, соединенной с необходимостью; те же начала, что лежат еще ближе к истоку, ведает бог, а из людей разве что тот, кто друг богу.
Теперь дулжно сказать, каковы же те четыре рожденных тела, прекраснейшие из всех, которые не подобны друг другу, однако способны, разрушаясь, друг в друга перерождаться. Если нам удастся попасть в точку, у нас в руках будет истина о рождении земли и огня, а равно и тех [стихий], что стоят между ними как средние члены пропорции. Тогда мы никому не уступили бы в том, что нет видимых тел более прекрасных, чем эти, притом каждое из них прекрасно в своем роде. Поэтому надо приложить старания к тому, чтобы привести в соответствие четыре отличающихся красотой рода тел и доказать, что мы достаточно уразумели их природу. Из двух названных раньше треугольников равнобедренный получил в удел одну природу,
54
тогда как неравнобедренный – бесчисленное их множество. Из этого множества нам дулжно избрать наилучшее, если мы хотим приступить к делу надлежащим образом. Что ж, если кто‑нибудь выберет и назовет нечто еще более прекрасное, предназначенное для того, чтобы создавать эти [четыре тела], мы подчинимся ему не как неприятелю, но как другу; нам же представляется, что между множеством треугольников есть один, прекраснейший, ради которого мы оставим все прочие, а именно тот, который в соединении с подобным ему образует третий треугольник – равносторонний.
b
Обосновывать это было бы слишком долго (впрочем, если бы кто изобличил нас и доказал обратное, мы охотно признали бы его победителем). Итак, нам приходится отдать предпочтение двум треугольникам как таким, из которых составлено тело огня и [трех] прочих тел: один из них равнобедренный, а другой таков, что в нем квадрат большой стороны в три раза больше квадрата меньшой.
Но мы обязаны более четко определить одну вещь, о которой прежде говорилось неясно. В самом деле, нам казалось, будто все четыре рода могут последовательно перерождаться друг в друга, но такая видимость была неправильной.
c
Ведь четыре рода действительно рождаются из выбранных нами треугольников: три рода слагаются из одного и того же неравнобедренного треугольника и только четвертый род – из равнобедренного, а значит, не все роды могут разрешаться друг в друга и рождаться один из другого путем соединения большого количества малых [величин] в малое количество больших, и обратно. Если это и возможно, то лишь для вышеназванных первых трех [родов], ведь коль скоро все они произошли из единой [основы], то при разрушении более крупных [тел] из их [частей] составится множество малых, принимающих свойственные им очертания;
d
и, напротив, если разъять много малых [тел] на отдельные треугольники, они образуют единое количество однородной массы, из которой возникнет единое большое [тело] иного вида. Вот как обстоит дело с их переходом друг в друга. Следующей нашей задачей будет изложить, какой вид имеет каждое тело и из сочетания каких чисел оно рождается.
Начнем с первого вида, состоящего из самых малых частей: его первоначало – треугольник, у которого гипотенуза вдвое длиннее меньшего катета. Если такие треугольники сложить, совмещая их гипотенузы,
e
и повторить такое действие трижды, притом так, чтобы меньшие катеты и гипотенузы сошлись в одной точке как в своем центре, то из шестикратного числа треугольников будет рожден один, и он будет равносторонним. Когда же четыре равносторонних треугольника окажутся соединенными в три двугранных угла, они образуют один объемный угол,
55
а именно такой, который занимает место вслед за самым тупым из плоских углов. Завершив построение четырех таких углов, мы получаем первый объемный вид, имеющий свойство делить всю описанную около него сферу на равные и подобные части.
Второй вид строится из таких же исходных треугольников, соединившихся в восемь равносторонних треугольников и образующих каждый раз из четырех плоских углов по одному объемному; когда таких объемных углов шесть, второе тело получает завершенность.
Третий вид образуется из сложения ста двадцати исходных треугольников и двенадцати объемных углов, каждый из которых охвачен пятью
b
равносторонними треугольными плоскостями, так что все тело имеет двадцать граней, являющих собой равносторонние треугольники.
На этом порождении и кончилась задача первого из первоначал. Но равнобедренный треугольник породил природу четвертого [вида], и притом так, что четыре треугольника, прямые углы которых встречались в одном центре, образовывали квадрат; а из сложения шести квадратов возникало восемь объемных углов,
c
каждый из которых гармонично охватывается тремя плоскими прямыми углами. Составившееся таким образом тело имело очертания куба, наделенного шестью квадратными плоскими гранями. В запасе оставалось еще пятое многогранное построение, его бог определил для Вселенной и прибегнул к нему в качестве образца.
Если бы теперь кто‑нибудь, тщательно обдумывая все сказанное, задался вопросом, следует ли допустить бесчисленные космосы или ограниченное их число, ему пришлось бы заключить, что вывод относительно неограниченности этого числа позволительно делать разве что тому,
d
кто сам очень ограничен, и притом в вопросах, которые следовало бы знать. Если, однако, поставить иной вопрос – существует ли один космос или их на самом деле пять, то здесь, естественно, причин для затруднения было бы куда больше. Что касается нас, то мы, согласно правдоподобным словам и указаниям бога, утверждаем, что существует один космос; но другой, взглянув на вещи иначе, составит себе, пожалуй, иное мнение. Как бы то ни было, оставим этот вопрос и начнем разделять роды, только что рожденные в нашем слове, на огонь, землю, воду и воздух.
Земле мы, конечно, припишем вид куба, ведь из всех четырех родов наиболее неподвижна и пригодна к образованию тел именно земля,
e
а потому ей необходимо иметь самые устойчивые основания. Между тем не только из наших исходных треугольников равнобедренный, если взять его как основание, по природе устойчивее неравностороннего, но и образующийся из сложения двух равнобедренных треугольников квадрат с необходимостью более устойчив, нежели равносторонний треугольник, причем соотношение это сохраняет силу как для частей, так и для целого.
56
Значит, мы не нарушим правдоподобия, если назначим этот удел земле, а равно и в том случае, если наименее подвижный из остальных видов отведем воде, наиболее подвижный – огню, а средний – воздуху; далее, наименьшее тело – огню, наибольшее – воде, а среднее – воздуху, и, наконец, самое остроугольное тело – огню, следующее за ним – воздуху, а третье – воде. Но из всех вышеназванных тел наиболее подвижно по природе своей и по необходимости то, у которого наименьшее число оснований,
b
ибо оно со всех сторон имеет наиболее режущие грани и колющие углы, а к тому же оно и самое легкое, коль скоро в его состав входит наименьшее число исходных частей. То тело, которое обладает такими же свойствами, но второго порядка, и место займет второе, а то, которое обладает третьим порядком этих свойств, – третье. Пусть же объемный образ пирамиды и будет, в согласии со справедливым рассуждением и с правдоподобием, первоначалом и семенем огня; второе по рождению тело мы назовем воздухом, третье же – водой. Но при этом мы должны представить себе, что все эти [тела] до такой степени малы, что единичное [тело] каждого из перечисленных родов
c
по причине своей малости для нас невидимо, и лишь складывающиеся из их множеств массы бросаются нам в глаза.[1718]
Что же касается их количественных соотношений, их движений и вообще их сил, то бог привел все это в правильную соразмерность, упорядочивая все тщательно и пропорционально, насколько это допускала позволившая себя переубедить природа необходимости.
Исходя из всего того, что было сказано выше об этих четырех родах, дело наиболее правдоподобно можно описать следующим образом.
d
Когда земля встречается с огнем и бывает рассеяна его остротой, она несется, распадаясь либо в самом огне, либо в толще воздуха или воды, если ей придется там оказаться, покуда ее частицы, повстречавшись друг с другом, не соединятся сызнова, чтобы она опять стала землей: ведь она не может принять иную форму. Напротив, вода, дробимая огнем или воздухом, позволяет образоваться одному телу огня и двум воздушным телам, равно как и осколки одной рассеченной части воздуха могут породить из себя два тела огня.
e
Но и наоборот, когда малая толика огня, оказавшись в больших толщах воздуха, воды или земли, подхватывается их движением, сокрушается в борьбе и дробится, два тела огня сплачиваются в единый вид воздуха; или когда воздух претерпевает насилие и разрушение, из двух его тел с половиной оказывается составлен один цельный вид воды. И вот что еще нам нужно принять в расчет: когда какой‑либо иной род, охваченный огнем, рассекается лезвиями его граней и остриями его углов,
57
этому роду достаточно принять природу огня, чтобы его дробление прекратилось, ибо никакой подобный и тождественный самому себе род не может ни понудить к изменениям такой же род, ни принять от него какие‑либо изменения. Но до тех пор пока нечто, оказавшись слабее чего‑то иного, ведет с этим иным неравную борьбу, оно продолжает разрушаться. Поэтому, если немногочисленные и меньшие тела, окруженные многочисленными и бульшими, дробятся и уничтожаются ими и в то же время готовы
b
соединиться в вид возобладавшего [тела], их уничтожение прекратится, с тем чтобы либо из огня родился воздух, либо из воздуха – вода; но, если они сойдутся вместе и схватятся с каким‑либо из остальных родов, они не перестанут разрушаться, пока не произойдет одно из двух: либо они, вконец теснимые и разрушающиеся, спасутся бегством к тому, что им сродно, либо, уступив в борьбе, начнут сплачиваться воедино, уподобляясь возобладавшему роду, и останутся вместе с ним.[1719]
c
Претерпевая это, все роды, без сомнения, меняются местами, ибо, если их массы в силу движения Восприемницы распределяются в пространстве отдельно друг от друга, тогда то, что утратило собственное подобие и восприняло чужое, при каждом сотрясении отбрасывается в область того, чему эти роды уподобились.
Таковы причины, определившие собой рождение тел беспримесных и первичных. Но если внутри этих [основных] видов выявились еще дальнейшие родовые различия, виной этому способ построения обоих исходных [треугольников]:
d
дело в том, что последние первоначально являлись на свет не с единообразными для каждого рода размерами, но то меньшими, то более крупными, и разных по величине треугольников было ровно столько, сколько родов различается ныне внутри [основных] видов. Сочетание их между собой и с другими треугольниками дало беспредельное многообразие, созерцателем которого надлежит стать любому, кто вознамерится изречь о природе правдоподобное слово.
Что касается движения и покоя, точнее, того, как и при каких условиях они возникают, то, не придя здесь к согласию, мы встретим в дальнейшем нашем рассуждении немало помех.
e
Кое‑какие замечания тут уже были сделаны, но сейчас нам необходимо добавить к сказанному вот что: внутри того, что однородно, движения быть не может. Ведь трудно, вернее сказать, невозможно представить себе движимое без движущего или, напротив, движущее без движимого, а движение немыслимо без того и другого; между тем никак нельзя движущему и движимому быть однородным. Итак, раз и навсегда отнесем покои к однородному, а движение – к тому, что совсем не однородно.
58
Причина же отклонений – это неравенство; а как родилось это неравенство, мы уже описали.[1720]
Остается необъясненным, почему тела, распределившись по родам, не прекращают взаимопересекающегося движения и перемещения? Скажем же и об этом. Дело в том, что круговращение Вселенной, включающее в себя эти роды, по причине своей закругленности и природного стремления замкнуться на себе все сжимает и не позволяет ни одной части пространства остаться пустой.
b
Огонь имеет наибольшую способность во все внедряться, воздух непосредственно за ним следует, ибо занимает второе место по тонкости своих частиц, и так далее; ведь то, что образовалось из самых крупных частиц, имеет в своем составе больше всего оставшегося между частями пустого места, а то, что возникло из самых мелких частиц, – меньше всего. Значит, когда происходит сжимание, меньшие тела втискиваются в промежутки между бульшими: и вот когда они оказываются рядом, так что меньшие силятся расторгнуть связь между бульшими, а бульшие сводят воедино меньшие, происходит перемещение их всех либо вверх, либо вниз к своим местам.
c
Ведь каждое тело, меняя свою величину, меняет и свое местоположение. Таким‑то образом и под действием таких‑то причин обеспечивается беспрестанное воспроизведение неоднородности, а уж она в свою очередь поддерживает и постоянно будет поддерживать вечное движение тел.
Кроме того, дулжно принять во внимание, что существует много родов огня, из которых можно назвать пламя, затем истечение пламени, которое не жжет, но доставляет глазам свет, и, наконец, то, чту после угасания пламени остается в тлеющих угольях.
d
Так обстоит дело и с воздухом, прозрачнейшая разновидность которого зовется эфиром, а более мутная – туманом и мглой, притом существуют у пего и безымянные виды, рожденные из неравенства [исходных] треугольников. Что касается воды, то она делится прежде всего на два рода: жидкий и плавкий. Первый жидок потому, что содержит в себе исходные тела воды, которые малы и притом имеют разную величину; благодаря своей неоднородности и форме своих очертаний он легко приходит в движение как сам по себе, так и под воздействием иного. Напротив, второй род состоит из крупных и однородных тел;
e
он устойчивее первого и тяжел, ибо однородные частицы крепко сплачиваются между собою. Однако от вторжения огня и его разрушительного действия он теряет свою однородность, вследствие чего обретает бульшую причастность к движению; а раз став подвижной, эта вода под давлением окружающего воздуха распространяется по земле. Каждое из этих состоянии получило свое имя: когда твердая масса разрушается, о ней говорят, что она плавится, а когда она затем расходится по земле – что она течет. Но если огонь снова извергнут наружу, он уходит, разумеется, не в пустоту, а потому окружающий воздух оказывается сдавлен и сам давит на влажную и пока еще подвижную массу;
59
последняя вынуждена заполнить промежутки, оставленные огнем, и плотно сосредоточиться в себе. Сдавленная таким образом, она сызнова становится однородной – ведь огонь, этот виновник неоднородности, ушел – и возвращается к самотождественному состоянию. Уход огня мы именуем охлаждением, а чтобы обозначить наступившее после него уплотнение, мы говорим, что масса отвердевает.
Среди всего того, чему только что было дано название плавких жидкостей, есть и то, что родилось из самых тонких и самых однородных частиц, а потому плотнее всего;
b
эта единственная в своем роде разновидность, причастная блеску и желтизне, – самое высокочтимое из сокровищ, золото, которое застыло, просочась сквозь камень. У золота есть и производное: по причине своей плотности оно твердо и отливает чернотой, а наречено оно адамантом.[1721]
По свойствам своих частиц к золоту ближе всего [род], который, однако, имеет не одну разновидность, и притом он в некоторых местах плотнее золота; вдобавок он еще и тверже, ибо в нем есть небольшая примесь с тонкой земли, но легче по причине бульших промежутков в его недрах:
c
это – один из составных родов блестящих и твердых вод, а именно медь. Когда содержащаяся в меди примесь земли под действием дряхления снова отделяется и выступает на свет, она именуется ржавчиной.
Было бы не слишком сложным делом перебрать таким образом все прочие примеры этого рода, продолжая следовать идее правдоподобного сказания. Тот, кто отдыха ради отложит на время беседу о непреходящих вещах ради этого безобидного удовольствия – рассматривать по законам правдоподобия происхождение [вещей],
d
обретет в этом скромную и разумную забаву на всю жизнь. Поскольку же мы сейчас предаемся именно такой забаве, остановимся по порядку еще на нескольких вероятностях.
Пока вода смешана с огнем, она тонка и текуча – а текучей она именуется как за свою подвижность, так и за то, что она как бы катится по земле; притом она еще и размягчена, ибо ее грани менее устойчивы, чем у частиц земли, а значит, податливы. Но когда она покинута огнем и отделена от воздуха, она становится более однородной и уплотняется под давлением вышедших из нее частиц огня.
e
Если она претерпевает сильное уплотнение над землей, она становится градом, а если на земле – льдом. Если же давление слабее и она уплотняется лишь наполовину, то над землей она образует снег, в то время как роса на земле застывает в иней.
Но самые многочисленные виды вод, смешиваясь друг с другом, сочатся в произращенных землей растениях, и оттого их род получил имя соков.
60
Поскольку же от смешений вышло большое многообразие, то большинство родов осталось без особого названия; однако четыре вида, таящие в себе огонь, получили, как особенно примечательные, свои имена. Первый из них имеет свойство разогревать душу и вместе с ней тело: он наречен вином. Второй – гладкий и вызывает рассеивание зрительного огня, а потому явлен глазу прозрачным, блестящим и лоснящимся, это вид подобных елею масел; к нему относятся смола, касторовое масло, а также сам елей и то, что имеет его свойства.
b
Третий обладает способностью расширять суженные поры рта до их естественного состояния, вызывая этим ощущение сладости: он получил родовое наименование меда. Наконец, четвертый имеет силу разлагать плоть жжением и пениться; он отличается от прочих соков и назван щелочью.
Что касается видов земли, тот из них, который пропитан водой, претворяется в каменистое тело, и притом вот каким образом. Примешавшаяся вода как раз по причине смешения дробится и принимает вид воздуха, а став воздухом, отходит в отведенное ей место.
c
Но вокруг нет пустого пространства, значит, вновь возникший воздух оказывает давление на окружающий. Последний под действием давления тяжело налегает отовсюду на толщу земли, сильно сжимает ее и вдавливает в те помещения, которые только что были покинуты вновь образовавшимся воздухом. Когда земля сдавлена воздухом до такой степени, что уже не может быть разрушена водой, она уплотняется в камень, красивая разновидность которого состоит из равных и однородных частиц и потому прозрачна, а некрасивая отличается противоположными свойствами.
Далее, та разновидность земли, которая стремительным действием огня избавлена от влаги и потому еще суше, чем вышеназванная, наречена горшечной глиной;
d
однако подчас немного влаги все же остается, и тогда рождается земля, расплавленная огнем, которая по охлаждении превращается в особый камень с черной окраской.[1722]
Есть еще две разновидности, из которых точно таким же образом удалена большая часть примешанной воды, однако частицы земли в их составе тоньше; обе они отличаются соленым вкусом и затвердели лишь наполовину, так что вода снова может их разрушить. Первая разновидность пригодна, чтобы отчищать масляные и земляные пятна; это щелок. Вторая же разновидность весьма хорошо включается во вкусовые ощущения рта и представляет собой соль; это любезное богам тело, как именуют ее по обычаю.[1723]
e
То, что состоит из соединения обеих последних разновидностей, может быть разрушено огнем, но не водой, а основывается эта связь вот на чем: прежде всего земляные толщи не расторжимы ни для огня, ни для воздуха, ибо частицы последних меньше, нежели пустоты в этой толще, так что они могут свободно проходить насквозь, не прибегая к насилию, и по этой причине не разлагают и не разрушают землю. Но частицы воды крупнее, а значит, они прокладывают себе дорогу насилием, рушат землю и разлагают ее.
61
Поэтому земля, если она не подвергнута насильственному сжатию, может быть разрушена только водой, а если подвергнута – только огнем, ибо тогда в нее не остается доступа ни для чего, кроме огня. Воду же, если она с особой силой уплотнена, может разрушить один лишь огонь, но если уплотнена слабее, то оба рода – как огонь, так и воздух; при этом воздух вторгается в пустуты, а огонь также и в треугольники. Наконец, воздух, если он испытал насильственное сжатие, не может быть разрушен ничем, разве что только может быть сведен к своему первоначалу; но, если он не претерпел сжатия, его разлагает один лишь огонь. С телами же, возникшими из смешения земли и воды, происходит следующее:
b
до тех пор пока вода заполняет все пустоты в уплотненной с большой силой земле, частицы воды, подступающие извне, не находят доступа внутрь, обтекают вокруг всей этой массы и не могут ее разложить, в то время как частицы огня, напротив, внедряются между частицами воды и, воздействуя на воду точно так же, как вода воздействует на землю, одни оказываются в состоянии принудить смесь земли с водой расплавиться и растечься.
Заметим, что из этих смесей некоторые содержат меньше воды, нежели земли; таковы все виды, родственные стеклу,
c
а также все так называемые плавящиеся камни. Другие, напротив, содержат больше воды; таковы все тела из разряда восков и благовонных курений.
Пожалуй, мы с достаточной полнотой показали разнообразие видов, вытекающее из сочетаний и взаимопереходов фигур. Теперь попытаемся выяснить причины воздействий, производимых всем этим на нас. Прежде всего надо приписать вещам, о которых идет речь, одно свойство – постоянно быть ощущаемыми, а ведь мы еще не дошли до рождения плоти и всего того, что к ней относится, а также до рождения смертной части души. Между тем и об этих предметах немыслимо с должной основательностью рассуждать, отвлекаясь от воздействия ощущений, и говорить об ощущениях, отвлекаясь от вопросов о плоти и смертной части души,
d
но вести речь о том и другом сразу едва ли посильно. Значит, нам придется принять одно из двух в качестве предпосылки, а потом еще раз вернуться к этому. Так вот, чтобы нам сразу перейти от родов [тел] к оказываемым этими родами воздействиям, пусть нашей предпосылкой и будет все относящееся к телу и душе.
Для начала посмотрим, почему это об огне говорят, что он горяч? На этот вопрос мы должны ответить, приняв во внимание режущее и разлагающее воздействие его на наши тела.
e
Едва ли не все согласятся, что ощущение от огня – пронзительное; при этом нам следует вспомнить о тонкости его граней и остроте его углов, затем о малости его частиц и о быстроте их бега, ибо все эти свойства таковы, что сообщают огню напор и проворство, и потому ничто не может противостоять его режущей силе.
62
Достаточно вспомнить и принять его в расчет его очертания и то, как они были рождены, чтобы уразуметь: эта природа, как никакая другая, способна проникать наши тела, тончайшим образом расщеплять их и доставлять тому, что мы соответственно зовем теплом, и его свойства и его имя.[1724]
Противоположное [воздействие] довольно ясно, но все же и его мы не оставим без объяснения. Когда окружающая тело и состоящая из более крупных частиц влага проникает внутрь, она вытесняет находящиеся там меньшие частицы, однако оказывается не в состоянии утвердиться на их местах и только сжимает все, что ни есть в нас влажного, доводя его до такой плотности, что оно из неоднородного и подвижного становится однородным, неподвижным и закоченевшим.
b
Поскольку же это происходит против природы [нашего тела], то оно в согласии со своей природой вступает в борьбу и силится отвоевать себе прежнее состояние. Эту борьбу и эти сотрясения нарекли дрожью и ознобом, в то время как все состояние в целом, а равно и то, чем оно вызывается, именуют холодом.
Твердым зовется то, что заставляет податься пашу плоть, мягким – то, что под воздействием последней подается само; и вообще названия эти употребляются соотносительно. Но податливо все то, что имеет малые основания;
c
напротив, вид [тела], покоящегося на квадратных основаниях и потому особо устойчивого, оказывается самым неподатливым, причем его высокая способность к отпору объясняется и тем, что как раз он плотнее всех прочих.
Что касается тяжелого и легкого, то эти два состояния могут быть наилучшим образом выяснены лишь в связи с природой того, что известно под именами «верх» и «низ». Дело в том, что представление, согласно которому впрямь от природы существуют две противоположные области, разделяющие надвое Вселенную, – низ, куда устремляется все наделенное телесной массой, и верх, куда любая вещь может направиться лишь по принуждению, – оказывается неправильным.
d
Ведь коль скоро небо в своей целостности имеет вид сферы, значит, все крайние точки, равно удаленные от центра, по своей природе одинаково крайние, между тем как центр, на одну и ту же меру отстоящий от них, должен считаться пребывающим прямо напротив каждой из них. Но если космос действительно имеет такую природу, какую же из этих точек можно назвать верхом или низом, не навлекая на себя справедливой укоризны за неуместное употребление слов? Ибо центр космоса, строго говоря, по природе лежит не внизу и не вверху, но именно в центре, в то время как поверхность сферы и центром быть не может, и не имеет в себе части, как‑либо отличной от других, скажем более близкой к центру, нежели противоположная ему часть. И коль скоро космос во всех направлениях по природе своей совершенно единообразен, какую пару противоположных наименований можно к нему приложить, не погрешая против правильного словоупотребления? Допустим, что в центре Вселенной покоится некое равномерно взвешенное твердое тело;
63
оно не могло бы продвинуться ни к одной из крайних точек, поскольку находится со всеми в совершенно одинаковом отношении, а если бы кто‑нибудь принялся обходить это тело по кругу, вновь и вновь оказываясь собственным антиподом, ему пришлось бы обозначать одно и то же направление попеременно то как верх, то как низ. Да, поскольку целое, как только что было сказано, имеет вид сферы, значит, обозначать одно место как верх, а другое как низ не имеет смысла.
Но откуда же пошли эти обозначения и как мы настолько свыклись с ними, что перенесли их на небо в целом, разделяя последнее надвое?
b
Прийти к согласию относительно этого мы сможем, если предварительно сделаем одно допущение. Вообразим, что некто находится в том месте Вселенной, которое преимущественно отведено природе огня, сосредоточенного там в огромном количестве и отовсюду туда устремляющегося; пусть для этого человека оказалось возможным встать там и отделять части огня, кладя их на чаши весов. Допустим далее, что он поднимает весы, насильственно водворяя отторгнутый огонь в несродный ему воздух; очевидно, что в таком случае меньшие части окажутся податливее к насилию, нежели большие.
c
Когда одна и та же сила поднимает в высоту две вещи, меньшая вещь по необходимости больше повинуется принуждению, а большая – меньше, и отсюда большое именуется тяжелым и стремящимся вниз, а малое – легким и стремящимся вверх. На том же самом мы можем поймать и самих себя, когда мы действуем в отведенной нам части Вселенной. В самом деле, если мы стоим на земле и отделяем части землеподобных тел, а то и самой земли, чтобы насильственно и наперекор природе ввести их в чуждую среду воздуха, то обе [стихии] проявят тяготение к тому, что им сродно,
d
однако меньшие части все же легче, нежели большие, уступят насилию и дадут водворить себя в чужеродную среду; именно поэтому мы называем их самих легкими и место, в которое мы принуждаем их направляться, – верхним, а то, что противоположно тому и другому, – соответственно тяжелым и нижним. Но все это необходимо должно разнообразиться, коль скоро главные скопления тел каждого рода занимают в пространстве различные места, лежащие одно против другого: то, что легко или тяжело, высоко или низко в одном месте,
e
может быть соотнесено с легким и тяжелым, высоким и низким в другом месте, противоположном первому, и оказаться ему противоположным, несоответствующим и полностью от него отличным как с точки зрения возникновения, так и с точки зрения существования. Но одно остается верным для всех случаев: стремление каждой вещи к своему роду есть то, что делает ее тяжелой, а направление, по которому она устремляется, есть низ, между тем как противоположное тому и другому и наименования носит противоположные. Таковы причины этих состояний.
Что касается причины состояний гладкости и шероховатости, то ее каждый сможет усмотреть сам и разъяснить другому: твердость в соединении с неоднородностью дает шероховатое, однородность в соединении с плотностью – гладкое.
64
После того как мы рассмотрели воздействия, распространяющиеся на все тело, нам осталось обсудить самое важное – причину приятных и болезненных впечатлений, да и вообще все то, что через посредство частой тела способствует ощущениям, вызывая страдание или удовольствие. Но причины любых воздействий – ощущаемых или неощущаемых – мы поймем, если для начала припомним произведенное нами раньше различия между тем, что по природе своей очень подвижно или, напротив, малоподвижно;
b
именно по этой тропе следует продвигаться, чтобы изловить выслеживаемую добычу. Так вот, если хотя бы мимолетное воздействие приходится на то, что по природе своей очень подвижно, это воздействие разносится по кругу от одних частиц к другим, пока не дойдет до разумного [начала] и не поведает ему о свойствах воздействующего предмета; напротив, то, что малоподвижно, слишком устойчиво, чтобы передавать воздействие по кругу, а потому вынуждено принять его лишь на себя и не приводить в движение то, что находится по соседству.
c
Но раз первое воздействие не переходит от одних частиц к другим, живое существо в целом так и не воспринимает его и остается к нему нечувствительным. Это верно применительно к костям, волосам и прочим частям нашего тела, которые состоят главным образом из земли, в то время как первый случай наиболее характерен для слуха и зрения, ибо в них действеннее всего проявляет себя сила огня и воздуха.
Итак, обо всем, что относится к удовольствию и страданию, дулжно мыслить следующим образом. Всякое противное природе воздействие, оказываемое на нас с большой силой, болезненно,
d
в то время как полное возвращение к естественному состоянию приятно; то, что совершается тихо и постепенно, остается неощутимым, в противном же случае дело обстоит наоборот; наконец, все то, что совершается без труда, может быть весьма ощутимо, но не сопровождается ни страданием, ни удовольствием. Примером последнего может служить зрительное впечатление, ведь зрительный луч, как было сказано прежде, во время дня являет собою сросшееся с нами тело: ни рассечения, ни ожоги, ни прочие воздействия такого же рода не причиняют ему боли,
e
а возврат к прежнему состоянию – удовольствия, но при этом он дает самые полные и ясные ощущения всякий раз, когда испытывает на себе воздействие [тел] или сам к ним направляется и к ним прикасается. Все дело в том, что его расщепления и воссоединения чужды насильственности. Напротив, тела, состоящие из более крупных частиц, сопротивляются воздействию, но при этом передают толчок всему живому существу в целом, испытывая удовольствие и страдание:
65
страдание – при изменении, удовольствие – при возврате в прежнее состояние. Но те [органы], в которых опорожнение и опустошение совершаются постепенно, а наполнение – сразу и с большой силой, к опустошению нечувствительны, к наполнению же, напротив, чувствительны и потому не доставляют смертной части души ощущения боли, по служат источником сильного удовольствия; очевидный пример тому – приятные запахи. Напротив, когда отход от естественного состояния происходит быстро, а восстановление мало‑помалу и с трудом, перед нами прямо противоположный случай: его можно наблюдать при ожогах и порезах.
b
Итак, что касается воздействий, общих для всего тела, и имен, прилагаемых к тому, что эти воздействия вызывает, то об этих вещах мы сказали почти все. Теперь попытаемся в меру наших сил сказать что‑нибудь об ощущениях, связанных с определенными частями [тела], а также о причинах воздействий.
c
Во‑первых, нам следует разъяснить, насколько это с возможно, тот предмет, который мы обошли молчанием во время наших прежних рассуждений о соках, а именно производимые ими воздействия на язык. По всей видимости, эти воздействия, как и многие другие, порождены особого рода сжатиями и расширениями, но они более других зависят от состояний шероховатости и гладкости. Например, когда частицы земли входят в те жилки, которые служат языку как бы чувствительными волокнами, протянутыми до самого сердца,
d
они соприкасаются там с влажной, мягкой плотью и на ней растекаются, отчего жилки сжимаются и как бы высушиваются; если эти частицы земли более шероховаты, они дают едкий вкус, если менее – терпкий. Далее, те вещества, что прочищают вышеназванные жилки и прополаскивают всю область языка, проделывая свою работу не в меру бурно и доводя дело до разрушения самой плоти языка, именуются горькими, таково свойство щелочи.
e
Но другие вещества, уступающие щелочи в силе и прочищающие язык лишь умеренно, имеют соленый вкус, чуждый той жесткости, которая присуща всему горькому, и кажущийся скорее приятным. Вещества еще одного разряда, приобщившись к теплоте рта и разжижаясь от нее, становятся от этого огнистыми и в своп черед обжигают то, что их разогрело, а по своей легкости несутся вверх, к органам ощущения головы, и прорезают все, что ни попадется на их пути; благодаря этой своей способности они именуются острыми.
66
Но когда те же самые вещества утончаются от гниения и находят доступ в тесные жилки, то они застают там земляные частицы и частицы воздуха в правильном соотношении, приводят эти последние в движение, заставляют перемешиваться друг с другом и пениться, а вспенившись, образовывать около вторгшихся частиц полости.
b
И вот при этом влага, иногда землистая, а иногда чистая, обволакивает воздух, создавая для него как бы жидкие вместилища – водяные шары с пустотами внутри; из них одни образованы чистой влагой и потому прозрачны, и называются они пузырями, между тем как другие возникли из землистой влаги, которая при этом подвижна и стремится кверху, и они‑то дают так называемое брожение и закисание. Вещество, повинное во всех этих состояниях, соответственно называется кислым. Но то воздействие, которое противоположно всем только что описанным, и причину имеет противоположную:
c
когда состав влаги входящих [в тело] веществ по природе своей родствен составу языка, эта влага смазывает и размягчает огрубевшее, стягивает или, напротив, расправляет все неестественно раздутое или сведенное и вообще возвращает все к распорядку природы. Каждое подобное зелье, врачующее насильственные состояния, для всех приятно и желанно, почему и зовется сладким.[1725]
d
Итак, об этом достаточно. Что касается того рода воздействий, которые относятся к ноздрям, то здесь нет определенных разновидностей. Всякий запах имеет половинчатую природу, ибо нет такой формы, которая по своему строению могла бы возбуждать определенный запах. Те жилы в нашем теле, которые для этого предназначены, слишком тесны для частиц земли и воды, но слишком просторны для частиц огня и воздуха, а потому никто и никогда не мог обонять собственного запаха какой‑либо из этих [стихий]; запахи рождаются лишь от таких веществ, которые либо разжижены, либо загнивают, либо плавятся, либо испаряются. Им дает жизнь то переходное состояние, которое возникает, когда вода претворяется в воздух либо, напротив, воздух в воду.
e
Все запахи являют собой либо пар, либо туман, ведь туман лежит на полпути от воздуха к воде, а пар – на полпути от воды к воздуху. Поэтому они тоньше воды, но грубее воздуха; это становится очевидным, если с усилием вдыхать воздух сквозь перекрывшую дыхание преграду и наблюдать, как все пахнущее отсеивается и воздух доходит очищенным от запахов. Понятно, что многообразие запахов остается безымянным, ибо оно не сводится к большому числу простых форм.
67
Здесь существует только одно четкое двучленное разделение – на запахи приятный и неприятный. Последний оказывает насильственное и огрубляющее действие на всю полость, простирающуюся от макушки до пупа, между тем как первый смягчает загрубевшее и с приятностью возвращает его к первоначальному состоянию.
Третья область наших ощущений – слух, и для получаемых им воздействий нам тоже следует отыскать обусловливающие причины.
b
В общих чертах скажем, что звук – это толчок, производимый воздухом через уши на мозг и кровь и доходящий до самой души, между тем как вызванное этим толчком движение, которое начинается с головы и оканчивается в области печени, есть слышание. Если движение быстро, звук высок; чем оно медленнее, тем ниже звук. Равномерное движение дает ровный и нежный звук,
c
неравномерное – грубый, сильное – громкий, слабое – тихий. Что касается созвучий, то необходимость понуждает нас отложить этот предмет напоследок.
Теперь остался только четвертый род ощущений, но он являет большое многообразие, требующее расчлененного подхода. Многообразие это имеет общее имя цвета; а цвет – это пламя, струящееся от каждого отдельного тела и состоящее из частиц, соразмерных способности нашего зрения ощущать. О причинах зрения мы уже говорили прежде, а сейчас уместнее и нужнее всего как можно правдоподобнее объяснить цвета.
d
Те частицы, которые несутся от других тел и сталкиваются со зрительным лучом, бывают либо меньше, чем частицы последнего, либо крупнее, либо такой же величины. Те, что имеют такую же величину, неощутимы, и мы называем их прозрачными. Напротив, те, что больше, сжимают зрительный луч, а те, что меньше, расширяют его, и действие их можно сравнить с действием холодного и горячего на нашу плоть, а также с действием терпкого и обжигающего (или «острого», как мы выражаемся) на наш язык.
e
Это – белое и черное, то есть впечатления, рожденные в иной области чувств, чем только что перечисленные, и потому кажущиеся иными, но на самом деле тождественные им. Так мы и назовем их: «белое» – то, что расширяет зрительный луч, «черное» – то, что его сужает. Когда же огонь иного рода, несущийся более порывисто, ударяет в зрительный луч, проникает его до самых глаз, насильственно разверзает глазные проходы и разжижает их вещество,
68
он заставляет излиться оттуда весь тот огонь и воду, что мы называем слезами. Поскольку же с двух сторон встречаются два огня, причем один с молниеносной силой бьет из глаз, а другой входит в глаза и там угасает от влаги, из их смешения рождаются всевозможнейшие цвета; это называют переливами, а тому, чем вызвано такое состояние, дали имена блестящего и сверкающего.
b
Есть и такой род огня, который стоит посередине между двумя вышеназванными; он достигает глазной влаги и смешивается с ней, но не сияет. Мерцание этого огня сквозь растворившую его жидкость дает кровавый цвет, который мы нарекли красным.
От смешения сверкающего огня с красным и белым возник желтый цвет; но о соотношении, в котором они были смешаны, не имело бы смысла толковать даже в том случае, если бы кто‑нибудь его знал, ибо здесь невозможно привести не только необходимые, но даже вероятные и правдоподобные доводы.
c
Далее, красный цвет, смешанный с черным и белым, дает пурпурный или темно‑лиловый, если все части смеси сильнее обожжены, а черного цвета примешано больше. Желтое в смешении с серым дает коричневое, серое же само есть смесь белого и черного; желтое в смешении с белым дает цвет охры. Когда же белое, сойдясь с блестящим, ложится на густо‑черную основу, тогда возникает синий цвет, между том как сочетание синего с белым дает голубой, а коричневого с черным – зеленый цвет.[1726]
Из этих примеров достаточно ясно, к каким смешениям можно свести все остальные цвета, не нарушая при этом правдоподобия.
d
Но тот, кто попытался бы строго проверить все это на деле, доказал бы, что не разумеет различия между человеческой и божественной природой, ведь если у бога достанет и знания, и мощи, дабы смесить множество в единство и сызнова разрешить единство в множество, то нот и никогда не будет такого человека, которому обе эти задачи оказались бы по силам.
e
Все вышеназванные вещи, рожденные в то время под воздействием необходимости, взял в свои руки демиург самой прекрасной и лучшей из возникших вещей, вознамерившись породить самодовлеющего и совершеннейшего бога; причинами, которые присущи самим вещам, он пользовался как вспомогательными, но при этом сам направлял каждую из возникших вещей ко благу. Поэтому дулжно различать два вида причин – необходимые и божественные – и отыскивать во всем причины второго рода, дабы стяжать через это для себя блаженную жизнь,
69
насколько природа наша это допускает, а уже ради них нам следует заниматься и причинами первого рода, поняв, что при забвении необходимости немыслимо ни уразуметь, ни схватить, ни вообще как‑либо приблизить к себе то единственное, о чем мы печемся.
Теперь заготовленные причины разложены у нас по родам, как строительные припасы у плотников, и нам остается только выложить из них дальнейшую часть нашего рассуждения; вернемся, однако, к исходной точке и повторим вкратце весь наш путь вплоть до того места, которого мы только что достигли, а уже потом попытаемся дать нашему сказанию подобающее заключение.
b
Как было упомянуто вначале, все вещи являли состояние полной неупорядоченности, и только бог привел каждую из них к согласию с самой собою и со всеми другими вещами во всех отношениях, в каких только они могли быть причастны соотносительности и соразмерности. Ведь доселе в них но было ничего подобного, разве что по какому‑нибудь случайному совпадению, и вовсе не к чему было применить те имена, которыми мы ныне именуем огонь и воду, а равно и прочие вещи;
c
бог впервые все это упорядочил, а затем составил из этого нашу Вселенную – единое живое существо, заключающее в себе все остальные живые существа, как смертные, так и бессмертные.
При этом божественные существа создал сам демиург, а порождение смертных он доверил тем, кого сам породил. И вот они, подражая ему, приняли из его рук бессмертное начало души и заключили в смертное тело, подарив все это тело душе вместо колесницы, но, кроме того, они приладили к нему еще один, смертный, вид души, вложив в него опасные и зависящие от необходимости состояния:
d
для начала – удовольствие, эту сильнейшую приманку зла, затем страдание, отпугивающее нас от блага, а в придачу двух неразумных советчиц – дерзость и боязнь – и, наконец, гнев, который не внемлет уговорам, и надежду, которая не в меру легко внемлет обольщениям. Все это они смешали с неразумным ощущением и с готовой на все любовью и так довершили но законам необходимости смертный род души.
Однако они, несомненно, страшились без всякой необходимости осквернить таким образом божественное начало и потому удалили от него смертную душу, устроив для нее обитель в другой части тела,
e
а между головой и грудью, дабы их разобщить, воздвигли шею как некий перешеек и рубеж. Ибо именно в грудь и в так называемое туловище вложили они смертную душу; поскольку одна часть души имеет более благородную природу, а другая – более низкую, они разделили полость этого туловища надвое, как бы обособляя мужскую половину дома от женской,
70
а в качестве средостения поставили грудобрюшную преграду. Ту часть души, что причастив мужественному духу и возлюбила победу, они водворяли поближе к голове, между грудобрюшной преградой и шеей, дабы она внимала приказам рассудка и силой помогала ему сдерживать род вожделений, едва только те не пожелают добровольно подчиниться властному слову, исходящему из верховной твердыни акрополя. Сердцу же, этому средоточию сосудов и роднику бурно гонимой по всем членам крови,
b
они отвели помещение стража; всякий раз, когда дух закипит гневом, приняв от рассудка весть о некоей несправедливости, совершающейся извне или, может статься, со стороны своих же вожделении, незамедлительно по всем тесным протокам, идущим от сердца к каждому органу ощущения, должны устремиться увещевания и угрозы, дабы все они оказали безусловную покорность и уступили руководство наилучшему из начал.
c
Однако боги предвидели наперед, что при ожидании опасностей и возбуждении духа сердце будет колотиться и что каждое такое вскипание страстей сопряжено с действием огня. И чтобы оказать сердцу помощь, они произрастили вид легких, который, во‑первых, мягок и бескровен, а к тому же, наподобие губки, наделен порами, так что может вбирать в себя дыхание и питье,
d
охлаждать сердце и тем самым доставлять ему в жару отдых и свежесть. Для этой цели они прорубили к легким проходы от дыхательного горла и легкими, словно бы подушками, обложили сердце, дабы всякий раз, как в нем играет дух, оно глушило свои удары о податливую толщу и при этом получало охлаждение, чтобы мучения его уменьшались, а помощь, которую дух оказывает рассудку, возрастала.
Другую часть смертной души, которая несет в себе вожделение к еде, питью и ко всему прочему, в чем она нуждается по самой природе тела, они водворили между грудобрюшной преградой и областью пупа, превратив всю эту область в подобие кормушки для питания тела;
e
там они и посадили эту часть души на цепь, как дикого зверя, которого невозможно укротить, но приходится питать ради его связи с целым, раз уж суждено возникнуть смертному роду.[1727]
Они устроили так, чтобы этот зверь вечно стоял у своей кормушки и обитал подальше от разумной души, возможно менее досаждая ей своим, шумом и ревом, дабы та могла без помехи принимать свои решения
71
на благо всем частям тела вместе и каждой из них в отдельности. Они знали, что он не будет понимать рассуждения, а даже если что‑то из них и дойдет до него через ощущение, не в его природе будет об этом заботиться; он обречен в ночи и во время дня обольщаться игрой подобий и призраков.
b
И вот бог, вознамерясь найти на него управу, построил вид печени и водворил в логово к зверю,[1728]
постаравшись, чтобы печень вышла плотной, гладкой, лоснящейся и на вкус сладкой, однако не без горечи. Цель бога состояла в том, чтобы исходящее из ума мыслительное воздействие оказалось отражено печенью, словно зеркалом, которое улавливает впечатления и являет взору призраки, и таким образом на зверя находил бы страх, когда это воздействие дойдет до него с суровыми угрозами и прибегнет к горькой части, стремительно разливая ее по всей печени, вызывая появление желчного оттенка и заставляя печень всю сморщиться и отвердеть;
c
вдобавок это воздействие выводит всю долю печени из прямого положения, искривляет и гнет ее, зажимает ее сосуды и сдавливает воротную вену, что приводит к болям и тошноте. Когда же, напротив, от мыслящей части души повеет дыханием кротости, которое вызовет к жизни видения совсем иного рода, это дыхание не только не взволнует горькой части печени, но и не прикоснется к этой противоположной себе природе; напротив, оно прибегнет к прирожденному печени свойству сладости, дабы распрямить, разгладить и высвободить все ее части.
d
Благодаря этому обитающая в области печени часть души должна стать просветленной и радостной, ночью же вести себя спокойно, предаваясь пророческим снам, коль скоро она уже непричастна рассудку и мышлению. Ведь боги, построившие нас, помнили о заповеди своего отца, которая повелевала создать человеческий род настолько совершенным, насколько это возможно; во исполнение этого они постарались приобщить к истине даже низменную часть нашего существа и потому учредили в ней прорицалище.
e
То, что бог уделил пророческий дар человеческому умопомрачению, может быть бесспорно доказано: никто, находясь в своем уме, не бывает причастен боговдохновенному и истинному пророчеству, но лишь тогда, когда мыслительная способность связана сном, недугом либо неким приступом одержимости.[1729]
Напротив, дело неповрежденного в уме человека – припомнить и восстановить то, что изрекла во сне либо наяву эта пророческая и вдохновленная природа, расчленить все видения с помощью мысли
72
и уразуметь, что же они знаменуют – зло или добро – и относятся ли они к будущим, к минувшим или к настоящим временам. Не тому же, кто обезумел и еще пребывает в безумии, судить о собственных видениях и речениях! Правду говорит старая пословица, что лишь рассудительный в силах понять сам себя и то, что он делает.[1730]
b
Отсюда и возник обычай, чтобы обо всех боговдохновенных прорицаниях изрекало свой суд приставленное к тому племя истолкователей; правда, их и самих подчас называют пророками, но только по неведению, ибо они лишь разгадывают таинственные речения и видения, а потому должны быть по всей справедливости названы никак не пророками, но толкователями при тех, кто прорицает.
Таковы причины, по которым печень получила вышеописанное устройство и местоположение; целью было пророчество. И в самом деле, покуда тело живет, печень дает весьма внятные знамения, с уходом же жизни она становится слепой, и тогда ее вещания слишком туманны, чтобы заключать в себе ясный смысл.
c
Соседствующий с печенью орган был создан и помещен налево от нее ради се блага, дабы сохранять ее неизменно лоснящейся и чистой, служа ей наподобие губки, которая всегда лежит наготове подло зеркала. Стоит только каким‑либо загрязнениям, порождаемым недугами тела, появиться близ печени, как их тотчас устраняет селезенка, вбирая их в свои бескровные полости.
d
Так и получается, что, когда она наполнена этими отбросами, ее пучит и раздувает, но, когда тело очищено, она опадает и возвращается к прежним размерам.
Вот что мы думаем о душе, о ее смертной и божественной частях, а равно и о том, как, в каком соседстве и по каким причинам каждая из этих частей получила свое отдельное местожительство. Настаивать на том, что сказанное нами – истина, мы отважились бы разве что с прямого дозволения бога; но правдоподобие нами соблюдено, это мы можем смело сказать уже сейчас, а тем более имея в виду наше дальнейшее рассуждение. Так скажем же это!
Переходя к следующему вопросу, мы будем держаться прежнего нашего пути; вопрос же состоит в том, как возникли остальные части тела. Их устройство правильнее всего объяснить путем следующего умозаключения.
e
Творившие наш род знали заранее, какая безудержность в еде и питье будет обуревать нас; они предвидели, что по своей жадности мы станем поглощать и того и другого больше, чем велят умеренность и необходимость. Опасаясь поэтому, как бы не разразился свирепый мор и еще не завершенный род смертных не исчез навсегда,
73
они предусмотрительно соорудили для приема излишков питья и еды ту кладовую, что именуют нижней полостью, и наполнили ее извивами кишок, дабы пища не слишком быстро покидала тело, принуждая его требовать новой пищи и тем склоняя к ненасытности, и дабы род человеческий из‑за чревоугодия не стал чужд философии и Музам, явив непослушание сбмому божественному, что в нас есть.
b
Что касается костей, мышц и вообще всей подобной природы, то с ней дело обстоит вот как: начало всего этого – рождение мозга; в нем укоренены те узы жизни, которые связуют душу с телом, в нем лежат корни рода человеческого. Но сам мозг рожден из другого. Дело было так: среди всех исходных треугольников бог выбрал и обособил наиболее правильные и ровные, которые способны были в наибольшей чистоте представлять огонь и воду, воздух и землю; затем, отделив каждое от своего рода,
c
он соразмерно смесил их, приготовляя с общее семя для всего смертного рода, и устроил из этого мозг. В нем он насадил все роды душ, а утвердив их, разъял мозг уже при самом первом рассечении на такое множество тел, чтобы они своим числом и устройством соответствовали вышеназванным родам. Ту долю, которой суждено было, как некоей пашне, воспринять семя божественного начала, он сделал со всех сторон округлой и нарек эту долю головным мозгом,
d
предвидя, что вместивший ее сосуд по завершении каждого живого существа станет головой. Другая доля должна была получить оставшуюся, то есть смертную, часть души; ее он разъял на округлые, и притом продолговатые, тела, также наименовав их все в целом мозгом, хоть и не в прямом смысле. От них, как от якорей, он протянул узы, долженствующие скрепить всю душу, а вокруг этой основы начал сооружать все наше тело, прежде всего одев мозг твердым костным покровом.
e
Вот как он построял кость. Отобрав просеиванием чистую и гладкую землю, он замесил ее и увлажнил мозгом; после этого он ставит смесь в огонь, затем окунает в воду, потом снова в огонь и снова в воду. Закалив ее так по несколько раз в огне и воде, он сделал ее неразрушимой и для того, и для другого. В дело он употребил ее прежде всего затем, чтобы выточить из нее костную сферу вокруг головного мозга, оставив в этой сфере узкий проход;
74
а для прикрытия затылочного и спинного мозга он изваял из этой же смеси позвонки, которые наложил друг на друга, как складывают дверные петли, протянув этот ряд от головы через все туловище. Так он замкнул все семя в защитную камнеподобную ограду и в последней построил суставы, прибегнув к посредствующей силе иного, дабы обеспечить подвижность и гибкость.
b
Далее он усмотрел, что природа кости сверх должного хрупка и несгибаема и что, если ей к тому же придется терпеть жар, а после охлаждаться, она не устоит против костоеды, которая загубит заключенное в ней семя; поэтому он измыслил род сухожилий и плоти. Сухожилия, связав друг с другом все члены, должны были своими сокращениями и растяжениями доставить возможность телу сгибаться и разгибаться в суставах; что до плоти, то ей назначено было служить защитой от жара и укрытием от холода, а равно и как бы войлочной подушкой, предохраняющей от ушибов, ибо напору тел она может противопоставить упругую податливость.
c
К тому же в ней таится теплая влага, которая летом выступает в виде пота и увлажняет кожу, уготовляя всему телу приятное охлаждение, а зимой, напротив, наилучшим образом разгоняет подступающую и обнимающую тело стужу силой скрытого в ней огня. Таков был замысел Ваятеля, и вот он соединил в должных количествах воду, огонь и землю, а после замесил их на острой и соленой закваске –
d
так получилась мягкая и насыщенная соками плоть. Что касается природы сухожилий, то ее он образовал, смешав кость с еще не заквашенной плотью, и этой промежуточной смеси дал желтый цвет. Вот почему сухожилия получились более крепкими и тягучими, чем плоть, но более мягкими и влажными, чем кость.
Итак, всем этим он покрыл кости вместе с лежащим в них мозгом, связуя их посредством сухожилий, а сверху окутывая одеянием плоти.
e
При этом кости, в которых больше всего души,[1731]
он окутал наименее толстой плотью, а самые бездушные – наибольшей и особенно плотной; что касается костных сочленений, то, когда особые соображения не требовали чего‑то иного, он взращивал на них опять‑таки лишь скудную плоть, чтобы она не стеснила сгибание суставов и не обрекла тело на малоподвижность и беспомощность. Но желал он и того, чтобы обильные и плотные толщи мышц, налегая друг на друга и грубея от этого, притупили ощущение, отчего последовало бы угасание памяти и расслабление умственных способностей. Вот почему бедренные и берцовые, тазовые, плечевые и локтевые кости,
75
а также и вообще все кости, которые не имеют сочленении и в своем мозгу содержат мало души, а значит, лишены, мышления, – все это было щедро покрыто плотью; напротив, то, что несет в себе разум, покрыто ею куда меньше, кроме тех случаев, когда плоть сама по себе служит носителем ощущений: таково устройство языка. Но большей частью дело обстояло так, как сказано выше, ибо в природе, рожденной и живущей в силу необходимости,
b
плотная кость и обильная плоть никак не могут ужиться с тонким и отчетливым ощущением. Если бы то и другое было совместимо, строение головы было бы наделено всем этим в преизбытке, и тогда род человеческий, нося на плечах столь мясистую, жилистую и крепкую голову, получил бы вдвое, а то и во много крат более долгую, а притом и более здоровую и беспечальную жизнь. И вот, когда демиурги нашего рождения оказались перед выбором, сообщить ли созидаемому роду больше долговечности, но меньше совершенства или меньше долговечности, но больше совершенства,
c
они единодушно решили, что более короткую, но зато лучшую жизнь каждый, безусловно, должен предпочесть более долгой, но худшей. В соответствии с этим они покрыли голову рыхлой костью, не наложив сверху плоти и даже не дав ей сухожилий, ибо суставов здесь все равно не было. Поэтому голова являет собой самую чувствительную и самую разумную, но также и намного слабейшую часть каждого мужчины. По тем же причинам бог прикрепил сухожилия лишь к самому низу головы,
d
однородно обвив ими шею и соединив с ними края челюстных костей под лицом; весь остальной запас сухожилий он распределил между прочими членами, связуя суставы. Что касается нашего рта, то строители снабдили его нынешним его оснащением – зубами, языком и губами, имея в виду как необходимое, так и наилучшее:
e
вход они созидали ради необходимого, а выход – ради наилучшего. В самом деле, все, что входит в тело и питает его, относится к необходимому, между тем как изливающийся наружу поток речей, служа мысли, являет собою прекраснейший и наилучший из всех потоков.
И все же голову нельзя было оставить при одном голом костяном покрове, без защиты против годовых чередований жары и стужи, так же как нельзя было допустить, чтобы от обилия плоти она стала тупой и бесчувственной.
76
Между тем от еще не засохшей плоти отслоилась довольно толстая пленка, которая ныне известна под названием кожи. Благодаря мозговой влаге она прирастала и разрасталась дальше, так что окружала всю голову, а влага, поднимаясь кверху через швы, орошала ее и понудила сомкнуться на макушке как бы в узел. Что касается швов, то различия в их формах обусловлены силой круговращений мысли и питанием: если противоборство того и другого сильнее, швов больше, а если оно слабее, швов меньше.
b
Всю эту кожу божество искололо кругом пронизывающей силой огня, и когда через эти проколы выступала наружу влага, то все беспримесные и теплые части испарялись; но примесь, состоявшая из тех же веществ, что и кожа, хотя и устремлялась в высоту, вытягиваясь в протяженное тело, по тонкости равное проколу, однако из‑за медлительности оказывалась отброшенной окружающим воздухом обратно, врастала в кожу и пускала в ней корни.
c
Так возник род волос, произрастающих из кожи; по своей ремнеобразной природе они близки к коже, но жестче и плотнее, что объясняется сжимающим воздействием холода на каждый отдельный, обособившийся от кожи волос. Когда Устроитель делал нашу голову такой косматой, он руководствовался названными причинами,
d
и умысел его состоял в том, чтобы это был легкий покров мозга взамен плоти, затеняющий его летом и утепляющий зимой, но при этом не служил бы помехой его чувствительности.
Что касается переплетения сухожилий, кожи и кости на концах пальцев, то там, когда все было перемешано, а смесь высушена, родилась жесткая кожа. Таковы были вспомогательные причины, участвовавшие в ее создании, но самой подлинной из причин была забота о существах, имеющих возникнуть в будущем. Те, кто устроил нас, ведали, что некогда от мужчин народятся женщины, а также и звери и что многие твари по многим причинам ощутят нужду в употреблении ногтей;
e
вот почему уже при самом рождении человечества они наметили их зачатки. Таковы, стало быть, те соображения и замыслы, которыми руководились боги, когда создавали кожу, волосы и ногти на оконечностях членов.
77
Теперь все части и члены смертного живого существа срослись в единое целое, которому, однако, по необходимости предстояло жить среди огня и воздуха, а значит, терпеть от них распад и опустошение и потому погибнуть. Но боги пришли ему на помощь: они произрастили некую природу, родственную человеческой, но составленную из иных видов и ощущений и потому являющую собой иной род существ; это были те самые деревья, травы и вообще растения, которые ныне облагорожены трудами земледельцев и служат нашей пользе, но изначально существовали только в виде диких пород, более древних, чем ухоженные.
b
Все, что причастно жизни, по всей справедливости и правде может быть названо живым существом; так, и предмет этого нашего рассуждения причастен третьему виду души, который, согласно сказанному прежде, водворен между грудобрюшной преградой и пупом и притом не имеет в себе ни мнения, ни рассудка, ни ума, а только ощущение удовольствия и боли, а также вожделения. В самом деле, растение проходит свой жизненный путь чисто страдательным образом, оно движется лишь в самом себе и в отношении себя
c
и противостоит воздействию внешнего движения, пользуясь собственным, так что оно не видит и не понимает своего состояния и природы. Поэтому, безусловно, оно живет и являет собой не что иное, как живое существо, однако прикреплено к своему месту и укоренено в нем, ибо способности двигаться [вовне] своей силой ему не дано.
Итак, все эти породы растительного царства произрастили они, мощные, нам, менее сильным, для пропитания. Затем они же прорубили в самом нашем теле протоки, как прорубают в саду водоотводные канавы, дабы оно орошалось притоком влаги.[1732]
d
Прежде всего они провели два скрытых протока между кожей и сросшейся с нею плотью – две спинные жилы, соответствующие делению тела на правую и левую стороны; эти жилы они направили вниз по обе стороны от позвоночного столба, заключив между ними детородный мозг так, чтобы и он поддерживался в самом цветущем состоянии, и другие части получали равномерный приток легко разливающейся книзу крови. После этого они разделили жилы в области головы и переплели их таким образом, чтобы концы жил пересекали друг друга в противоположных направлениях;
e
те, которые шли от правой стороны тела, они направили к левой, а те, которые шли от левой, – соответственно к правой. Это было сделано, чтобы голова получила помимо кожи лишнюю связь с туловищем, поскольку она не имеет идущих по кругу до макушки сухожилий; другая цель состояла в том, чтобы ощущения, исходящие от обеих сторон, отчетливо получало все тело в целом.
78
Затем они начали устраивать водоснабжение таким способом, который станет нам понятнее, если мы наперед согласимся, что все тела, составленные из меньших частиц, непроходимы для больших, между тем как тела, составленные из больших частиц, проходимы для меньших. Поскольку же из всех родов самые малые частицы имеет огонь, значит, он прорывается сквозь воду, землю, воздух, а равно и сквозь все, что состоит из этих трех родов, так что для него нет ничего непроходимого. Если мы это будем иметь в виду применительно к нашей брюшной полости, обнаружится следующее: когда в нее входят яства и напитки, они там и остаются,
b
но воздух и огонь не могут быть ею удержаны, поскольку имеют меньшие сравнительно с нею частицы. К этим веществам и прибег бог, вознамерившись наладить отток влаги из брюшной полости в жилы. Он соткал из воздуха и огня особое плетение, похожее на рыболовную вершу и у входов имевшее две вставленные воронки, одна из которых в свой черед разделялась на два рукава; от этих воронок он протянул кругом во все стороны подобия канатиков, доведенные до самых краев плетения;
c
при этом всю внутренность верши он составил из огня, а воровки и оболочку – из воздушных частиц. Затем он взял свое изделие и снабдил им то существо, что было им изваяно, а действовал при этом вот как: отверстия воронок он утвердил во рту, поскольку же их было две, то одну из них он вывел через дыхательные пути в легкие, а другую – мимо дыхательных путей в брюшную полость; при этом первую он рассек на две части, проведя к обеим общий проход через отверстия носа, так что, если проход через рот оказывается закрытым, приток воздуха восполняется по другому проходу.
d
Далее, всю оболочку верши он прикрепил вокруг полости тела и устроил так, чтобы все это попеременно то втекало в воронки – притом мягко, ибо последние состоят из воздуха, – то вытекало из воронок, при этом плетение утопало бы в глубине тела, которое пористо, а затем сызнова выходило наружу, между тем как огнистые лучи, заключенные в теле, следовали бы за движением воздуха в том и другом направлении. Все это должно непрестанно продолжаться, пока не распадутся жизненные связи смертного существа;
e
и мы беремся утверждать, что именно это учредитель имен нарек вдыханием и выдыханием. Благодаря всей этой череде действий и состояний орошаемое и охлаждаемое тело наше получает питание и жизнь, ибо всякий раз, как дыхание совершает свой путь внутрь и наружу, сопряженный с ним внутренний огонь следует за ним, вновь и вновь проходит через брюшную полость, охватывает находящиеся там еду и питье, разрушает их, разнимая на малые доли,
79
затем гонит по тем порам, сквозь которые проходит сам, направляя их в жилы, как воду из родника направляют в протоки, и таким образом понуждает струиться через тело, словно по водоносному рву, струи, текущие по жилам.
Но рассмотрим еще раз причины, по которым устройство дыхания возникло именно таким, каким остается поныне. Дело обстоит следующим образом. Поскольку не существует пустоты, куда могло бы устремиться движущееся тело,
b
а выдыхаемый нами воздух движется наружу, для всякого должно быть ясно, что идет он отнюдь не в пустоту, но выталкивает со своего места соседний воздух; тот в свою очередь гонит с места воздух, который окажется рядом, а тот передает толчок дальше, так что весь окружающий воздух оказывается перемещенным в то место, откуда вышло дыхание, а войдя туда и наполнив эту полость, воздух следует по тому же пути. Все это происходит одновременно, как поворот колеса, ведь пустоты не существует.
c
Поэтому пространство груди и легких, откуда вышло дыхание, снова наполняется обступившим тело воздухом, который погружается в норы плоти и совершает свой круговорота когда же этот воздух обращается вспять и идет сквозь тело наружу, он в свою очередь становится виновником кругового толчка, загоняющего дыхание в проходы рта и ноздрей. Следует предположить, что начало всего этого имеет вот какую причину:
d
всякое живое существо обладает очень большим внутренним теплом в крови и в жилах, являющих собою как бы источник телесного огня; именно его мы уподобляли плетению нашей верши, когда говорили, что внутренняя ее часть соткана целиком из огня, в то время как внешние части – из воздуха. Между тем должно признать, что все горячее от природы стремится наружу, в соответствующее ему по природе место; поскольку же у него есть лишь два выхода, один из которых ведет наружу сквозь тело, а другой через рот и ноздри,
e
то стоит горячему устремиться в какой‑либо один выход, как оно круговым толчком гонит воздух в другой, причем вдавленный [воздух] попадает в огонь и разогревается, а вышедший – охлаждается. И вот когда соотношение теплоты изменится и [воздух] станет более горячим у другого выхода, он в свою очередь сильнее устремится туда, куда повлечет его природа, а круговой толчок погонит [воздух] к противоположному выходу. Бесконечная череда этих действий и противодействий образует круговорот, направленный то туда, то сюда, который и дал начало входу и выходу.
80
Здесь же следует искать объяснение тому, чту происходит, когда ставят банки, а равно и при глотании или при метании предметов – несутся ли они высоко над землей или по ее поверхности. Сюда относятся также звуки, которые в зависимости от своей быстроты или медленности представляются высокими или низкими, причем иногда они несозвучны между собой, ибо производимое ими в нас движение лишено подобия, иногда же, напротив, дают созвучие благодаря согласованности движения. Все дело в том, что, когда более медленные звуки настигают движения более быстрых, ранее дошедших до нашего слуха, те оказываются уже обессилевшими, а их движения – подобными движениям,
b
которые вносят при своем запоздалом прибытии более медленные звуки; таким образом, последние не становятся причиной разлада, но вместо этого начало медленного и конец быстрого движения уподобляются друг другу, и так возникает единое состояние, в котором высокое и низкое звучания смешаны.[1733]
При этом неразумные получают удовольствие, а разумные светлую радость от того, что и смертные движения через подражание причастны божественной гармонии.
Подобным образом следует объяснять также все, что случается при струении вод и падении молний, а равно и пресловутое притяжение, будто бы исходящее от янтарей и гераклейских камней.[1734]
c
На деле ничто не обладает притяжением, но по причине отсутствия пустоты все вещи передают друг другу круговой толчок, то разделяясь при этом, то сплачиваясь и постоянно меняясь местами; в переплетениях всех этих состояний истинному исследователю природы и откроются причины всего чудесного.
d
Ведь и дыхание, с которого у нас началась речь, совершается, как уже было сказано, таким же образом и в силу тех же причин: огонь рассекает пищу, следует за дыханием внутрь тела; при этом своем следовании он наполняет жилы, черпая для этого из брюшной полости вещества, им же разложенные, и таким образом у любого живого существа происходит обильное орошение питательной влагой. Поскольку же эти вещества только что претерпели рассечение и притом сродны нам, ибо взяты от плодов и зелени, произращенных богом нам в пищу,
e
они принимают от перемешивания всевозможные цвета, но безусловно преобладающим оказывается красный цвет, обязанный своим возникновением секущему действию огня, запечатленному и на жидкости. Отсюда цвет струящейся по телу влаги таков, как мы только что сказали, а влагу эту мы зовем кровью, и от нее плоть и все тело получают свое пропитание,
81
причем всякая истощившаяся часть восполняет свою убыль из орошенных частей. Способ, которым осуществляет себя это восполнение и опустошение, соответствует общему движению во Вселенной, где все движется по направлению к тому, что ему родственно. В самом деле, вещества, окружающие наше тело, непрестанно разлагают его и распределяют разложившееся таким образом, что каждая частица отходит к родственному виду; с другой стороны, составные части крови, которые претерпели в нашем нутре дробление и теперь замкнуты в теле любого существа как в своем собственном небе,
b
принуждены подражать вселенскому движению: каждая отделившаяся внутри тела частица устремляется к тому, что ей сродно, и заново восполняет образовавшуюся пустоту.
Если отток частиц превышает приток, любое существо хиреет, в противном случае оно набирает силы. Соответственно когда строение всего существа еще юно и треугольники составляющих его родов новенькие, словно только из мастерской, связь членов обнаруживает большую прочность,[1735]
в то время как все тело в целом нежное,
c
ведь оно недавно родилось из мозга и было вскормлено молоком. Когда это тело принимает в себя входящие извне треугольники, из которых состоят еда и питье, то его собственные треугольники оказываются свежее и сильнее появившихся, а потому одолевают и рассекают их, благодаря чему живое существо увеличивается от изобилия частиц, подобных его собственным. Но стоит корням треугольников расслабиться от нескончаемой и многолетней борьбы с неисчислимыми противниками,
d
как тело уже не способно рассекать треугольники пищи, доводя их до подобия своим собственным; напротив, последние сами легко дробятся под напором пришлых. Тогда всякое живое существо, изнемогши, впадает в то состояние, которое мы именуем старостью. В конце концов и те узы, что связуют треугольники мозга, не справляются с напором, размыкаются и в свою очередь дают распуститься узам души, которая обретает свою природную свободу и отлетает с радостью,
e
ибо все противное природе тягостно, а все происходящее сообразно с природой приятно. Значит, и смерть тягостна и насильственна лишь тогда, когда приходит от недугов и ран, когда же она в согласии с природой замыкает течение старости, это самая безболезненная из всех смертей, которая совершается скорее с удовольствием, нежели с мукой.[1736]
82
Что касается недугов, то их происхождение, пожалуй, ясно каждому. Поскольку тело наше сплотилось из четырех родов – земли, огня, воды и воздуха, стоит одному из них оказаться в избытке или в недостатке или перейти со своего места на чужое, стоит какой‑либо части (вспомнив, что как огонь, так и прочие роды являют не одну разновидность) воспринять в себя не то, что нужно, тут же, как и в случае других подобных нарушений, возникают смуты и недуги; от этих несообразных с природой событий и перемещений прохладные части тела разгорячаются,
b
сухие – набухают влагой, легкие – тяжелеют и вообще все тело претерпевает всяческие изменения. Лишь тогда, утверждаем мы, может что‑либо сохранить самотождественность и оставаться целым и невредимым, когда тождественное приближается к тождественному и удаляется от него тождественно, единообразно и в должном соотношении; но все, что нарушает это своим притоком или оттоком, становится причиной неисчислимых и многообразных перемен, недугов и пагуб.
Однако в природе есть и другие соединения; с ними связан второй разряд недугов, и для нашей любознательности находится и другое объяснение болезней.
c
Правда, поскольку мозг, кости, мышцы и сухожилия построены из вышеупомянутых [родов] (да и кровь родилась из них же, хотя и иным способом), недуги поражают все это большей частью именно так, как мы раньше сказали, однако самые тяжелые из них становятся особо опасными вот по какой причине: стоит образованию этих частей принять обратный ход, и они обречены на распад, ведь при естественном порядке вещей мышцы и сухожилия возникают из крови (причем сухожилия возникают из сродных им кровяных волокон, а плоть – из сгустков той крови, которая не имеет волокон);
d
далее, от сухожилий и плоти в свою очередь отделяется клейкое и жирное вещество, которое приклеивает плоть к кости и одновременно способствует росту последней, заключающей в себе мозг, между тем как чистейшая его часть, составленная из самых гладких и скользких треугольников, просачивается сквозь плотную костяную толщу, по капле льется из кости и орошает мозг; когда рождение каждого из этих веществ происходит в таком порядке,
e
следствием, как правило, бывает здоровье, но извращение порядка порождает недуги. Так, стоит плоти снова растечься и выпустить жижу обратно в жилы, как последние оказываются переполнены как воздухом, так и самой разнообразной кровью, различного цвета и степени горечи, а также остроты и солености, несущей в себе множество видов желчи, сыворотки и флегмы.[1737]
Поскольку все эти вещества возникли в обратном порядке и таят в себе порчу, они губительно действуют прежде всего на саму кровь; они не доставляют телу никакого питания, а только носятся по жилам туда и сюда, не сообразуясь с порядком естественного круговорота.
83
Между собою они в разладе, ибо не могут получить друг от друга никакой пользы, а всему, что осталось в теле устойчивого и блюдущего свое место, они враждебны и несут ему пагубу и распад. Притом та часть разлагаемой плоти, которая достаточно стара, плохо поддается размягчению; от продолжительного перегорания она чернеет; поскольку же она насквозь разъедена, ее вкус горек и близость с нею опасна для любой еще не поврежденной части тела.
b
Иногда же, если горечь поубавится, черному цвету сопутствует уже не горький, а острый вкус; в других случаях горькая гниль, погружаясь в кровь, краснеет, и от смешения красноты с чернотой получается зеленоватый цвет, наконец, если воспалительный огонь разлагает молодую плоть, с горькой гнилью смешивается желтый цвет. Общее наименование для всех этих вещей – «желчь»;
c
быть может, оно измышлено врачами или просто кем‑то, кто сумел увидеть за множеством различий родовое единство, требующее для себя одного имени. Что касается разновидностей желчи, то они получили особые названия сообразно своему цвету. Так, сыворотка черной и острой желчи в отличие от безвредной кровяной сыворотки опасна, если под действием теплоты восприняла свойство быть соленой; тогда она именуется едкой флегмой. Другая разновидность образуется из распада молодой и нежной плоти, происходящего под воздействием воздуха;
d
она настолько вздута воздушными веяниями и объята влагой, что образует пузырьки; по отдельности невидимые из‑за малого размера, но в совокупности создающие зримое глазу скопление, которое состоит из пены и потому на взгляд белое; это пронизанное воздухом разжижение нежной плоти мы именуем белой флегмой. Водянистая часть новообразовавшейся флегмы – это в свой черед пот, слезы и сколько ни есть прочих жидкостей, отделяющихся при повседневном очищении тела.
e
Все они служат орудием недугов, когда кровь пополняется не из еды и питья, как того требует природа, но возмещает свою убыль вопреки естественным законам.
Впрочем, покуда какая‑либо часть плоти, распадаясь под действием недуга, сохраняет свои основы, это лишь полбеды, можно с легкостью восстановить разрушенное.
84
Но стоит недугу поразить то, что связует мышцы с костями, стоит выделениям плоти и сухожилий перестать питать кости и сращивать их с плотью, стоит плоти под действием недостаточного, вызывающего сухость питания сменить свою жирность, гладкость и клейкость на грубость и соленый вкус – и все это вещество, претерпевая описанные несчастья, отпадает от костей, сызнова распадается на плоть и сухожилия, между тем как плоть, отделяясь от своих основ,
b
оставляет сухожилия оголенными и наполненными соленой влагой, а сама вновь подхватывается током крови и умножает недуги, которые мы уже называли. Но сколь ни тяжелы подобные страдания тела, тяжелее те, которые имеют еще более глубокую причину и обусловлены чрезмерной плотностью мышц, не дающей костям дышать и вызывающей в них гнилостный перегрев, а из‑за этого – костоеду; больная кость не только перестает принимать питание,
c
но и сама распадается и в обратной последовательности переходов с разжижается в долженствующую ее питать влагу; та в свой черед становится плотью, между тем как плоть, возвращаясь в кровь, уготовляет такие недуги, которые еще злее, чем названные. Но всего хуже, если из‑за недостаточного или чрезмерного притока каких‑либо веществ будет поражена природа мозга; из этого проистекают тяжелейшие заболевания, самым верным путем ведущие к смерти, ибо тут уже все совокупное строение тела обречено перерождаться.
Для третьего рода недугов дулжно предположить троякое происхождение: либо от дыхания, либо от флегмы, либо от желчи.
d
Так, когда легкое, являющее собою как бы распределителя дыхания в теле, засоряется истекающими мокротами и потому не может дать воздуху свободных проходов, дыхание до одних мест вообще не доходит, а к другим приходит в избытке; и вот в первом случае неохлаждаемые части загнивают, между тем как во втором дыхание насильственно прорывается сквозь жилы, искривляет их, разлагает тело и застревает в его середине, у грудобрюшной преграды. Из этого возникает множество мучительных недугов, чаще всего сопровождающихся обильным потом.
e
Весьма часто также воздух возникает внутри тела от разложения плоти; не находя пути наружу, оно доставляет такие же муки, как и воздух, вошедший извне с дыханием. Эти муки бывают особенно сильны, когда воздух, скопляясь и разбухая возле сухожилий и окружающих жилок, принуждает суставные связки и прилежащие к ним сухожилия сгибаться в противоположном направлении. От такого судорожного натяжения эти недуги и получили свои имена: «тетан» и «опистотон».[1738]
Лечить их трудно, чаще всего они проходят под действием лихорадки.
85
Что касается белой флегмы, то содержащийся в ее в:, пузырьках воздух опасен, когда она заперта внутри тела; отыскав сквозь отдушины путь наружу, она становится безвредней, но разукрашивает тело белыми лишаями и другими подобными недугами. Порой она смешивается с черной желчью и тогда тревожит своими вторжениями самое божественное, что мы имеем, – круговращения, происходящие в нашей голове; если такой припадок схватывает во сне, он еще не так страшен, но вот если он нападает на бодрствующего, бороться с ним куда тяжелее.
b
Поскольку природа поражаемой им части священна, он по справедливости именуется священной болезнью.[1739]
Едкая и соленая флегмы являют собою источник всех недугов катарального свойства; от множества различных мест, куда может устремиться истечение, недуги эти получили много разных имен.
Напротив, так называемые воспаления различных частей тела, именуемые так от горения и опаливания, все обязаны своим возникновением желчи. Если желчь обретает через отдушины тела путь наружу, она в своем кипении порождает всевозможные нарывы;
c
заключенная внутри, она производит множество воспалительных недугов, и притом самый тяжелый из них тогда, когда примешивается к чистой крови и нарушает правильное соотношение кровяных волокон. Эти волокна рассеяны по крови для того, чтобы поддерживать равновесие между разреженностью и плотностью: кровь не должна ни разжижаться от горячего настолько, чтобы просочиться через вены, ни сгущаться сверх должного и этим мешать собственному бегу по жилам.
d
К тому, чтобы блюсти эту меру, волокна предназначены уже самым своим рождением. Если извлечь их даже из холодеющей крови мертвеца, весь остаток крови разлагается; напротив, если оставить их, они быстро свертывают кровь, оказавшись в союзе с обступившим ее холодом. Таково действие кровяных волокон; они оказывают его и на желчь, которая по своему происхождению являет собой старую кровь, а потом снова становится кровью из плоти. Когда теплая и разжиженная желчь сначала лишь понемногу поступает в жилы, она терпит под действием волокон свертывание и насильственное охлаждение, производя в недрах тела озноб и дрожь.
e
Но стоит ей нахлынуть обильнее, она одолевает волокна своим жаром и, вскипев, приводит их в полный беспорядок; если же сил ее достанет на окончательную победу, она проникает до самого мозга и палит его, как бы сжигая корабельные канаты отчаливающей на волю души. Когда же, напротив, она оказывается слабее, а тело в достаточной мере сопротивляется ее разлагающему действию, поражение достается ей, и тогда она либо распространяется по всему телу, либо бывает отброшена по жилам в верхнюю или нижнюю часть брюшной полости и затем извергнута вон из тела, словно изгнанник из волнуемого смутой города. При своем удалении она производит кишечные ев расстройства, кровавые поносы и прочие недуги этого рода.
86
Заметим, что, если тело заболевает в основном от избытка огня, оно подвержено непрерывной лихорадке; если от избытка воздуха – лихорадка повторяется каждый день; если от избытка воды – она бывает трехдневной, ибо вода являет больше косности, нежели воздух и тем более огонь; если от избытка земли, четвертого по счету и самого косного рода, требующего для своего изгнания вчетверо больше времени, – тело подвержено четырехдневной лихорадке и выздоравливает с большим трудом.
b
Так возникают телесные недуги; что касается недугов души, то они проистекают из телесных следующим образом. Нельзя не согласиться, что неразумие есть недуг души, но существуют два вида неразумия – сумасшествие и невежество. Значит, все, что сродно любому из двух названных состояний, заслуживает имени недуга, и тогда к самым тяжелым среди этих недугов души придется причислить нарушающие меру удовольствия и страдания. Когда человек упоен радостью или, напротив, терзается – огорчением, он в своей неуемной жажде несвоевременно получить одно и освободиться от другого не может ничего правильно видеть и слышать;
c
его ум помрачен, и он в такое время менее всего способен рассуждать. Между тем, если у кого‑нибудь, словно у особо плодоносного дерева, мозг рождает в избытке струящееся семя, такой человек по различным поводам испытывает много терзаний, но и много удовольствий, то вожделея, то насыщая вожделение; обуреваемый сильнейшими удовольствиями и неудовольствиями, он живет в состоянии безумия большую часть жизни. Итак, душа его больна и безумна по вине тела,
d
однако все видят в нем не больного, но добровольно порочного человека. На деле же любовная необузданность есть недуг души, чаще всего рождающийся по вине одного‑единственного вещества, которое сочится сквозь поры костей и разливается по всему телу. Когда так называемую невоздержность в удовольствиях хулят как добровольную порочность, хула эта почти всегда несправедлива: никто не порочен по доброй воле,
e
но лишь дурные свойства тела или неудавшееся воспитание делают порочного человека порочным, притом всегда к его же несчастью и против его воли.
Что касается области страданий, то и здесь тело зачастую оказывается повинным в пороках души. Так, когда острая и соленая флегма, а также горькие желчные соки, блуждая по телу, не находят себе выхода наружу, но скапливаются внутри и возмущают примесью своих паров движения души,
87
они вызывают всевозможные душевные недуги разной силы и длительности. Поскольку же они могут вторгаться в любую из трех обителей души, то в зависимости от места, в которое они попадают, рождаются многообразные виды подавленности и уныния, дерзости и трусости, забытья и тупоумия. Если же к такой предрасположенности прибавляются порочные государственные установления,
b
а равно и дурные речи, наполняющие как частную, так и общественную жизнь, и если при этом не изучаются уже с юных лет те науки, чья целительная сила могла бы противостоять этому злу, то под воздействием этих двух причин, совершенно неподвластных нашей воле, и становятся порочными все те из нас, кто порочен. Ответственность за это лежит скорее на зачавших, нежели на зачатых, и скорее на воспитателях, нежели на воспитуемых; и все же каждый обязан напрягать свои силы, дабы с помощью воспитания, упражнений и занятий избегнуть порока и обрести то, что ему противоположно. Впрочем, это относится уже к иному роду рассуждений.
c
Напротив, весьма уместно и ко времени противопоставить всему вышесказанному повествование о средствах, силой которых поддерживается здоровье тела и здравомыслие; сама справедливость требует уделять больше внимания доброму, нежели злому. Между тем все доброе, без сомнения, прекрасно, а прекрасное не может быть чуждо меры. Значит, приходится признать, что и живое существо, долженствующее оказаться прекрасным, соразмерно.[1740]
Но что касается соразмерности, здесь мы привыкли принимать в расчет мелочи, а самое важное и существенное упускаем из виду.
d
Когда стоит вопрос о здоровье и болезни, о добродетели и пороке, нет ничего важнее, нежели соразмерность или несоразмерность между душой и телом как таковыми. Но мы не задумываемся над этим и не понимаем, что, когда могучая и во всех отношениях великая душа восседает как бы на колеснице слишком слабого и хилого тела или когда равновесие нарушено в противоположную сторону, живое существо в целом не прекрасно, ибо ему не хватает соразмерности как раз в самом существенном; однако, когда в нем есть эта соразмерность, оно являет собою для каждого, кто умеет видеть, самое прекрасное и отрадное из всех зрелищ. Ведь и тело, в котором либо длина ног, либо величина других членов нарушает меру, не просто безобразно:
e
когда всем его частям приходится работать сообща, оно то и дело подпадает утомлению или судорогам, делается неустойчивым, падает, оказываясь само же для себя причиной нескончаемых бед.
То же самое следует предположить и о том двухчастном соединении, которое мы именуем живым существом. Когда входящая в его состав душа слишком сильна для тела и притом яростна, она расшатывает тело и наполняет его изнутри недугами;
88
самозабвенно предаваясь исследованиям и наукам, она его истощает; если же ее распаляют задором и честолюбием труды учительства и публичные или частные словопрения, тогда она перегревает тело, сотрясает его устои, вызывает истечения и притом вводит в обман большинство так называемых врачей, понуждая их винить в происходящем неповинное тело. Напротив, когда большое, превосходящее душу тело соединяется со скудными и немощными мыслительными способностями, то, поскольку людям от природы даны два вида вожделений
b
– телесное вожделение к еде и божественнейшее в нас вожделение к разуму, – порывы более сильной стороны побеждают и умножают собственную силу, а душу между тем делают тупой, непонятливой и забывчивой, навлекая на человека невежество, этот злейший из всех недугов.
От того и другого есть лишь одно спасение – не возбуждать ни души в ущерб телу, ни тела в ущерб душе, но давать обеим сторонам состязаться между собой, дабы они пребывали в равновесии и здравии. Скажем, тот, кто занимается математикой или другим делом, требующим сильного напряжения мысли,
c
должен давать и телу необходимое упражнение, прибегая к гимнастике; напротив, тому, кто преимущественно трудится над развитием своего тела, следует в свой черед упражнять душу, занимаясь музыкой и всем тем, что относится к философии,[1741]
если только он хочет по праву именоваться не только прекрасным, но и добрым. Сообразно с этим должно заботиться и об отдельных частях [тела], подражая примеру Вселенной.
d
Ведь если то, что входит в тело, изнутри горячит его и охлаждает, а то, что обступает его извне, сушит и увлажняет и в придачу ому приходится терпеть последствия и того и другого воздействия, значит, тело, пребывающее в неподвижности, станет игрушкой этих воздействий, будет ими осилено и погибнет. Напротив, тот, кто, взяв за пример кормилицу и пестунью[1742]
Вселенной, как мы ее в свое время назвали, не дает своему телу оставаться праздным, но без устали упражняет его и так или иначе заставляет расшевелиться,
e
сообразно природе поддерживает равновесие между внутренними и внешними движениями и посредством умеренных толчков принуждает беспорядочно блуждающие по телу состояния и частицы стройно располагаться в зависимости от взаимного сродства, как мы об этом говорили раньше применительно ко Вселенной, – тот, кто все это делает, не допустит враждебное соединиться с враждебным для порождения в теле раздоров и недугов, но дружественное сочетает с дружественным во имя собственного здоровья.
89
Что касается движений, наилучшее из них то, которое совершается [телом] внутри себя и самим по себе, ибо оно более всего сродно движению мысли, а также Вселенной; менее совершенно то, которое вызвано посторонней силой, но хуже всего то, при котором тело покоится в бездействии, между тем как посторонняя сила движет отдельные его части. Соответственно из всех видов очищения[1743]
и укрепления тела наиболее предпочтительна гимнастика; на втором месте стоит колебательное движение при морских или иных поездках, если только они не приносят усталости; а третье место занимает такой род воздействий, который, правда, приносит пользу в случаях крайней необходимости,
b
но в остальное время, безусловно, неприемлем для разумного человека: речь идет о врачебном очищении тела силой лекарств. Если только недуг не представляет чрезвычайной опасности, не нужно дразнить его лекарствами. Дело в том, что строение любого недуга некоторым образом сходно с природой живого существа; между тем последняя устроена так, что должна пройти определенную последовательность жизненных сроков, причем как весь род в целом, так и каждое существо в отдельности имеет строго положенный ему предел времени, которого и достигает, если не вмешается сила необходимости.
c
Сами составляющие это существо треугольники при своем соединении наделены способностью держаться только до назначенного срока и не могут продлить свою жизнь долее. Таким же образом устроены и недуги, и потому обрывать их течение прежде положенного предела силой лекарств может лишь тот, кто хочет, чтобы из легких расстройств проистекли тяжелые, а из немногих – бесчисленные. Следовательно, лучше руководить недугом с помощью упорядоченного образа жизни, насколько это позволяют нам обстоятельства, нежели дразнить его лекарствами, делая тем самым беду закоренелой.
d
На этом мы кончим наши рассуждения о живом существе в целом и о частях его тела, а равно и о том, как жить сообразно с рассудком, в одно и то же время осуществляя руководство самим собой и оказывая себе послушание. Но что касается того [начала], которому предстоит быть руководящим, то его чрезвычайно важно наперед снабдить силой, дабы оно смогло наипрекраснейшим и наилучшим образом осуществить свое руководительство. Впрочем, обстоятельный разбор этого предмета сам по себе составил бы особую задачу;
e
если же коснуться дела лишь попутно, то имело бы смысл в связи с предшествующим заметить вот что: как мы уже не раз повторяли, в нас обитают три различных между собой вида души, каждый из которых имеет собственные движения. В соответствии с этим мы должны сейчас совсем вкратце сказать, что тот вид души, который пребывает в праздности и забрасывает присущие ему движения, по необходимости оказывается слабейшим, а тот, который предается упражнениям, становится сильнейшим; поэтому надо строго следить за тем, чтобы движения их сохраняли должную соразмерность.
90
Что касается главнейшего вида нашей души, то ее должно мыслить себе как демона, приставленного к каждому из нас богом; это тот вид, который, как мы говорили, обитает на вершине нашего тела и устремляет нас от земли к родному небу как небесное, а не земное порождение; и эти наши слова были совершенно справедливы,[1744]
ибо голову, являющую собою наш корень, божество простерло туда, где изначально была рождена душа, а через это оно сообщило всему телу прямую осанку.
b
Правда, у того, кто погряз в вожделениях или тщеславии и самозабвенно им служит, все мысли могут быть только смертными, и он не упустит случая, чтобы стать, насколько это возможно, еще более смертным и приумножить в себе смертное начало. Но если человек отдается любви к учению, стремится к истинно разумному и упражняет соответствующую способность души преимущественно перед всеми прочими, он, прикоснувшись к истине,
c
обретает бессмертные и божественные мысли, а значит, обладает бессмертием в такой полноте, в какой его может вместить человеческая природа;[1745]
поскольку же он неизменно в себе самом пестует божественное начало и должным образом ублажает сопутствующего ему демона (δαιμονα), сам он не может не быть в высшей степени блаженным (ευδαιμονα). Вообще говоря, есть только один способ пестовать что бы то ни было – нужно доставлять этому именно то питание и то движение, которые ему подобают. Между тем если есть движения, обнаруживающие сродство с божественным началом внутри нас, то это мыслительные круговращения Вселенной;
d
им и должен следовать каждый из нас, дабы через усмотрение гармоний и круговоротов мира исправить круговороты в собственной голове, нарушенные уже при рождении, иначе говоря, добиться, чтобы созерцающее, как и требует изначальная его природа, стало подобно созерцаемому, и таким образом стяжать ту совершеннейшую жизнь, которую боги предложили нам как цель на эти и будущие времена.
e
Вот мы, кажется, и покончили с той задачей, которую взяли на себя в самом начале: довести рассказ о Вселенной до возникновения человека. Что касается вопроса о том, как возникли прочие живые существа, его можно рассмотреть вкратце, не вдаваясь без особой нужды в многословие, чтобы сохранить в этих наших речах должную меру.
Вот что скажем мы об этом: среди произошедших на свет мужей были и такие, которые оказывались трусами или проводили свою жизнь в неправде, и мы не отступим от правдоподобия, если предположим, что они при следующем рождении сменили свою природу на женскую,
91
между тем как боги, воспользовавшись этим, как раз тогда создали влекущий к соитию эрос и образовали по одному одушевленному существу внутри наших и женских [тел], построив каждое из них следующим образом. В том месте, где проток для выпитой влаги, миновав легкие, подходит пониже почек к мочевому пузырю, чтобы извергнуть оттуда под напором воздушного давления воспринятое, они открыли вывод для спинного мозга,
b
который непрерывно тянется от головы через шею вдоль позвоночного столба и который мы ранее нарекли семенем. Поскольку же мозг этот одушевлен, он, получив себе выход, не преминул возжечь в области своего выхода животворную жажду излияний, породив таким образом детородный эрос. Вот почему природа срамных частей мука строптива и своевольна, словно зверь, неподвластный рассудку, и под стрекалом непереносимого вожделения способна на все. Подобным же образом и у женщин та их часть, что именуется маткой, или утробой,
c
есть не что иное, как поселившийся внутри них зверь, исполненный детородного вожделения; когда зверь этот в поре, а ему долго нет случая зачать, он приходит в бешенство, рыщет по всему телу, стесняет дыхательные пути и не дает женщине вздохнуть, доводя ее до последней крайности и до всевозможных недугов, пока наконец женское вожделение и мужской эрос не сведут чету вместе
d
и не снимут как бы урожай с деревьев, чтобы засеять пашню утробы посевом живых существ, которые по малости своей пока невидимы и бесформенны, однако затем обретают расчлененный вид, вскармливаются в чреве матери до изрядной величины и после того выходят на свет, чем и завершается рождение живого существа. Итак, вот откуда пошли женщины и все, что принадлежит к женскому полу.
Растить на себе перья вместо волос и дать начало племени птиц пришлось мужам незлобивым, однако легкомысленным, а именно таким, которые любили умствовать о том, что находится над землей, но в простоте душевной полагали, будто наивысшая достоверность в таких вопросах принадлежит зрению.
e
А вот племя сухопутных животных произошло из тех, кто был вовсе чужд философии и не помышлял о небесном, поскольку утратил потребность в присущих голове круговращениях и предоставил руководительство над собой тем частям души, которые обитают в груди. За то, что они вели себя так, их передние конечности и головы протянулись к сродной им земле и уперлись в нее, а череп вытянулся или исказил свой облик каким‑либо иным способом, в зависимости от того насколько совершающиеся в черепе круговращения сплющились под действием праздности.
92
Вот причина, почему род их имеет по четыре ноги или даже более того: чем неразумнее существо, тем щедрее бог давал ему опоры, ибо его сильнее тянуло к земле. Те, которые были еще неразумнее и всем телом прямо‑таки распластывались по земле, уже не имели нужды в ногах, и потому бог породил их безногими и пресмыкающимися. Четвертый, или водный, род существ произошел от самых скудоумных неучен,
b
души которых были так нечисты из‑за всевозможных заблуждений, что ваятелям тел стало жалко для них даже чистого воздуха, и потому их отправили в глубины – вдыхать мутную воду, позабыв о тонком и чистом воздушном дыхании. Отсюда ведет начало порода рыб, устриц и вообще всех водяных животных, глубинные жилища которых являют собою возмездие за глубину их невежества.
c
Сообразно этому все живые существа и поныне перерождаются друг в друга, меняя облик по мере убывания или возрастания своего ума или глупости.
Теперь мы скажем, что наше рассуждение пришло к концу. Ибо, восприняв в себя смертные и бессмертные живые существа и пополнившись ими, наш космос стал видимым живым существом, объемлющим все видимое, чувственным богом, образом бога умопостигаемого, величайшим и наилучшим, прекраснейшим и совершеннейшим, единородным небом.[1746]
Перевод С. Аверинцева.
В кн.: Платон. Собр. соч. в 4‑х томах. Том 3. М.: «Мысль», 1994
XXVIII. КРИТИЙ
Тимей, Критий, Сократ, Гермократ
106
Тимей.
Ах, Сократ, как радуется путник, переведя дух после долгого пути, такую же радость чувствую сейчас и я, доведя до конца свое рассуждение. Богу[1747]
же, на деле пребывающему издревле, а в слове возникшему ныне, недавно, возношу молитву: пусть те из наших речей, которые сказаны как дулжно, обратит он нам во спасение, а если мы против воли что‑то сказали нескладно, да будет нам должная кара!
b
А должная кара для поющего не в лад состоит в том, чтобы научить его ладу; итак, дабы впредь мы могли вести правильные речи о рождении богов, пусть будет в ответ на нашу мольбу даровано нам целительное снадобье, изо всех снадобий совершеннейшее и наилучшее, – знание! Сотворив же молитву, по уговору передаем слово Критию[1748]
.
Критий.
Принять‑то слово я приму, Тимей, но, как ты сам вначале испрашивал снисхождения, ссылаясь на необъятность твоего предмета, так и я сделаю то же самое.
c
Принимая во внимание, о чем мне предстоит говорить, я думаю, что вправе требовать еще большего снисхождения.
107
Сам знаю, что просьба моя, пожалуй, тщеславна и не в меру странна, однако ж приходится ее высказать. Тебе‑то хорошо: кто, находясь в здравом уме, возьмется доказывать, что ты говорил неправильно? Но моя задача, как я попытаюсь доказать, труднее, а потому и требует большего снисхождения.
Видишь ли, Тимей, тому, кто говорит с людьми о богах, легче внушить к своим речам доверие, нежели тому, кто толкует с нами о смертных,
b
ибо, когда слушатели лишены в чем‑то опыта и знаний, это дает тому, кто вздумает говорить перед ними об этом, великую свободу действий. А уж каковы паши сведения о богах, это мы и сами понимаем. Чтобы яснее показать, что я имею в виду, приглашаю вас вместе со мной обратить внимание вот на какую вещь. Все, что мы говорим, есть в некотором роде подражание и отображение[1749]
; между тем, если мы рассмотрим работу живописцев над изображением тел божественных и человеческих
c
с точки зрения легкости или трудности, с которой можно внушить зрителям видимость полного сходства, мы увидим, что, если дело идет о земле, горах, реках и лесе, а равно и обо всем небосводе со всем сущим на нем и по нему идущим, мы бываем довольны, если живописец способен хоть совсем немного приблизиться к подобию этих предметов; и, поскольку мы не можем ничего о них знать с достаточной точностью, мы не проверяем и не изобличаем написанного, но терпим неясную и обманчивую тенепись.
d
Напротив, если кто примется изображать наши собственные тела, мы живо чувствуем упущения, всегда бываем очень внимательны к ним и являем собою суровых судей тому, кто не во всем и не вполне достигает сходства.
То же самое легко усмотреть и относительно рассуждений: речи о небесных и божественных предметах мы одобряем, если они являют хоть малейшую вероятность, речи о смертном и человеческом дотошно проверяем. А потому вам дулжно иметь снисхождение к тому, что я ныне без всякой подготовки имею сказать, если я и не смогу добиться во всем соответствия:
e
помыслите, что смертное не легко, но, наоборот, затруднительно отобразить в согласии с вероятностью. Все это я сказал ради того, Сократ,
108
чтобы напомнить вам об указанном обстоятельстве и потребовать не меньшего, но даже большего снисхождения к тому, что имею поведать. Если вам кажется, что я справедливо требую дара, дайте мне его, не скупясь.
Сократ.
Ах, Критий, почему бы нам тебе его не дать? И пусть уж заодно тот же дар получит у нас и третий – Гермократ. Ясно же, что немного спустя, когда ему придет черед говорить, он попросит о том же самом, о чем и вы.
b
Так вот, чтобы он смог позволить себе другое вступление, а не был принужден повторять это, пусть он строит свою речь так, как если бы уже получил для нее снисхождение. Так уж и быть, любезный Критий, открою тебе наперед, как настроены зрители этого театра: предыдущий поэт имел у них поразительный успех, и, если только ты окажешься в состоянии продолжить, снисхождение тебе обеспечено.
c
Гермократ.
Конечно, Сократ, твои слова относятся и ко мне, не только к нему. Ну что ж, робкие мужи еще никогда не водружали трофеев, Критий, а потому тебе следует отважно приняться за свою речь и, призвав на помощь Пеона[1750]
и Муз, представить и воспеть добродетели древних граждан.
Критий.
Хорошо тебе храбриться, любезный Гермократ, когда ты поставлен в задних рядах и перед тобою стоит другой боец. Ну да тебе еще придется испытать мое положение. Что до твоих утешений и подбадриваний, то нужно им внять и призвать на помощь богов –
d
тех, кого ты назвал, и других, особо же Мнемосину[1751]
. Едва ли не самое важное в моей речи целиком зависит от этой богини. Ведь если я верно припомню и перескажу то, что было поведано жрецами и привезено сюда Солоном[1752]
, я почти буду уверен, что наш театр сочтет меня сносно выполнившим свою задачу. Итак, пора начинать, нечего долее медлить.
e
Прежде всего вкратце припомним, что, согласно преданию, девять тысяч лет тому назад была война между теми народами, которые обитали по ту сторону Геракловых столпов[1753]
, и всеми теми, кто жил по сю сторону: об этой войне нам и предстоит поведать. Сообщается, что во главе последних вело войну, доведя ее до самого конца, наше государство, а во главе первых – цари острова Атлантиды; как мы уже упоминали, это некогда был остров, превышавший величиной Ливию и Азию, ныне же он провалился вследствие землетрясений и превратился в непроходимый ил, заграждающий путь мореходам, которые попытались бы плыть от нас в открытое море, и делающий плавание немыслимым[1754]
.
109
О многочисленных варварских племенах, а равно и о тех греческих народах, которые тогда существовали, будет обстоятельно сказано по ходу изложения, но вот об афинянах и об их противниках в этой войне необходимо рассказать в самом начале, описав силы и государственное устройство каждой стороны. Воздадим эту честь сначала афинянам и поведаем о них.
b
Как известно, боги поделили между собой по жребию все страны земли. Сделали они это без распрей[1755]
: ведь неправильно было бы вообразить, будто боги не знают, что подобает каждому из них, или будто они способны, зная, что какая‑либо вещь должна принадлежать другому, все же затевать об этой вещи распрю. Итак, получив по праву жребия желанную долю, каждый из богов обосновался в своей стране; обосновавшись же, они принялись пестовать нас, свое достояние и питомцев, как пастухи пестуют стадо[1756]
.
c
Но если эти последние воздействуют на тела телесным насилием и пасут скот посредством бича, то боги избрали как бы место кормчего, откуда удобнее всего направлять послушное живое существо, и действовали убеждением, словно рулем души, как им подсказывал их замысел. Так они правили всем родом смертных.
Другие боги получили по жребию другие страны и стали их устроить; но Гефест и Афина, имея общую природу как дети одного отца и питая одинаковую любовь к мудрости и художеству, соответственно получили и общий удел – нашу страну, по своим свойствам благоприятную для взращивания добродетели и разума;
d
населив ее благородными мужами, порожденными землей[1757]
, они вложили в их умы понятие о государственном устройстве. Имена их дошли до нас, но дела забыты из‑за бедствий, истреблявших их потомков, а также за давностью лет. Ибо выживали после бедствий, как уже приходилось говорить, неграмотные горцы, слыхавшие только имена властителей страны и кое‑что об их делах.
e
Подвиги и законы предков не были им известны, разве что по темным слухам, и только памятные имена они давали рождавшимся детям; при этом они и их потомки много поколений подряд терпели нужду в самом необходимом
110
и только об этой нужде думали и говорили, забывая предков и старинные дела. Ведь занятия мифами и разыскания о древних событиях появились в городах одновременно с досугом, когда обнаружилось, что некоторые располагают готовыми средствами к жизни, но не ранее. Потому‑то имена древних дошли до нас, а дела их нет. И тому есть у меня вот какое доказательство: имена Кекропа, Эрехтея, Эрихтония, Эрисихтона и бульшую часть других имен, относимых преданием к предшественникам Тесея,
b
а соответственно и имена женщин, по свидетельству Солона, назвали ему жрецы[1758]
, повествуя о тогдашней войне. Ведь даже вид и изображение нашей богини, объясняемые тем, что в те времена занятия воинским делом были общими у мужчин и у женщин и в согласии с этим законом тогдашние люди создали изваяние богини в доспехах[1759]
, –
c
всё это показывает, что входящие в одно сообщество существа женского и мужского пола могут. вместе упражнять добродетели, присущие либо одному, либо другому полу.
Обитали в нашей стране и разного звания граждане, занимавшиеся ремеслами и землепашеством, но вот сословие воинов божественные мужи с самого начала обособили, и оно обитало отдельно[1760]
. Его члены получали все нужное им для прожития и воспитания, но никто ничего не имел в частном владении,
d
а все считали всё общим и притом не находили возможным что‑либо брать у остальных граждан сверх необходимого; они выполняли все те обязанности, о которых мы вчера говорили в связи с предполагаемым сословием стражей. А вообще о нашей стране рассказывалось достоверно и правдиво, и прежде всего говорилось, что ее границы в те времена доходили до Истма, а в материковом направлении шли до вершин Киферона и Парнефа
e
и затем спускались к морю, имея по правую руку Оропию, а по левую Асоп[1761]
. Плодородием же здешняя земля превосходила любую другую, благодаря чему страна была способна содержать многолюдное войско, освобожденное от занятия землепашеством. И вот веское тому доказательство:
111
даже нынешний остаток этой земли не хуже какой‑либо другой производит различные плоды и питает всевозможных животных. Тогда же она взращивала всё это самым прекрасным образом и в изобилии.
Но как в этом убедиться и почему нынешнюю страну правильно называть остатком прежней? Вся она тянется от материка далеко в море, как мыс, и со всех сторон погружена в глубокий сосуд пучины. Поскольку же за девять тысяч лет случилось много великих наводнений (а именно столько лет прошло с тех времен до сего дня),
b
земля не накапливалась в виде сколько‑нибудь значительной отмели, как в других местах, но смывалась волнами и потом исчезала в пучине. И вот остался, как бывает с малыми островами, сравнительно с прежним состоянием лишь скелет истощенного недугом тела, когда вся мягкая и тучная земля оказалась смытой и только один остов ещё перед нами. Но в те времена еще неповрежденный край имел и высокие многохолмные горы,
c
и равнины, которые ныне зовутся каменистыми, а тогда были покрыты тучной почвой, и обильные леса в горах. Последнему и теперь можно найти очевидные доказательства: среди наших гор есть такие, которые ныне взращивают разве только пчел, а ведь целы еще крыши из кровельных деревьев, срубленных в этих горах для самых больших строений. Много было и высоких деревьев из числа тех, что выращены рукой человека, а для скота были готовы необъятные пажити,
d
ибо воды, каждый год изливаемые от Зевса[1762]
, не погибали, как теперь, стекая с оголенной земли в море, но в изобилии впитывались в почву, просачивались сверху в пустоты земли и сберегались в глиняных ложах, а потому повсюду не было недостатка в источниках ручьев и рек. Доселе существующие священные остатки прежних родников свидетельствуют о том, что наш теперешний рассказ об этой стране правдив.
e
Таким был весь наш край от природы, и возделывался он так, как можно ожидать от истинных, знающих свое дело, преданных прекрасному и наделенных способностями землепашцев, когда им дана отличная земля, обильное орошение и умеренный климат. Столица же тогда была построена следующим образом. Прежде всего акрополь выглядел совсем не так, как теперь,
112
ибо ныне его холм оголен и землю с него за одну необыкновенно дождливую ночь смыла вода, что произошло, когда одновременно с землетрясением разразился неимоверный потоп, третий по счету перед Девкалионовым бедствием[1763]
. Но в минувшие времена акрополь простирался до Эридана и Илиса, охватывая Пикн, а в противоположной к Пикну стороне гору Ликабет[1764]
, притом он был весь покрыт землей, а сверху, кроме немногих мест, являл собой ровное пространство.
b
Вне его, по склонам холма, обитали ремесленники и те из землепашцев, участки которых были расположены поблизости; но наверху, в уединении, селилось вокруг святилища Афины и Гефеста обособленное сословие воинов за одной оградой, замыкавшей как бы сад, принадлежащий одной семье. На северной стороне холма воины имели общие жилища, помещения для общих зимних трапез
c
и вообще все то по части домашнего хозяйства и священных предметов, что считается приличным иметь воинам[1765]
в государствах с общественным управлением, кроме, однако, золота и серебра: ни того ни другого они не употребляли ни под каким видом, но, блюдя середину между пышностью и убожеством, скромно обставляли свои жилища, в которых доживали до старости они сами и потомки их потомков, вечно передавая дом в неизменном виде подобным себе преемникам[1766]
. Южную сторону холма они отвели для садов, для гимнасиев и для совместных летних трапез, соответственно ею и пользуясь.
d
Источник был один – на месте нынешнего акрополя; теперь он уничтожен землетрясениями, и от него остались только небольшие родники кругом, но людям тех времен он доставлял в изобилии воду, хорошую для питья как зимой, так и летом. Так они обитали здесь – стражи для своих сограждан и вожди всех прочих эллинов по доброй воле последних; более всего они следили за тем, чтобы на вечные времена сохранить одно и то же число мужчин и женщин, способных когда угодно взяться за оружие, а именно около двадцати тысяч.
e
Такими они были, и таким образом они справедливо управляли своей страной и Элладой; во всей Европе и Азии не было людей более знаменитых и прославленных за красоту тела и за многостороннюю добродетель души.
Теперь, что касается их противников и того, как шли дела последних с самого начала. Посмотрим, не успел ли я позабыть то, что слышал еще ребенком, и выложу свои знания перед вами, чтобы у друзей все было общим.
113
Но рассказу моему нужно предпослать еще одно краткое пояснение, чтобы вам не пришлось удивляться, часто слыша эллинские имена в приложении к варварам. Причина этому такова. Как только Солону явилась мысль воспользоваться этим рассказом для своей поэмы[1767]
, он полюбопытствовал о значении имен и услыхал в ответ, что египтяне, записывая имена родоначальников этого народа, переводили их на свой язык, потому и сам Солон, выясняя значение имени, записывал его уже на нашем языке.
b
Записи эти находились у моего деда[1768]
и до сей поры находятся у меня, и я прилежно прочитал их еще ребенком. А потому, когда вы услышите от меня имена, похожие на наши, пусть для вас не будет в этом ничего странного – вы знаете, в чем дело. Что касается самого рассказа, то он начинался примерно так.
Сообразно со сказанным раньше, боги по жребию разделили всю землю на владения – одни побольше, другие поменьше – и учреждали для себя святилища и жертвоприношения.
c
Так и Посейдон, получив в удел остров Атлантиду, населил ее своими детьми, зачатыми от смертной женщины, примерно вот в каком месте: от моря и до середины острова простиралась равнина, если верить преданию, красивее всех прочих равнин и весьма плодородная, а опять‑таки в середине этой равнины, примерно в пятидесяти стадиях[1769]
от моря, стояла гора, со всех сторон невысокая. На этой горе жил один из мужей, в самом начале произведенных там на свет землею, по имени Евенор, и с ним жена Левкиппа;
d
их единственная дочь звалась Клейто[1770]
. Когда девушка уже достигла брачного возраста, а мать и отец её скончались, Посейдон, воспылав вожделением, соединяется с ней; тот холм, на котором она обитала, он укрепляет, по окружности отделяя его от острова и огораживая попеременно водными и земляными кольцами (земляных было два, а водных – три) все большего диаметра, проведенными словно циркулем из середины острова и на равном расстоянии друг от друга.
e
Это заграждение было для людей непреодолимым, ибо судов и судоходства тогда еще не существовало. А островок в середине Посейдон без труда, как то и подобает богу, привел в благоустроенный вид, источил из земли два родника – один теплый, а другой холодный – и заставил землю давать разнообразное и достаточное для жизни пропитание.
Произведя на свет пять раз по чете близнецов мужского пола, Посейдон взрастил их и поделил весь остров Атлантиду на десять частей, причем тому из старшей четы, кто родился первым,
114
он отдал дом матери и окрестные владения как наибольшую и наилучшую долю и поставил его царем над остальными, а этих остальных – архонтами, каждому из которых он дал власть над многолюдным народом и обширной страной. Имена же всем он нарек вот какие: старшему и царю – то имя, по которому названы и остров, и море, что именуется Атлантическим, ибо имя того, кто первым получил тогда царство, было Атлант[1771]
.
b
Близнецу, родившемуся сразу после него и получившему в удел крайние земли острова со стороны Геракловых столпов вплоть до нынешней страны гадиритов, называемой по тому уделу, было дано имя, которое можно было бы передать по‑эллински как Евмел, а на туземном наречии – как Гадир[1772]
. Из второй четы близнецов он одного назвал Амфереем, а другого – Евэмоном, из третьей – старшего Мнесеем, а младшего Автохтоном,
c
из четвертой – Эласиппом старшего и Местором младшего, и, наконец, из пятой четы старшему он нарек имя Азаэс, а последнему – Диапреп[1773]
. Все они и их потомки в ряду многих поколений обитали там, властвуя над многими другими островами этого моря и притом, как уже было сказано ранее, простирая свою власть по ею сторону Геракловых столпов вплоть до Египта и Тиррении[1774]
.
d
От Атланта произошел особо многочисленный и почитаемый род, в котором старейший всегда был царем и передавал царский сан старейшему из своих сыновей, из поколения в поколение сохраняя власть в роду, и они скопили такие богатства, каких никогда не было ни у одной царской династии в прошлом и едва ли будут когда‑нибудь еще, ибо в их распоряжении было все необходимое, приготовляемое как в городе, так и по всей стране.
e
Многое ввозилось к ним из подвластных стран, но большую часть потребного для жизни давал сам остров, прежде всего любые виды ископаемых твердых и плавких металлов, и в их числе то, что ныне известно лишь по названию, а тогда существовало на деле: самородный орихалк[1775]
, извлекавшийся из недр земли в различных местах острова и по ценности своей уступавший тогда только золоту. Лес в изобилии доставлял все, что нужно для работы строителям, а равно и для прокормления домашних и диких животных. Даже слонов на острове водилось великое множество, ибо корму хватало не только для всех прочих живых существ, населяющих болота, озера и реки, горы или равнины,
115
но и для этого зверя, из всех зверей самого большого и прожорливого. Далее, все благовония, которые ныне питает земля, будь то в корнях, в травах, в древесине, в сочащихся смолах, в цветах или в плодах, – все это она рождала там и отлично взращивала. Притом же и всякий нежный плод и злак, который мы употребляем в пищу или из которого готовим хлеб, и разного рода овощи, а равно и всякое дерево, приносящее яства, напитки или умащения,
b
например, непригодный для хранения и служащий для забавы и лакомства древесный плод, а также тот, что мы предлагаем на закуску пресытившемуся обедом, – всё это тогда под воздействием солнца священный остров порождал прекрасным, изумительным и изобильным[1776]
. Пользуясь этими дарами земли, цари устроили святилища, дворцы, гавани и верфи и привели в порядок всю страну, придав ей следующий вид.
c
Прежде всего они перебросили мосты через водные кольца, окружавшие древнюю метрополию, построив путь из столицы и обратно в нее. Дворец они с самого начала выстроили там, где стояло обиталище бога и их предков, и затем, принимая его в наследство, один за другим все более его украшали, всякий раз силясь превзойти предшественника,
d
пока в конце концов не создали поразительное по величине и красоте сооружение. От моря они провели канал в три плетра[1777]
шириной и сто футов глубиной, а в длину на пятьдесят стадиев вплоть до крайнего из водных колец: так они создали доступ с моря в это кольцо, словно в гавань, приготовив достаточный проход даже для самых больших судов. Что касается земляных колец, разделявших водные, то вблизи мостов они прорыли каналы такой ширины, чтобы от одного водного кольца к другому могла пройти одна триера[1778]
;
e
сверху же они настлали перекрытия, под которыми должно было совершаться плавание: высота земляных колец над поверхностью моря была для этого достаточной. Самое большое по окружности водное кольцо, с которым непосредственно соединялось море, имело в ширину три стадия, и следовавшее за ним земляное кольцо было равно ему по ширине; из двух следующих колец водное было в два стадия шириной и земляное опять‑таки было равно водному; наконец, водное кольцо, опоясывавшее находившийся в середине остров, было в стадий шириной.
116
Остров, на котором стоял дворец, имел пять стадиев в диаметре; этот остров, а также земляные кольца и мост шириной в плетр цари обвели круговыми каменными стенами и на мостах у проходов к морю всюду поставили башни и ворота. Камень белого, черного и красного цвета они добывали в недрах срединного острова и в недрах внешнего и внутреннего земляных колец,
b
а в каменоломнях, где с двух сторон оставались углубления, перекрытые сверху тем же камнем, они устраивали стоянки для кораблей. Если некоторые свои постройки они делали простыми, то в других они забавы ради искусно сочетали камни разного цвета, сообщая им естественную прелесть; также и стены вокруг наружного земляного кольца они по всей окружности обделали в медь, нанося металл в расплавленном виде, стену внутреннего вала покрыли литьем из олова, а стену самого акрополя – орихалком, испускавшим огнистое блистание.
c
Обиталище царей внутри акрополя было устроено следующим образом. В самом средоточии стоял недоступный святой храм Клейто и Посейдона, обнесенный золотой стеной, и это было то самое место, где они некогда зачали и породили поколение десяти царевичей; в честь этого ежегодно каждому из них изо всех десяти уделов доставляли сюда жертвенные начатки. Был и храм, посвященный одному Посейдону,
d
который имел стадий в длину, три плетра в ширину и соответственную этому высоту; в облике же постройки было нечто варварское. Всю внешнюю поверхность храма, кроме акротериев[1779]
, они выложили серебром, акротерии же – золотом; внутри взгляду являлся потолок из слоновой кости, весь изукрашенный золотом, серебром и орихалком, а стены, столпы и полы сплошь были выложены орихалком. Поставили там и золотые изваяния: сам бог на колеснице, правящий шестью крылатыми конями и головой достающий до потолка,
e
вокруг него – сто Нереид на дельфинах (ибо люди в те времена представляли себе их число таким), а также и много статуй, пожертвованных частными лицами. Снаружи вокруг храма стояли золотые изображения жен и всех тех, кто произошел от десяти царей, а также множество прочих дорогих приношений от царей и от частных лиц этого города и тех городов, которые были ему подвластны.
117
Алтарь по величине и отделке был соразмерен этому богатству; равным образом и царский дворец находился в надлежащей соразмерности как с величием державы, так и с убранством святилищ.
К услугам царей было два источника – родник холодной и родник горячей воды, которые давали воду в изобилии, и притом удивительную как на вкус, так и по целительной силе; их обвели стенами, насадили при них подходящие к свойству этих вод деревья и направили эти воды в купальни, из которых одни были под открытым небом,
b
другие же, с теплой водой, были устроены как зимние, причем отдельно для царей, отдельно для простых людей, отдельно для женщин и отдельно для коней и прочих подъяремных животных; и каждая купальня была отделана соответственно своему назначению. Излишки воды они отвели в священную рощу Посейдона, где благодаря плодородной почве росли деревья неимоверной красоты и величины, а оттуда провели по каналам через мосты на внешние земляные кольца.
c
На этих кольцах соорудили они множество святилищ различных божеств и множество садов и гимнасиев для упражнения мужей и коней. Все это было расположено отдельно друг от друга на каждом из кольцевидных островов; в числе прочего посредине самого большого кольца у них был устроен ипподром для конских бегов, имевший в ширину стадий, а в длину шедший по всему кругу. По ту и другую сторону его стояли помещения для множества царских копьеносцев,
d
но более верные копьеносцы были размещены на меньшем кольце, ближе к акрополю, а самым надежным из всех были даны помещения внутри акрополя, рядом с обиталищем царя. Верфи были наполнены триерами и всеми снастями, какие могут понадобиться для триер, так что всего было вдоволь. Так было устроено место, где жили цари. Если же миновать три внешние гавани, то там шла по кругу начинавшаяся от моря стена,
e
которая на всем своем протяжении отстояла от самого большого водного кольца и от гавани на пятьдесят стадиев; она смыкалась около канала, выходившего в море. Пространство внутри нее было густо застроено, а проток и самая большая гавань были переполнены кораблями, на которых отовсюду прибывали купцы, и притом в таком множестве, что днем и ночью слышались говор, шум и стук.
118
Итак, мы более или менее припомнили, что было рассказано тогда о городе и о древнем обиталище. Теперь попытаемся вспомнить, какова была природа сельской местности и каким образом она была устроена. Во‑первых, было сказано, что весь этот край лежал очень высоко и круто обрывался к морю, но вся равнина, окружавшая город и сама окруженная горами, которые тянулись до самого моря, являла собой ровную гладь, в длину три тысячи стадиев, а в направлении от моря к середине – две тысячи.
b
Вся эта часть острова была обращена к южному ветру, а с севера закрыта горами. Эти горы восхваляются преданием за то, что они по множеству, величине и красоте превосходили все нынешние: там было большое количество многолюдных селений, были реки, озера и луга, доставлявшие пропитание всем родам ручных и диких животных, а равно и огромные леса, отличавшиеся разнообразием пород, в изобилии доставлявшие дерево для любого дела.
c
Такова была упомянутая равнина от природы, а над устроением ее потрудилось много царей на протяжении многих поколений. Она являла собой продолговатый четырехугольник, по большей части прямолинейный, а там, где его форма нарушалась, ее выправили, окопав со всех сторон каналом. Если сказать, каковы были глубина, ширина и длина этого канала, никто не поверит, что возможно было такое творение рук человеческих, выполненное в придачу к другим работам, но мы обязаны передать то, что слышали: он был прорыт в глубину на плетр, ширина на всем протяжении имела стадий,
d
длина же по периметру вокруг всей равнины была десять тысяч стадиев. Принимая в себя потоки, стекавшие с гор, и огибая равнину, через которую он в различных местах соединялся с городом, канал изливался в море. От верхнего участка канала к его участку, шедшему вдоль моря, были прорыты прямые каналы почти в сто футов шириной, причем они отстояли друг от друга на сто стадиев. Соединив их между собой и с городом косыми протоками,
e
по ним переправляли к городу лес с гор и разнообразные плоды. Урожай снимали по два раза в год, зимой получая орошение от Зевса, а летом отводя из каналов воды, источаемые землей.
Что касается числа мужей, пригодных к войне, то здесь существовали такие установления: каждый участок равнины должен был поставлять одного воина‑предводителя,
119
причем величина каждого участка была десять на десять стадиев, а всего участков насчитывалось шестьдесят тысяч; а те простые ратники, которые набирались в несчетном числе из гор и из остальной страны, сообразно с их деревнями и местностями распределялись по участкам между предводителями. В случае войны каждый предводитель обязан был поставить шестую часть боевой колесницы, так, чтобы всего колесниц было десять тысяч,
b
а сверх того, двух верховых коней с двумя всадниками, двухлошадную упряжку без колесницы, воина с малым щитом, способного сойти с нее и биться в пешем бою, возницу, который правил бы конями упряжки, двух гоплитов, по два лучника и пращника, по трое камнеметателей и копейщиков, по четыре корабельщика, чтобы набралось достаточно людей на общее число тысячи двухсот кораблей. Таковы были относящиеся к войне правила в области самого царя; в девяти других областях были и другие правила, излагать которые потребовало бы слишком много времени.
c
Порядки относительно властей и должностей с самого начала были установлены следующие. Каждый из десяти царей в своей области и в своем государстве имел власть над людьми и над большей частью законов, так что мог карать и казнить любого, кого пожелает; но их отношения друг к другу в деле правления устроялись сообразно с Посейдоновыми предписаниями[1780]
, как велел закон, записанный первыми царями на орихалковой стеле, которая стояла в средоточии острова – внутри храма Посейдона.
d
В этом храме они собирались то на пятый, то на шестой год, попеременно отмеривая то четное, то нечетное число, чтобы совещаться об общих заботах, разбирать, не допустил ли кто‑нибудь из них какого‑либо нарушения, и творить суд. Перед тем как приступить к суду, они всякий раз приносили друг другу вот какую присягу: в роще при святилище Посейдона на воле разгуливали быки; и вот десять царей, оставшись одни и вознесши богу молитву, чтобы он сам избрал для себя угодную жертву, приступали к ловле, но без применения железа,
e
вооруженные только палками и арканами, а быка, которого удалось изловить, заводили на стелу и закалывали на ее вершине так, чтобы кровь стекала на письмена. На упомянутой стеле помимо законов было еще и заклятие, призывавшее великие беды на головы тех, кто их нарушит.
120
Принеся жертву по своим уставам и предав сожжению все члены быка, они разводили в чаше вино и бросали в него каждый по сгустку бычьей крови, а все оставшееся клали в огонь и тщательно очищали стелу. После этого, зачерпнув из чаши влагу золотыми фиалами и сотворив над огнем возлияние, они приносили клятву, что будут чинить суд по записанным на стеле законам и карать того, кто уже в чем‑либо преступил закон, а сами в будущем по доброй воле никогда не поступят противно написанному и будут отдавать и выполнять лишь такие приказания, которые сообразны с отеческими законами.
b
Поклявшись такой клятвой за себя самого и за весь род своих потомков, каждый из них пил и водворял фиал на место в святилище бога, а затем, когда пир и необходимые обряды были окончены, наступала темнота и жертвенный огонь остывал, все облачались в прекраснейшие иссиня‑черные стулы, усаживались на землю при клятвенном огневище и ночью, погасив в храме все огни,
c
творили суд и подвергались суду, если кто‑либо из них нарушил закон; окончив суд, они с наступлением дня записывали приговоры на золотой скрижали и вместе со столами посвящали богу как памятное приношение.
Существовало множество особых законоположений о правах каждого из царей, но важнее всего было следующее: ни один из них не должен был подымать оружия против другого, но все обязаны были прийти на помощь, если бы кто‑нибудь вознамерился свергнуть в одном из государств царский род,
d
а также по обычаю предков сообща советоваться о войне и прочих делах, уступая верховное главенство царям Атлантиды. Притом нельзя было казнить смертью никого из царских родичей, если в совете десяти в пользу этой меры не было подано свыше половины голосов.
Столь великую и необычайную мощь, пребывавшую некогда в тех странах, бог устроил там и направил против наших земель, согласно преданию, по следующей причине.
e
В продолжение многих поколений, покуда не истощилась унаследованная от бога природа, правители Атлантиды повиновались законам и жили в дружбе со сродным им божественным началом: они блюли истинный и во всем великий строй мыслей, относились к неизбежным определениям судьбы и друг к другу с разумной терпеливостью, презирая все, кроме добродетели, ни во что не ставили богатство и с легкостью почитали чуть ли не за досадное бремя груды золота и прочих сокровищ.
121
Они не пьянели от роскоши, не теряли власти над собой и здравого рассудка под воздействием богатства, но, храня трезвость ума, отчетливо видели, что и это все обязано своим возрастанием общему согласию в соединении с добродетелью, но когда становится предметом забот и оказывается в чести, то и само оно идет прахом и вместе с ним гибнет добродетель. Пока они так рассуждали, а божественная природа сохраняла в них свою силу, все их достояние, нами описанное, возрастало.
b
Но когда унаследованная от бога доля ослабела, многократно растворяясь в смертной примеси, и возобладал человеческий нрав, тогда они оказались не в состоянии долее выносить свое богатство и утратили благопристойность. Для того, кто умеет видеть, они являли собой постыдное зрелище, ибо промотали самую прекрасную из своих ценностей; но неспособным усмотреть, в чем состоит истинно счастливая жизнь, они казались прекраснее и счастливее всего как раз тогда, когда в них кипела безудержная жадность и сила.
И вот Зевс, бог богов, блюдущий законы, хорошо умея усматривать то, о чем мы говорили, помыслил о славном роде, впавшем в столь жалкую развращенность, и решил наложить на него кару[1781]
, дабы он, отрезвев от беды, научился благообразию.
c
Поэтому он созвал всех богов в славнейшую из их обителей, утвержденную в средоточии мира, из которой можно лицезреть все причастное рождению, и обратился к собравшимся с такими словами…
[Продолжение либо утеряно, либо Платон не успел его дописать]
Перевод С. Аверинцева.
В кн.: Платон. Собр. соч. в 4‑х томах. Том 3. М.: «Мысль», 1994
XXIX. ПОЛИТИК
Сократ, Феодор, Чужеземец, Сократ‑младший
257
Сократ.
Я весьма благодарен тебе, Феодор, за то, что ты познакомил меня с Теэтетом и с чужеземцем.
Феодор.
Быть может, Сократ, ты скоро будешь мне благодарен втройне, когда они изобразят тебе политика и философа.
Сократ.
Пусть будет так. Но скажем ли мы, дорогой Феодор, что слышали это от первого мастера в счете и геометрии?
b
Феодор.
Что ты хочешь этим сказать, Сократ?
Сократ.
Ты одинаково оценил этих мужей, а между тем по своему достоинству они оказываются дальше один от другого, чем подсчитало ваше искусство.
Феодор.
Клянусь нашим богом Аммоном[1782]
, ты удачно, справедливо и выказав прекрасную память указал мне на ошибку в подсчете. Но я тебе отомщу после. Ты же, чужеземец, не сочти за труд доставить нам удовольствие и, выбрав либо политика, либо философа, разбери их нам по порядку.
c
Чужеземец.
Да, так надо поступить, Феодор; раз уж мы взялись за дело, нам не следует отступаться, пока не дойдем до конца. Но что же мне делать вот с Теэтетом?
Феодор.
А что такое?
Чужеземец.
Разрешим ему отдохнуть, заменив вот этим Сократом – его товарищем по гимнасию? Или ты дашь другой совет?
Феодор.
Возьми, как ты сказал, Сократа. Они ведь молоды, и им легче переносить любой труд отдыхая.
d
Сократ.
Да ведь оба они, чужеземец, словно состоят со мной в родстве. Об одном из них вы говорите, что он схож со мной лицом[1783]
, другой носит то же имя, что я, и в одинаковом обращении к нам есть что‑то сродное.
258
А ведь родных людей всегда надо стремиться узнать в беседе. С Теэтетом я сам вчера беседовал и сегодня слушал его ответы, Сократа же не слышал совсем. Между тем надо испытать и его. Впрочем, мне он ответит после, сейчас же пусть отвечает тебе.
Чужеземец.
Пусть будет так. Сократ, ты слышишь Сократа?
Сократ мл.
Да.
Чужеземец.
Ты согласен с тем, что он говорит?
Сократ мл.
Безусловно.
b
Чужеземец.
Ну, раз с твоей стороны нет препятствий, не может их быть и с моей. Но после софиста нам необходимо, как мне кажется, рассмотреть политика. Скажи мне, отнесем ли мы его к знающим людям, или ты считаешь иначе?
Сократ мл.
Нет, именно так.
Чужеземец.
Значит, знания нужно различать, как мы делали это в отношении софиста?
Сократ мл.
Хорошо бы.
Чужеземец.
Однако это различение, Сократ, надо, думаю я, делать не так.
Сократ мл.
А как же?
c
Чужеземец.
Другим способом.
Сократ мл.
Возможно.
Чужеземец.
Каким образом отыскать путь политика? А ведь нужно его отыскать и, отделив его от других путей, отметить знаком единого вида; все другие ответвляющиеся тропки надо обозначить как другой единый вид, с тем чтобы душа наша мыслила знания в качестве двух видов.
Сократ мл.
Думаю, что это твое дело, чужеземец, а не мое.
d
Чужеземец.
Нет, Сократ, надо, чтобы это было и твоим делом, если мы хотим его сделать ясным.
Сократ мл.
Ты прав.
Чужеземец.
Итак, арифметика и некоторые другие сродные ей искусства не занимаются делами и дают только чистые знания?
Сократ мл.
Да, это так.
Чужеземец.
А строительные искусства и все вообще ремесла обладают знанием, как бы вросшим в дела, и, таким образом, они создают вещи, которых раньше не существовало.
e
Сократ мл.
Как же иначе?
Чужеземец.
Значит, разделим все знания надвое и один вид назовем практическим, а другой – познавательным[1784]
.
Сократ мл.
Пусть это будут у тебя как бы два вида одного цельного знания.
Чужеземец.
Так что же: политика, царя, господина и даже домоправителя – всех вместе – сочтем мы чем‑то единым или мы скажем, что здесь столько искусств, сколько названо имен? А еще лучше, следуй за мной вот каким путем.
Сократ мл.
Каким?
259
Чужеземец.
Например, если какой‑нибудь частный врач может давать советы врачу общественному[1785]
, разве не необходимо назвать его искусство таким же именем, что и у того, кто принимает его совет?
Сократ мл.
Да, это было бы необходимо.
Чужеземец.
Ну, а если кто настолько искусен, чтобы давать советы царю страны, хотя он лишь частное лицо, разве не скажем мы, что он обладает тем знанием, которое надлежало бы иметь правителю?
Сократ мл.
Скажем.
b
Чужеземец.
Но ведь искусство править – это искусство подлинного царя?
Сократ мл.
Да.
Чужеземец.
Так не правильно ли будет, чтобы тот, кто получил его в удел, будь то правитель или простой человек, назывался по имени этого искусства царственным мужем?
Сократ мл.
Это справедливо.
Чужеземец.
То же самое относится к домоправителю и к господину.
Сократ мл.
Как же иначе?
Чужеземец.
Что же? Большое домохозяйство или забота о малом городе – в чем здесь разница для управления?
Сократ мл.
Ни в чем.
c
Чужеземец.
Значит, для всего, что мы сейчас рассматриваем, по‑видимому, есть единое знание: назовут ли его искусством царствовать, государственным искусством или искусством домоправления – нам нет никакой разницы.
Сократ мл.
Конечно!
Чужеземец.
Однако ясно одно: руки и даже все тело какого угодно царя не имеют такого значения в деле управления, как разум и прочие душевные силы.
Сократ мл.
Это ясно.
d
Чужеземец.
Итак, мы скажем, что царю больше подобает познавательное, чем ремесленное и вообще всякое другое практическое искусство?
Сократ мл.
Конечно.
Чужеземец.
Ну, а государственное искусство и все, что относится к государству, а также искусство править и все связанное с правлением будем ли мы считать чем‑то единым и тождественным?
Сократ мл.
Очевидно, да.
Чужеземец.
Не двинуться ли нам вперед, по порядку, и не разделить ли затем познавательное искусство?
Сократ мл.
Конечно, так нужно сделать.
Чужеземец.
Будь же внимателен: какое мы усмотрим в нем разделение?
Сократ мл.
Скажи ты, какое?
e
Чужеземец.
Вот какое. Существует ли у нас счетное искусство?
Сократ мл.
Да.
Чужеземец.
Оно, я думаю, несомненно относится к познавательным искусствам.
Сократ мл.
Как же иначе?
Чужеземец.
Но коль скоро оно познало различие в числах, мы ведь не припишем ему большей роли, чем роль судьи того, что познано?
Сократ мл.
Конечно.
Чужеземец.
Ведь и любой зодчий не сам работает, а только управляет работающими.
Сократ мл.
Да.
Чужеземец.
И вносит он в это знание, а не ручной труд.
Сократ мл.
Это так.
260
Чужеземец.
Поэтому справедливо было бы сказать, что он причастен познавательному искусству.
Сократ мл.
Бесспорно.
Чужеземец.
Но только, я думаю, после того, как он вынесет суждение, это еще не конец, и он не может на этом остановиться, подобно мастеру счетного искусства: он должен еще отдавать приказания – какие следует – каждому из работающих, пока они не выполнят то, что наказано.
Сократ мл.
Правильно.
Чужеземец.
Значит, хотя все такие искусства – связанные с искусством счета – познавательные, однако один их род отличает суждение, а другой – приказ?
b
Сократ мл.
По‑видимому.
Чужеземец.
Итак, если мы скажем, что все познавательное искусство разделяется на повелевающую часть и часть, выносящую суждение, удачно ли мы разделим?
Сократ мл.
По моему мнению, да.
Чужеземец.
Но ведь тем, кто делает что‑то сообща, приятно и мыслить согласно?
Сократ мл.
Как же иначе?
Чужеземец.
Вот и мы до сих пор согласно общались, а чужие мнения надо оставить в покое.
Сократ мл.
Конечно.
c
Чужеземец.
Так скажи же, из этих двух искусств куда отнесем мы искусство царствовать? Будет ли оно заключаться в искусстве суждения и царь будет выступать в качестве зрителя, или же мы отнесем царя к области повелевающей, как владыку?
Сократ мл.
Лучше, пожалуй, последнее.
Чужеземец.
И опять же надо рассмотреть искусство повелевать: не делится ли и оно каким‑то образом? Мне кажется, что как искусство крупных торговцев отличается от искусства мелких, так же далеко и род царского искусства отстоит от рода глашатаев.
d
Сократ мл.
Что ты имеешь в виду?
Чужеземец.
Мелкие торговцы, купив сначала чужие товары, перепродают их другим.
Сократ мл.
Да, это верно.
Чужеземец.
Так и сословие вестников, получив сначала чужие мысли, потом передает и предписывает их другим.
Сократ мл.
Сущая правда.
e
Чужеземец.
Что же? Смешаем ли мы воедино искусство царя и искусство истолкования, искусство приказывать, искусство прорицать, искусство глашатая и многие другие искусства, имеющие общее свойство – повелевать? Или, если хочешь, подобно тому как мы сейчас сравнивали искусства, сравним и их имена: ведь самоповелевающий род пока безымянен, и мы таким образом отделим одно от другого, поместив род царей в область самоповелевающего искусства, всеми же остальными родами пренебрежем и предоставим кому угодно придумывать им имена: в самом деле, наше исследование было предпринято ради правителя, а не ради того, что ему противоположно.
261
Сократ мл.
Совершенно верно.
Чужеземец.
Но раз этот род достаточно отличен от тех и то, что ему присуще, отделено от того, что ему чуждо, не нужно ли снова произвести деление, если окажется, что этот род его допускает?
Сократ мл.
Конечно, нужно.
Чужеземец.
А оказывается, что это так. Следуй же за мной и дели.
Сократ мл.
Как именно?
Чужеземец.
Не сочтем ли мы, что все правители, имеющие в распоряжении возможность повелевать, повелевают ради какого‑то возникновения?
b
Сократ мл.
Конечно.
Чужеземец.
А ведь совсем нетрудно все возникающее разделить надвое.
Сократ мл.
Каким образом?
Чужеземец.
Одна часть всего возникающего не одушевлена, другая одушевлена.
Сократ мл.
Да.
Чужеземец.
Вот по этим признакам мы и разделим, если пожелаем делить, повелевающую часть познавательного искусства.
Сократ мл.
В соответствии с чем?
Чужеземец.
Мы отнесем одну часть повелевающего искусства к возникновению неодушевленных существ, а другую – к возникновению одушевленных. Таким образом все и разделится на две части.
c
Сократ мл.
Безусловно.
Чужеземец.
Оставим же одну из этих частей и возьмем другую, а взяв, снова разделим всё надвое.
Сократ мл.
Но которую из них, по твоим словам, надо взять?
Чужеземец.
Конечно, ту, что относится к живым существам. Ведь совсем невместно царскому знанию повелевать лишенными души вещами: задача его благороднее, и власть простирается на живых и на то, что им причастно.
d
Сократ мл.
Это правильно.
Чужеземец.
На выведение потомства и питание живых существ в одних случаях можно смотреть как на выращивание в одиночку, в других – как на общую заботу о целых стадах животных.
Сократ мл.
Верно.
Чужеземец.
Но политик, как мы увидим, не занимается выращиванием в одиночку, как некоторые погонщики быков и конюхи ухаживают за волами и конями; он больше напоминает табунщика коней и быков.
Сократ мл.
Теперь мне ясно то, что ты говоришь.
e
Чужеземец.
Не назвать ли нам общее выращивание всех животных как‑то так – «стадное» или «совместное» выращивание?
Сократ мл.
Здесь подойдет и то и другое.
Чужеземец.
Прекрасно, Сократ. Если ты не будешь особенно заботиться о словах, то к старости обогатишься умом. Теперь же сделаем так, как ты советуешь.
262
Но не замечаешь ли ты, что иной, провозгласив искусство стадного выращивания двойным, заставит нас то, что мы сейчас ищем в двойном, искать в половинках?
Сократ мл.
Хотел бы я это заметить. И мне кажется, что у людей пища одна, а у животных – другая.
Чужеземец.
Ты весьма смело и с великим усердием произвел разделение. Но по возможности давай избежим этого в другой раз.
Сократ мл.
Чего именно?
b
Чужеземец.
Не следует одну маленькую частичку отделять от многих больших, да притом еще без сведения к виду: часть должна вместе с тем быть и видом. Прекрасно, если можно искомое тотчас же отделить от всего остального, коль скоро это сделано правильно, – подобно тому как сейчас, подумав, что здесь необходимо деление, ты подстегнул рассуждение, усмотрев, что оно клонится к людям. Но, милый, дело здесь не в изящных игрушках: это небезопасно, гораздо безопаснее серединный разрез, он скорее приводит к идеям. Это‑то и есть главное в исследованиях.
c
Сократ мл.
Что, чужеземец, ты хочешь этим сказать?
Чужеземец.
Я постараюсь сказать яснее из расположения к твоей юности, Сократ. На основе того, что было здесь сказано, нельзя достаточно хорошо уяснить себе этот вопрос. Во имя ясности надо попытаться продвинуть его вперед.
Сократ мл.
Как ты назовешь ту ошибку, которую мы сделали только что при делении?
d
Чужеземец.
Она подобна той, которую делают, пытаясь разделить надвое человеческий род и подражая большинству здешних людей – тем, кто, выделяя из всех народов эллинов, дает остальным племенам – бесчисленным, не смешанным между собой и разноязычным – одну и ту же кличку «варваров», благодаря чему только и считает, что это – единое племя. То же самое, как если бы кто‑нибудь вздумал разделить число на два вида и, выделив из всех чисел десять тысяч, представил бы это число как один вид, а всему остальному дал бы одно имя и считал бы из‑за этого прозвища, что это единый вид, отличный от того, первого.
e
Ведь гораздо лучше и более сообразно с двуделением по видам было бы, если бы разделили числа на четные и нечетные, род же человеческий – на мужской и женский пол. А мидийцев и фригийцев или какие‑то другие народы отделяют от всех остальных тогда, когда не умеют выявить одновременно вид и часть при сечении.
263
Сократ мл.
Совершенно верно. Но, чужеземец, как же яснее распознать это – вид и часть, если они не одно и то же, но друг от друга отличны?
Чужеземец.
О, лучший из юношей! Ты, Сократ, спрашиваешь недаром. Но мы и сейчас уже отклонились сильнее, чем должно, от нашего рассуждения, ты же побуждаешь нас блуждать еще больше. Нет, вернемся – ведь так подобает – назад. А по этому следу пойдем, как ищейки, потом, на досуге. Однако крепко следи, чтобы не подумать, будто ты слышал от меня ясное определение этого…
b
Сократ мл.
Чего именно?
Чужеземец.
Того, что вид и часть друг от друга отличны.
Сократ мл.
Но как же иначе?
Чужеземец.
Если существует вид чего‑либо, то он же необходимо будет и частью предмета, видом которого он считается. Часть же вовсе не должна быть необходимо видом. Так что лучше приписывать мне всегда это объяснение, а не то.
Сократ мл.
Пусть будет так.
Чужеземец.
Скажи мне еще вот что…
c
Сократ мл.
О чем ты спрашиваешь?
Чужеземец.
Откуда мы отклонились, когда подошли сюда? Конечно, думаю я, вот откуда: на вопрос о стадном выращивании – как его разделить – ты храбро ответил, что существует два рода живых существ: один – человеческий, а другой – все остальные животные.
Сократ мл.
Это правда.
Чужеземец.
Мне же тогда показалось, что, отделив одну часть, ты считаешь все остальное единым видом по той единой кличке «животные», которую ты для этой второй части придумал.
d
Сократ мл.
И это так было.
Чужеземец.
Но, храбрейший из людей, что, если разумным окажется какое‑нибудь другое животное – такими, например, представляются журавли (или какое‑нибудь еще) – и оно станет, подобно тебе, придумывать имена, противопоставляя единый род журавлей всем остальным животным и прославляя себя самого, прочих же, объединив их между собой, а также с людьми, не найдет ничего лучшего, как назвать животными? Постараемся же всячески этого избежать.
Сократ мл.
Каким образом?
Чужеземец.
Не будем делить весь род живых существ, чтобы не допустить подобной ошибки.
e
Сократ мл.
Да, не нужно этого делать.
Чужеземец.
Ведь именно в этом и состояла тогда неправильность.
Сократ мл.
Но в чем же?
Чужеземец.
Повелевающая часть познавательного искусства относилась у нас к роду выращивания стадных животных. Не так ли?
Сократ мл.
Так.
264
Чужеземец.
И уже тем самым весь род животных был поделен на ручных и диких. Те из животных, нрав которых поддается приручению, называются домашними, другие же, не поддающиеся, – хищными.
Сократ мл.
Прекрасно.
Чужеземец.
Знание, которое мы преследуем, было и есть у домашних животных, причем надо искать его у животных стадных.
Сократ мл.
Да.
Чужеземец.
Стало быть, не будем делить их, как тогда, принимая во внимание всех сразу, и не будем спешить немедленно перейти к государственному искусству. Ведь мы теперь испытываем состояние в точности по пословице…
b
Сократ мл.
Какое состояние?
Чужеземец.
Поспешив с делением домашних животных, мы завершили деление медленнее.
Сократ мл.
Ну и хорошо, чужеземец, что это так получилось.
Чужеземец.
Пусть будет так. Давай попробуем сызнова разделить искусство совместного выращивания: быть может, само завершенное рассуждение лучше покажет тебе то, к чему ты стремишься. Но скажи мне…
Сократ мл.
Что же?
c
Чужеземец.
А вот: может быть, ты нередко слыхал от кого‑нибудь – ведь самому тебе это не случалось видеть – о рыбных питомниках в Ниле и на царских[1786]
озерах? А в прудах ты, верно, и сам их видел.
Сократ мл.
Конечно, и эти я видел, и о тех от многих слыхал.
Чужеземец.
И о гусиных и журавлиных питомниках, хоть ты и не бродил по равнинам Фессалии, знаешь понаслышке и веришь, что они есть?
Сократ мл.
Да уж конечно.
d
Чужеземец.
Спросил же я тебя об этом вот ради какой цели: стадное выращивание ведь бывает и водным, и сухопутным.
Сократ мл.
Да, конечно.
Чужеземец.
Значит, и ты считаешь, что именно таким образом надо разделить надвое науку о совместном выращивании, уделив тому и другому свою часть и назвав одну из них вскармливающей на воде, а другую – на суше?
Сократ мл.
Да, по‑моему, так.
Чужеземец.
И значит, мы не будем доискиваться, к какому из этих искусств надо отнести занятие царское? Это всякому ясно и так.
e
Сократ мл.
Конечно, ясно.
Чужеземец.
Но сухопутный род стадного питания разделит ведь всякий.
Сократ мл.
Как?
Чужеземец.
Размежевав его на летающую и пешую часть.
Сократ мл.
Сущая правда.
Чужеземец.
Что же? Не должно ли искать государственное занятие в пешей части? Не считаешь ли ты, что и глупец, как говорится, будет такого же мнения?
Сократ мл.
Да, это так.
Чужеземец.
Ну, а искусство ухода за пешими животными следует ли, как мы недавно сделали это с числом, разделить надвое?
Сократ мл.
Ясно, что следует.
265
Чужеземец.
Впрочем, к той части, на которую направлено наше рассуждение, как кажется, открываются два пути: один – скорейший, отделяющий меньшую часть от большей, второй – производящий срединное сечение, которое, как мы говорили раньше, более предпочтительно; но этот путь длиннее. Мы можем последовать тем путем, каким ты пожелаешь.
Сократ мл.
А обоими путями следовать невозможно?
Чужеземец.
Вместе, конечно, нельзя, чудак; поочередно же, ясное дело, можно.
b
Сократ мл.
Итак, я избираю оба пути – поочередно.
Чужеземец.
Это нетрудно: оставшийся путь короток. В начале и в средних частях путешествия это было бы для нас тяжелой задачей. А сейчас, если тебе угодно, пойдем сперва более длинным путем, ведь со свежими силами мы легче его одолеем. Итак, наблюдай за делением.
Сократ мл.
Говори.
Чужеземец.
Пеших домашних животных – тех, что относятся к стадным, – нужно, согласно их природе, разделить надвое.
Сократ мл.
Каким образом?
Чужеземец.
По признаку рогов: одна порода их имеет, другая – нет.
c
Сократ мл.
Это очевидно.
Чужеземец.
Разделив искусство выращивания пеших, примени объяснение для каждой части; ибо если ты вздумаешь их называть, у тебя будет забот больше, чем нужно.
Сократ мл.
Так как же следует говорить?
Чужеземец.
А вот как: когда искусство выращивания пеших разделится надвое, одна часть будет отнесена к рогатой половине стада, а другая – к безрогой.
d
Сократ мл.
Пусть будет так, согласно сказанному: ведь это во всех отношениях ясно.
Чужеземец.
Что же касается царя, это также ясно: он будет пасти безрогое стадо.
Сократ мл.
Конечно.
Чужеземец.
Разбивая теперь это стадо на части, постараемся приписать ему то, что ему присуще.
Сократ мл.
Хорошо.
Чужеземец.
Желаешь ли ты разделить его по признаку раздвоенных и так называемых цельных копыт или же по скрещенным и нескрещенным породам? Тебе ведь это понятно?
e
Сократ мл.
Что именно?
Чужеземец.
А то, что лошади и ослы могут давать совместное потомство.
Сократ мл.
Я понимаю.
Чужеземец.
А остальная часть домашнего стада не смешивает своих пород.
Сократ мл.
Конечно.
Чужеземец.
Что же? Наш политик печется, по‑твоему, о скрещенной или о нескрещенной породе?
Сократ мл.
Ясно, что о несмешанной.
Чужеземец.
Надо же и ее, по‑видимому, как мы делали раньше, разделить надвое.
Сократ мл.
Да, надо.
266
Чужеземец.
Ну вот, все живое, сколько только есть домашних и стадных животных, уже разделено, за исключением двух родов. Ведь род собак не стоит причислять к стадным животным.
Сократ мл.
Нет, конечно. Но каким образом разделить нам эти два рода?
Чужеземец.
А таким, как пристало делить тебе и Теэтету, коль скоро вы занимаетесь геометрией.
Сократ мл.
Каким же именно?
Чужеземец.
В соответствии с диагональю и потом – с диагональю диагонали.
Сократ мл.
Что ты имеешь в виду?
b
Чужеземец.
Разве природа, которую получил в удел наш человеческий род, стоит в ином отношении к ходьбе, чем диагональ, равная квадратному корню из двух, [к сторонам своего квадрата]?
Сократ мл.
Нет, не в ином.
Чужеземец.
Между тем природа всего остального рода по своему свойству есть не что иное, как диагональ нового квадрата, построенного на стороне в два фута[1787]
.
Сократ мл.
Как же иначе? Я почти понимаю, что ты хочешь сказать.
c
Чужеземец.
Впрочем, не усмотрим ли мы и чего‑то очень смешного, случившегося с нами при этом делении, – словно мы заправские шуты?
Сократ мл.
Что же это?
Чужеземец.
Да наш человеческий род получил равный удел и шагает в ногу с родом из всех существующих самым благородным и в то же время беззаботнейшим[1788]
.
Сократ мл.
Да, я вижу и нахожу это очень странным.
Чужеземец.
Что же? Не естественно ли, что самое медленное приходит позднее всех?
Сократ мл.
Да уж конечно.
Чужеземец.
А не придет ли нам на ум, что еще смешнее покажется царь, бегущий голова в голову со стадом и выступающий рядом с мужем, наилучшим образом подготовленным для жизни без затруднений?
d
Сократ мл.
Несомненно, придет.
Чужеземец.
Теперь, Сократ, особенно ясным становится то, что было сказано раньше, при исследовании софиста.
Сократ мл.
Что именно?
Чужеземец.
А вот что: при таком пути рассмотрения не больше бывает заботы о возвышенном, чем об обычном, и меньшее не презирается в угоду большему, но путь этот сам по себе ведет к наивысшей истине.
Сократ мл.
Похоже, что это так.
Чужеземец.
А теперь, чтобы ты не опередил меня вопросом о кратчайшем пути к определению царя, не опередить ли мне тебя самому?
Сократ мл.
Непременно.
e
Чужеземец.
Тогда, говорю я, надо сразу же в нашем роде отделить двуногих от четвероногих и, приняв во внимание, что роду человеческому выпал тот же жребий, что и пернатым, снова разделить двуногое стадо на гладкое и пернатое; когда же оно будет поделено и обнаружится искусство пасти людей, надо взять политика и царя и, поставив его во главе как возничего, вверить ему бразды правления государством: ведь именно в этом состоит присущая ему наука.
267
Сократ мл.
Ты прекрасно и как дулжно представил мне счет да еще как бы добавил к счету проценты, увеличив тем самым оплату.
Чужеземец.
Ну что ж, давай просмотрим снова, с начала до конца, объяснение наименования искусства политика.
Сократ мл.
Отлично.
Чужеземец.
Вначале мы установили повелевающую часть познавательного искусства. В качестве уподобления ей мы назвали самоповелевающую часть. От этой части мы отделили немаловажный род – искусство выращивания животных, от него, в свой черед, вид стадного выращивания, а от этого последнего – выращивание сухопутное.
b
От выращивания сухопутных мы отделили прежде всего искусство выращивания безрогих животных, а уж если кто желает отделить от него следующую часть, он должен по меньшей мере представить ее троякой, если хочет охватить ее единым понятием и назвать ее искусством пасти несмешанное стадо. Следующим сечением будет отделение от двуногого стада людей и искусства их пестовать, а это уже – искомое нами искусство царствовать, или, что то же самое, государственное искусство[1789]
.
c
Сократ мл.
Все это, безусловно, верно.
Чужеземец.
Но, Сократ, так ли хорошо мы все это выполнили, как следует из твоих слов?
Сократ мл.
Что ты имеешь в виду?
Чужеземец.
Полностью ли, достаточно ли осветили мы наш предмет? Или нашему исследованию как раз более всего не хватает завершенного объяснения, хотя какое‑то объяснение мы и дали?
Сократ мл.
Скажи яснее.
Чужеземец.
Я именно и собираюсь сейчас получше разъяснить для нас обоих то, что я думаю.
d
Сократ мл.
Говори же.
Чужеземец.
Не правда ли, одним из многих искусств пестования, сейчас перед нами явившихся, было государственное искусство, состоящее в попечении о некоем одном стаде?
Сократ мл.
Да.
Чужеземец.
И это, согласно нашему определению, являет собой выращивание не лошадей либо каких‑то других животных, но людей и заключается в общем их воспитании.
Сократ мл.
Это так.
e
Чужеземец.
Давай же посмотрим, какое различие существует между всеми прочими пастухами, с одной стороны, и царями – с другой.
Сократ мл.
Какое же?
Чужеземец.
Не получилось бы, что кто‑нибудь – представитель совсем иного искусства – вдруг назовет себя также воспитателем стада и станет играть эту роль.
Сократ мл.
Разве это возможно?
268
Чужеземец.
Например, чту, если разные торговцы, землепашцы, булочники, а вслед за ними учители гимнастики и врачи станут всячески оспаривать у пастухов человеческого стада, которых мы назвали политиками, право называться руководителями воспитания не только всего человеческого стада, но и его начальников?
Сократ мл.
Это было бы с их стороны неправильным.
Чужеземец.
Возможно. Сейчас мы посмотрим. Ведь мы знаем, что с волопасом никто не станет вступать в спор об уходе за волами, но он сам – и воспитатель стада, и его врач, и как бы сват, и что касается приплода и родов, то он – единственный знаток повивального искусства.
b
Даже если речь идет об играх и способности воспринимать музыку – насколько животные могут это по своей природе, – никто другой не умеет так хорошо владеть звуками инструментов и голоса, которыми он ободряет и успокаивает стадо. И о прочих пастухах можно сказать то же самое. Разве не так?
Сократ мл.
Совершенно верно.
Чужеземец.
Так может ли показаться нам правильным и безупречным рассуждение о царе, когда мы одного его считаем пастухом и воспитателем человеческого стада и забываем о тысячах других, оспаривающих это звание?
c
Сократ мл.
Никоим образом.
Чужеземец.
Так разве неправильным было наше прежнее опасение, когда мы заподозрили, что, называя лишь некоторые черты царя, мы не дадим безупречного в своем совершенстве образа политика, пока не перечислим всех тех, кто вокруг него толпится и оспаривает у него звание пастуха, и, отделив от них этот образ, не представим лишь его в чистом виде?
Сократ мл.
Сущая правда.
Чужеземец.
Итак, Сократ, мы должны это сделать, если не хотим под конец устыдиться нашего рассуждения.
d
Сократ мл.
Нет, этого ни в коем случае нельзя допустить.
Чужеземец.
Значит, нам снова надо вернуться назад и начать все сначала, идя по иному пути.
Сократ мл.
Но какой это путь?
Чужеземец.
Пожалуй, такой, который мы переплетем с шуткой: мы должны воспользоваться изрядной толикой большого мифа, а что до остального, то мы будем последовательно отделять часть за частью, как мы это делали раньше, пока не подойдем к самой сути искомого. Должны ли мы так поступить?
Сократ мл.
Несомненно.
Чужеземец.
Ну, так слушай внимательно мой миф, как слушают дети. Впрочем, ты ведь не так давно оставил пору забав[1790]
.
e
Сократ мл.
Говори же.
Чужеземец.
Итак, много существовало и еще будет существовать древних сказаний, и среди них сказание об Атрее и Фиесте[1791]
и их раздоре. Ты, конечно, слышал его и припоминаешь события, о которых там повествуется?
Сократ мл.
Ты, верно, говоришь о знамении золотого овна[1792]
?
269
Чужеземец.
Нет, совсем не об этом, а об изменении заката и восхода Солнца и других звезд: ведь там, где теперь Солнце восходит, в те времена был закат, и, наоборот, там, где теперь закат, тогда был восход. Но бог явил тогда Атрею знамение[1793]
и обратил все это вспять, к нынешнему порядку.
Сократ мл.
Рассказывают и об этом.
Чужеземец.
Да и о царстве Кроноса[1794]
мы слышали от многих.
b
Сократ мл.
Конечно, от очень многих.
Чужеземец.
А как насчет того, что вначале люди были порождены землей[1795]
, а вовсе не другими людьми?
Сократ мл.
Это сказание тоже принадлежит к древнейшим.
Чужеземец.
Все это и, кроме того, тысячи еще более удивительных вещей – плод одного и того же события, но со временем многое из этого стерлось в памяти, другое же рассеялось, и рассказывают о каждом из этих событий отдельно.
c
А что лежало в основе всего этого – об этом не говорит никто, мы же теперь должны сказать: кстати ведь подойдет эта речь к объяснению того, что такое царь.
Сократ мл.
Ты прекрасно молвил; не упусти же ничего, прошу тебя.
Чужеземец.
Итак, слушай. Бог то направляет движение Вселенной, сообщая ей круговращение сам, то предоставляет ей свободу – когда кругообороты Вселенной достигают подобающей соразмерности во времени; потом это движение самопроизвольно обращается вспять, так как Вселенная – это живое существо,
d
обладающее разумом, данным ей тем, кто изначально ее построил, и эта способность к обратному движению врождена ей в силу необходимости по следующей причине[1796]
…
Сократ мл.
По какой же именно?
Чужеземец.
Оставаться вечно неизменными и тождественными самим себе подобает лишь божественнейшим существам, природа же тела к этому разряду не принадлежит. То, что мы называем небом и космосом, получило от своего родителя много счастливых свойств, но в то же время оно оказалось причастным телу: поэтому оно не могло не получить в удел перемен.
e
Все ж, сколько можно, космос движется единообразно, в одном и том же месте, и обратное вращение он получил как самое малое отклонение от присущего ему самостоятельного движения. Вечно приводить в движение самого себя не дано почти никому, кроме того, кто руководит движением всех вещей, а ему не подобает вызывать движение то в одну, то в другую сторону. В соответствии со всем этим в космосе нельзя сказать ни что он вечно движет самого себя, ни что ему как целому всегда сообщает двоякое, разнонаправленное, вращение бог,
270
ни что два разных божества вращают его в противоположные стороны согласно своим замыслам, но остается единственное, что было нами недавно сказано: космос движется благодаря иной, божественной причине, причем жизнь приобретается им заново и он воспринимает уготованное ему творцом бессмертие; когда же ему дается свобода, космос движется сам собой, предоставленный себе самому на такой срок, чтобы проделать в обратном направлении много тысяч круговоротов, благодаря тому что он, самый большой и лучше всего уравновешенный, движется на крошечной ступне[1797]
.
b
Сократ мл.
Все, что ты изложил, выглядит очень правдоподобно.
Чужеземец.
Давай же рассудим и поймем на основании того, что сейчас было сказано, причину всего чудесного, которую мы допустили. Причина же эта следующая…
Сократ мл.
Какая?
Чужеземец.
А такая, что вращательное движение Вселенной направлено то в одну сторону, как теперь, то в противоположную.
Сократ мл.
Каким же образом?
c
Чужеземец.
Этот вид изменения дулжно считать самым значительным и совершенным из всех перемен, происходящих в небе.
Сократ мл.
Это возможно.
Чужеземец.
Поэтому надо считать, что величайшие перемены происходят и с нами, живущими в пределах этого неба.
Сократ мл.
И это правдоподобно.
Чужеземец.
А разве мы не знаем, что живые существа тягостно переносят глубокие, многочисленные и многообразные изменения?
Сократ мл.
Как же иначе?
Чужеземец.
d
На всех животных тогда нападает великий мор, да и из людей остаются в живых немногие. И на их долю выпадает множество поразительных и необычных потрясений, но величайшее из них то, которое сопутствует повороту Вселенной, когда ее движение обращается вспять.
Сократ мл.
А в чем это переживание состоит?
Чужеземец.
Возраст живых существ, в каком каждое из них тогда находилось, сначала таким и остался, и все, что было тогда смертного, перестало стареть и выглядеть старше; наоборот, движение началось в противоположную сторону и все стали моложе и нежнее: седые власы старцев почернели, щеки бородатых мужей заново обрели гладкость, возвращая каждого из них к былой цветущей поре;
e
гладкими стали также и тела возмужалых юнцов, с каждым днем и каждой ночью становясь меньше, пока они вновь не приняли природу новорожденных младенцев и не уподобились им как душой, так и телом. Продолжая после этого чахнуть, они в конце концов уничтожились совершенно. Даже трупы погибших в то время насильственной смертью были подвержены таким состояниям и быстро и незаметно исчезли в течение нескольких дней.
271
Сократ мл.
Но как же происходило тогда, чужеземец, возникновение новых существ? И как рождались они друг от друга?
Чужеземец.
Ясно, Сократ, что в тогдашней природе не существовало рождения живых от живых; уделом тогдашнего поколения было снова рождаться из земли, как и встарь, люди были земнорожденными. Воспоминание же об этом сохранили наши ранние предки, время которых соприкоснулось со временем, последовавшим за окончанием первой перемены круговращения:
b
они родились в начале нынешнего круговорота. Именно они стали для нас глашатаями, возвестившими те сказания, в которых многие теперь несправедливо сомневаются. Мы же, я полагаю, должны на них основываться. Ведь из того, что старческая природа переходит в природу младенческую, следует, что и мертвые, лежащие в земле, снова восстанут из нее и оживут, следуя перемене пошедшего вспять рождения и возникая по необходимости
c
как землерожденное племя – в соответствии со сказанным: отсюда их имя и объяснение их появления – разве что только бог определил некоторым из них иной жребий.
Сократ мл.
Да, это непременно вытекает из сказанного раньше. Но жизнь, о которой ты говорил, что она протекала под властью Кроноса, – совпадала ли она с тем, прежним круговоротом или с нынешним? Ведь ясно, что каждая перемена в движении Солнца и звезд совпадает с первым круговращением.
Чужеземец.
d
Ты хорошо следил за моим рассуждением. А то, что ты спросил – о самопроизвольном возникновении человеческой природы, – так это относится вовсе не к нынешнему движению [Вселенной], но к тому, что происходило раньше. Тогда, вначале, самим круговращением целиком и полностью ведал [верховный] бог, но местами, как и теперь, части космоса были поделены между правящими богами. Да и живые существа были поделены между собой по родам и стадам божественными пастухами – даймонами; при этом каждый из них владел той группой, к которой он был приставлен,
e
так что не было тогда ни диких животных, ни взаимного пожирания, как не было ни войн, ни раздоров, зато можно назвать тысячи хороших вещей, сопутствовавших такому устройству. А то, что было сказано об их жизни, согласной с природой, имеет вот какую причину. Бог сам пестовал их и ими руководил, подобно тому как сейчас люди, будучи существами, более прочих причастными божественному началу, пасут другие, низшие породы.
272
Под управлением бога не существовало государств; не было также в собственности женщин и детей, ведь все эти люди появлялись прямо из земли, лишенные памяти о прошлых поколениях. Такого рода вещи для них не существовали; зато они в изобилии получали плоды фруктовых и любых других деревьев, произраставших не от руки земледельца, но как добровольный дар земли. Не имея одежды и не заботясь о ложе, бродили они большей частью под открытым небом.
b
Ведь погода была уготована им благоприятная и ложе их было мягко благодаря траве, обильно произрастающей из земли.
Итак, ты слышал, Сократ, какая была жизнь у людей при Кроносе; что до теперешней жизни – жизни при Зевсе, как это зовут, – ты сам, живя сейчас, ее знаешь. Сможешь ли ты и пожелаешь ли определить, какая из них счастливее[1798]
?
Сократ мл.
Никоим образом.
c
Чужеземец.
Так не хочешь ли, чтобы я как‑то их сравнил?
Сократ мл.
Да, конечно, очень хочу.
Чужеземец.
Итак, если питомцы Кроноса, располагая обширным досугом и возможностью словесно общаться не только с людьми, но и с животными, пользовались всем этим для того, чтобы философствовать, если они, беседуя со зверями и друг с другом, допытывались у всей природы, не нашла ли она с помощью некой особой способности что‑либо неведомое другим для кладовой разума, – легко судить, что тогдашние люди были бесконечно счастливее нынешних.
d
Если же они, вдосталь насытившись яствами и питьем, передавали друг другу, а также зверям то, что и ныне о них повествуется, – то и об этом (по крайней мере таково мое мнение) следует полагать то же самое.
Впрочем, оставим это, пока не явится сведущий вестник и не объявит нам, была ли у тогдашних людей жажда познания и владения словом. Однако ради чего разбудили мы спящий миф, это надо бы сказать, чтобы затем устремиться вперед.
e
Когда всему этому исполнился срок, и должна была наступить перемена, и все земнорожденное племя потерпело уничтожение, после того как каждая душа проделала все назначенные ей порождения и все они семенами упали на землю, кормчий Вселенной, словно бы отпустив кормило, отошел на свой наблюдательный пост[1799]
, космос же продолжал вращаться под воздействием судьбы и врожденного ему вожделения. Все местные боги, соправители могущественнейшего божества, прознав о случившемся, лишили части космоса своего попечения[1800]
.
273
Космос же, повернувшись вспять и пришедши в столкновение с самим собой, увлекаемый противоположными стремлениями начала и конца и сотрясаемый мощным внутренним сотрясением, навлек новую гибель на всевозможных животных. Когда затем, по прошествии большого времени, шум, замешательство и сотрясение прекратились и наступило затишье, космос вернулся к своему обычному упорядоченному бегу, попечительствуя и властвуя над всем тем, что в нем есть, и над самим собою; при этом он по возможности вспоминал наставления своего демиурга и отца[1801]
.
b
Вначале он соблюдал их строже, позднее же – все небрежнее. Причиной тому была телесность смешения, издревле присущая ему от природы, ибо, прежде чем прийти к нынешнему порядку, он был причастен великой неразберихе.
От своего устроителя он получил в удел все прекрасное; что касается его прежнего состояния, то, сколько ни было в небе тягостного и несправедливого, все это он и в себя вобрал, и уделил живым существам. Питая эти существа вместе с Кормчим, он вносил в них немного дурного и много добра.
c
Когда же космос отделился от Кормчего, то в ближайшее время после этого отделения он все совершал прекрасно; по истечении же времени и приходе забвения им овладевает состояние древнего беспорядка, так что в конце концов он вырождается, в нем остается немного добра, смешанного с многочисленными противоположными свойствами, он подвергается опасности собственного разрушения и гибели всего, что в нем есть.
d
Потому‑то устроившее его божество, видя такое нелегкое его положение и беспокоясь о том, чтобы, волнуемый смутой, он не разрушился и не погрузился в беспредельную пучину неподобного, вновь берет кормило и снова направляет все больное и разрушенное по прежнему свойственному ему круговороту: он вновь устрояет космос, упорядочивает его и делает бессмертным и непреходящим[1802]
.
Это и есть завершение мифа. Что же касается изображения царя, то сказанного вполне достаточно для тех, кто сумеет поставить это в связь с предшествовавшим рассуждением.
e
Ибо, когда космос опять стал вращаться в направлении нынешних порождений, порядок возрастов снова прервался и заново стал противоположным тогдашнему. Живые существа, по своей малости едва‑едва не исчезнувшие, стали расти, а тела, заново порожденные землею в старческом возрасте, вновь умирали и сходили в землю. И остальное все претерпело изменение, подражая и следуя состоянию целого:
274
это подражание необходимо было во всем – в плодоношении, в порождении и в питании, ибо теперь уже недозволено было, чтобы живое существо зарождалось в земле из частей другого рода, но, как космосу, которому велено было стать в своем развитии самодовлеющим, так и частям его той же властью было приказано насколько возможно самостоятельно зачинать, порождать и питать потомство.
b
Таким образом, к чему было направлено все наше рассуждение, к этому мы и пришли. Говорить о прочих животных – какое из них по каким причинам подверглось превращению – было бы слишком длинно и заняло бы много времени; что же касается людей, то это будет короче и ближе к делу.
Итак, когда принявший нас в свои руки и пестовавший нас даймон прекратил свои заботы, многие животные, по природе своей свирепые, одичали и стали хватать людей,
c
сделавшихся слабыми и беспомощными; вдобавок первое время люди не владели еще искусствами, естественного питания уже не хватало, а добыть они его не умели, ибо раньше их к этому не побуждала необходимость. Все это ввергло их в великое затруднение. Потому‑то, согласно древнему преданию, от богов нам были дарованы вместе с необходимыми поучениями и наставлениями: огонь – Прометеем, искусства – Гефестом и его помощницей по ремеслу[1803]
,
d
семена и растения – другими богами. И все, что устрояет и упорядочивает человеческую жизнь, родилось из этого: ибо, когда прекратилась, как было сказано, забота богов о людях, им пришлось самим думать о своем образе жизни и заботиться о себе, подобно целому космосу, подражая и следуя которому мы постоянно – в одно время так, а в другое иначе – живем и взращиваемся[1804]
.
e
Пусть же здесь будет конец сказанию. Воспользуемся им для того, чтобы понять, как сильно мы ошибались, говоря в предшествовавшем рассуждении о царе и политике.
Сократ мл.
Какая же и сколь великая, по твоим словам, возникла у нас ошибка?
Чужеземец.
С одной стороны, она меньше, с другой же – весомее и обширнее, чем казалась тогда.
Сократ мл.
Каким образом?
275
Чужеземец.
Отвечая на вопрос о царе и политике, существующем при нынешнем круговращении и порождении, мы описали пастуха человеческого стада[1805]
при круговращении противоположном и, таким образом, назвали вместо смертного – бога: это очень большая погрешность. А объявив его правителем всего государства, но не разобрав, как он правит, мы, с одной стороны, высказались верно, с другой же – недостаточно полно и ясно: в этом случае и ошибка меньше, чем та.
Сократ мл.
Это правда.
b
Чужеземец.
Итак, надо надеяться, что, определив характер государственного правления, мы наконец сможем сказать, что такое политик.
Сократ мл.
Отлично.
Чужеземец.
Вот мы и предпослали этому миф – чтобы показать относительно стадного выращивания, что не только все оспаривают это занятие у искомого нами сейчас лица, но также что мы должны яснее разглядеть его – того, кому одному только и пристало, по образцу пастухов и волопасов, иметь попечение о выращивании человеческого стада и носить соответствующее этому имя.
Сократ мл.
Правильно.
c
Чужеземец.
Я даже думаю, Сократ, что этот образ божественного пастыря слишком велик в сравнении с царем[1806]
, нынешние же политики больше напоминают но своей природе, а также образованию и воспитанию подвластных, чем властителей.
Сократ мл.
Истинно так.
Чужеземец.
Но такова ли их природа или иная, от этого не менее и не более должно их рассмотреть.
Сократ мл.
Как же иначе?
d
Чужеземец.
Пойдем же по прежнему пути. Мы сказали, что существует самоповелевающее искусство, распоряжающееся живыми существами и пекущееся не о частных лицах, а о целом обществе; назвали же мы это тогда искусством стадного выращивания. Припоминаешь ли ты?
Сократ мл.
Да.
Чужеземец.
Вот тут‑то мы и допустили ошибку. Мы совсем не учли политика и никак его не назвали: он тайно ускользнул от наименования.
e
Сократ мл.
Каким образом?
Чужеземец.
Выращивать все без исключения стада присуще, видимо, остальным пастухам, политику же не свойственно. А между тем мы приложили это наименование и к политику, хотя следовало бы назвать их всех по общему для них признаку.
Сократ мл.
Ты прав, если такое имя бывает.
Чужеземец.
Как же не быть общему уходу за всеми, из которого не исключено выращивание и любые другие заботы? Назовем ли мы это уходом за стадом, пестованием или еще как‑нибудь, – например, всеобщим попечением, – это имя могло бы охватить и политика, и всех прочих пастухов, ведь надо так сделать, этому учит нас рассуждение.
276
Сократ мл.
Правильно. Но какое же теперь последует разделение?
Чужеземец.
Подобное тому, какое мы проделали, когда обособили стадное выращивание пеших – бесперых, несмешанных и безрогих – животных; лишь сделав такое различение, мы охватили одним определением уход за стадом в наше время и в царствование Кроноса.
Сократ мл.
Это очевидно. Но снова спрошу: что же потом?
b
Чужеземец.
Ясно, что, когда таким образом названо это имя – «уход за стадом», никто не станет нам возражать, говоря, что и вообще‑то нет подобного попечения, как прежде справедливо могли возразить, что, мол, у нас не существует никакого искусства выращивания, достойного называться этим именем, а если бы и было какое‑нибудь, то оно скорее подобало бы многим другим, чем кому‑нибудь из царей.
Сократ мл.
Правильно.
Чужеземец.
Забота же о целом человеческом сообществе и искусство управления всеми людьми в первую очередь и преимущественно принадлежат царю.
c
Сократ мл.
Ты правильно говоришь.
Чужеземец.
Однако, Сократ, замечаешь ли ты, что под самый конец мы снова ошиблись?
Сократ мл.
Каким образом?
Чужеземец.
А вот: хотя мы в высшей степени правильно рассудили, что существует некое искусство выращивания двуногого стада, не следовало, однако, тотчас же называть это искусство царским и политическим – так, как если бы на этом все и кончалось.
Сократ мл.
А как же?
d
Чужеземец.
Сначала, как мы и говорили, нужно было переделать название, приблизив его больше к уходу, чем к пропитанию, а затем рассечь надвое и его, ведь предстоит произвести еще немало сечений.
Сократ мл.
Каких именно?
Чужеземец.
Можно было бы отделить божественного пастыря от попечителя‑человека.
Сократ мл.
Правильно.
Чужеземец.
Затем, обособив попечительское искусство, следует его снова рассечь надвое.
Сократ мл.
На какие же части?
Чужеземец.
На попечение насильственное и мягкое.
Сократ мл.
То есть?
e
Чужеземец.
Раньше мы и тут оказались простоватей, чем должно, и допустили ошибку, соединив в одно царя и тирана, – как самих, так и образы их правления, – в то время как они в высшей степени неподобны.
Сократ мл.
Истинно так.
Чужеземец.
А теперь, исправляя нашу ошибку, согласно сказанному, не разделим ли мы человеческое попечительское искусство надвое – на насильственное и мягкое?
Сократ мл.
Несомненно.
Чужеземец.
И, назвав попечение тех, кто правит с помощью силы, тираническим, а мягкое попечение о стаде двуногих кротких животных – политическим, мы наречем человека, владеющего таким искусством попечительства, подлинным царем и политиком, не так ли?
277
Сократ мл.
Значит, чужеземец, рассуждение о политике получило у нас таким образом завершение[1807]
.
Чужеземец.
Это было бы для нас прекрасно, Сократ. Однако верным это должно представляться не только тебе, но и мне. На самом же деле мне не кажется, будто образ царя получил у нас завершение: подобно ваятелям, что иногда спешат, не рассчитав времени,
b
и опаздывают из‑за того, что добавляют к своим творениям много лишних деталей, и мы сейчас, спеша выставить напоказ погрешность прежнего нашего рассуждения и решив, что царю подходят великие образцы, подняли тяжелейший пласт мифа и вынуждены были воспользоваться большей, чем требовалось, его частью. Так мы сделали доказательство еще более длинным и уже совсем не смогли придать завершенность мифу; наше рассуждение, словно черновой набросок,
c
приняло чисто внешние очертания, отчетливости же, которую придают краски и смешение оттенков, пока что не получило. Между тем с помощью слова и рассуждения гораздо лучше можно выписать любое изображение, чем с помощью живописи и какого бы то ни было другого ручного труда, – лишь бы уметь это делать. Другим же – тем, кто не умеет, – надо пользоваться работой рук.
Сократ мл.
Правильно! Покажи же, чего не хватает в том, что у нас было сказано.
d
Чужеземец.
Ты чудак! Трудно ведь, не пользуясь образцами, пояснить что‑либо важное. Ведь каждый из нас, узнав что‑то словно во сне, начисто забывает это, когда снова оказывается будто бы наяву.
Сократ мл.
Как это ты говоришь?
Чужеземец.
Думается, я весьма странным образом затронул сейчас то, что происходит с нами в отношении знания.
Сократ мл.
Как так?
Чужеземец.
У меня, милый мой, оказалась нужда в образце самого образца.
e
Сократ мл.
Так что же? Скажи! Уж меня‑то ты можешь не стесняться.
Чужеземец.
Скажу, если ты готов за мной следовать. Ведь известно, что дети, когда они только что научились азбуке…
Сократ мл.
Как ты сказал?
Чужеземец.
…что они достаточно ясно распознают любую букву в самых кратких и легких слогах и способны дать о ней верный ответ.
278
Сократ мл.
Почему бы и нет?
Чужеземец.
Что же касается других слогов, то в них относительно тех же букв дети недоумевают и в мысли и на словах.
Сократ мл.
И даже очень.
Чужеземец.
Так не легче и не лучше ли всего следующим образом наводить их на то, чего они еще не знают…
Сократ мл.
Каким именно?
b
Чужеземец.
Прежде всего надо обращать их внимание на те слоги, в которых они хорошо выучили те же самые буквы, а затем сопоставлять эти слоги с теми, которые им еще не известны, и показывать подобие и однородность всех этих сочетаний до тех пор, пока все незнакомое, поставленное рядом с тем, что правильно мнят, не будет объяснено и из этого объяснения не возникнут образцы, которые покажут, что каждая буква в каждом слоге, если она отличается от другой, должна и называться иначе, а если она подобна какой‑либо букве, то и название у них должно быть одинаковое.
c
Сократ мл.
Безусловно.
Чужеземец.
Значит, это мы достаточно усвоили – что образец появляется тогда, когда один и тот же признак, по отдельности присущий разным предметам, правильно воспринимается нами и мы, сводя то и другое вместе, составляем себе единое истинное мнение?
Сократ мл.
Это очевидно.
Чужеземец.
Так надо ли нам удивляться, если наша душа, испытывая по своей природе то же самое в отношении первоначал всех вещей, иногда, руководимая истиной, узнаёт в некоторых [сочетаниях] каждый отдельный [признак],
d
а иногда, в отношении других [сочетаний], колеблется по поводу всех [признаков] и некоторые из них каким‑то образом правильно представляет себе в одних [сочетаниях], а когда те же самые [признаки] перенесены в другие, большие и нелегкие [сочетания] вещей, снова их не узнаёт?
Сократ мл.
Да, удивляться здесь не приходится.
Чужеземец.
Как мог бы, мой друг, кто‑нибудь, исходя из ложного мнения, добиться хоть малой толики истины и обрести разумение?
Сократ мл.
Это почти невозможно.
e
Чужеземец.
Коль скоро дело обстоит таким образом, мы – я и ты, верно, ничуть не погрешим, если решимся познать природу образца по частям, сперва увидев ее в маленьком образце, а затем с меньших образцов перенеся это на идею царя как на величайший образец подобного же рода, и уже с помощью этого образца попытаемся искусно разведать, что представляет собой забота о государстве, – дабы сон у нас превратился в явь?
Сократ мл.
Было бы совершенно правильно поступить именно так.
279
Чужеземец.
Значит, нужно вернуться к прежнему рассуждению, а именно: хотя тысячи людей оспаривают у рода царей заботу о государствах, надо отвлечься от всех них и оставить только царя, а для этого нам необходим, как было сказано, образец.
Сократ мл.
Весьма даже необходим.
Чужеземец.
Какой же можно найти самый малый удовлетворительный образец, который был бы причастен той же самой – государственной – деятельности?
b
Ради Зевса, Сократ, хочешь, за неимением лучшего выберем ткацкое ремесло? Да и его – не целиком; быть может, будет достаточно тканья из шерсти: пожалуй, эта выделенная нами часть скорее всего засвидетельствует то, чего мы ждем.
Сократ мл.
Почему бы и нет?
Чужеземец.
Так отчего бы нам, подобно тому как раньше, отсекая части от [бульших] частей, мы делили каждый [род],
c
не сделать того же сбмого и с тканьем и, по возможности быстро пробежав весь путь, не прийти снова к тому, что для нас полезно?
Сократ мл.
Как ты говоришь?
Чужеземец.
Пусть ответом послужит тебе само рассуждение.
Сократ мл.
Ты прекрасно сказал.
Чужеземец.
Все, что мы производим и приобретаем, служит нам либо для созидания чего‑либо, либо для защиты от страданий. А из того, что защищает нас от страданий, одни вещи служат противоядиями – божественными и человеческими, другие – средствами защиты. Из последних же одни – это военное оружие, другие – охранные средства; а из охранных средств одни – это укрытия, другие же – средства защиты от холода и жары.
d
Из этих средств одни – это кровли домов, другие – различные покровы. Из покровов одни – это ковры, другие – накидки. Из накидок же одни – цельные, другие состоят из частей. Из этих последних одни – сшитые, другие же связаны и держатся без швов. А из этих несшитых накидок одни делаются из растительных нитей, другие же – из волос. Те, что сделаны из волос, одни скреплены водой и землей, другие же связаны между собой.
e
Так не защитным ли средствам и покровам, созданным путем такого взаимного переплетения, дали мы имя одежды? А искусство, которое преимущественно печется об одежде, не назвать ли нам портняжным ремеслом, подобно тому как мы раньше искусство, пекущееся о государствах, назвали государственным?
280
И мы можем сказать, что ткацкое искусство, поскольку оно составляет наибольшую часть портняжного ремесла, ничем от него не отличается, кроме как именем, точно так же как искусство царствовать ничем иным не отличается от искусства государственного правления.
Сократ мл.
Совершенно верно.
b
Чужеземец.
Сообразим же после этого, что искусство тканья одежды, названное таким образом, кто‑нибудь мог бы счесть достаточно ясно определенным, не сумев понять, что оно еще не отделено от очень близких ему искусств, хотя от других, родственных искусств и отграничено.
Сократ мл.
От каких это родственных?
Чужеземец.
Кажется, ты не уследил за сказанным. Видно, надо теперь идти назад от конца. Ведь если тебе понятно, что это такое – родственное искусство, то смотри: от нашего искусства мы сейчас только отделили искусство составлять ковры – те, которыми укрываются, и те, что подстилают.
Сократ мл.
Понимаю.
c
Чужеземец.
Мы отделили также все ремесла по льну и жгутам и прочим растительным, как мы их назвали в рассуждении, нитям; отделили и валяльное искусство, и стачивание с помощью шитья и швов: сюда преимущественно относится сапожное мастерство.
Сократ мл.
Безусловно.
Чужеземец.
Далее, мы отделили всевозможную работу по цельным накидкам, то есть кожевенное искусство, затем кровельное искусство, применяемое в домостроительстве, в плотничьем ремесле в целом и во всех искусствах, занятых предохранением от проникновения влаги;
d
отделили также искусство оград, защищающих от воров и насильников, как занимающееся изготовлением защитных средств и укреплением ворот и дверей, а также все прочее, что представляет собой часть искусства скреплять гвоздями. Далее, мы отсекли и искусство вооружения – часть огромного и разнообразного мастерства по сооружению защитных приспособлений. В самом же начале мы отделили целиком магическое искусство, занимающееся лекарствами, и оставили, как нам показалось верным, искомое – то, что уберегает от стужи, изготовляет шерстяные накидки и носит наименование ткацкого искусства.
e
Сократ мл.
Выходит, так.
Чужеземец.
Но это, мой мальчик, еще не конец. Ведь в начале изготовления одежды делается нечто прямо противоположное тканью.
281
Сократ мл.
Как так?
Чужеземец.
Дело тканья – некое переплетение.
Сократ мл.
Да.
Чужеземец.
Существует также и распускание того, что было соединено и сплетено.
Сократ мл.
Какое распускание?
Чужеземец.
Это – дело чесального искусства. Ведь не посмеем же мы назвать ткацкое искусство чесальным, а чесальное – ткацким?
b
Сократ мл.
Ни в коем случае.
Чужеземец.
И так же, если кто назовет ткачеством изготовление утка и основы, ведь он даст ему необычное и ложное наименование?
Сократ мл.
Как же иначе?
Чужеземец.
А валяльное и портняжное искусство в целом мы, что же, будем считать не уходом или заботой об одежде, а назовем все это ткачеством? Сократ мл. Ни в коем случае. Чужеземец. Однако все они станут оспаривать уход за одеждой и ее изготовление у ткацкого мастерства, оставляя за ним большую долю, но и себе уделяя немалую часть.
c
Сократ мл.
Конечно.
Чужеземец.
Да вдобавок, надо думать, и искусства, с помощью которых изготовляются ткацкие орудия, вообразят себя причинами появления на свет всякой ткани.
Сократ мл.
Несомненно.
Чужеземец.
Так будет ли наше объяснение ткацкого искусства в отношении той части, которую мы выделили, полным и определенным, если мы допустим, что из всех видов ухода за шерстью это наиболее прекрасный и великий вид? Или же мы выскажем таким образом нечто истинное, однако малопонятное и незавершенное, пока мы не отделили от тканья и все эти искусства?
d
Сократ мл.
Да, это так.
Чужеземец.
Что ж, не сделать ли нам того, о чем мы говорим, чтобы наше рассуждение шло по порядку?
Сократ мл.
Почему бы этого и не сделать? Чужеземец. Итак, во всем том, что делается, различим прежде всего два искусства. Сократ мл. Какие же?
Чужеземец.
Одно из них – вспомогательная причина созидания, другое – причина как таковая. Сократ мл. Как это?
Чужеземец.
Все искусства, создающие не само изделие, но орудия для тех, кто его производит, – орудия, без которых никогда не была бы выполнена задача любого из искусств, – носят название вспомогательных причин; те же искусства, которые производят само изделие, – причин как таковых.
e
Сократ мл.
Это имеет под собой основание. Чужеземец. Согласно этому, мы назовем все искусства, изготовляющие веретена, челноки и прочие орудия для производства одежд, вспомогательными причинами, те же искусства, что заботятся о самих изделиях и их производят, – причинами как таковыми.
Сократ мл.
Совершенно верно.
282
Чужеземец.
А из причин как таковых искусство стирки, портняжное дело и прочие виды ухода [за одеждой], которые все принадлежат к обширному искусству украшения, прилично выделить в отдельную часть, назвав все вместе валяльным искусством.
Сократ мл.
Прекрасно.
Чужеземец.
Да и чесальное, и прядильное искусства, а также все остальные части производства одежды, как мы их назвали, составляют одно искусство, которое люди называют шерстопрядильным.
Сократ мл.
Да, не иначе!
b
Чужеземец.
Шерстопрядильное же искусство пусть будет рассечено надвое, причем каждый раздел одновременно будет составлять часть двух искусств.
Сократ мл.
Как это?
Чужеземец.
Чесальное искусство и половина искусства пользования челноком – поскольку они разделяют то, что сплетено вместе, – некоторым образом относятся (чтобы назвать это одним словом) к самому шерстопрядильному искусству; но, кроме того, есть еще два больших искусства, распространяющихся на всё: это искусство соединения и искусство разделения[1808]
.
Сократ мл.
Да.
c
Чужеземец.
К искусству разделения относится чесальное искусство и все то, что было сейчас упомянуто. Ведь все эти названия произошли от разделения шерстяных нитей и основы, но челнок делает это по‑одному, руки же – по‑другому.
Сократ мл.
Безусловно, так.
Чужеземец.
Теперь снова возьмем вместе часть соединительного искусства и относящуюся к нему часть искусства шерстопрядильного. Все то, что относилось здесь к разделительному искусству, оставим в покое, а шерстопрядильное искусство снова разделим на разделительную и соединительную части.
Сократ мл.
Пусть будет разделено.
d
Чужеземец.
Но соединительную часть совместно с шерстопрядильной тебе снова надо разделить, Сократ, если мы хотим достаточно точно постичь ткацкое искусство.
Сократ мл.
Значит, надо это сделать.
Чужеземец.
Да, надо. И мы скажем, что в этом случае одна часть соединительного искусства – сучение, другая же – плетение.
Сократ мл.
Понял, понял: мне кажется, говоря о сучении, ты имеешь в виду работу по основе.
Чужеземец.
Не только ее, но и работу с уткум. Или мы можем сказать, что она делается без сучения?
Сократ мл.
Ни в коем случае.
e
Чужеземец.
Итак, тебе следует разграничить то и другое: возможно, это разграничение тебе пригодится.
Сократ мл.
Каким образом?
Чужеземец.
А вот каким: из творений чесального искусства то, что вытягивается в длину, а также обладает и шириной, мы ведь называем пучком?
Сократ мл.
Да.
Чужеземец.
А свитый веретеном и ставший прочной пряжей, этот пучок оказывается, скажешь ты, основой; искусство же, вытягивающее основу, ты назовешь искусством ее приготовлять.
Сократ мл.
Правильно.
Чужеземец.
Все то, что допускает мягкую пряжу и, вплетенное в основу, позволяет мягко начесывать ворс, мы называем уткум, а предназначенное для этого мастерство – искусством прясть утук.
283
Сократ мл.
Совершенно верно.
Чужеземец.
И вот, следовательно, та часть ткацкого искусства, которую мы предположительно выделили, ясна теперь, как кажется, всякому: ибо когда соединительная часть шерстопрядильного искусства путем переплетения основы и уткб создает плетение и получается цельноплетеное шерстяное платье, то искусство, направленное на это, мы называем ткацким.
Сократ мл.
Совершенно верно.
b
Чужеземец.
Пусть будет так. Но почему мы тотчас же не ответили, что искусство сплетения уткб и основы и есть то, что мы называем ткацким искусством, а ходили вокруг да около, давая много лишних определений?
Сократ мл.
Но мне, чужеземец, ничего из сказанного не показалось лишним.
Чужеземец.
Ничего удивительного: но скоро, мой милый, тебе это, быть может, покажется. И чтобы предотвратить этот недуг, который может часто впоследствии возникать (ничего странного в этом нет), выслушай слово, близко касающееся всех таких случаев.
c
Сократ мл.
Говори, говори.
Чужеземец.
Давай же сначала рассмотрим все виды излишества и недостатка, чтобы на достаточном основании хвалить либо порицать то, что в подобных беседах говорится слишком длинно или, наоборот, слишком кратко.
Сократ мл.
Надо так сделать.
Чужеземец.
Ну. коль скоро об этих самых вещах зайдет у нас речь, она будет, думается мне, правильной.
Сократ мл.
О каких вещах?
d
Чужеземец.
О длиннотах и о краткости и о всяком излишестве и недостатке. Существует же для этого искусство измерения.
Сократ мл.
Да.
Чужеземец.
Разделим его на две части, ведь это нужно для той цели, достичь которой мы сейчас торопимся.
Сократ мл.
Скажи, пожалуйста, какое же здесь будет деление?
Чужеземец.
А вот какое: одна часть – это взаимоотношение великого и малого; другая – необходимая сущность становления[1809]
.
Сократ мл.
Как, как ты говоришь?
Чужеземец.
Не кажется ли тебе естественным называть бульшее бульшим лишь в отношении к меньшему? И меньшее меньшим лишь в отношении большего и ничего иного?
Сократ мл.
Да, кажется.
e
Чужеземец.
Далее. То, что превышает природу умеренного, и то, что превышаемо ею как на словах, так и на деле, не назовем ли мы действительно становящимся? Ведь именно этим более всего отличаются среди нас плохие и хорошие люди?
Сократ мл.
Это очевидно.
Чужеземец.
Значит, нам надо считать двоякой сущность великого и малого и двояким суждение о них и рассматривать их не только так, как мы говорили недавно – в их отношении друг к другу, но скорее, как было сказано теперь, одну [их сущность] надо рассматривать во взаимоотношении, а другую – в ее отношении к умеренному. А для чего все это – хотим ли мы знать?
Сократ мл.
Как же иначе?
284
Чужеземец.
Если относить природу большего только к меньшему, то мы никогда не найдем его отношения к умеренному, не так ли?
Сократ мл.
Так.
Чужеземец.
Но таким образом не погубим ли мы и сами искусства, и все их дела, а заодно не уничтожим ли мы и политика, и ткацкое искусство, о котором шла речь? Ведь все они остерегаются того, что превышает умеренное или меньше него, – потому что усматривают в этом не пустяк, а помеху делу: сохраняя таким образом меру, они совершают все хорошее и прекрасное.
b
Сократ мл.
Конечно.
Чужеземец.
Ведь если мы уничтожим политика, наш поиск царственного знания зайдет в тупик.
Сократ мл.
Да, совершенно.
Чужеземец.
Значит, подобно тому как в «Софисте» мы вынуждены были признать, что существует несуществующее, – ведь к этому привело нас рассуждение – и сейчас нам, видно, придется сказать, что большее и меньшее измеримы не только друг по отношению к другу, но и по отношению к становлению меры?
c
Ведь невозможно, чтобы политик или другой какой‑либо знаток практических дел был бесспорно признан таковым до того, как по этому вопросу будет достигнуто согласие.
Сократ мл.
Значит, надо как можно скорее это согласие установить.
Чужеземец.
Но дело это, Сократ, еще более трудное, чем то, а мы помним, каким долгим оно было. Впрочем, справедливым будет следующее предположение относительно того и другого…
Сократ мл.
Какое же?
d
Чужеземец.
А вот какое: впоследствии для точного пояснения главного вопроса понадобится изложенное нами сейчас. А что оно для нашей ближайшей цели вполне хорошо и достаточно, мне кажется, прекрасно поможет нам понять следующее положение: надо считать, что для всех искусств в равной степени большее и меньшее измеряются не только в отношении друг к другу, но и в отношении к становлению меры. Ибо если существует это, то существует и то, а если существует то, значит, существует и это, и, не будь какого‑нибудь из них, не было бы ни того ни другого.
e
Сократ мл.
Это верно, но что же дальше?
Чужеземец.
Ясно, что мы разделим искусство измерения, как было сказано, на две части, причем к одной отнесем все искусства, измеряющие число, длину, глубину, ширину и скорость путем сопоставления с противоположным, а к другой – те искусства, которые измеряют все это путем сопоставления с умеренным, подобающим, своевременным, надлежащим и со всем тем, что составляет середину между двумя крайностями.
Сократ мл.
Ты назвал два огромных раздела, сильно отличающихся один от другого.
285
Чужеземец.
То, Сократ, что люди изысканного ума говорят иногда, полагая, будто произносят нечто в высшей степени мудрое, а именно, что искусство измерения направлено на все становящееся, – это самое мы сейчас и сказали, ибо все, что относится к области искусств, каким‑то образом причастно измерению. Но люди эти, не привыкнув рассматривать подобные вещи, деля их на виды, валят их все в одну кучу, несмотря на огромное существующее между ними различие, и почитают их тождественными, а также и наоборот:
b
не разделяют на надлежащие части то, что требует такого деления. Между тем следует, когда уж замечаешь общность, существующую между многими вещами, не отступать, прежде чем не заметишь всех отличий, которые заключены в каждом виде, и, наоборот, если увидишь всевозможные несходства между многими вещами, не считать возможным, смутившись, прекратить наблюдение раньше, чем заключишь в единое подобие все родственные свойства и охватишь их единородной сущностью.
c
Однако об этом, а также обо всем избыточном и недостаточном сказанного будет довольно. Сохраним лишь выделенные нами здесь два рода измерительного искусства и постараемся запомнить, чту они собой представляют.
Сократ мл.
Постараемся.
Чужеземец.
Ну что ж, перейдем теперь к другому рассуждению – относительно того самого, что мы ищем, и обо всех вообще обстоятельствах подобного рода бесед.
Сократ мл.
О каком рассуждении ты говоришь?
d
Чужеземец.
Если бы кто‑нибудь спросил нас относительно беседы, касающейся изучения грамоты: когда задается кому‑нибудь вопрос, из каких букв состоит некое имя, ради чего предпринимается это исследование – ради самогу предложенного вопроса или ради того, чтобы стать более знающим во всех вопросах, которые могут быть поставлены, – как бы мы на это ответили?
Сократ мл.
Разумеется, чтобы знать всё.
Чужеземец.
А как же обстоит дело с нашим исследованием политика? Предпринимается ли оно ради него самого или же для того, чтобы стать более сведущими в диалектике всего?
Сократ мл.
Разумеется, ради последнего.
Чужеземец.
В самом деле, ведь никто, находясь в здравом уме, не стал бы гоняться за понятием ткацкого искусства ради самого этого искусства.
e
Однако, думаю я, от большинства людей скрыто, что для облегчения познания некоторых вещей существуют некие чувственные подобия, которые совсем нетрудно выявить, когда кто‑нибудь хочет человеку, интересующемуся их объяснением, без труда, хлопот и рассуждений дать ответ.
286
Что же касается вещей самых высоких и чтимых, то для объяснения их людям не существует уподобления, с помощью которого кто‑нибудь мог бы достаточно наполнить душу вопрошающего, применив это уподобление к какому‑либо из соответствующих ощущений. Поэтому‑то и надо в каждом упражнять способность давать объяснение и его воспринимать.
b
Ибо бестелесное – величайшее и самое прекрасное – ясно обнаруживается лишь с помощью объяснения, и только него, и вот ради этого‑то и было сказано все то, что сейчас говорилось[1810]
. Упражняться же, чего бы это ни касалось, гораздо легче бывает в малых вещах, чем в большом.
Сократ мл.
Ты великолепно сказал.
Чужеземец.
Давай же припомним, из‑за чего мы обо всем этом заговорили.
Сократ мл.
Да, из‑за чего?
Чужеземец.
Не в последнюю очередь – из‑за неуклюжего многословия речей относительно ткацкого искусства, переворота во Вселенной и сущности небытия в связи с софистом и из‑за вызванной этой речью скуки.
c
Понимая, что все это было очень длинно, и коря самих себя, мы убоялись наговорить много лишнего. И чтобы этого с нами не повторилось, скажу, что все прежнее было говорено нами именно с этой целью.
Сократ мл.
Пусть будет так. Ты только говори по порядку.
Чужеземец.
Следовательно, я говорю, что мне и тебе надо, припомнив только что сказанное, всегда выражать похвалу или порицание тому, что говорится, соответственно за краткость и за длинноты, причем мы должны судить не на основании сравнения длины одной и другой речи, но в соответствии с той частью измерительного искусства, которую, как мы сказали тогда, надо иметь в виду, а именно – сообразующейся с подобающим.
d
Сократ мл.
Правильно.
Чужеземец.
Однако не в отношении ко всему. Когда речь идет об удовольствии, нам вовсе нет нужды определять подобающую ему продолжительность, разве что мимоходом; когда же речь идет о том, чтобы как можно скорее и легче решить поставленную задачу, разум велит стремиться к этому лишь во вторую, не в первую очередь. Более всего и в первую очередь он велит почитать сам способ решения, состоящий в том, чтобы различать всё по видам и стараться дать объяснение,
e
не считаясь с длиннотами, если они делают слушателя изобретательнее; точно так же обстоит дело и с краткостью.
И вот еще что: тому, кто порицает подобные беседы за
длину речи и кто не приемлет таких обходных движений, не следует слишком легко и скоро позволять корить речь лишь за то, что она длинна,
287
но надо еще требовать, чтобы он указал, каким образом она может стать короче и сделать беседующих лучшими диалектиками, чем они были раньше, более изобретательными в рассуждении и объяснении сущностей; в остальном же собеседникам не следует особенно заботиться о порицаниях и похвалах, да и слушать‑то им подобные речи вовсе негоже.
Но будет об этом, коли ты со мной согласен. Вернемся к политику, беря в пример уже объясненное нами ткацкое искусство.
b
Сократ мл.
Ты прекрасно сказал. Сделаем же, как ты говоришь.
Чужеземец.
Итак, искусство царя отделено нами от многих родственных ему искусств, особенно же от тех, что относятся к уходу за стадами. Теперь, скажем мы, следует отделить друг от друга те искусства, которые выступают в качестве основных и вспомогательных причин в жизни самого государства.
Сократ мл.
Правильно.
Чужеземец.
А знаешь ли ты, что их трудно разделить надвое? И причина этого, когда мы двинемся дальше, станет вполне очевидной.
c
Сократ мл.
Значит, и не нужно делить надвое.
Чужеземец.
Разделим же их почленно, наподобие жертвенного животного, раз уж нельзя делить надвое: ведь всегда следует брать наименьшее число частей.
Сократ мл.
Как же мы поступим теперь?
Чужеземец.
А как прежде, когда речь шла об изготовлении ткацких орудий: сколько бы ни было таких искусств, мы все их отнесли к причинам вспомогательным.
Сократ мл.
Да.
d
Чужеземец.
И сейчас нам, еще более, чем тогда, надобно поступить точно так же. Сколько бы искусств ни занимались изготовлением большого ли, малого ли орудия для государства, все их надо отнести к вспомогательным причинам, ведь без них не было бы ни государства, ни политики, хотя мы и не припишем им создание царского искусства.
Сократ мл.
Конечно, нет.
Чужеземец.
Впрочем, нелегкое предстоит нам дело, если мы беремся отделить этот род от прочих, ведь сказать, что нечто есть орудие чего‑то одного из существующего, было бы вполне убедительным; однако мы будем говорить о другой принадлежности государства.
Сократ мл.
Какой же именно?
e
Чужеземец.
Той, которая не обладает указанным свойством и связана не с причиной возникновения, как это верно для орудия, а с сохранением того, что уже создано.
Сократ мл.
Что ты имеешь в виду?
Чужеземец.
Многообразный род, одновременно сухой и влажный, огненный и лишенный огня, единое имя которого – «сосуд»: род этот обширен и, как я думаю, не имеет никакого отношения к искомому знанию.
288
Сократ мл.
Да и как ему иметь?
Чужеземец.
Третий, отличный от этих двух род государственных принадлежностей, часто наблюдаемый, одновременно сухопутный и водный, весьма подвижный и неподвижный, драгоценный и вовсе не имеющий цены, также носит единственное имя, потому что в целом он создан ради некоего восседания и всегда служит кому‑то сиденьем.
Сократ мл.
Что же это?
Чужеземец.
Род этот мы называем повозкой, и относится он вовсе не к искусству государственного правления, а скорее к плотничьему, гончарному и кузнечному делу.
Сократ мл.
Понимаю.
b
Чужеземец.
Что же сказать о четвертом роде? Скажем ли мы, что он отличен от тех трех, хотя в нем и содержится большая часть того, о чем говорилось выше, – всякая одежда, значительная толика оружия, стйны, всевозможные земляные и каменные перекрытия и тысячи других подобных вещей? Так как все это производится для защиты, то справедливее всего было бы назвать весь этот род защитным и отнести его к домостроительному и ткацкому искусствам, но никак не к искусству государственного правления.
Сократ мл.
Безусловно.
c
Чужеземец.
А к пятому роду не причислить ли нам все то, что относится к искусствам украшения и живописи и что, пользуясь этим последним и музыкой, создает подражания, направленные исключительно к нашему удовольствию и по праву охватываемые единым именем?
Сократ мл.
Каким именно?
Чужеземец.
Примерно таким: игра.
Сократ мл.
Да, конечно.
Чужеземец.
Итак, вот что будет приличным общим названием для всех подобного рода вещей, ведь все это делается не всерьез, но ради забавы.
d
Сократ мл.
И это мне почти что понятно.
Чужеземец.
То же, что доставляет всему этому материал, из которого и на котором творят свои изделия все перечисленные искусства, – этот разнообразный род, порождение многих других искусств – не назовем ли мы шестым?
Сократ мл.
Что ты имеешь в виду?
Чужеземец.
Золото, серебро и другие добываемые из земли металлы, а также все то, что лесорубы и пильщики поставляют искусству плотника и корзинщика; далее, искусство драть лыко с деревьев и снимать шкуры с животных
e
и все прочие подобного рода искусства – те, что изготовляют пробки, папирус, ремни, – все они доставляют возможность создавать сложные виды из несложных родов. Мы назовем все это единым именем простейших исконных принадлежностей человечества, не имеющих никакого отношения к царскому знанию.
Сократ мл.
Прекрасно.
289
Чужеземец.
Седьмым родом следует назвать добывание пищи и все то, что, будучи примешано к телу, обладает способностью своими частями поддерживать его части; название же всему этому роду будет «наш кормилец», коль скоро мы не подберем ему лучшего. Род этот мы скорее отнесем к земледелию, охоте, гимнастике, врачеванию и поварскому искусству, чем к искусству государственного правления.
Сократ мл.
Конечно.
Чужеземец.
Итак, почти все, что нам принадлежит, кроме домашних животных, содержится в этих семи родах. Смотри‑ка, самым справедливым расположением их было бы следующее:
b
сначала – род простейших исконных вещей, затем – орудия, сосуды, повозки, покровы, игра, питание[1811]
. Мы оставляем в стороне незначительные вещи, которые могли бы быть отнесены к одному из этих семи родов и которые мы упустили из виду: таков вид монет, печатей и разных чеканных знаков, ибо эти вещи не составляют большого одноименного рода, но могут быть отнесены, хоть и с натяжкой, одни – к украшениям, другие – к орудиям.
Что же касается приобретения домашних животных (если исключить рабов[1812]
), – то оно целиком входит в искусство ухода за стадом в том виде, как мы его подразделили раньше.
Сократ мл.
Безусловно.
c
Чужеземец.
Остаются рабы и другие слуги, среди которых, я полагаю, найдутся такие, что станут оспаривать у царя его мастерство, как оспаривают его у ткача, согласно тому, что сказали мы раньше, прядильщики, чесальщики и прочие подобного рода умельцы. А все остальные, названные нами вспомогательными причинами, вместе с их перечисленными сейчас занятиями отделены нами и устранены от царского занятия – искусства государственного правления.
d
Сократ мл.
Похоже, что так.
Чужеземец.
Давай же приступим ближе и рассмотрим прочие роды, чтоб основательнее их узнать.
Сократ мл.
Да, это необходимо.
Чужеземец.
Главные слуги, если смотреть с такой точки зрения, оказывается, имеют занятия и качества, противоположные тем, которые мы за ними предполагали.
Сократ мл.
О каких слугах ты говоришь?
Чужеземец.
О слугах, приобретаемых путем купли‑продажи; их можно, бесспорно, назвать рабами, и они менее всего причастны царскому искусству.
Сократ мл.
Конечно.
e
Чужеземец.
Далее. Свободные люди, добровольно примыкающие к сословию слуг, поставляющие друг другу плоды земледелия и других ремесел и распределяющие их между собой, одни на рынках, другие переезжая из города в город по суше и по воде, а также обменивающие деньги на товар и на другие товары, – иначе говоря,
290
люди, которых мы называем менялами, купцами, владельцами судов и мелочными торговцами, станут ли считать себя причастными искусству государственного правления?
Сократ мл.
Скорее уж, может быть, искусству купли‑продажи.
Чужеземец.
И тех, кто, как мы видим, весьма охотно служит по найму и всем услужает, мы ведь не сочтем причастными царскому искусству?
Сократ мл.
Как можно!
Чужеземец.
А что сказать о тех, кто оказывает нам всякий раз вот какие услуги…
Сократ мл.
Какие? О чем ты говоришь?
b
Чужеземец.
Я говорю об услугах рода глашатаев, а также о тех, кто искушен в искусстве письмен и часто оказывает нам помощь, и о многих других весьма искусных в деле оказания услуг властям. Что мы о них скажем?
Сократ мл.
Что они, как ты и сказал, слуги, а не правители государств.
Чужеземец.
Однако не во сне же я молвил, что таким путем обнаружатся люди, особо притязающие на причастность к государственному искусству. Но весьма странно было бы искать государственных людей в сословии слуг.
Сократ мл.
Несомненно.
c
Чужеземец.
Приблизимся, однако, к тем, кто пока еще не испытан. И в тех, кто занимается прорицаниями, есть какая‑то частица служебного знания, ведь они считаются меж людьми толкователями воли богов.
Сократ мл.
Да.
Чужеземец.
Точно так же и род жрецов, как считают обычно, сведущ в том, чтобы путем жертвоприношения делать наши дары угодными богам, а у них с помощью молитв испрашивать для нас различные блага. То и другое – части служебного искусства.
Сократ мл.
Это очевидно.
d
Чужеземец.
Что ж, мне кажется, мы напали уже на след, по которому можем идти вперед. Ведь положение жрецов и прорицателей таково, что они исполнены высочайших помыслов и пользуются великим почетом благодаря важности их начинаний. В Египте царь не может без жреческого сана осуществлять правление, и если даже кто‑нибудь из другого сословия путем насилия восходит там на престол, то в дальнейшем он все равно должен быть посвящен в жреческий сан. Так же и у эллинов повсеместно поручается высочайшим властям приносить самые важные жертвоприношения.
e
Ведь и у вас – это совершенно очевидно – дело обстоит так, как я говорю: тому из вас, кому выпадет жребий царствовать, поручаются самые торжественные и древние жертвоприношения[1813]
.
Сократ мл.
Да, несомненно.
291
Чужеземец.
Итак, нам надо рассмотреть этих избранных жеребьевкой царей и жрецов, а также их слуг и еще некую многочисленную толпу, недавно представившуюся нашему взору после того, как мы отделили всех остальных.
Сократ мл.
О ком ты говоришь?
Чужеземец.
О людях весьма странных.
Сократ мл.
А именно?
Чужеземец.
На первый взгляд этот род кажется очень многообразном. Многие из этих мужей походят на львов,
b
некоторые – на кентавров и на другие подобные создания, большинство же – на сатиров[1814]
и на сходные с ними существа, слабые и изменчивые: они быстро меняют свой облик и свои свойства на другие. Да, наконец‑то, Сократ, мне кажется, я понял, что это за люди.
Сократ мл.
Ну так скажи. Ведь похоже, что ты усмотрел что‑то несообразное.
Чужеземец.
Да, это кажется всем несообразным по неведению[1815]
. Я и сам испытал вот лишь сейчас недоумение, узрев сборище, занятое делами города.
c
Сократ мл.
Что за сборище?
Чужеземец.
Это величайшие шарлатаны из софистов, искуснейшие в этом деле. Нам необходимо отделить их, хоть это и очень трудно, от действительных политиков и царей, если только мы хотим хорошо уяснить себе то, что мы ищем.
Сократ мл.
Да, этого ни в коем случае нельзя упустить.
Чужеземец.
Я тоже так считаю. Скажи же мне вот что…
Сократ мл.
Что?
d
Чужеземец.
У нас монархия – это один из видов государственного правления?
Сократ мл.
Да.
Чужеземец.
А после монархии, я думаю, надо назвать правление немногих.
Сократ мл.
Как же иначе?
Чужеземец.
Третий же вид государственного устройства не есть ли правление большинства и не носит ли оно имя демократии?
Сократ мл.
Да, несомненно.
Чужеземец.
А не образуется ли из этих трех видов пять, если два первых вида порождают для себя из самих себя другие названия?
Сократ мл.
Какие же это названия?
e
Чужеземец.
Если принять во внимание имеющиеся в этих двух видах государственного устройства насилие и добрую волю, бедность и богатство, законность и беззаконие, то каждый из них можно разделить надвое, причем монархия будет носить два имени: тирании и царской власти.
Сократ мл.
Да, конечно.
Чужеземец.
А государство, управляемое немногими, будет носить название аристократии или же олигархии.
Сократ мл.
Несомненно.
292
Чужеземец.
Что касается демократии, то правит ли большинство теми, кто обладает имуществом, насильственно или согласно с доброй волей последних, точно ли оно соблюдает законы или же нет, никто ей, как правило, не даст иного имени[1816]
.
Сократ мл.
Это верно.
Чужеземец.
Что же? Сочтем ли мы какое‑либо из этих устройств правильным, если оно находится в этих границах, то есть управляется одним, немногими или большинством, богатыми или бедными, насильственно или согласно с доброй волей и имеет установления или же лишено законов?
Сократ мл.
А что препятствует тому, чтобы так считать?
b
Чужеземец.
Посмотри же пристальнее, следуя этим путем…
Сократ мл.
Каким?
Чужеземец.
Останемся ли мы при том, что сказали раньше, или же отступим от этого?
Сократ мл.
О чем ты говоришь?
Чужеземец.
Мы говорили, что царское правление есть некое знание.
Сократ мл.
Да.
Чужеземец.
Но мы выбрали его не из всех вообще знаний, но выделили уменье судить и повелевать.
Сократ мл.
Да.
c
Чужеземец.
А уменье повелевать мы разделили на повелевание неодушевленными видами и одушевленными существами[1817]
; разделив же его таким образом, мы пришли наконец сюда, не упустив из виду знания, хоть и не можем его достаточно точно определить.
Сократ мл.
Ты правильно говоришь.
Чужеземец.
Итак, мы понимаем теперь, что определяющей границей ту! будет не количество правителей – много их или мало, не насилие или добрая воля. а также не бедность или богатство, но некое знание, – если только мы хотим следовать тому, что было сказано раньше.
d
Сократ мл.
Иное допущение невозможно.
Чужеземец.
Значит, необходимо рассмотреть это теперь следующим образом: в каком из упомянутых нами государственных устройств кроется уменье управлять людьми? Ведь это одно из сложнейших и самых труднодостижимых умений. Его надо понять для того, чтобы знать, кого следует отделить от разумного государя из тех, кто делает вид, что они политики, и убеждает в этом многих, на самом же деле вовсе не таковы.
Сократ мл.
Надо это сделать так, как указало нам рассуждение.
e
Чужеземец.
Неужели можно полагать, что большинство людей в государстве может обладать этим знанием?
Сократ мл.
Вряд ли!
Чужеземец.
А в городе с населением в тысячу человек может ли им обладать сто или хотя бы пятьдесят мужей?
Сократ мл.
Если так, то это было бы легчайшим из всех искусств; а мы знаем, что из тысячи человек не найдется против остальных эллинов такого количества даже отличных игроков в шашки, не то что царей. Мы должны в соответствии с прежним рассуждением наречь царем того, кто обладает царским знанием, – правит ли он на самом деле или нет.
293
Чужеземец.
Ты верно вспомнил. Согласно этому, хорошее правление, если только оно бывает, следует искать у одного, двоих или во всяком случае немногих людей.
Сократ мл.
Конечно!
Чужеземец.
И мы должны будем считать, как мы это сейчас решили, что, правят ли эти люди согласно нашей доброй воле или против нее, согласно установлениям или без них, богаты они или бедны, они правят в соответствии с неким искусством правления. Ведь врачей мы почитаем врачами
b
независимо от того, лечат ли они нас по нашему согласию или против нашей воли, когда они делают нам разрезы, прижигания или, пользуя нас, причиняют другую какую‑то боль, действуют они согласно установлениям или помимо них и богаты ли они или бедны, – пока они руководствуются искусством, очищая или как‑то по‑иному ослабляя либо, наоборот, укрепляя наше тело, – лишь бы врачеватели действовали на благо наших тел, превращали их из слабых в более крепкие и тем самым всегда спасали врачуемых. Именно таким образом, а не иным мы дадим правильное определение власти врача, как и всякой другой власти.
Сократ мл.
Ты совершенно прав.
c
Чужеземец.
И из государственных устройств то необходимо будет единственно правильным, в котором можно будет обнаружить истинно знающих правителей, а не правителей, которые лишь кажутся таковыми; и будет уже неважно, правят ли они по законам или без них, согласно доброй воле или против нее, бедны они или богаты: принимать это в расчет никогда и ни в коем случае не будет правильным.
d
Сократ мл.
Прекрасно.
Чужеземец.
И пусть они очищают государство, казня или изгоняя некоторых, во имя его блага, пусть уменьшают его население, выводя из города подобно пчелиному рою колонии, или увеличивают его, включая в него каких‑либо иноземных граждан, – до тех пор, пока это делается на основе знания и справедливости и государство по мере сил превращается из худшего в лучшее, мы будем называть такое государственное устройство – в указанных границах – единственно правильным.
e
Другие же государственные устройства, которые мы считали правильными, следует признать не подлинными, не действительно правильными, а лишь подражаниями правильному устройству, причем те, которые мы называем благоустроенными, подражают ему в лучшем, остальные же в худшем.
Сократ мл.
Чужеземец, обо всем прочем ты говорил, как нужно; а вот о том, что следует управлять без законов, слышать тяжко.
294
Чужеземец.
Ты чуть‑чуть опередил меня своим вопросом, Сократ: ведь я и сам хотел расспросить тебя, принимаешь ли ты все мной сказанное, или что‑нибудь из этого тебе неугодно. Теперь же ясно, что мы стремимся разобрать правильность правления без законов.
Сократ мл.
Совершенно верно.
Чужеземец.
Некоторым образом ясно, что законодательство – это часть царского искусства; однако прекраснее всего, когда сила не у законов, а в руках царственного мужа, обладающего разумом[1818]
. И знаешь почему?
Сократ мл.
Нет. Почему?
b
Чужеземец.
Потому что закон никак не может со всей точностью и справедливостью охватить то, что является наилучшим для каждого, и это ему предписать. Ведь несходство, существующее между людьми и между делами людей, а также и то, что ничто человеческое, так сказать, никогда не находится в покое, – все это не допускает однозначного проявления какого бы то ни было искусства в отношении всех людей и на все времена. Согласимся ли мы в этом?
Сократ мл.
Как же иначе?
c
Чужеземец.
Закон же, как мы наблюдаем, стремится именно к этому, подобно самонадеянному и невежественному человеку, который никому ничего не дозволяет ни делать без его приказа, ни даже спрашивать, хотя бы кому‑то что‑нибудь новое и представилось лучшим в сравнении с тем, что он наказал.
Сократ мл.
Сущая правда: закон поступает по отношению к каждому из нас именно так, как ты говоришь.
Чужеземец.
Следовательно, невозможно, чтобы совершенно простое соответствовало тому, что никогда простым не бывает.
Сократ мл.
Видимо, так.
d
Чужеземец.
Для чего же нужно законодательство, если закон несовершенен? Мы должны найти этому причину.
Сократ мл.
Конечно.
Чужеземец.
Ведь у вас, как и в других городах, существует обычай всенародных упражнений – в беге ли или еще в чем‑нибудь – ради поощрения духа соперничества?
Сократ мл.
Да, это очень распространено.
Чужеземец.
Давай же припомним приказания тех, кто сведущ в гимнастических упражнениях и имеет власть эти приказания отдавать.
Сократ мл.
Что ты имеешь в виду?
Чужеземец.
Они не считают уместным вдаваться в тонкости, имея в виду каждого в отдельности, и давать указания, что полезно для тела данного человека; наоборот, они думают, что надо более грубо и приближенно давать наказы, так, чтобы они в целом приносили пользу телам большей части людей.
e
Сократ мл.
Совершенно верно.
Чужеземец.
Потому‑то, возможно, они одинаково распределяют между всеми нагрузку, то приказывая всем одновременно бежать, то останавливая их бег, борьбу или другие телесные упражнения.
Сократ мл.
Да, это так.
295
Чужеземец.
Значит, мы будем считать, что и законодатель, дающий наказ своему стаду относительно справедливости и взаимных обязательств, не сможет, адресуя этот наказ всем вместе, дать точные и соответствующие указания каждому в отдельности.
Сократ мл.
Видимо, это так.
Чужеземец.
Он издаст, думаю я, законы, носящие самый общий характер, адресованные большинству, каждому же – лишь в более грубом виде, будет ли он излагать их письменно или же устно, в соответствии с неписаными отечественными законами.
Сократ мл.
Правильно.
b
Чужеземец.
Конечно, правильно. Да и в состоянии ли, Сократ, кто‑нибудь находиться всю жизнь при каждом, давая ему самые разные и полезные указания? А если бы кто‑то и был в состоянии из тех, кто действительно получил в удел царственное познание, то едва ли он пожелал бы, записывая эти пресловутые законы, сам наложить на себя оковы.
Сократ мл.
Да, чужеземец, это ясно из только что сказанного.
Чужеземец.
Еще более ясным это станет из последующего.
Сократ мл.
Из чего именно?
c
Чужеземец.
А вот: скажем ли мы, что врач или учитель гимнастики, собираясь уехать и долгое время пробыть вдали от своих подопечных, сочтет нужным оставить им памятную записку с предписаниями, адресованными этим больным или ученикам гимнастики, чтобы они ничего не забыли?
Сократ мл.
Так.
Чужеземец.
А что, если он пробудет в отсутствии меньше, чем ожидал? Неужели, вернувшись, он не посмеет дать другие предписания вопреки тому, что было написано раньше, учитывая, что из‑за перемены ли ветра или других неожиданностей погоды больным стало лучше?
d
Неужели он станет упорствовать и считать, будто не следует отступать от того, что было установлено прежде, и будто ни ему не следует давать новые указания, ни больному осмеливаться преступить написанное, поскольку то, что записано, целительно и направлено к выздоровлению, все же прочее – невежественно и болезнетворно? Если бы такое случилось в науке и истинном искусстве, разве не раздался бы громовой хохот и не были бы подняты на смех подобные предписания?
Сократ мл.
Безусловно.
e
Чужеземец.
А если кто пишет о справедливом и несправедливом, прекрасном и постыдном, добром и злом или же устно издает такие законоположения для человеческих стад, пасущихся согласно предписаниям законодателей по городам, причем пишет со знанием дела, или вдруг явится другой кто‑либо подобный, неужели же им не будет дозволено установить вопреки написанному другое?
296
И неужели этот запрет, подобно прежнему, о котором мы говорили, не вызовет самого настоящего смеха?
Сократ мл.
Конечно, вызовет.
Чужеземец.
Знаешь, что в таких случаях говорят обычно люди?
Сократ мл.
Пока что не догадываюсь.
Чужеземец.
Это звучит очень складно: говорят, что, если кому известны законы, лучшие в сравнении с теми, что были раньше, он должен издавать их не ранее, чем убедит каждого гражданина в отдельности.
Сократ мл.
Ну и что же? Разве это неверно?
b
Чужеземец.
Возможно, и верно. Но если кто, никого не убедив, силой навязывает лучшее, какое будет имя такому насилию?.. Однако постой. Скажи мне сначала по поводу прежнего…
Сократ мл.
Что именно?
Чужеземец.
Если кто, не убедив врачуемого, однако хорошо владея своим искусством, вопреки предписанному станет навязывать лучшее лечение ребенку, мужчине или женщине, как будет называться такое насилие? Ведь скорее любым именем, но только не вредоносной погрешностью против искусства?
c
И насилуемый таким образом может сказать все, что угодно, не скажет он только, будто претерпел нечто вредоносное и невежественное со стороны насилующих его врачей.
Сократ мл.
Ты говоришь сущую правду.
Чужеземец.
А что у нас называется погрешностью против искусства государственного правления? Разве не то, что постыдно, дурно и несправедливо?
Сократ мл.
Несомненно.
d
Чужеземец.
Ну а если кого‑то насильно заставляют вопреки писаным и неписаным отечественным законам делать другое, то, что лучше и прекраснее прежнего, как должно звучать у таких людей порицание подобного рода насилия, коль скоро они хотят, чтобы оно не превратилось во всеобщее посмешище? Не следует ли им говорить что угодно, кроме того, что насилуемые потерпели при этом от насилующих зло. позор и несправедливость?
Сократ мл.
Ты говоришь сущую правду.
Чужеземец.
А не получится ли так, что если насилующий богат, то насилие его справедливо, если же беден, то наоборот? Или же убедил кто других либо не убедил, богат ли он или беден, согласно установлениям или вопреки им делает он полезное дело,
e
именно эта польза и должна служить вернейшим мерилом правильного управления государством, с помощью которого мудрый и добродетельный муж будет руководить делами подвластных ему людей? Подобно тому как кормчий постоянно блюдет пользу судна и моряков,
297
подчиняясь не писаным установлениям, но искусству, которое для него закон, и так сохраняет жизнь товарищам по плаванию, точно таким же образом заботами умелых правителей соблюдается правильный государственный строй, потому что сила искусства ставится выше законов. И пока руководствующиеся разумом правители во всех делах соблюдают одно великое правило, они не допускают погрешностей: правило же это состоит в там, чтобы, умно и искусно уделяя всем в государстве самую справедливую долю, уметь оберечь всех граждан и по возможности сделать их из худших лучшими.
b
Сократ мл.
Против того, что было тобой сказано, нечего возразить.
Чужеземец.
Да и против другого тоже.
Сократ мл.
Что ты имеешь в виду?
Чужеземец.
А то, что никогда многие, кто бы они ни были, не смогут, овладев подобным знанием, разумно управлять государством; единственно правильное государственное устройство следует искать в малом – среди немногих или у одного, все же прочие государства будут лишь подражаниями, как это было сказано несколько раньше, одни – подражаниями тому лучшему, что есть в правильном государстве, другие – подражаниями худшему.
c
Сократ мл.
Как, как ты сказал? Я ведь и раньше не совсем понял то, что ты говорил о подражаниях.
Чужеземец.
А ведь не худо было бы, если бы кто, затеяв это рассуждение, тут же и бросил его, чтобы в дальнейшем не обнаружилась возникшая сейчас в нем погрешность.
Сократ мл.
Какая же это погрешность?
Чужеземец.
Вот какую погрешность надо искать, не совсем обычную и не легкую для рассмотрения; однако же мы постараемся ее уловить.
d
Смотри‑ка: если указанное нами государственное устройство – единственно правильное, по нашему мнению, то, знаешь ли, другим надлежит блюсти себя, следуя его предписаниям и делая то, что мы сейчас одобряем, хотя это и не самое правильное.
Сократ мл.
Что же именно мы сейчас одобряем?
Чужеземец.
А вот что: никто из граждан никогда не должен сметь поступать вопреки законам, посмевшего же так поступить надо карать смертью и другими крайними мерами. Такое устройство – самое правильное и прекрасное после первого, если бы кто‑нибудь вздумал его отменить[1819]
. Но давай решим, каким образом возникает государственное устройство, названное нами вторым. Ты согласен?
Сократ мл.
Безусловно.
e
Чужеземец.
Вернемся же снова к уподоблениям, которые всегда следует применять в отношении царственных правителей.
Сократ мл.
О каких уподоблениях ты говоришь?
Чужеземец.
О благородном кормчем и о враче, который «стуит многих людей»[1820]
: вглядимся в них и с их помощью создадим себе некий образ.
298
Сократ мл.
Какой же?
Чужеземец.
А вот какой: давайте представим себе все, что мы терпим из‑за врачей величайшие страдания. Кого из нас они хотят сберечь, того каждый из них оберегает, но уж кого хотят погубить, того они всячески губят – и разрезами, и прижиганиями, да еще велят расходоваться на них, налагая род некой дани, из которой на больного идет очень мало либо совсем ничего, всем же остальным пользуется сам врач и его слуги.
b
Кончается тем, что врач, приняв в уплату деньги от родственников больного или от его врагов, просто его убивает.
Кормчие тоже делают тысячи подобных вещей. Они, следуя чьему‑то злому умыслу, покидают людей на пустынных морских берегах, а также подстраивают так, что люди падают за борт в море, и строят другие козни.
c
Представь себе, что, обдумав все это, мы вынесем решение, чтобы ни одно из этих искусств не могло впредь неограниченно распоряжаться ни рабами, ни свободными, сами же устроим собрание с представителями либо всего народа, либо только богатых и всем им – как лицам несведущим, так и мастерам в других областях – будет дозволено выражать свое мнение по поводу плавания или болезней: какими лечебными снадобьями и средствами надо лечить больных или же какими пользоваться судами и корабельным оборудованием для лучшего плавания, а также что делать в виду опасностей, с одной стороны, самого плавания – во время ветров и бурь на море,
d
а с другой – при встрече с морскими пиратами и, наконец, следует ли или нет большим военным судам вступать в сражение с противником. Занеся все это – и то, что было высказано врачами и кормчими, и то, что считают лица несведущие, – на треугольные таблички и стелы[1821]
, а кое‑что из этого приняв как неписаные отечественные обычаи, мы в дальнейшем будем плавать по морю и пользовать больных исключительно таким образом.
Сократ мл.
Ты говоришь очень странные вещи.
e
Чужеземец.
Ежегодно будут назначаться правители для толпы – из богатых или же из народа, смотря по тому, что покажет жребий. И эти избранные правители будут править, водить суда и пользовать больных согласно записанным установлениям.
Сократ мл.
Это еще чуднее!
Чужеземец.
Рассмотри же и то, что за этим последует. Когда исполнится год правления каждого из правителей, надо, созвав судилище, состоящее либо большей частью из богатых людей, либо из представителей народа, на которых падет жребий,
299
и поставив перед этим судом бывших правителей, потребовать у них отчет, причем каждый желающий может их обвинить в том, что в течение года они водили суда, не следуя ни предписаниям, ни древним обычаям предков; точно такое же обвинение можно предъявить и врачам, пользовавшим больных. И если кого‑нибудь из них осудят, будет решено, чту он должен претерпеть или какой заплатить штраф.
Сократ мл.
Но ведь тот, кто при подобных обстоятельствах по доброй воле и охоте принимает бразды правления, справедливо понесет наказание, в чем бы оно ни состояло.
b
Чужеземец.
И вдобавок ко всему надо будет еще принять закон, что, если кто‑нибудь станет изучать искусство кораблевождения или доискиваться до истины в деле здоровья и врачевания – относительно ветров, жары или холода – в нарушение предписаний и попробует умничать в этих вопросах, того, во‑первых, следует называть не врачом и не кормчим, но верхоглядом, пустым болтуном и софистом. Кроме того, поскольку он развращает других, тех, кто моложе годами, и убеждает их
c
не согласно законам, а по собственной воле управлять кораблями и руководить больными людьми, то всякий желающий может подать на него жалобу и притянуть к суду; и если окажется, что он вопреки законам и писаным правилам поучает других – будь то юноши или старики, – он должен быть присужден к высшей мере наказания. Ибо не следует быть мудрее закона! Да вдобавок все без исключения должны знать как искусство врачевания, так и искусство кораблевождения, ведь каждый желающий может их изучить по предписаниям и старинным обычаям.
d
Так вот, Сократ, если бы с этими знаниями получилось так, как мы говорим, и прочие искусства – военное знание, охотничье искусство всех видов, живопись, каждый раздел подражательного искусства, строительство, изготовление всевозможной утвари, земледелие и всякое растениеводство, а также разведение лошадей оказались бы проводимыми согласно письменным предписаниям, как и всевозможный уход за стадами, прорицания, искусство услужения во всех его видах, игра в шашки, вся арифметика – чистая ли или в применении к измерению поверхностей, глубин и скоростей, – если бы все это совершалось согласно предписаниям, а не по правилам искусства, что бы из этого вышло?
e
Сократ мл.
Ясно, что все без исключения искусства у нас бы погибли и, поскольку закон запрещает исследование, никогда не возродились бы вновь. И таким образом, жизнь, трудная и сейчас, стала бы к тому времени вовсе невыносимой.
300
Чужеземец.
А что ты скажешь на следующее: если бы мы вынуждены были признать, что все перечисленное должно совершаться по предписаниям, и для присмотра за их выполнением поставили бы кого‑нибудь избранного голосованием или по жребию, он же, ничуть не заботясь о предписаниях, из корыстных ли побуждений или из прихоти делал бы все наоборот, без всякого смысла, – разве это зло не было бы еще горше прежнего[1822]
?
Сократ мл.
Да, это сущая правда.
b
Чужеземец.
Ведь я думаю, что если бы кто‑нибудь осмелился нарушать законы, установленные на основе долгого опыта и доброжелательных мнений советников, всякий раз убеждавших народ в необходимости принять эти законы, то такой человек, громоздя ошибку на ошибку, извратил бы все еще больше, чем это делают предписания.
Сократ мл.
Как же иначе?
c
Чужеземец.
Поэтому второе правило для тех, кто издает какие‑либо законы или постановления, – это ни в коем случае никогда не позволять нарушать их ни кому‑либо одному, ни толпе.
Сократ мл.
Правильно.
Чужеземец.
Разве эти законы и постановления не подражания истине вещей, начертанные по мере сил сведущими людьми?
Сократ мл.
Конечно.
Чужеземец.
А ведь вспомни: мы сказали, что сведущий человек – подлинный политик – делает все, руководствуясь искусством и не заботясь о предписаниях, коль скоро ему что‑нибудь покажется лучшим, чем то, что он сам написал и наказал тем, кто находится вдали от него.
d
Сократ мл.
Да, мы так сказали.
Чужеземец.
Значит, если какой‑либо один человек или множество людей, которым предписаны законы, попытаются нарушить их в пользу того, что им представляется лучшим, то они по мере сил будут поступать так же, как тот подлинный политик?
Сократ мл.
Несомненно.
Чужеземец.
Итак, если они – те, кто берется за это, – невежественны, то, пытаясь подражать истинному, они будут подражать ему очень плохо; если же они искусные люди, то это будет уже не подражание, а сама наивысшая истина.
Сократ мл.
Безусловно.
e
Чужеземец.
А ведь выше мы договорились, что толпа ни в коем случае не может владеть никаким искусством.
Сократ мл.
Да, это решено.
Чужеземец.
И если вообще существует царское искусство, то ни множество богатых людей, ни весь народ в целом не в состоянии овладеть этим знанием.
Сократ мл.
Да, это невозможно.
301
Чужеземец.
Значит, как видно, подобные государства, коль скоро они хотят по мере сил хорошо подражать подлинному государственному устройству – тому, при котором искусно правит один человек, – ни при каких условиях не должны нарушать принятые в них писаные законы и отечественные обычаи.
Сократ мл.
Ты прекрасно сказал.
Чужеземец.
Итак, когда наилучшему государственному устройству подражают богатые, мы называем такое государственное устройство аристократией; когда же они не считаются с законами, это будет уже олигархия.
Сократ мл.
Да, очевидно.
b
Чужеземец.
Когда же один кто‑нибудь управляет согласно законам, подражая сведущему правителю, мы называем его царем, не отличая по имени того, кто единолично правит, руководствуясь знанием, от того, кто тоже правит один, но руководствуется мнением и законами.
Сократ мл.
Допустим.
Чужеземец.
Значит, если подлинно знающий человек правит единолично, то имя ему непременно будет «царь», и никакое иное. Благодаря этому пять наименований перечисленных нами государственных устройств сливаются воедино[1823]
.
Сократ мл.
Видимо, так.
c
Чужеземец.
Однако если такой единоличный правитель, не считаясь ни с законами, ни с обычаем, делает вид, что он знаток, и потому вопреки предписаниям хочет направить все к лучшему, на самом же деле руководствуется в этом своем подражании заблуждением или же страстью, разве не следует его – и любого другого такого же – именовать тираном?
Сократ мл.
Как же иначе?
Чужеземец.
Так‑то вот, говорим мы, и появились на свет тиран и царь, олигархия, аристократия и демократия, потому что люди бывают недовольны подобным единоличным монархом, не доверяют ему и считают, что никто вообще недостоин единоличной власти,
d
ибо монарх должен стремиться и быть в состоянии управлять добродетельно и со знанием дела, справедливо и честно уделяя каждому свое, а на самом деле, думают они, он бесчестит, убивает и причиняет зло любому, кому вздумает. А уж появись такой, о котором мы ведем речь, все были бы рады жить при нем, благополучно руководящем единственным безупречно правильным государственным строем.
Сократ мл.
Да и как же иначе?
e
Чужеземец.
Но коль скоро в городах не рождается, подобно матке в пчелином рое, царь, тотчас же выделяющийся среди других своими телесными и душевными свойствами, надо, сойдясь всем вместе, писать постановления, стараясь идти по следам самого истинного государственного устройства.
Сократ мл.
Очевидно.
Чужеземец.
Так станем ли мы удивляться, Сократ, всему тому злу, которое случается и будет случаться в такого рода государствах, коль скоро они покоятся на подобных основаниях? Ведь все в них совершается согласно предписаниям и обычаям, а не согласно искусству, и любое государство, если бы оно поступало противоположным образом, как ясно всякому, вообще при подобных обстоятельствах погубило бы все на свете.
302
Скорее надо удивляться тому, как прочно государство по своей природе: ведь нынешние государства терпят все это зло бесконечное время, а между тем некоторые из них монолитны и неразрушимы. Есть, правда, много и таких, которые, подобно судам, погружающимся в пучину, гибнут либо уже погибли или погибнут в будущем из‑за никчемности своих кормчих и корабельщиков[1824]
– величайших невежд в великих делах, которые, ровным счетом ничего не смысля в государственном управлении, считают, что они во всех отношениях наиболее ясно усвоили именно это знание.
Сократ мл.
Сущая правда.
b
Чужеземец.
Какое же из этих неправильных государственных устройств наименее тяжко для жизни (хотя все они тяжелы) и какое – тяжелее всего? Нам надо это рассмотреть, хотя по отношению к предмету нашего рассуждения это и будет второстепенный вопрос. Правда, однако, и то, что все мы вообще делаем всё именно ради этой цели.
Сократ мл.
Да, это надо рассмотреть. Как же иначе?
Чужеземец.
Итак, смотри: из трех видов государственного правления одно и то же одновременно бывает особенно тяжким и самым легким.
Сократ мл.
Как ты говоришь?
c
Чужеземец.
А вот как: монархия, власть немногих и власть большинства – это три вида государственного правления, названные нами в самом начале слишком расплывшегося теперь рассуждения.
Сократ мл.
Да, именно эти три.
Чужеземец.
Если мы разделим каждое из этих трех надвое, у нас получится шесть видов, правильное же государственное правление будет стоять особняком и будет седьмым по счету.
Сократ мл.
Как это все будет выглядеть?
d
Чужеземец.
Из монархии мы выделим царскую власть и тиранию, из владычества немногих – аристократию (славное имя!) и олигархию. Что касается власти большинства, то раньше мы ее назвали односложным именем демократии, теперь же и ее надо расчленить надвое.
Сократ мл.
Каким же образом мы ее расчленим?
Чужеземец.
Точно так же, как остальные, несмотря на то что пока для нее не существует второго имени. Но и при ней, как при других видах государственной власти, бывает управление согласное с законами и противозаконное.
Сократ мл.
Да, это так.
e
Чужеземец.
Раньше, когда мы искали правильное государственное устройство, такое деление было бы бесполезным, что мы в свое время и показали. Теперь же, когда мы выделили это правильное устройство и признали необходимыми прочие виды, законность и противозаконно образуют деление надвое в каждом из этих последних.
Сократ мл.
Твое объяснение делает это правдоподобным.
Чужеземец.
Итак, монархия, скрепленная благими предписаниями, которые мы называем законами, – это вид, наилучший из всех шести; лишенная же законов, она наиболее тягостна и трудна для жизни.
303
Сократ мл.
Видимо, так.
Чужеземец.
Правление немногих, поскольку немногое – это середина между одним и многим, мы будем считать средним по достоинству между правлением одного и правлением большинства. Что касается этого последнего, то оно во всех отношениях слабо и в сравнении с остальными не способно ни на большое добро, ни на большое зло: ведь власть при нем поделена между многими, каждый из которых имеет ее ничтожную толику. Потому‑то, если все виды государственного устройства основаны на законности, этот вид оказывается наихудшим;
b
если же все они беззаконны, он оказывается наилучшим; дело в том, что, если при всех них царит распущенность, демократический образ жизни торжествует победу; если же всюду царит порядок, то жизнь при демократии оказывается наихудшей, а наилучшей – при монархии, если не считать седьмой вид: его‑то следует, как бога от людей, отличать от всех прочих видов правления[1825]
.
Сократ мл.
Да, видно, все это так и бывает и происходит, и надо поступать, как ты говоришь.
c
Чужеземец.
Надо также отличать участников всех этих правлений от сведущего правителя, ибо они не государственные деятели, а нарушители порядка, защитники величайших химер; да и сами они всего лишь химеры, завзятые подражатели и шарлатаны и потому – величайшие софисты среди софистов.
Сократ мл.
Точнехонько метнул ты это слово в так называемых политиков!
Чужеземец.
Пусть! Это будет у нас совсем словно драма: согласно сказанному, мы видим шумную ораву кентавров и сатиров, которую необходимо отстранить от искусства государственного правления: и вот теперь, хоть и с трудом, орава эта отстранена[1826]
.
Сократ мл.
Да, очевидно.
d
Чужеземец.
Остается еще один род, и отделить его – дело более трудное, так как он и ближе к царскому роду, и в то же время труднее для постижения. Но мне кажется, мы напоминаем людей, очищающих золото.
Сократ мл.
Почему?
Чужеземец.
Ведь мастера отделяют сначала землю, камни и прочие вещи такого рода. После этого остаются только ценные примеси, родственные золоту, которые можно отделить лишь с помощью огня, – медь и серебро,
e
а иногда и адамант[1827]
; они с трудом выделяются путем плавления, и лишь после испытаний мы можем любоваться беспримесным, чистым золотом – золотом как таковым.
Сократ мл.
Да, говорят, что это происходит именно так.
Чужеземец.
Значит, видно, подобным же образом следует нам теперь отделить от политического знания все инородное, чуждое ему и недружественное и оставить только ценное и сродное.
304
А это – военное искусство, судебное и ораторское, поскольку последнее связано с царским искусством и помогает ему управлять делами города с помощью убеждения, склоняющего к справедливости[1828]
. Лишь отделив все это по возможности легким способом, можно будет увидеть то, что мы имеем, обнаженным, единственным в своем роде.
Сократ мл.
Ясно, что надо попытаться это сделать.
Чужеземец.
После попытки искомое и обнаружится. Давай попытаемся выявить его с помощью музыки. Скажи мне…
Сократ мл.
Что именно?
b
Чужеземец.
Есть ли у нас музыкальная наука и вообще наука, дающая знание всего того, что связано с умелостью рук?
Сократ мл.
Есть.
Чужеземец.
Что же? Не скажем ли мы, что наука о том, следует ли нам изучать какую‑либо из этих наук или нет, также будет относящимся к этим наукам знанием?
Сократ мл.
Да, скажем.
Чужеземец.
Однако мы скажем, что это знание будет отличным от тех?
Сократ мл.
Да.
Чужеземец.
Так как же: ни одна из этих наук не должна управлять другой? Или все они должны управлять этой отличной от них наукой? Или, наоборот, она должна быть распорядительницей и управительницей их всех?
c
Сократ мл.
Она должна управлять остальными.
Чужеземец.
Значит, ты считаешь, что та наука, которая указывает, надо ли обучаться, должна управлять у нас теми, которые обучают и направляют?
Сократ мл.
Конечно.
Чужеземец.
И та наука, которая указывает, надо ли применять убеждение или нет, должна управлять той, что владеет убеждением?
Сократ мл.
Как же иначе?
d
Чужеземец.
Пусть так. Какой науке мы припишем уменье убеждать большинство, толпу не посредством поучения, а силой самих слов[1829]
?
Сократ мл.
Я думаю, ясно, что это надо отнести к ораторскому искусству.
Чужеземец.
А в вопросе, нужно ли действовать по отношению к кому‑то убеждением, силой или здесь вообще надо воздержаться от действий, – какой науке принадлежит решение?
Сократ мл.
Той, которая управляет наукой убеждения и речи.
Чужеземец.
А это будет, думаю я, не иная какая‑нибудь наука, но способность управлять государством.
Сократ мл.
Ты прекрасно сказал.
Чужеземец.
Как видно, ораторское искусство легко отделяется от политического в качестве иного вида, подчиненного этому.
Сократ мл.
Да.
Чужеземец.
А вот что следует думать о такой способности?..
Сократ мл.
О какой же?
e
Чужеземец.
О той, которая определяет, как надо вести войну со всеми, с кем мы решили воевать: будет такая способность искусством или нет?
Сократ мл.
Как же можно не отнести к искусствам то, что рождается из всего военачальнического и воинского опыта?
Чужеземец.
А науку, сведущую и умеющую дать совет относительно того, надо ли воевать или лучше покончить дело миром, будем мы считать отличной от этой способности или одинаковой с ней?
Сократ мл.
Следуя сказанному раньше, ее следует считать иной.
305
Чужеземец.
Обозначим ли мы ее как управляющую названной ранее, если будем следовать прежнему нашему способу?
Сократ мл.
Полагаю, что да.
Чужеземец.
Но какую же науку решимся мы назвать владычицей всего этого великолепного и огромного воинского искусства, кроме науки подлинно царской?
Сократ мл.
Кроме нее, нельзя назвать никакой.
Чужеземец.
Значит, мы не будем считать, что наука полководцев, поскольку она подсобная, – наука политическая?
Сократ мл.
Это невозможно
b
Чужеземец.
Давай же рассмотрим и уменье судей, справедливо творящих суд.
Сократ мл.
Конечно, рассмотрим и это.
Чужеземец.
Итак, способно ли оно на что‑нибудь большее, чем. приняв во внимание все взаимные обязательства, утвержденные в качестве законных царем‑законодателем, судить, рассматривая, какие из них выполняются справедливо, а какие – несправедливо? Собственная же его добродетель
c
проявляется в том, что ни ради даров, ни из страха или из сострадания, а также из вражды или дружбы оно не склоняется к нарушению распоряжений законодателя при разборе взаимных обвинений тяжущихся сторон.
Сократ мл.
Да, не иначе: деятельность этой способности заключена примерно в названных тобой границах.
Чужеземец.
Итак, мы нашли, что сила судей – не царственная, сила эта – хранительница законов и служанка царской силы.
Сократ мл.
Видимо, так.
Чужеземец.
Следовательно, относительно всех перечисленных знаний надо заметить, что ни одно из них не оказалось искусством государственного управления.
d
То искусство, которое действительно является царским, не должно само действовать, но должно управлять теми искусствами, которые предназначены для действия; ему ведомо начало и развитие важнейших дел в государстве, благоприятное и неблагоприятное для них время, и все прочие искусства должны исполнять его повеления.
Сократ мл.
Правильно.
Чужеземец.
Поэтому те искусства, которые мы только что перечислили, не управляют ни друг другом, ни самими собой, но каждое из них занимается своими делами и, согласно особенностям этих дел, по справедливости носит соответствующее имя.
e
Сократ мл.
Видимо, так.
Чужеземец.
Если же обозначить одним именем способность того искусства, которое правит всеми прочими и печется как о законах, так и вообще обо всех делах государства, правильно сплетая всё воедино, то мы по справедливости назовем его политическим.
Сократ мл.
Безусловно.
Чужеземец.
Теперь, когда все виды его деятельности в государстве нам стали ясны, давай рассмотрим его по образцу ткацкого искусства.
Сократ мл.
Отлично!
306
Чужеземец.
Итак, нам надо сказать о царском плетении, каково оно, каким образом сплетается и какая из него получается ткань.
Сократ мл.
Это ясно.
Чужеземец.
Трудную же, кажется, вещь необходимо нам объяснить!
Сократ мл.
Во всяком случае это нужно сделать.
Чужеземец.
Итак, часть добродетели некоторым образом отличается от всего вида в целом, хотя любители препираться относительно слов и сочтут это уязвимым с точки зрения большинства.
Сократ мл.
Я не понял тебя.
Чужеземец.
Сейчас повторю. Ведь мужество, думаю я, ты считаешь одной из частей добродетели?
b
Сократ мл.
Да, конечно.
Чужеземец.
Однако рассудительность отлична от мужества, хотя и она есть часть добродетели.
Сократ мл.
Да.
Чужеземец.
Осмелимся же выдвинуть касательно того и другого некое странное положение.
Сократ мл.
Какое?
Чужеземец.
Что во многих случаях они в каком‑то смысле находятся в отношениях сильного взаимного противоречия и раздора.
Сократ мл.
Что ты имеешь в виду?
c
Чужеземец.
Весьма необычное положение, ведь обыкновенно считается, что все части добродетели между собой в ладу.
Сократ мл.
Да.
Чужеземец.
Посмотрим же, приложив побольше внимания, так ли все просто обстоит на самом деле, или же есть здесь скорее нечто, находящееся в разладе с родственными частями.
Сократ мл.
Что ж, говори, как это надо рассматривать.
Чужеземец.
Во всем вообще следует выделять то, что мы называем прекрасным, но при этом делим на два противоположных вида.
Сократ мл.
Скажи яснее.
d
Чужеземец.
Не хвалил ли ты когда‑нибудь сам или не слышал ли, как хвалят другие стремительность и живость – касалось ли это движений тел, душ или голосов, как самих по себе, так и их изображений, даваемых музыкой или живописью?
Сократ мл.
Конечно. Как же иначе?
Чужеземец.
Припоминаешь ли ты, как это делают в каждом из этих случаев?
Сократ мл.
Нет, совсем не помню.
Чужеземец.
Смогу ли я на словах объяснить тебе, как я это себе представляю?
e
Сократ мл.
Почему бы и нет?
Чужеземец.
Тебе это кажется очень легким! Давай же рассмотрим все это в противоположных родах. Всякий раз, когда мы неоднократно восхищаемся живостью, напористостью и стремительностью мысли или тела, а также и голоса, мы, выражая свою похвалу, пользуемся одним‑единственным словом – «мужество».
Сократ мл.
Как это?
Чужеземец.
Мы говорим в этих случаях: «мужественно и стремительно», «живо и мужественно», а также «напористо и мужественно». И всякий раз, прилагая такое слово ко всем подобным натурам, мы произносим им похвалу.
Сократ мл.
Да.
307
Чужеземец.
Далее. А вид спокойных проявлений чего бы то ни было разве не хвалим мы часто в самых различных случаях?
Сократ мл.
И даже очень.
Чужеземец.
Говорим ли мы в этих случаях что‑то противоположное или то же самое?
Сократ мл.
Что ты хочешь этим сказать?
Чужеземец.
А то, что, восхищаясь проявлениями мысли, мы называем их всякий раз спокойными и рассудительными;
b
точно так же о действиях мы говорим, что они размеренны и мягки, о голосах – что они нежны и глубоки, а обо всяком вообще ритмическом движении и музыке – что они умеренно неторопливы: таким образом, мы прилагаем ко всему этому имя не мужества, а упорядоченности.
Сократ мл.
Сущая правда.
Чужеземец.
А когда то и другое кажется нам неуместным, мы меняем наименования, выражая тем самым свое порицание.
Сократ мл.
Каким образом?
Чужеземец.
Если что‑то кажется нам происходящим живее и стремительнее, чем положено, или представляется более жестким, чем нужно, мы называем это заносчивым и безумным;
c
ту же, что медленнее, тяжеловеснее и мягче должного, мы называем робким и вялым. И почти всегда мы находим, что рассудительная натура и мужественная противоположны друг другу, как две враждующие между собой идеи, никогда не смешивающиеся между собой в соответствующих каждой из них делах, и, если мы посмотрим внимательнее, те, кто носит их в своих душах, испытывают между собой разлад.
Сократ мл.
Какого рода разлад?
d
Чужеземец.
Во всем том, о чем мы сейчас говорим, а также, видимо, и во многом другом. Ведь, я думаю, одобряя то, что им сродно, как нечто им близкое, и порицая, напротив, то, что близко тем, кто от них отличается, они вступают в самые враждебные отношения – и касательно многих вещей – друг с другом.
Сократ мл.
Видимо, это так.
Чужеземец.
А между тем подобный раздор этих двух видов – самое настоящее ребячество, которое в важных делах государства оборачивается зловреднейшим из недугов.
Сократ мл.
О чем ты говоришь?
e
Чужеземец.
Я говорю обо всем ходе жизни. Ведь те, кто отличается упорядоченностью, всегда готовы жить мирно, занимаясь собственными делами и не вмешиваясь в чужие; таково же и их обращение со всеми своими соотечественниками и с другими городами: они всегда готовы поддерживать с ними мир. Из‑за такой чрезмерной любви к покою и досугу они незаметно для самих себя становятся невоинственными и делают такими же своих юношей. Поэтому‑то они всегда оказываются слабой стороной, и часто незаметно для себя самих их дети и все их государство за несколько лет попадают в рабство.
308
Сократ мл.
Ты говоришь о тяжкой и страшной беде.
Чужеземец.
А что же те, кто склоняется больше к мужеству? Разве не бывает так, что, постоянно вовлекая свои города в войны, они из‑за чрезмерной страсти к подобного рода жизни навлекают на себя вражду многих могущественных властителей и либо совсем губят свою родину, либо отдают ее в рабство и подчинение вражеским государствам?
b
Сократ мл.
Бывает и так.
Чужеземец.
Как же не сказать, что в подобных обстоятельствах оба этих рода оказываются между собой в отношениях великой вражды и разлада?
Сократ мл.
Иначе сказать нельзя.
Чужеземец.
Итак, не обнаружили ли мы того, что искали с самого начала, а именно, что части добродетели немало различаются между собой по своей природе, как и те, кто ими обладает?
Сократ мл.
Да, похоже, что это так.
Чужеземец.
Присовокупим же сюда и следующее…
Сократ мл.
Что именно?
c
Чужеземец.
Разве какое‑нибудь из смешанных искусств, творя любое свое произведение, даже самое ничтожное, составляет его намеренно из негодных и добротных частей, или же, наоборот, всякое искусство по возможности отбрасывает все негодное, а берет полезное и нужное и уже из всего этого, сводя его воедино – будь все эти вещи между собой подобны или неподобны, – творит некую единую силу и идею?
Сократ мл.
Как же иначе?
d
Чужеземец.
Значит, и истинное по своей природе искусство государственного правления не станет намеренно составлять какое‑либо государство из хороших людей и дурных, но, как это ясно, сначала испытает их, словно шутя, а испытав, передаст на воспитание тем, кто способен воспитывать и содействовать подобному воспитанию, руководить же ими и направлять их будет само, подобно тому как ткацкое искусство руководит чесальщиками и другими мастерами, подготавливающими все остальное, требующееся для тканья: оно будет указывать каждому из мастеров, какое надо выполнить дело, полезное для задуманной им ткани.
e
Сократ мл.
Да, безусловно.
Чужеземец.
Точно таким же образом, кажется мне, и царское искусство, само владея способностью повелевать, не допускает, чтобы приставленные к этому делу законом учители и воспитатели, все до единого, воспитывали и упражняли характер, не соответствующий задуманной им смеси, но приказывает воспитывать лишь такой, смешанный нрав.
309
А кто не способен одновременно стать причастным и разумному, и мужественному нраву, а также всему остальному, направленному к добродетели, но силой дурной природы отбрасывается ко всему кощунственному, к заносчивости и несправедливости, тех оно карает смертью, изгнанием и другими тяжелейшими карами.
Сократ мл.
Да, это считается правильным.
Чужеземец.
Тех же, кто погрязает в невежестве и крайней низости, оно впрягает в рабское ярмо.
Сократ мл.
Совершенно верно.
b
Чужеземец.
Из остальных же, чья природа способна под воздействием воспитания склониться к благородному началу и поддаться смешению, требуемому искусством, оно тех, кто более склонен к мужеству и по своей крепости почитается им подобными ткацкой основе, и других, кто склонен к порядку и потому используется им, – если продолжить уподобление, – в качестве похожей на уток пышной и мягкой пряжи (причем устремления тех и других прямо противоположны), старается каким‑то способом связать и переплести…
Сократ мл.
Каким же именно способом?
c
Чужеземец.
Прежде всего оно соединяет между собой по сродству вечносущую часть их душ божественной связью, а уж после того животную часть их душ – связью человеческой.
Сократ мл.
Что? Как ты говоришь?
Чужеземец.
Я говорю, что истинное мнение о прекрасном, справедливом и добром, а также обо всем противоположном, когда оно прочно, рождаясь в душах, образует нечто божественное в божественной же природе.
Сократ мл.
Так оно и подобает.
d
Чужеземец.
Мы знаем, что только политик и хороший законодатель способны с помощью музы царского искусства внушить истинное мнение тем, кто причастен правильному воспитанию, как мы сейчас говорили.
Сократ мл.
Это похоже на правду.
Чужеземец.
Того же, кто в этом немощен, мы никогда не назовем тем именем, которое сейчас ищем.
Сократ мл.
Совершенно верно.
Чужеземец.
Что же? Разве мужественная душа, восприняв подобную истину, не станет более кроткой и причастной всему справедливому? А не приобщившись к ней, разве не отклонится она более в сторону звериной природы?
Сократ мл.
Как же иначе?
e
Чужеземец.
А что будет с кроткой природой? Разве, восприняв подобные мнения, не станет она подлинно рассудительной и разумной, особенно в государственной жизни? А если она не приобщится к тому, о чем мы говорим, разве не приобретет она позорнейшую и справедливую славу глупости?
Сократ мл.
Несомненно.
Чужеземец.
Итак, мы скажем, что эта связь и сплетение никогда не будут прочными и монолитными между злыми, а также между злыми и добрыми и что никакое знание нельзя серьезно использовать, когда речь идет о подобных людях.
Сократ мл.
Да. И как это сделать?!
310
Чужеземец.
Прочными же они будут лишь в том случае, если будут даны законами только тем, кто воспитан с рождения согласно своей природе. Только для них будет действительно это средство царского искусства и только таким образом будет еще божественнее связь частей добродетели неподобных между собой душ, устремляющихся в противоположные стороны[1830]
.
Сократ мл.
Сущая правда.
Чужеземец.
Остальные же связи, человеческие, коль скоро эта, божественная, уже установлена, нетрудно уразуметь, а уразумевши – установить.
b
Сократ мл.
Как же? И о каких связях ты говоришь?
Чужеземец.
О законах, касающихся общения между собой дочерей на выданье и сыновей, и особенно о выдаче замуж и женитьбах, ведь большинство людей неправильно соединяются для рождения детей[1831]
.
Сократ мл.
Как это?
Чужеземец.
Разве не само собой разумеется, что погоня в таких делах за богатством и могущественным родством заслуживает серьезного порицания?
Сократ мл.
Конечно.
c
Чужеземец.
А вот упрекнуть тех, кто в подобных делах хлопочет о происхождении – если они делают это неверно, – будет более уместно.
Сократ мл.
Естественно.
Чужеземец.
А ведь делают они это, нисколько не задумываясь, заботясь лишь о минутном покое, и потому выбирают себе подобных, тех же, кто на них не похож, отталкивают, отмеривая им величайшую меру нерасположения.
Сократ мл.
А именно?
d
Чужеземец.
Те, кто отличается упорядоченностью, ищут нрав, подобный их собственному, и по возможности берут жен из таких же родов, а дочерей своих стараются выдать в такие семьи. То же самое делает мужественный род людей, когда гонится за своей собственной природой, в то время как оба рода должны были бы делать прямо противоположное.
Сократ мл.
Почему это? Да и ради чего?
Чужеземец.
А потому, что мужество многих родов, не смешанное от рождения с благоразумной природой, сначала наливается силой, под конец же превращается в совершеннейшее безумие.
Сократ мл.
Естественно.
e
Чужеземец.
Душа же, чересчур исполненная скромности и не смешанная с дерзновенной отвагой, передаваясь из поколения в поколение, становится более вялой, чем следует, и в конце концов впадает в полное уродство.
Сократ мл.
И это, естественно, случается таким образом.
311
Чужеземец.
Я сказал, что в тех связях нет ничего невозможного, если только оба рода будут иметь одну заботу – о совершенстве. Это‑то и есть целиком и полностью дело царского ткачества: оно ни в коем случае не должно допускать, чтобы рассудительные характеры отдалялись от мужественных, но должно сплетать их вместе единомыслием и почестями, бесчестьем и славой, а также взаимной выдачей обязательств и, изготовляя таким образом мягкую и, как принято говорить, ладно сотканную ткань[1832]
, всегда предоставлять государственные должности обоим этим родам совместно.
Сократ мл.
Как это?
Чужеземец.
Если где‑нибудь есть нужда в одном правителе, надо избрать такого распорядителя, чтобы он имел оба указанных качества; там же, где требуется много правителей, надо смешивать их между собой в равных количествах, ведь в высшей степени мягкому, справедливому и спасительному нраву благоразумных правителей недостает резкости, своего рода острой и действенной дерзновенности.
Сократ мл.
По‑видимому, и это верно.
b
Чужеземец.
Мужественность же уступает в свою очередь в том, что касается справедливости и мягкости; зато она куда дерзновеннее в деле. И невозможно, чтобы в государствах все шло хорошо, если в них не будет того и другого рода.
Сократ мл.
Да, иначе не может быть.
Чужеземец.
Итак, вот что мы называем завершением государственной ткани: царское искусство прямым плетением соединяет нравы мужественных и благоразумных людей, объединяя их жизнь единомыслием и дружбой
c
и создавая таким образом великолепнейшую и пышнейшую из тканей. Ткань эта обвивает всех остальных людей в государствах – свободных и рабов, держит их в своих узах и правит и распоряжается государством, никогда не упуская из виду ничего, что может сделать его, насколько это подобает, счастливым.
Сократ мл.
Превосходно изобразил ты нам, чужеземец, царственного мужа – политика[1833]
.
Перевод С. Я. Шейнман‑Топштейн
В кн.: Платон. Законы. М.: «Мысль», 1999
XXX. ЗАКОНЫ
КНИГА I
Афинянин, Клиний, Мегилл
624
Афинянин.
Бог или кто из людей, чужеземцы, был виновником вашего законодательства?
Клиний.
Бог, чужеземец, бог, говоря по правде. У нас это Зевс, у лакедемонян же, откуда родом Мегилл, я полагаю, назовут Аполлона[1834]
. Не так ли?
Мегилл.
Да.
Афинянин.
Неужели ты утверждаешь, согласно Гомеру, что Минос каждые девять лет отправлялся для
b
бесед к своему отцу и, сообразно его откровениям, устанавливал законы для ваших государств?[1835]
Клиний.
У нас в самом деле рассказывают это, а также и то, что брат Миноса Радамант – конечно, вам знакомо это имя – был в высшей степени справедлив[1836]
.
625
О нем мы, критяне, сказали бы, что он по нраву заслужил эту похвалу своим тогдашним правосудием.
Афинянин.
Прекрасная слава, вполне подобающая сыну Зевса. Так как вы оба, ты и Мегилл, воспитаны в покоящихся на законах нравах, я надеюсь, что мы не без удовольствия совершим наш путь, беседуя о нынешнем государственном устройстве и о законах. Во всяком
b
случае дорога из Кноса к гроту и святилищу Зевса[1837]
, как мы слышали, для этого подходит: по пути, верно, встречаются тенистые места под высокими деревьями, где можно будет отдохнуть от этого зноя. В наши лета нам следует часто делать передышки в подобных местах и так полегоньку совершить весь путь, ободряя друг друга речами.
Клиний.
К тому же, чужеземец, когда мы немного пройдем вперед, нам встретятся в рощах удивительно
c
высокие и красивые кипарисы, а также и луга, где мы сможем передохнуть и побеседовать.
Афинянин.
Ты прав.
Клиний.
Да, но, когда мы их увидим, мы еще не так о них отзовемся. Однако отправимся, в добрый час!
Афинянин.
Да будет так! Скажи мне, с какой целью закон установил у вас совместные трапезы, гимнасии[1838]
и ваш способ вооружения?
Клиний.
Я думаю, чужеземец, всякий легко поймет наши установления. Ведь вы видите
d
природу местности всего Крита: это не равнина, как Фессалия[1839]
. Поэтому‑то фессалийцы больше пользуются конями, мы же передвигаемся пешком. Неровность местности более подходящая для упражнения в беге; из‑за нее и оружие по необходимости должно быть легким, чтобы не обременять при беге, для этого по своей легкости кажутся подходящими лук и стрелы. Все это у нас
e
приспособлено к войне, и законодатель, по‑моему, установил все, принимая в соображение именно войну; так он ввел сисситии, имея в виду, мне кажется, что на время походов сами обстоятельства вынуждают всех иметь общий стол – ради собственной своей безопасности. Он заметил, я думаю, неразумие большинства людей, не понимающих, что у всех в течение жизни идет непрерывная война со всеми государствами. Если же на войне, во имя безопасности, следует иметь общий стол и надо, чтобы
626
стражами были какие‑то начальники и их подчиненные, люди организованные, то именно так надо поступать и в мирное время. Ибо то, что большинство людей называет миром, есть только имя, на деле же от природы существует вечная непримиримая война между всеми государствами[1840]
. Став на эту точку зрения, ты, пожалуй, найдешь, что критский законодатель установил все наши общественные и частные учреждения ради войны; он заповедал охранять законы именно согласно с этим,
b
так как никакое достояние, никакое занятие, вообще ничто не принесет никому пользы, если не будет победы на войне: ибо все блага побежденных достаются победителю.
Афинянин.
Мне кажется, чужеземец, ты прекрасно подготовлен, чтобы постичь критские законы. Но разъясни мне еще вот что: из данного тобой определения
c
благоустроенного государства вытекает, насколько я могу судить, что его надо устроять так, чтобы оно побеждало на войне остальные государства. Не так ли?
Клиний.
Конечно. Я думаю, и Мегилл того же мнения.
Мегилл.
Как же иначе, мой друг, мог бы ответить любой лакедемонянин?
Афинянин.
Но это положение, верное для взаимоотношений государств, не может ли оказаться иным, когда речь пойдет об отношениях поселков?
Клиний.
Никоим образом.
Афинянин.
Значит, оно одинаково верно в обоих случаях?
Клиний.
Да.
Афинянин.
Что же? Оно одинаково в приложении к отношениям и между двумя домами одного поселка, и между двумя людьми?
Клиний.
Одинаково.
Афинянин.
Должен ли думать каждый человек,
d
что он сам себе враг, или не должен? Что сказать на это?
Клиний.
Афинский чужеземец, – я не хотел бы назвать тебя «аттическим», так как, мне кажется, ты скорее достоин быть назван по имени богини[1841]
, – ты сделал яснее нашу беседу, правильно вернув ее к началу. Так тебе легче будет обнаружить правильность нашего нынешнего утверждения, что все находятся в войне со всеми как в общественной, так и в частной жизни и каждый – с самим собой.
Афинянин.
Что ты разумеешь, удивительный ты
e
человек?
Клиний.
И здесь тоже, чужеземец, победа над самим собой есть первая и наилучшая из побед. Быть же побежденным самим собой всего постыднее и хуже. Это и показывает, что в каждом из нас происходит война с самим собой.
Афинянин.
Давайте снова изменим течение нашей беседы. Так как каждый из нас либо сильнее самого себя, либо слабее, то станем ли мы утверждать то же
627
самое по отношению к домам, поселкам, государствам или нет?
Клиний.
Ты говоришь, что одни из них сильнее самих себя, другие – слабее?
Афинянин.
Да.
Клиний.
Ты правильно поставил вопрос, ибо это целиком и полностью приложимо и к государствам. О том государстве, где лучшие побеждают большинство худших, правильно было бы сказать, что оно одерживает победу над самим собой и в высшей степени справедливо заслуживает хвалы за эту победу; в противном же случае происходит противоположное.
b
Афинянин.
Однако оставим в стороне вопрос, может ли худшее оказаться сильнее лучшего (ведь это требует более длинного рассуждения). Теперь я понимаю твои слова: если связанные родством несправедливые граждане одного государства сойдутся в большом количестве с целью насильно поработить не столь многочисленных справедливых граждан и если они одержат над теми верх, то правильно можно было бы сказать, что подобное государство ниже самого себя и что вместе с тем оно и порочно. Наоборот, где несправедливые терпят поражение, там государство сильнее и лучше[1842]
.
c
Клиний.
Сказанное тобой, чужеземец, весьма необычно. Тем не менее совершенно необходимо это принять.
Афинянин.
Конечно. Обсудим и следующее: может родиться много братьев, сыновей от одних и тех же отца и матери; однако не будет ничего удивительного, если большинство из них окажется несправедливыми и лишь меньшинство – справедливыми.
Клиний.
Конечно, нет.
Афинянин.
Ни мне, ни вам не подобало бы гоняться за словами, утверждая, что всякий дом и всякая семья, где дурные люди одерживают верх, должна считаться побежденной самой собой, в противном же слу –
d
чае – победившей. Ведь не ради благообразия или безобразия слов ведем мы это рассуждение сообразно с пониманием большинства людей, но рассуждаем о том, чту в законах правильно по природе и чту ошибочно.
Клиний.
Ты сказал, чужеземец, сущую правду.
Мегилл.
Прекрасно. Я также присоединяюсь к только что сказанному.
Афинянин.
Рассмотрим же еще вот что: не может ли оказаться кто‑либо судьей над упомянутыми нами братьями?
Клиний.
Конечно, может.
Афинянин.
Какой же судья будет лучше: тот ли,
e
который погубит дурных из них и постановит, чтобы хорошие властвовали над собой сами, или тот, кто достойных заставит властвовать, худших же, оставив им жизнь, добровольно повиноваться? Представим себе еще третьего, состязающегося в умении, судью, который был бы таким, что, взяв подобную терзаемую раздорами семью,
628
никого бы не погубил, но примирил бы их, установив на будущее время такие законы их взаимоотношений, чтобы они были друзьями.
Клиний.
Подобный судья и законодатель был бы несравненно лучше.
Афинянин.
Между тем он, давая им законы, имел бы в виду не войну, а как раз противоположное.
Клиний.
Это правда.
Афинянин.
А устроитель государства? Станет ли он устроять жизнь, обращая больше внимания на внешнюю войну, чем на внутреннюю, называемую междоусобием?
b
Последнее случается время от времени в государствах, хотя всякий очень хотел бы, чтобы междоусобий вовсе не было в его государстве, или, раз уж они возникли, то чтобы они как можно скорее прекратились.
Клиний.
Очевидно, устроитель государства будет иметь в виду именно междоусобия.
Афинянин.
Что предпочитает всякий: то ли чтобы в случае междоусобия мир был достигнут путем гибели одних и победы других, или же чтобы дружба и мир возникли вследствие примирения и чтобы все внимание было, таким образом, неизбежно обращено на внешних врагов?
c
Клиний.
Всякому хотелось бы, чтобы с его государством случилось последнее.
Афинянин.
Не так ли и законодателю?
Клиний.
Как же иначе?
Афинянин.
Не правда ли, всякий стал бы устанавливать законы ради наилучшей цели?
Клиний.
Без сомнения.
Афинянин.
А ведь самое лучшее – это не война, не междоусобия: не дай бог, если в них возникнет нужда; мир же – это всеобщее дружелюбие. И победа государства над самим собой относится, конечно, не к области
d
наилучшего, но к области необходимого. Это все равно как если бы кто стал считать наилучшим такое состояние тела, когда оно страждет и ему достается в удел врачебное очищение, и не обратил бы внимания на состояние тела, когда оно в этом совсем не нуждается. Точно так же не может стать настоящим государственным человеком тот, кто, имея в виду благополучие всего государства и частных лиц, будет прежде всего и только обращать внимание на внешние войны. Не окажется он и хорошим законодателем, разве только станет устанавливать законы, касающиеся войны, ради мира, а не законы, касающиеся мира, ради военных действий.
e
Клиний.
Кажется, чужеземец, это рассуждение правильно. Однако я удивляюсь, что наши, а также лакедемонские законоположения, столь тщательные, установлены вовсе не ради этого.
629
Афинянин.
Возможно. Но теперь не время нам их сурово оспаривать. Нам дулжно спокойно задавать им вопросы, так как и мы, и они относимся к этому с величайшей серьезностью. Следите, прошу вас, за моим рассуждением. Возьмем сперва Тиртея[1843]
, афинянина родом, но приобретшего лакедемонское гражданство. Ведь среди всех он с особенным рвением относится к войне, говоря: Ни во что не считал бы и не помянул бы я мужа[1844]
,
b
даже если бы он был самым богатым из людей и обладал многими благами (здесь поэт перечисляет чуть ли не все блага), если только он не будет всегда отличаться в военном деле. Эти стихи, конечно, слышал и ты, Клиний, Мегилл же, я думаю, прямо‑таки ими пресыщен.
Мегилл.
Конечно.
Клиний.
Да и к нам они перекочевали из Лакедемона.
Афинянин.
Давайте же теперь все сообща спросим этого поэта примерно так: «О Тиртей, божественнейший
c
из поэтов! Ты кажешься нам мудрым и благим за то, что ты отлично прославил отличившихся на войне. Мы – я, Мегилл и этот вот житель Кноса Клиний – вполне, по‑видимому, с тобой в этом согласны. Но нам хочется точно узнать, говорим ли мы о тех же самых лицах, что и ты, или нет. Итак, скажи нам: не правда ли, ты так же, как мы, ясно различаешь два вида войны? Или ты смотришь иначе?» На это, я думаю, даже тот, кто гораздо ниже Тиртея, ответит правду,
d
т. е. что есть два вида войны: первый вид, который мы все называем междоусобием, как мы только что сказали, самый тягостный; второй же, как все мы, думаю я, считаем, это война в случае раздора с внешними иноплеменными врагами; этот вид гораздо безобиднее первого.
Клиний.
Без сомнения.
Афинянин.
«Скажи‑ка, каких людей и какой вид войны ты разумел, столь превознося, прославляя одних и порицая других? По‑видимому, ты думал о внешней
e
войне. По крайней мере ты сказал в своих стихах, что не выносишь тех, кто не отваживается …взирать на кровавое дело
И не стремится с врагом в бой рукопашный вступать[1845]
.
Разве мы не вправе после этого утверждать, что и ты, Тиртей, видимо, всего более прославляешь тех, кто отличился во внешней войне с иноземцами?» Пожалуй, он признается в этом и согласится с нами.
Клиний.
Конечно.
Афинянин.
Такие люди прекрасны, но гораздо
630
лучше, добавим мы, те, кто отличился во втором, величайшем виде войны. В свидетельство мы можем привести поэта Феогнида, гражданина сицилийских Мегар, который говорит:
Злата ценнее, о Кирн, серебра бесконечно дороже
Тот, кто верным пребыл в междоусобной войне[1846]
.
Мы утверждаем, что подобный человек во время более тяжкой войны несравненно лучше первого, чуть ли не настолько, насколько справедливость, рассудительность
b
и разумность, соединенные с мужеством, лучше отдельно взятого мужества. Ибо во время междоусобий никак нельзя остаться верным и здравомыслящим, не обладая всей добродетелью в совокупности. Между тем многие из наемников – бульшая их часть, за редчайшими исключениями, люди смелые, но несправедливые, наглые и чуть ли не самые неразумные из всех – готовы бодро идти сражаться и даже умереть в той войне, о которой говорит Тиртей[1847]
.
Но какова теперь цель этого нашего рассуждения и что мы этим хотим разъяснить? Очевидно, что и здешний,
c
критский законодатель, поставленный Зевсом, как и любой другой хоть на что‑то годный, устанавливал законы, более всего имея в виду высшую добродетель. Эта высшая добродетель и заключается, по словам Феогнида, в сохранении верности среди опасностей, ее можно назвать совершенной справедливостью[1848]
. А та добродетель, которую всего более прославляет Тиртей, хотя и прекрасна, да, кстати, и приукрашена поэтом, однако самое правильное было бы поставить ее, в смысле силы и ценности, лишь на четвертое место[1849]
.
d
Клиний.
Чужеземец, неужели мы поместим нашего устроителя среди законодателей второго сорта?
Афинянин.
Не его, дорогой мой, но нас самих, если мы полагаем, будто Ликург и Минос установили все лакедемонские и здешние законы, имея в виду преимущественно войну.
Клиний.
Но что же мы должны утверждать?
Афинянин.
По‑моему, истинно и справедливо
e
утверждать, беседуя о божественном государстве, что устроитель, устанавливая в нем законы, имел в виду не одну часть добродетели, притом самую ничтожную, но всю добродетель в целом; сообразно с ее видами он и исследовал законы, а не так, как это делают нынешние законодатели, исследующие произвольно установленные виды. Ведь теперь каждый исследует и устанавливает то, в чем у него в данное время нужда: один – законы о наследовании и дочерях‑наследницах[1850]
, другой – об оскорблениях действием, третий – что‑либо иное подобное,
631
и так до бесконечности. Мы же утверждаем, что правильный путь исследования законов есть тот, на который вступили мы. Я весьма восхищен твоей попыткой истолкования законов (ибо правильно начать именно с добродетели и утверждать, что ради нее‑то и установил устроитель свои законы). Что же касается твоих слов, будто он законодательствовал, сообразуясь лишь с частью добродетели, и притом с самой малой, это показалось мне неверным, и потому‑то я и предпринял все дальнейшее рассуждение. Хочешь, я скажу тебе, как мне
b
было бы желательно, чтобы ты рассуждал, а я слушал?
Клиний.
Конечно, чужеземец.
Афинянин.
Надо было бы сказать так: «Критские законы, чужеземец, недаром особенно славятся среди эллинов. Они правильны, так как делают счастливыми тех, кто ими пользуется, предоставляя им все блага. Есть два рода благ: одни – человеческие, другие – божественные. Человеческие зависят от божественных. И если какое‑либо государство получает бульшие блага, оно одновременно
c
приобретает и меньшие, в противном же случае лишается и тех и других. Меньшие блага – это те, во главе которых стоит здоровье, затем идет красота, на третьем месте – сила в беге и в остальных телесных движениях, на четвертом – богатство, но не слепое, а зоркое, спутник разумности. Первое же и главенствующее из божественных благ – это разумение; второе – сопутствующее разуму здравое состояние души; из их смешения с мужеством возникает третье благо – справедливость;
d
четвертое благо – мужество. Все эти блага по своей природе стоят впереди тех, и законодателю следует ставить их в таком же порядке. Затем ему надлежит убедить сограждан, что все остальные предписания имеют в виду именно это, то есть земные блага обращены на божественные, а все божественные блага направлены к руководящему разуму. Законодателю следует позаботиться о браках, соединяющих людей, затем – о рождении детей и воспитании как мужчин, так и женщин
e
от ранних лет и до зрелых – вплоть до старости. Он должен заботиться о том, чтобы почет, как и лишение его, были справедливыми, наблюдать людей во всех их взаимоотношениях, интересоваться их скорбями и удовольствиями, а также всевозможными вожделениями и страстями,
632
своевременно выражая им порицание и похвалу посредством самих законов. И что касается гнева и страха, то есть душевных потрясений, которые происходят вследствие несчастья или вследствие освобождения от них при счастье, а также всех состояний, которые бывают с людьми во время болезней, войны, бедности и при противоположных обстоятельствах, – в отношении всего этого законодателю следует и поучать граждан,
b
и определять, чту хорошо и чту дурно в каждом отдельном случае. Потом законодателю необходимо оберегать достояние граждан и их расходы и знать, в каком они положении; следить за всеми добровольными и недобровольными сообществами и их расторжениями и знать, насколько при этом выполняются взятые на себя взаимные обязательства. Законодатель должен наблюдать, где осуществляется справедливость, а где нет; он должен установить почести тем, кто послушен законам, а на ослушников налагать положенную кару, и так до тех пор, пока не рассмотрит до конца все государственное
c
устройство вплоть до того, каким образом дулжно в каждом отдельном случае погребать мертвых и какие уделять им почести. Обозрев все это, законодатель поставит надо всем этим стражей, из которых одни будут руководствоваться разумением, другие – истинным мнением, так чтобы разум, связующий все это, явил рассудительность и справедливость вопреки богатству и честолюбию».
d
Мне, чужеземцы, раньше да и по сей день желательно было, чтобы вы именно так разобрали, каким образом все это содержится в так называемых законах Зевса и Пифийского Аполлона, установленных Миносом и Ликургом, и каким путем все это получает известную стройность: для человека, сведущего в законах благодаря ли искусству или какому‑то навыку, это вполне очевидно, нам же, всем остальным, далеко не ясно.
Клиний.
Как же дулжно излагать дальнейшее, чужеземец?
Афинянин.
Мне думается, нам надо начать все сызнова, как мы и делали, и прежде всего разобрать
e
обычаи, касающиеся мужества. Затем, если хотите, мы перейдем к другому виду добродетели, а потом – к третьему. Способ, которым мы станем разбирать первый вид добродетели, возьмем за образец и с его помощью попытаемся истолковать остальные ее виды, доставляя себе этим в пути утешение. Под конец же, если богу угодно, мы покажем, как все то, что мы теперь разобрали, относится к добродетели в целом.
633
Мегилл.
Прекрасно сказано; прежде всего попытайся привлечь к суду Клиния, этого нашего хвалителя Зевса.
Афинянин.
Попробую, а также тебя и себя самого. Ведь наше рассуждение общее. Итак, скажите, утверждаем ли мы, что совместные трапезы и гимнасии законодатель изобрел для войны?
Мегилл.
Да.
Афинянин.
Что же еще третье и четвертое? Ведь для обозначения частей добродетели – впрочем, их можно называть и иначе, лишь бы ясен был смысл – нам, пожалуй, понадобится подобное перечисление.
b
Мегилл.
Я, да и любой лакедемонянин сказал бы, что третьей была изобретена охота.
Афинянин.
Попытаемся, если только сможем, указать четвертое и пятое.
Мегилл.
Я попытался бы поставить на четвертом месте выносливость в перенесении боли; это у нас часто случается в драках и при кражах, сопровождающихся всякий раз побоями[1851]
. Кроме того, подобную выносливость чудесно воспитывает и так называемая криптия[1852]
,
c
с нею связано хождение зимой босиком, спанье без постелей, обслуживание самого себя без помощи слуг, скитание ночью и днем по всей стране. Представляется случай проявить чрезвычайную выносливость и на наших гимнопедиях[1853]
, где приходится преодолевать силу зноя, да и очень многое другое, что перечислять было бы, пожалуй, бесконечно долго.
Афинянин.
Ты говоришь хорошо, лакедемонский гость! Но скажи мне, что будем мы считать мужеством?
d
Лишь борьбу со страхом и страданием или же и с тоской, с удовольствиями, с ужасными, обольстительными соблазнами, которые делают мягкими, точно воск, души даже и тех людей, что считают себя неприступными?
Мегилл.
Я думаю, что борьбу со всем этим.
Афинянин.
Припомним же предшествующие рассуждения. Клиний утверждал, что и государство, и отдельный человек могут быть ниже самих себя. Не так ли, кносский гость?
Клиний.
Разумеется, так.
Афинянин.
Теперь, кого мы назовем дурным: того
e
ли, кто побежден страданиями, или скорее того, кто побежден удовольствиями?
Клиний.
Мне кажется, последнего. Ведь все мы признаём, что тот, над кем властвуют удовольствия, оказывается ниже самого себя, и притом несравненно более постыдным образом, чем тот, кем владеет страдание.
Афинянин.
Неужели же законодатели Зевса и
634
Аполлона Пифийского своими законами требовали увечного мужества, способного сопротивляться лишь слева, а справа, по отношению к тонким обольщениям, бессильного? Или они требовали и того и другого?
Клиний.
И того и другого, по‑моему.
Афинянин.
Не показать ли нам теперь, какие обычаи в обоих ваших государствах хотя и позволяют не избегать удовольствий, как не избегнешь и страдания, однако умеряют их, принуждая и убеждая при помощи наград властвовать над ними?
b
Где именно в законах содержатся те же постановления об удовольствиях, что и об огорчениях? Пусть будет указано, чту делает у вас одних и тех же людей одинаково мужественными как по отношению к боли, так и по отношению к удовольствиям и заставляет их побеждать то, что следует побеждать, ничуть не подчиняясь самым близким и грозным врагам.
Мегилл.
Пожалуй, чужеземец, мне не удастся указать на значительные и ясные законы, касающиеся удовольствий, как я это мог сделать при наличии многих
c
законов, противопоставленных скорби. Но, быть может, я смогу указать на кое‑какие мелкие узаконения.
Клиний.
Точно так же и я вряд ли смогу указать на что‑либо подобное в критских законах.
Афинянин.
В этом нет ничего удивительного, лучшие из чужеземцев! Однако не станем раздражаться, но отнесемся мягко друг к другу, если кто из нас, желая отыскать истину и высшее благо, подвергнет порицанию что‑либо в законах родины.
Клиний.
Ты прав, афинский гость! Надо тебя послушаться.
d
Афинянин.
К тому же это не подошло бы и к нашим летам, Клиний.
Клиний.
Конечно, нет.
Афинянин.
Надо было бы особо исследовать, правильно ли порицают государственный строй Лакедемона и Крита или же нет. А то, что говорит об этом большинство, я сам смог бы высказать, и, пожалуй, в большей мере, чем вы. Ведь у вас – хотя вообще‑то ваши законы составлены надлежащим образом – в особенности превосходен один закон, запрещающий молодым людям исследовать,
e
чту в законах хорошо и чту нет, и повелевающий всем единогласно и вполне единодушно соглашаться с тем, что в законах все хорошо, ибо они установлены богами; иные же утверждения вовсе не следует допускать. Если у вас что‑либо подобное придет в голову человеку старому, он может высказать свое мнение должностному лицу или человеку своих лет, но только не в присутствии юноши.
635
Клиний.
Ты совершенно прав, чужеземец; мне кажется, ты, словно прорицатель, хорошо разгадал тогдашнее намерение законодателя – хотя ты и не был там и верно его выразил.
Афинянин.
Не правда ли, мы ничуть не погрешим против этого правила, если между собой, уединясь, станем рассуждать именно об этом? Ведь законодатель позволил это людям нашего возраста, да и к тому же здесь нет молодых людей.
Клиний.
Это правда. Поэтому смело укажи на слабые стороны наших законов. Ведь нет ничего бесчестного в познании плохого; наоборот, случается, что это служит
b
к исцелению, если принимается благосклонно и без зависти.
Афинянин.
Прекрасно. Однако я не стану порицать ваши законы, прежде чем по мере сил не рассмотрю их основательно. Я только выскажу свои недоумения. Ведь из всех эллинов у вас одних да еще, насколько нам известно, у варваров законодатель постановил воздерживаться от величайших удовольствий и забав и не отведывать их. Относительно же страданий и страха он полагал именно так, как мы только что разобрали: если человеку,
c
с малолетства полностью их избегавшему, придется столкнуться с неизбежными трудами, страхами и страданиями, он будет обращен в бегство и порабощен людьми, во всем этом искушенными. Я полагаю, то же самое мог думать этот законодатель и об удовольствиях. Он должен был сказать самому себе так: «Если граждане с малолетства будут у нас несведущи в самых больших удовольствиях, не станут упражняться в их преодолении так, чтобы сладостное стремление к удовольствиям не могло побудить их к совершению позорных поступков, то с ними случится то же самое, что и с теми, кто уступает страху. Иным, но еще более постыдным образом подчинятся они тем,
d
кто умеет господствовать над удовольствиями и приобрел потребные для этого навыки, несмотря на то что иной раз это люди попросту скверные. Душа граждан станет в чем‑то рабской и лишь отчасти свободной, они вообще не будут достойны называться свободными и мужественными людьми».
Итак, смотрите, одобряете ли вы до известной степени что‑либо из только что сказанного?
e
Клиний.
Твои мысли казались нам убедительными, пока ты их излагал. Однако сразу поверить тебе в столь важных вопросах было бы достойно скорее неразумного юноши.
Афинянин.
Клиний и лакедемонский гость! Если мы продолжим наш разбор в том порядке, какой мы предложили раньше, то есть если после мужества станем говорить о рассудительности, то какую разницу заметим мы между этими государствами и теми, что управляются кое‑как? Ведь мы только что заметили разницу между ними в деле войны.
636
Мегилл.
Это не так‑то просто. Пожалуй, сисситии и гимнасии прекрасно изобретены для обеих этих добродетелей.
Афинянин.
По‑видимому, чужеземцы, трудно в вопросах государственного устроения установить и на деле, и на словах что‑либо бесспорное. Кажется, это подобно тому, как для одного человеческого тела невозможно установить один какой‑либо образ жизни, который не оказался бы отчасти для него вредным, отчасти полезным, хотя он один и тот же.
b
Точно так же гимнасии и сисситии во многом приносят пользу государствам еще и поныне; однако в смысле междоусобий они вредны. Это явствует из поступков милетской, беотийской и фурийской молодежи[1854]
. К тому же, вероятно, эти учреждения извратили существующий не только у людей, но даже и у животных древний и сообразный с природой закон, касающийся любовных наслаждений. И в этом можно винить прежде всего ваши государства, а также и те из остальных государств,
c
где более всего привились гимнасии. Как бы ни смотреть на подобные вещи, шутливо ли или серьезно, приходится заметить, что наслаждение от соединения мужской природы с женской, влекущего за собой рождение, уделено нам от природы, соединение же мужчины с мужчиной и женщины с женщиной – противоестественно и возникло как дерзкая попытка людей, разнузданных в удовольствиях[1855]
.
d
Мы все порицаем критян за то, что они выдумали миф о Ганимеде[1856]
. Так как они были убеждены, что их законы происходят от Зевса, они и сочинили о нем этот миф, чтобы вслед за богом срывать цветы и этого наслаждения. Однако распростимся с мифом. Когда люди исследуют законы, почти все рассмотрение вращается вокруг удовольствий и страданий как в государственной жизни, так и в частной. Природа предоставила течь этим двум потокам. Когда из них черпают как надо, когда надо и сколько надо,
e
то счастливы одинаково и государство, и частные лица, и всякое живое существо, но когда это делают невежественно, да к тому же и не вовремя, тогда людям выпадает на долю иная жизнь.
Мегилл.
Чужеземец! Хоть сказанное тобой в каком‑то отношении прекрасно, мы не в силах найти слова для достойного ответа. Мне все‑таки кажется правильным, что лакедемонский законодатель повелевает избегать удовольствий. Что же касается кносских законов, то пусть придет им на помощь Клиний, если ему угодно.
637
Мне кажется, спартанские постановления относительно удовольствий – лучшие в мире. Ибо наш закон вообще изгоняет из пределов страны то, под влиянием чего люди более всего подпадают сильнейшим удовольствиям, бесчинствам и всяческому безрассудству. Ни в селениях, ни в городах, о которых пекутся спартиаты, ты не увидишь нигде пиршеств и того, что после них неудержимо влечет к удовольствиям всякого рода, и каждый, кто
b
встретит пьяного гуляку, сейчас же налагает на него величайшее наказание, которое уж не снимут под предлогом Дионисийских празднеств[1857]
. А у вас видел я как‑то повозки с такими гуляками, да и в Таранте[1858]
у наших поселенцев видел я во время Дионисий весь город пьяным. У нас же ничего подобного не бывает.
Афинянин.
Все это и тому подобное, лакедемонский гость, достойно похвалы, если только сопровождается известным самообладанием; где же царит распущенность, там это тем более нелепо.
c
Впрочем, любой афинянин мог бы легко задеть тебя, указав на распущенность ваших женщин. Как в Таранте, так и у нас, и у вас все это может быть разрешено, мне кажется, одним словом: это не плохо, а правильно. Удивленному же чужеземцу, видящему необычное для себя зрелище, всякий может ответить: «Не удивляйся, чужеземец! Таков у нас закон. У вас, быть может, есть закон иной, но о том же самом».
d
Дорогие друзья, речь идет у нас теперь не о прочих людях, но о добродетели и недостатках самих законодателей. Поэтому разберемся подробнее в вопросе об опьянении. Ведь это обычай немаловажный и требует для своего распознания недюжинного законодателя. Я не говорю о том, надо ли вообще пить вино или нет, но только об опьянении: надо ли относиться к этому, как скифы, персы, карфагеняне, кельты, иберы, фракийцы – все это племена воинственные, – или же так, как вы?
e
Как ты говоришь, вы от этого обычая воздерживаетесь полностью, скифы же и фракийцы употребляют вообще несмешанное вино[1859]
– как сами, так и их жены; они льют его на свои одежды и считают этот обычай благим и счастливым. Персы весьма привержены этому обычаю, да и вообще они склонны к роскоши, которую вы отвергаете, однако все это у них более упорядочено, чем у остальных.
638
Мегилл.
Бесценный мой, мы обращаем в бегство всех их, лишь только берем оружие в руки.
Афинянин.
Дорогой мой, не говори так! Ведь сплошь и рядом причины бегства и преследования остаются, да и будут оставаться невыясненными. Поэтому не стоит ссылаться на победу или поражение в битвах, точно они служат ясным, а не сомнительным показателем обычаев хороших и плохих. Ведь бульшие государства побеждают в сражениях и порабощают меньшие,
b
как, например, сиракузцы локров (несмотря на то что последние слывут за обладающих наилучшими в тех местах законами), афиняне – кеосцев[1860]
; можно было бы найти тысячи таких примеров. Поэтому отложим в сторону победы и поражения и попытаемся говорить о каждом обычае самом по себе, чтобы убедиться, что одно прекрасно, другое же плохо. Однако прежде всего выслушайте несколько слов, как, по моему мнению, надо рассматривать, что хорошо, а что нет в этих обычаях.
c
Мегилл.
Что ты разумеешь?
Афинянин.
Мне кажется, все, кто готов сразу, лишь только услышат упоминание о каком‑либо обычае, порицать его или хвалить, поступают совершенно не так, как надо. Это все равно как если бы кто, лишь только при нем похвалят пшеничный хлеб[1861]
, стал бы тотчас же ругать хлеб, не допытываясь ни о производимом им действии, ни об его употреблении, а также не зная, каким образом, кому, с какой иной пищей и в каком состоянии
d
надо его употреблять. Так же точно, кажется мне, поступаем мы теперь в наших рассуждениях. Услышав одно лишь упоминание об опьянении, одни тотчас стали его порицать,» другие – хвалить; все это совершенно неуместно. Каждый из нас пытался это делать при помощи свидетелей и хвалителей. Одни из нас, опираясь на большинство, полагали, что высказывают господствующее мнение; другие основывались на том, что мы видим, как побеждают в сражениях те, кто не употребляет вина. Однако в свою очередь и это у нас осталось невыясненным,
e
Если мы и каждое из остальных узаконений будем разбирать таким образом, то, по‑моему, это будет неразумно. Я хочу говорить о том же самом, то есть об опьянении, но иным образом – тем, который мне кажется надлежащим, если только я смогу выяснить для нас правильный способ исследования всех подобных вопросов. К тому же по этому поводу сотни и тысячи племен находятся в разногласии с вашими двумя государствами и могли бы, пожалуй, словесно с вами сразиться.
639
Мегилл.
Конечно, если есть какой‑либо правильный путь для рассмотрения подобных вопросов, не надо медлить с их обсуждением.
Афинянин.
Давайте рассмотрим это следующим образом: если бы кто стал хвалить разведение коз и само это животное как прекрасное приобретение, а другой, увидев, что козы пасутся на обработанной земле без пастуха и причиняют там вред, стал бы их ругать и порицать так же всякое другое живое существо, не имеющее над собой начальника или имеющее его, но плохого, то, скажи, признали бы мы порицание подобного человека хоть сколько‑нибудь здравым?
Мегилл.
Конечно, нет.
Афинянин.
Можем ли мы считать начальника
b
корабля пригодным, если он только обладает знанием морского дела, но еще неизвестно, подвержен ли он морской болезни или нет? Что скажешь на это?
Мегилл.
Никоим образом нельзя считать его пригодным, если он обладает кроме своего искусства еще и той слабостью, о которой ты говоришь.
Афинянин.
А начальник войска? Способен ли он начальствовать, если обладает знанием военного дела, но в то же время труслив и при опасностях, опьяненный страхом, страдает головокружением?
Мегилл.
Как можно!
Афинянин.
Но если бы он и не обладал искусством и был бы к тому же трусом?
Мегилл.
Ты говоришь о совершенно негодном человеке, начальнике не над мужчинами, а над какими‑то бабами.
c
Афинянин.
Что же, если кто хвалит или порицает какое‑либо сообщество, которое по своей природе должно иметь начальника, чтобы быть полезным, и он никогда не видел правильного руководства и отношений в этом сообществе, но всегда наблюдал его либо в состоянии безначалия, либо с дурными начальниками, признаем ли мы дельными похвалу или порицание со стороны подобных наблюдателей этих сообществ?
Мегилл.
Как можно! Ведь они никогда не видели ни одного из этих сообществ в правильном действии и не были к ним близки.
d
Афинянин.
Так имей это в виду! Не признаём ли мы совместно пирующих и самые эти пиршества одним из видов многочисленных этих сообществ?
Мегилл.
Вполне признаём.
Афинянин.
Но разве кто видел когда‑нибудь правильный порядок этих пиршеств? Вам‑то легко ответить, что никогда и никто. Вам они чужды, у вас они не узаконены. Но я часто бывал на многих пиршествах да и, к слову сказать, много о них расспрашивал; и даже я
e
никогда не видел и не слышал, чтобы какой‑либо пир, весь целиком, прошел как следует, – разве только лишь в малой и незначительной своей части; в большинстве же случаев все совершается, так сказать, превратно.
Клиний.
Что ты этим хочешь сказать, чужеземец? Выразись яснее! Ведь мы, как ты говоришь, даже если нам случится быть на пиру, вряд ли сможем, ввиду
640
нашей неопытности, сразу распознать, чту происходит там надлежащим образом, а чту – нет.
Афинянин.
Естественно. Но попробуй понять это с помощью моих указаний. Ты понимаешь, что на всяких собраниях, во всяких обществах, каковы бы ни были их занятия, должен быть надлежащий начальник?
Клиний.
Как же иначе?
Афинянин.
Мы сейчас сказали, что начальник над воинами должен быть мужествен.
Клиний.
Конечно.
Афинянин.
Ведь мужественный человек меньше труса подвержен смятению под влиянием страха.
b
Клиний.
И это так.
Афинянин.
Если было бы какое‑то средство поставить во главе войска полководца, совершенно не подверженного страху и смятению, неужто мы не постарались бы изо всех сил сделать это?
Клиний.
Постарались бы, и очень.
Афинянин.
Теперь же у нас речь не о начальнике войска, место которого на войне, при враждебных столкновениях, но о начальнике дружелюбия и мирных взаимоотношений, наступающих между друзьями.
Клиний.
Верно.
c
Афинянин.
Подобного рода общение, особенно если ему сопутствует опьянение, не происходит без шума. Не так ли?
Клиний.
Разумеется, и еще какого!
Афинянин.
Стало быть, и здесь прежде всего должен быть начальник?
Клиний.
Еще бы! Больше, чем где бы то ни было!
Афинянин.
Не должно ли, если это возможно, поставить таким начальником человека, не склонного к шуму?
Клиний.
Как же иначе?
Афинянин.
И очевидно, он должен разумно относиться к подобным собраниям. Ведь ему надо не только
d
быть на страже присущей им дружбы, а еще и заботиться об ее укреплении через это общение.
Клиний.
Совершенно верно.
Афинянин.
Не правда ли, надо ставить начальником над нетрезвыми человека трезвого, мудрого, а не наоборот. Ведь если над нетрезвыми будет поставлен пьяный, юный, неразумный начальник, он лишь благодаря очень счастливой случайности не наделает страшных бед.
Клиний.
Да, то был бы поистине счастливый случай.
Афинянин.
Если бы такого рода общения происходили в государствах по мере сил правильно, а кто‑то
e
стал бы порицать самый этот обычай, то, быть может, его порицание было бы обоснованно. Если же этот обычай ругают за полнейшее его извращение, то отсюда явствует, что не сознают, во‑первых, свойственной ему неправильности, а во‑вторых, того, что все оказывается скверным, если происходит подобным образом, то есть без трезвого хозяина и распорядителя. Разве ты не замечаешь, что пьяный кормчий и вообще всякий нетрезвый
641
начальник – чем бы он ни распоряжался – опрокидывает вверх дном корабли, колесницы, войско – все, чем он управляет.
Клиний.
Ты молвил истинную правду, гость. Скажи нам еще, что хорошего принесет нам законное и правильное свершение пиров? Как мы сейчас сказали, если войско находится под правильным руководством, то, кто за таким военачальником следует, одерживает победу, а это немалое благо. Точно так же и в остальных случаях. Ну, а правильно поставленные пиршества – какие преимущества дадут они частным лицам или государствам?
b
Афинянин.
А какие преимущества принесет, могли бы мы спросить, государству один правильно воспитанный мальчик или хорошо поставленный хор? На это мы ответили бы: от одного‑то государство получило бы малую пользу. Но если вы спрашиваете вообще, какая выгода государству от воспитания тех, кто воспитан, то нетрудно ответить, что хорошо воспитанные дети легко станут хорошими людьми и, став такими, и все остальное
c
будут делать прекрасно, в том числе и побеждать в битвах врагов[1862]
. Воспитание ведет и к победе, победа же иной раз – к невоспитанности. Ведь многие, обнаглев из‑за одержанных на войне побед, под влиянием этой наглости преисполнены множеством пороков. Воспитание никогда не оказывалось Кадмовым, победы же часто для людей бывают и будут такими[1863]
.
Клиний.
Как нам кажется, друг мой, ты утверждаешь, будто совместный досуг за чашей вина имеет
d
большое значение в воспитании, если при этом все совершается правильно.
Афинянин.
Конечно.
Клиний.
А сможешь ли ты затем доказать истинность своего утверждения?
Афинянин.
Доказать, чужеземец, что поистине дело обстоит именно так, мог бы, ввиду частых сомнений, один только бог. Но я охотно укажу, почему, как мне кажется, следует это утверждать. К тому же ведь мы приступили сейчас к рассуждению о законах и государственном устройстве.
Клиний.
Именно твое мнение по вопросам, вызывающим ныне так много сомнений, мы и хотели бы знать.
e
Афинянин.
Нам надлежит поступить так. Вы постарайтесь усвоить, а я попробую так или иначе разъяснить свою мысль. Сперва выслушайте вот что: все эллины считают, что наше государство словоохотливо и многословно, что же касается Лакедемона, то он немногословен, а на Крите развивают скорее многомыслие, чем многословие[1864]
.
642
Я боюсь, как бы вы не подумали, что о предмете незначительном – об опьянении – я говорю много, распространяясь в длиннейших рассуждениях о столь малозначительной вещи. Однако в рассуждении было бы невозможно с достаточной ясностью охватить вопрос о сообразном с природой исправлении пиршеств, если не принять во внимание правильных основ мусического искусства[1865]
. Равным образом и мусическое искусство нельзя понять без всего в совокупности воспитания. А все это требует длиннейших рассуждений. Решите же, как нам поступить:
b
не оставить ли пока этот вопрос и не перейти ли к рассмотрению какого‑либо другого закона?
Мегилл.
Чужеземец‑афинянин! Ты, может быть, не знаешь, что мой домашний очаг связан узами гостеприимства[1866]
с вашим государством. Пожалуй, у всех нас, кто в детстве слышит о том, что он гость такого‑то государства, с ранних лет появляется чувство расположения к нему – своей второй после родного города родине. По крайней мере я испытываю это. Ведь с детства,
c
если я слышал, как лакедемоняне за что‑либо порицали или хвалили афинян, говоря: «Вот какое скверное (или прекрасное) но отношению к нам деяние совершило, Мегилл, это ваше государство», я постоянно спорил, защищая вас, с теми, кто вас порицал. Я всегда был расположен к афинянам, мне и посейчас приятны звуки вашего говора; мне кажется вполне правильным утверждение многих, что хорошие афиняне особенно хороши. Ибо только их добродетель возникает без принуждения, сама собой;
d
божество уделяет им ее, так что в ней поистине нет ничего искусственного. Поэтому не бойся препятствий с моей стороны; выскажи все, что тебе дорого.
Клиний.
Точно так же, чужеземец, прими и выслушай мое слово, а затем смело говори что хочешь. Быть может, ты слышал здесь, на Крите, об Эпимениде, этом божественном муже[1867]
. Он был наш сородич. За десять лет до персидских войн прибыл он в Афины и принес там, согласно повелению бога, предписанные богом жертвы.
e
Как раз в то время афиняне опасались персидского нашествия. Он им предсказал, что персы придут не раньше чем через десять лет, а когда придут, будут отражены, вовсе не осуществив своих надежд и потерпев бедствий больше, чем причинив их. С тех пор наши предки заключили с вами союз гостеприимства; отсюда и вытекает мое к вам расположение, а также и моих родителей.
643
Афинянин.
Вы, как я вижу, готовы меня слушать. С моей же стороны есть желание говорить, но исполнить его не так‑то легко, однако попробуем. Прежде всего сообразно с ходом нашего рассуждения определим, что такое воспитание и каковы его свойства. Ведь мы согласились, что впредь в нашем рассуждении надо идти именно этим путем, пока он не приведет нас к богу вина.
Клиний.
Конечно, поступим так, если тебе это нравится.
b
Афинянин.
Я буду разъяснять, чту надо разуметь под воспитанием, а вы смотрите, согласны ли вы со мной.
Клиний.
Говори же!
Афинянин.
Я говорю и утверждаю, что человек, желающий стать достойным в каком бы то ни было деле, должен с ранних лет упражняться, то забавляясь, то всерьез, во всем, что к этому относится. Например, кто хочет стать хорошим земледельцем или домостроителем, должен еще в играх либо обрабатывать землю,
c
либо возводить какие‑то детские сооружения. Их воспитатель должен каждому из них дать небольшие орудия – подобия настоящих. Точно так же пусть он сообщит им начатки необходимых знаний, например строителя пусть научит измерять и пользоваться правилом, воина – ездить верхом и так далее, все это путем игры. Пусть он пытается при помощи этих игр направить вкусы и склонности детей к тому занятию, в котором они должны впоследствии достичь совершенства. Самым важным в обучении мы признаём надлежащее воспитание,
d
вносящее в душу играющего ребенка любовь к тому, в чем он, выросши, должен стать знатоком и достичь совершенства. Смотрите же, одобряете ли вы все до сих пор высказанное?
Клиний.
Вполне.
Афинянин.
Не оставим также без определения того, что мы разумеем под воспитанием. Ведь теперь, порицая или хваля воспитание отдельных лиц, мы называем одних из нас воспитанными,
e
а других – нет, причем иной раз прилагаем это обозначение и к людям, вся воспитанность которых заключается в умении вести мелкую или морскую торговлю и в других подобных сноровках. В нашем рассуждении мы, очевидно, подразумеваем под воспитанием не это, а то, что с детства ведет к добродетели, заставляя человека страстно желать и стремиться стать совершенным гражданином, умеющим согласно справедливости подчиняться или же властвовать.
644
Только это, кажется мне, можно признать воспитанием согласно данному в нашей беседе определению. Воспитание же, имеющее своим предметом и целью деньги, могущество или какое‑нибудь иное искусство, лишенное разума и справедливости, низко и неблагородно, да и вовсе недостойно носить это имя. Мы не станем спорить сами с собой о названиях. Пусть лишь останется в силе наше нынешнее рассуждение, в котором мы согласились, что люди, получившие правильное воспитание,
b
становятся, пожалуй, хорошими, и нельзя недооценивать воспитанность, ибо она – самое прекрасное из того, что имеют лучшие люди. Если же воспитание отклонится от своего пути, но его можно выправить, всякий по мере сил должен это делать в течение всей своей жизни.
Клиний.
Это верно. Мы согласны с твоими словами.
Афинянин.
Еще раньше мы согласились, что те, кто может властвовать над собой, хороши, а кто нет, дурны.
Клиний.
Ты вполне прав.
c
Афинянин.
Давайте повторим яснее, чту мы тогда сказали. Позвольте мне с помощью уподобления разъяснить вам это по мере сил.
Клиний.
Пожалуйста.
Афинянин.
Не признаём ли мы, что каждый из нас – это единое целое?
Клиний.
Да.
Афинянин.
Но каждый имеет в себе двух противоположных и неразумных советчиков: удовольствие и страдание.
Клиний.
Так оно и есть.
Афинянин.
К ним присоединяются еще мнения относительно будущего, общее имя которым «надежда».
d
В частности, ожидание скорби называется страхом, ожидание удовольствия – отвагой. Над всем этим стоит разум, решающий, что из них лучше, что хуже; он‑то, став общим установлением государства, получает название закона.
Клиний.
Хоть я и с трудом за тобой поспеваю, все же считай, что я следую за тобой, и продолжай.
Мегилл.
И со мной то же самое.
Афинянин.
Об этом мы станем размышлять так: представим себе, что мы, живые существа, – это чудесные куклы богов, сделанные ими либо для забавы, либо с какой‑то серьезной целью[1868]
, ведь это нам неизвестно;
e
но мы знаем, что внутренние наши состояния, о которых мы говорили, точно шнурки или нити, тянут и влекут нас каждое в свою сторону и, так как они противоположны, увлекают нас к противоположным действиям, что и служит разграничением добродетели и порока. Согласно нашему рассуждению, каждый должен постоянно следовать только одному из влечений, ни в чем от него не отклоняясь и оказывая противодействие остальным нитям,
645
а это и есть златое и священное руководство разума, называемое общим законом государства. Остальные нити – железные и грубые; только эта нить нежна, хотя она и златая, те же подобны разнообразным видам. Следует постоянно помогать прекраснейшему руководству закона. Ибо разум, будучи прекрасен, кроток и чужд насилия, нуждается в помощниках при своем руководстве, так, чтобы в нас золотой род побеждал остальные роды.
b
Этот миф о том, что мы куклы, способствовал бы сохранению добродетели; как‑то яснее стало бы значение выражения «быть сильнее или слабее самого себя». Что же касается государства и частного человека, то этот последний принял бы за истину слово о руководящих нитях и счел бы нужным жить сообразно ему; государство же, приняв это слово от богов или же от познавшего все это человека, сделает его законом как для своих внутренних отношений, так и при сношениях с остальными государствами. Таким образом, порок и добродетель будут у нас яснее разграничены.
c
Когда это станет нагляднее, то и воспитание и остальные обычаи станут, пожалуй, яснее, в том числе и вопрос о том, стоит ли проводить время, предаваясь вину. Раньше показалось, что по поводу столь незначительного предмета сказано было слишком много слов; теперь же может оказаться, что вопрос этот не так уж недостоин этих длинных рассуждений.
Клиний.
Прекрасно сказано. Приведем наше рассуждение к достойному концу.
Афинянин.
Итак, скажи: если мы предоставим
d
подобной кукле опьяняться, в какое состояние мы ее приведем?
Клиний.
Что ты имеешь в виду, спрашивая так?
Афинянин.
Ничего, кроме следующего: что случится, если одно соединится с другим? Попытаюсь еще яснее выразить свою мысль. Я спрашиваю следующее: не делает ли питье вина более сильными удовольствия, страдания, гнев, любовь?
Клиний.
И даже очень.
е
Афинянин.
А наши ощущения, память, мнения, мысли? Становятся ли они точно так же сильнее, или же человек, предаваясь чрезмерному пьянству, совершенно лишается их?
Клиний.
Совершенно лишается.
Афинянин.
Не правда ли, такой человек возвращается к состоянию души, какое ему было свойственно в младенчестве?
Клиний.
Как же иначе?
Афинянин.
И тогда он всего менее может собой владеть.
646
Клиний.
Да, всего менее.
Афинянин.
Но разве это будет не никчемнейший человек?
Клиний.
Без сомнения.
Афинянин.
Так что, видимо, не одни только старики снова впадают в детство, но также и люди пьяные?
Клиний.
Ты верно заметил, гость.
Афинянин.
Есть ли доказательство, убеждающее нас, что надо отведать этого обычая, а не избегать его изо всех сил?
Клиний.
Видимо, есть. По крайней мере ты утверждаешь это и даже был готов доказать.
b
Афинянин.
Ты верно напомнил. Я готов и сейчас это сделать, ведь вы оба выразили живое желание меня слушать.
Клиний.
Как же нам не желать? Если уж не ради чего иного, так ради удивительного и странного утверждения, будто человеку следует добровольно впадать в самое мерзкое состояние.
Афинянин.
Ты разумеешь состояние души, не так ли?
Клиний.
Да.
Афинянин.
Ну а тело, мой друг? Удивимся ли мы, если кто по доброй воле опускается до негодности, худобы, срама, бессилия?
c
Клиний.
Как не удивляться!
Афинянин.
Так что же? Станем ли мы думать, будто те, кто обращается к врачам, не знают, что прием лекарств уже вскоре сделает их тело надолго таким, что они согласились бы лучше умереть, если бы им предстояло до конца своих дней пребывать в подобном состоянии? И разве нам неизвестно, что те, кто занимается тяжелыми гимнастическими упражнениями, становятся сперва точно больными.
Клиний.
Мы все это знаем.
Афинянин.
А также и то, что они добровольно идут на это ради последующей пользы?
d
Клиний.
Конечно.
Афинянин.
Но разве не надо и об остальных обычаях мыслить таким же образом?
Клиний.
Да, надо.
Афинянин.
В том числе и относительно того времяпрепровождения, когда люди предаются вину, если мы только правильно рассмотрели приведенные примеры.
Клиний.
Без сомнений.
Афинянин.
Итак, если окажется, что вино по своей пользе ничуть не хуже телесных упражнений, то у него будет перед ними еще и то преимущество, что они вначале сопряжены с болью, оно же нет.
e
Клиний.
В этом‑то ты прав, но я был бы удивлен, если бы мы смогли усмотреть в нем какую‑то пользу.
Афинянин.
Вот это мы теперь и должны попытаться разъяснить. Скажи мне, можем ли мы мыслить два чуть ли не противоположных вида страха?
Клиний.
Какие именно?
Афинянин.
Следующие: мы боимся зол, ожидаемых нами.
Клиний.
Да.
Афинянин.
И боимся мы нередко чужого мнения – как бы нас не сочли за дурных людей, если мы совершаем или говорим что‑либо нехорошее.
647
Этот вид страха мы – да думаю, что и все, – называем стыдом.
Клиний.
Без сомнения.
Афинянин.
Вот о каких двух видах страха я говорил. Из них второй противоположен боли и остальным страхам; равным образом он противоположен и большинству величайших удовольствий.
Клиний.
Ты совершенно прав.
Афинянин.
Неужели же законодатель, да и всякий мало‑мальски полезный человек не станет благоговейнейшим образом чтить этот страх? И, назвав его совестливостью, не обозначит ли он противоположную ей
b
отвагу как бесстыдство, которое он сочтет величайшим злом для всех как в частной, так и в общественной жизни?
Клиний.
Ты прав.
Афинянин.
Не правда ли, ничто – если только мы станем сравнивать каждое в отдельности – не доставляет нам столько великих преимуществ, в том числе победы и спасения на войне, как именно этот вид страха. Ведь есть две причины победы: отвага перед неприятелем и страх злого стыда перед друзьями.
Клиний.
Это так.
Афинянин.
Следовательно, каждый из нас должен стать и бесстрашным, и вместе с тем подверженным страху. Мы уже разобрали, почему это так.
c
Клиний.
Да, вполне.
Афинянин.
Желая сделать каждого человека бесстрашным, мы достигнем этого, согласно с законом, тем, что поставим его лицом к лицу со множеством разных страхов.
Клиний.
Очевидно.
Афинянин.
Ну а если мы хотим вселить в кого‑либо справедливый страх? Разве не столкнем мы его с бесстыдством для того, чтобы он наловчился побеждать свои удовольствия? А кто хочет достичь совершенства в мужестве, не должен ли бороться с присущей ему трусостью и не должен ли ее победить?
d
Ведь тот, кто не упражнялся и неопытен в подобной борьбе – все равно, кто бы он ни был, – не станет по отношению к добродетели и наполовину тем, кем он должен бы стать. Кто же может стать вполне рассудительным, – тот ли, кто борется со множеством удовольствий и вожделений, увлекающих к бесстыдным, несправедливым поступкам, и побеждает их разумом, действием и искусством как во время развлечений, так и в серьезных делах, или же тот, кто вовсе не подвержен всему этому?
Клиний.
Последнее маловероятно.
е
Афинянин.
Так что же? Дал ли некий бог людям зелье, возбуждающее в них страх, и, чем больше кто станет его пить, тем несчастнее станет он себя считать с каждым глотком?
648
Он будет страшиться и настоящего, и всего будущего, так что даже самый мужественный человек в конце концов будет охвачен ужасом; когда же он выспится и отрезвится, он снова станет самим собой.
Клиний.
О каком напитке, принятом у людей, можем мы это утверждать, чужеземец?
Афинянин.
Ни о каком. Но если бы такое средство откуда‑нибудь взялось, разве не было бы оно полезно законодателю для испытания мужества? Мы могли бы в таком случае сказать ему, например, следующее:
b
«Скажи, законодатель, дающий закон критянам или кому‑то другому, не хотел бы ты прежде всего иметь средство испытывать граждан – их мужество и трусость?»
Клиний.
Ясно: всякий скажет, что хотел бы.
Афинянин.
«Далее. Хочешь ли ты испытать это средство осторожно и без больших опасностей или же наоборот?»
Клиний.
И тут любой согласится, что лучше осторожно.
Афинянин.
«Не воспользуешься ли ты этим напитком, чтобы, возбудив страх, наблюдать, кто каким оказался в таком состоянии, принудить человека стать бесстрашным, прибегая к увещаниям, внушениям и
c
поощрениям и покрывая бесчестьем того, кто тебя не послушается и не станет во всем таким, как ты приказал? Не отпустишь ли ты без наказания того, кто хорошо и мужественно упражнялся, а тому, кто делал это плохо, не назначишь ли наказание? Или ты совсем не станешь пользоваться таким напитком, хотя нет никаких поводов его порицать?»
Клиний.
Как же ему не пользоваться, чужеземец, этим напитком?
Афинянин.
Это было бы, друг мой, легчайшим испытанием в сравнении с нынешними упражнениями в гимнастике. Его можно всегда применить к отдельным лицам, к немногим и вообще к какому угодно числу людей.
d
Если кто‑либо из стыдливости считал бы, что не дулжно показываться, пока не усовершенствуешься, и стал бы наедине упражняться в борьбе со страхом, пользуясь вместо тысячи других средств только этим напитком, он поступил бы правильно. Кто верит самому себе, что он и природой, и своими заботами хорошо подготовлен, тот ничуть не побоится упражняться на виду, вместе со многими сотрапезниками. Он поступит правильно, потому что преодолеет и победит силу неизбежного действия[1869]
напитка;
e
ни в чем важном он не будет поколеблен непристойностью и вследствие своей добродетели ни в чем не изменится. Но пусть он остерегается излишеств в питье, боясь той победы, какую одерживает этот напиток над всеми людьми.
Клиний.
Да, чужеземец, поступающий так выказал бы свою рассудительность.
649
Афинянин.
Скажем же снова законодателю вот что: «Да, о законодатель, ни бог не дал людям такого зелья для возбуждения страха, ни сами мы не изобрели его, – ибо здесь нет речи о магах на пиру. Но напиток, возбуждающий бесстрашие, чрезмерную отвагу, к тому же несвоевременную, недулжную, существует ли он? Или как мы скажем?»
Клиний.
Существует, скажет он, имея в виду вино.
Афинянин.
«Не есть ли этот напиток полная противоположность первому? Сперва он делает человека,
b
который его пьет, снисходительным к самому себе; и чем больше он его отведывает, тем большими исполняется надеждами на благо и на свою мнимую силу. В конце же концов он преисполняется словесной несдержанностью, точно он мудр, своеволием и совершенным бесстрашием, так что, не задумываясь, говорит и делает все, что угодно. С этим, я думаю, согласится всякий».
Клиний.
Конечно.
Афинянин.
Вспомним еще следующее. Мы сказали, что в наших душах дулжно воспитывать два чувства:
c
первое – чувство чрезмерной отваги, второе, наоборот, – чрезмерного страха.
Клиний.
Если не ошибаемся, это то, что ты назвал совестливостью.
Афинянин.
Вы прекрасно помните. Так как мужество и бесстрашие дулжно развивать среди страха, то спрашивается, не следует ли воспитывать противоположные качества среди того, что противоположно страху?
Клиний.
Очевидно.
Афинянин.
Итак, по‑видимому, в тех состояниях, испытывая которые мы по своей природе становимся смелыми и отважными, и надо упражняться, как можно
d
менее преисполняясь бесстыдством и дерзостью и боясь совершить, испытать или сказать что‑либо постыдное.
Клиний.
Похоже, что так.
Афинянин.
Вот все, что делает нас такими: гнев, страсть, наглость, невежество, корыстолюбие, трусость. Кроме того, еще: богатство, красота, сила и все пьянящее наслаждением и делающее нас безрассудными. Можем ли мы назвать какое‑нибудь другое удовольствие, кроме испытания вином и развлечениями, более приспособленное к тому, чтобы сперва только взять пробу, дешевую и безвредную, всех этих состояний,
e
а уж затем в них упражняться? Конечно, при этом необходимы некоторые предосторожности.
Обсудим же, как лучше испытать сварливую и вялую душу, из которой рождаются тысячи несправедливостей: путем ли личных с ней общений, причем нам будет грозить опасность,
650
или же путем наблюдений на празднестве Дионисий? Чтобы испытать душу человека, побеждаемого любовными наслаждениями, вверим ли мы ему собственных дочерей, сыновей и жен, подвергая опасности самые дорогие для нас существа, только для рассмотрения склада его души? Приводя тысячи подобных примеров, можно было бы говорить бесконечно в пользу того, насколько лучше это безвредное распознавание во время забав.
b
Мы полагаем, ни критяне, ни другой кто не могут сомневаться, что это весьма удобный способ испытать друг друга. К тому же он превосходит остальные способы испытаний своей дешевизной, безопасностью и быстротой.
Клиний.
Это верно.
Афинянин.
Распознавание же природы и свойств душ было бы одним из самых полезных средств для того искусства, которое о них печется. А мы, я полагаю, признаём, что это относится к искусству государственного правления. Не так ли?
Клиний.
Несомненно.
Перевод А. Н. Егунова.
В кн.: Платон. Законы. М.: «Мысль», 1999
КHИГА II
652
Афинянин.
После этого надо, конечно, рассмотреть следующий вопрос: приносит ли правильно поставленное употребление вина на пиршествах только одно это благо, то есть возможность распознать природные качества человека, или же есть еще одно великое преимущество, достойное всяческого усердия? Как мы скажем? Да, есть и еще одно преимущество; так, по‑видимому, следует из нашего рассуждения. Но в чем оно состоит – вот что нам нужно рассмотреть со вниманием, чтобы не запутаться в этом вопросе.
b
Клиний.
Итак, говори!
653
Афинянин.
Я хочу вспомнить то, что ранее мы назвали правильным воспитанием. Ибо я догадываюсь, что упомянутое нами преимущество существует благодаря этому правильно поставленному обычаю.
Клиний.
Ты говоришь о чем‑то очень важном.
Афинянин.
Я утверждаю, что первые детские ощущения – это удовольствие и страдание, и благодаря им сперва и проявляются в душе добродетель и порок. Что же касается разумения и прочных истинных мнений, то счастлив тот, в ком они проявляются хотя бы в старости. Ведь кто обладает ими и всеми зависящими от них благами, тот – совершенный человек.
b
Я называю воспитанием добродетель, проявляющуюся первоначально в детях. Если удовольствие, чувство дружбы, скорбь и ненависть возникнут надлежащим образом в душах людей, еще неспособных отнестись к ним разумно, то впоследствии, получив эту способность, они станут согласовывать с разумом эти правильно полученные ими навыки. Эта‑то согласованность и есть вся добродетель в совокупности. Ту же часть добродетели, которая касается удовольствия и страдания,
c
которая надлежащим образом приучает ненавидеть от начала до конца то, что следует ненавидеть, и любить то, что следует любить, – эту часть можно выделить в рассуждении и не без основания, по‑моему, назвать ее воспитанием.
Клиний.
Думается, ты прав, чужеземец, в своих прежних и нынешних замечаниях относительно воспитания.
Афинянин.
Прекрасно! Итак, верно направленные удовольствия и страдания составляют воспитание; однако в жизни людской они во многом ослабляются и извращаются.
d
Поэтому боги из сострадания к человеческому роду, рожденному для трудов, установили взамен передышки от этих трудов божественные празднества, даровали Муз, Аполлона, их предводителя, и Диониса[1870]
как участников этих празднеств, чтобы можно было исправлять недостатки воспитания на празднествах с помощью богов[1871]
. Итак, повторяю, надо рассмотреть, истинно ли и согласно ли с природой наше нынешнее утверждение. Мы утверждали, что любое юное существо не может, так сказать, сохранять спокойствия ни в теле, ни в голосе, но всегда стремится двигаться
e
и издавать звуки, так что молодые люди то прыгают и скачут, находя удовольствие, например, в плясках и играх, то кричат на все голоса. У остальных живых существ нет ощущения нестройности или стройности в движениях, носящей название гармонии и ритма. Те же самые боги, о которых мы сказали, что они дарованы
654
нам как участники наших хороводов, дали нам чувство гармонии и ритма, сопряженное с удовольствием[1872]
. При помощи этого чувства они движут нами и предводительствуют нашими хороводами, когда мы объединяемся в песнях и плясках. Хороводы (χοροΰς) были названы так из‑за внутреннего сродства их со словом «радость» (χαράς).
Не согласимся ли мы прежде всего с этим и не установим ли, что первоначальное воспитание совершается через Аполлона и Муз? Как вам думается?
Клиний.
Да, так.
Афинянин.
Следовательно, мы скажем, что тот, кто не упражнялся в хороводах, человек невоспитанный, а кто достаточно в них упражнялся, тот воспитан.
b
Клиний.
Конечно.
Афинянин.
Искусство хоровода в целом состоит из песен и плясок[1873]
.
Клиний.
Несомненно.
Афинянин.
Поэтому хорошо воспитанный человек должен уметь прекрасно петь и плясать.
Клиний.
Очевидно.
Афинянин.
Посмотрим же, что означают эти только что сказанные слова.
Клиний.
Какие?
Афинянин.
Он прекрасно поет, сказали мы, и прекрасно пляшет. Не добавим ли мы, что это лишь
c
тогда будет прекрасно, если он поет и пляшет что‑то прекрасное?
Клиний.
Добавим.
Афинянин.
А также и другое условие: он должен считать прекрасным то, что действительно прекрасно, и безобразным то, что действительно безобразно, и эти свои убеждения применять на деле. Не будет ли такой человек лучше воспитан в смысле мусического искусства и искусства хороводов, чем тот, кто не радуется прекрасному и не питает ненависти к дурному, хотя и умеет иной раз удачно служить телодвижениями и голосом тому, что он признает прекрасным?
d
Верно, все‑таки лучше тот, кто не слишком исправен в голосе и телодвижениях, но правильно следует удовольствиям и скорби и таким путем приветствует прекрасное и отвергает дурное?
Клиний.
Между ними, чужеземец, большая разница в воспитании.
Афинянин.
Не правда ли, если бы мы все трое узнали, что именно прекрасно в пении и пляске, мы надлежащим образом отличили бы человека воспитанного от невоспитанного. Если же мы не будем этого знать, то вряд ли сможем определить, что и как
e
способствует сохранению воспитания. Не так ли?
Клиний.
Конечно, так.
Афинянин.
И вот после этого нам, точно собакам‑ищейкам, надо разыскать, чту прекрасно в телодвижениях, пляске, напеве и песне. Если же это от нас ускользнет, все наше рассуждение о правильном воспитании, эллинском или варварском, будет впустую.
Клиний.
Да.
Афинянин.
Хорошо! Какие же телодвижения и напевы надо признать прекрасными? Скажи‑ка: при
655
одних и тех же, равно тяжелых, обстоятельствах схожими ли окажутся телодвижения и речи души мужественной и души трусливой?
Клиний.
Как можно! Даже оттенок у них будет разный.
Афинянин.
Отлично, друг мой! Ведь и в мусическом искусстве есть телодвижения и напевы. Но так как предметом этого искусства служат гармония и ритм, то оно может быть только ритмичным и гармоничным; поэтому совершенно неверно уподобление, которое делают учителя хоров, когда говорят о красочности напевов или телодвижений. Что же касается телодвижений и напевов человека трусливого или мужественного, то справедливо можно признать, что у мужественных они
b
прекрасны, у трусливых – безобразны. Но чтобы не возникло у нас по этому поводу чрезмерного многословия, давайте просто признаем, что все телодвижения и напевы, выражающие душевную и телесную добродетель – ее самое или какое‑либо ее подобие, – прекрасны, а все те, что выражают порок, безобразны.
Клиний.
Твое предложение правильно; именно так пусть и будет теперь постановлено нами.
Афинянин.
Вот еще что: с одинаковой ли радостью мы все участвуем во всех хороводных плясках или же вовсе нет?
c
Клиний.
С совершенно неодинаковой.
Афинянин.
Что же, скажем мы, вводит нас в заблуждение? Разве не одно и то же прекрасно для всех нас или же хотя на деле это так, но кажется нам, что не одно и то же? Никто не скажет, будто хороводы, выражающие порок, прекраснее хороводов, выражающих добродетель, и будто сам он радуется скверным телодвижениям, а остальные радуются какой‑либо противоположной этому Музе. Впрочем, большинство утверждает,
d
что степень получаемого душой удовольствия и служит признаком правильности мусического искусства. Однако такое утверждение неприемлемо и совсем нечестиво. Вот что, по‑видимому, вводит нас в заблуждение…
Клиний.
Что именно?
Афинянин.
Ввиду того что все относящееся к искусству – это воспроизведение поведения людей, их разнообразных поступков и обычаев при всяких обстоятельствах, так что путем подражания воспроизводятся все черты этого поведения,
e
то естественно, что им радуются, их хвалят и признают прекрасными, конечно, те люди, с природой или с привычками которых – либо с тем и другим вместе – согласуются как хороводные слова и напевы, так и сами хороводы. Те же, природе, нравам или привычкам которых эти пляски противоречат, не могут ни радоваться им, ни их хвалить, но признают их безобразными. Наконец, у тех, кто имеет хорошие природные свойства, но обычаи, им противоположные, или же, наоборот, обычаи правильные, а природные свойства негодные, похвалы, высказываемые
656
вслух, противоречат испытываемому удовольствию. Так, они говорят, что иные хороводы дурны, хотя и доставляют удовольствие. Они стыдятся подобных телодвижений, стыдятся подобных песен перед людьми, которых они признают разумными, боясь, как бы не подумали, что они признают это прекрасным и потому так усердны; про себя же они всему этому радуются.
Клиний.
Ты совершенно прав.
Афинянин.
Не приносит ли это некоторого вреда тому, кто радуется безобразным телодвижениям и песням? Напротив, не получают ли некоторой пользы те, кто находит удовольствие в противоположном?
Клиний.
Вероятно.
b
Афинянин.
Только ли вероятно или же необходимо должно случиться с таким человеком то же самое, что бывает с теми, кто постоянно общается с испорченными и злыми людьми? Он не отталкивает их, а, наоборот, радуется им, они ему приятны; если же он их порицает, то только в шутку, точно его собственная никчемность лишь сон. В этом случае радующийся неизбежно уподобляется тем, кому он радуется, хотя он и стыдится их хвалить. Разве можно назвать большее благо или зло, возникновение которого неизбежно?
Клиний.
Мне кажется, нельзя.
с
Афинянин.
Но там, где законы прекрасны или будут такими впоследствии, можно ли предположить, что всем людям, одаренным творческим даром, будет дана возможность в области мусического воспитания и игр[1874]
учить тому, что по своему ритму, напеву, словам нравится самому поэту? Допустимо ли, чтобы мальчики и юноши, дети послушных закону граждан, подвергались случайному влиянию хороводов в деле добродетели и порока?
Клиний.
Как можно! Это лишено разумного основания.
d
Афинянин.
Однако в настоящее время именно это разрешается во всех государствах, кроме Египта.
Клиний.
Какие же законы относительно этого существуют в Египте?
Афинянин.
Даже слышать о них удивительно! Искони, видно, было признано египтянами то положение, которое мы сейчас высказали: в государствах у молодых людей должно войти в привычку занятие прекрасными телодвижениями и прекрасными песнями. Установив, чту прекрасно, египтяне объявили об этом на священных празднествах и никому –
e
ни живописцам, ни другому кому‑то, кто создает всевозможные изображения, ни вообще тем, кто занят мусическими искусствами, – не дозволено было вводить новшества и измышлять что‑либо иное, не отечественное. Не допускается это и теперь. Так что если ты обратишь внимание, то найдешь, что произведения живописи или ваяния, сделанные там десять тысяч лет назад[1875]
(и это не для красного словца – десять тысяч лет, а действительно так), ничем не прекраснее и не безобразнее нынешних
657
творений, потому что и те и другие исполнены при помощи одного и того же искусства.
Клиний.
Это удивительно!
Афинянин.
Да, в высшей степени мудрый закон для государства. В другом ты сможешь найти там и кое‑что неудачное. Но это постановление относительно мусического искусства верно. Заслуживает внимания, что оказалось возможным и в таком деле установить, путем твердых законов, бодрящие песни, по своей природе ведущие к надлежащему. Это должно было быть делом бога или какого‑либо божественного человека.
b
Недаром египтяне утверждают, что песни эти, сохраняющиеся в течение столь долгого времени, – творение Исиды[1876]
. Как я уже сказал, если бы кто смог так или иначе схватить то, что в произведениях искусства есть надлежащего, ему надо было бы смело установить это как правило и закон. Ведь стремление к удовольствию или страданию, выражающееся в мусическом искусстве в поисках нового, не настолько, пожалуй, сильно, чтобы сгубить древние священные хороводы под предлогом, будто они устарели. По крайней мере в Египте это вовсе не могло случиться, совсем напротив.
c
Клиний.
Из нынешних твоих слов ясно, что это действительно так.
Афинянин.
Отважимся же сказать, что применение мусического искусства и игр, сопряженных с плясками, правильно в том случае, если мы радуемся, когда поступаем хорошо, и, наоборот, когда радуемся, это значит, что мы хорошо поступаем. Не правда ли?'
Клиний.
Да, конечно.
Афинянин.
Ив то время, когда мы радуемся, мы не можем сохранять спокойствие?
Клиний.
Это так.
(dАфинянин.
Наша молодежь и сама по себе готова водить хороводы, мы же, старшие, считаем более приличным коротать время, глядя на них, радуясь их праздничным играм. Мы тоскуем по былой нашей ловкости, покинувшей нас теперь, и охотно устраиваем состязания для тех, кто всего более может пробудить в нас воспоминание о нашей молодости.
Клиний.
Совершенно верно.
Афинянин.
Станем ли мы считать сущим вздором высказываемое в наше время большинством мнение об участниках празднеств, гласящее, что надо считать самым мудрым и признать победителем того, кто всего более развеселит нас и заставит радоваться? На празднествах мы предаемся играм; поэтому будто бы дулжно всего более почитать тех, кто сильнее развеселит большинство людей. Такой человек, как я только что сказал,
658
должен будто бы получить победный приз. Разве неверно это мнение, разве неправильно было бы поступать именно так?
Клиний.
Возможно, и правильно.
Афинянин.
Но, дорогой мой, не станем поспешно судить о столь важном деле. Разберемся в нем и по частям обсудим его таким образом: если бы вдруг кто‑нибудь попросту установил какое‑либо состязание, не определив, будет ли оно гимнастическим, конным или мусическим; если бы он собрал всех находящихся в государстве, установил награды и сказал перед началом, что всякий желающий может выступить на этом состязании и цель этого состязания заключается только в том,
b
чтобы доставить удовольствие, так что тот, кто всего более усладит зрителей (хоть и неясно, каким именно образом), этим‑то и одержит победу и будет признан самым приятным участником состязания, – к чему привело бы подобное предисловие?
Клиний.
О чем ты говоришь?
Афинянин.
Возможно, что один выступит с рапсодией[1877]
, как Гомер, другой – с песнями под кифару, третий – с какой‑либо трагедией, четвертый – с комедией,
c
и нет ничего удивительного, если кто выступит с кукольным театром и станет считать, что у него всего более данных для победы. И вот, если явятся такие состязающиеся и тысячи других им подобных, можем ли мы сказать, кому достанется по праву победа?
Клиний.
Странный вопрос! Кто может тебе на него ответить со знанием дела, прежде чем он выслушает сам каждого из состязающихся?
Афинянин.
А хотите, я отвечу на этот странный вопрос?
Клиний.
Как?
Афинянин.
Если бы судили малыши, они высказались бы в пользу кукольника. Не так ли?
d
Клиний.
Да.
Афинянин.
Если бы судили подростки, то в пользу комедии; в пользу трагедии – образованные женщины, молодые люди и, пожалуй, чуть ли не большинство зрителей.
Клиний.
Весьма возможно.
Афинянин.
Мы же, старики, скорее всего присудили бы победу рапсоду, хорошо прочитавшему «Илиаду» или «Одиссею» или что‑либо из Гесиода; ведь нам он доставит всего более удовольствия. Вот после этого и является вопрос: кто же на самом деле победитель? Правда ведь?
Клиний.
Да.
e
Афинянин.
Очевидно, мы с вами неизбежно скажем, что на самом деле победил тот, кто признан людьми нашего возраста. Ведь наш образ мыслей кажется наилучшим из всех, встречающихся ныне повсюду в различных государствах.
Клиний.
Как же иначе?
Афинянин.
Соответственно я соглашаюсь и с большинством, по крайней мере в том, что мерило мусического искусства – удовольствие. Однако прекраснейшей я признаю ту Музу, что доставляет наслаждение не первым встречным, но людям наилучшим, получившим достаточно хорошее воспитание, в особенности же ту Музу, которая доставляет его человеку,
659
выделяющемуся своей добродетелью и воспитанием. Мы потому утверждаем необходимость добродетели для тех, кто судит об этих вопросах, что им нужно быть причастными ко всей остальной разумности, особенно к мужеству. Ибо истинный судья не должен судить под влиянием театральных зрителей, не должен быть ошеломлен шумом толпы и своей собственной невоспитанностью. Человек сведущий не должен из‑за недостатка мужества, из‑за трусости легкомысленно произносить ложное
b
суждение теми же устами, которыми призывал он богов пред началом суда. Ведь судья восседает в театре не как ученик зрителей, но, по справедливости, как их учитель, чтобы оказывать противодействие тем, кто доставляет зрителям неподобающее и ненадлежащее удовольствие. Именно таков был старинный эллинский закон. Он не был таким, как нынешние сицилийские и италийские законы, предоставляющие решение толпе зрителей, так что победителем является тот, за кого всего больше было поднято рук.
c
Этот закон погубил и самих поэтов, ибо они в своем творчестве стали приноравливаться к дурному вкусу своих судей, так что зрители воспитывают сами себя. Он извратил и удовольствие, доставляемое театром, ибо следовало, чтобы зрители усовершенствовали свой вкус, постоянно слыша о нравах лучших, чем у них самих. Теперь же дело обстоит как раз наоборот. Однако что мы имеем в виду при наших нынешних рассуждениях? Посмотрите, не это ли?..
Клиний.
Что?
d
Афинянин.
Мне кажется, наше рассуждение в третий или четвертый раз приходит к одному и тому же: воспитание есть привлечение и приведение детей к такому образу мыслей, который признан законом правильным и в действительной правильности которого убедились к тому же на опыте люди самые почтенные и престарелые. И вот, чтобы душа ребенка не приучалась радоваться и скорбеть вопреки закону и людям, ему послушным, и чтобы ребенок следовал в своих радостях и скорбях тому же самому, что и старик, и появились песни (ωδαί).
e
Мы их так называем; на самом же деле это заклинания (έπωδαί), зачаровывающие душу; они имеют серьезную цель – достичь гармонии, о которой мы говорили. А так как души молодых людей не могут выносить серьезного, то их и надо было назвать забавой, песнями и исполнять их только в качестве таковых, ведь людям больным и слабым телом ухаживающие за
660
ними стараются подносить полезную пищу в сладких блюдах или напитках, а вредные средства – в несладких, чтобы больные правильно приучались любить первые и ненавидеть вторые[1878]
. Точно так же хороший законодатель будет убеждать поэта прекрасными речами и поощрениями; в случае же неповиновения он уже станет принуждать его творить надлежащим образом и изображать в ритмах телодвижения, а в гармониях – песни людей рассудительных, мужественных и во всех отношениях хороших.
b
Клиний.
Клянусь Зевсом, чужеземец, неужели ты думаешь, будто так поступают теперь в остальных государствах? Я по крайней мере, насколько мог заметить, не вижу, чтобы то, что ты говоришь, соблюдалось где‑либо, кроме как у нас и у лакедемонян. Наоборот, постоянно возникают новшества и в плясках, и во всем прочем мусическом искусстве. Эти изменения происходят не по закону, а под влиянием каких‑то беспорядочных удовольствий, которые далеко не таковы, как в Египте, и следуют совсем не тем обычаям, какие, по твоим словам, приняты там.
c
Афинянин.
Совершенно верно, Клиний. Если же тебе показалось, будто я сказал, что уже теперь осуществлено то, о чем ты говоришь, то, видно, – и это неудивительно – я допустил неясность в выражении моей мысли, и потому она была так понята. Я высказал только свои пожелания об осуществлении в мусическом искусстве известных вещей, а тебе, вероятно, показалось, будто я говорю о том, что уже существует. Осуждать то, что неисправимо и уже погрязло в пороке, вовсе не сладко, однако иногда это неизбежно.
d
Если и ты согласен с этим, то скажи: у вас и у лакедемонян эти обычаи соблюдаются лучше, чем у прочих эллинов?
Клиний.
Как же иначе?
Афинянин.
Если бы они соблюдались и у остальных, то не признали бы мы такое положение вещей лучшим, чем нынешнее?
Клиний.
Было бы несравненно лучше, если бы осуществилось это твое пожелание и эти обычаи соблюдались не только у нас и у лакедемонян.
Афинянин.
Давайте же сделаем общее заключение. Не сводятся ли правила всего вашего воспитания и мусического искусства к следующему:
e
вы принуждаете поэтов говорить, что хороший человек, будучи рассудительным и справедливым, счастлив и блажен, все равно велик ли он и силен или же мал и слаб и богат ли он или нет. Если он богаче Кинира и Мидаса[1879]
, но несправедлив, то он несчастлив и жизнь его докучна. «Ни во что не считал бы, – говорит наш поэт (и, видно, он прав), – и не помянул бы я мужа», который не имеет и не осуществляет на деле всех так называемых благ, руководствуясь справедливостью.
661
Хотя бы «и устремлялся» такой человек «в бой рукопашный вступить», однако, будучи несправедливым, он не осмелится «взирать на кровавое дело» и не будет в беге «быстрей, чем фракийский Борей»[1880]
. Такому человеку никогда и ничего из этих благ не достанется. Впрочем, то, что большинство называет благом, называется так неверно. Ведь говорят обычно, будто самое лучшее – это здоровье, во‑вторых, красота, в‑третьих, богатство;
b
называют и тысячи других благ, например острое зрение и слух и вообще хорошее состояние органов чувств. Сюда же относят возможность исполнять все свои желания в случае обладания тиранической властью. Наконец, верхом всякого блаженства, при обладании всем этим, считается возможность стать поскорее бессмертным. Мы же с вами утверждаем, что для людей справедливых и благочестивых все это действительно наилучшие достояния, но для несправедливых все это, начиная со здоровья, наихудшее зло.
c
Да и зрение, слух, чувства, вообще вся жизнь – величайшее зло для такого человека, хотя бы он обладал вечным бессмертием и приобрел все так называемые блага, кроме справедливости и всей добродетели в целом. Меньшее зло, если такой человек проживет возможно более короткое время. Я думаю, вы убедите и принудите ваших поэтов выражать все сказанное мною: подобрав соответствующие ритмы и гармонию, они именно таким образом должны воспитывать вашу молодежь. Не так ли?
d
Смотрите, я определенно утверждаю: то, чту называют злом, есть благо для людей несправедливых, а для справедливых – зло. Благо же для людей благих на самом деле благо, для злых – зло. Поэтому я и задаю вопрос: согласны ли вы со мной или нет?
Клиний.
Мне кажется, кое в чем – да, но в ином – нет.
Афинянин.
Неужели же я не убедил вас, что человек, обладающий здоровьем, богатством, наконец, тиранической властью (прибавлю еще для вас:
e
у него выдающаяся сила, мужество и вместе с тем бессмертие, с ним не случается ни одного из так называемых бедствий, кроме только того, что он исполнен несправедливости и наглости), – что человек, живущий таким образом, вовсе не счастлив, а, напротив, жалок?
Клиний.
Ты совершенно прав.
Афинянин.
Прекрасно. О чем же нам говорить после этого? Разве вам не кажется, что жизнь человека несправедливого и наглого неизбежно позорна,
662
будь он и мужествен, и силен, и красив, и богат, и делай в течение всей своей жизни все, что он хочет? С тем, что она позорна, вы, пожалуй, все‑таки согласитесь?
Клиний.
Конечно.
Афинянин.
Что же? И с тем, что она плоха?
Клиний.
С этим не в такой степени.
Афинянин.
Почему? А с тем, что она неприятна и вредна для него самого?
Клиний.
Но как можно с этим согласиться?!
b
Афинянин.
По‑видимому, лишь в том случае, если какой‑либо бог дарует нам, друзья, согласие; ведь теперь‑то у нас порядочная разноголосица. Мне же, друг Клиний, все это кажется более необходимым и очевидным, чем то, что Крит – остров. Будь я законодатель, я попытался бы принудить поэтов и вообще всех в государстве высказываться именно так; чуть ли не самое большое наказание назначил бы я тому,
c
кто стал бы в стране выражать мнение, будто существуют какие‑то люди, жизнь которых приятна, хотя они и дурны, и будто полезным и выгодным является одно, а справедливым – другое. Я стал бы убеждать моих граждан выражать и много других мнений, по‑видимому противоположных взглядам нынешних критян и лакедемонян, да и отличающихся от взглядов прочих людей. Скажите‑ка вы, лучшие из людей, ради Зевса и Аполлона, не спросить ли нам самих этих богов, давших вам законы:
d
не есть ли жизнь в высшей степени справедливая вместе с тем и в высшей степени приятная или же есть два рода жизни: один – в высшей степени приятный, другой – в высшей степени справедливый? Если боги ответят, что есть два рода, мы, пожалуй, спросили бы (надо только правильно ставить вопросы): кого следует называть более счастливыми – тех ли, кто ведет самую справедливую жизнь, или тех, кто ведет самую приятную? Если бы боги ответили, что последних, слова их прозвучали бы странно. Но не хочу говорить таких вещей о богах; скорее скажу это о наших отцах и законодателях.
e
Пусть поставленный раньше вопрос относится к отцу и к законодателю. Предположим, он ответит, что человек, ведущий самую приятную жизнь, всего более счастлив. Я по крайней мере после этого спросил бы его: «Отец мой, разве ты не хотел бы, чтобы я жил возможно более счастливо? Между тем ты непрестанно внушал мне, что надо вести жизнь по возможности более справедливую». Кто изложил бы так свои правила – все равно, законодатель он или отец, – тот оказался бы, думаю я, в странном и затруднительном положении с точки зрения согласованности своих слов. Если же, напротив, он объявил бы, что наиболее справедливая жизнь и есть самая счастливая, то, думаю, всякий внимающий его словам стал бы исследовать, что именно прекрасное и
663
благое оказывается в человеке сильнее удовольствия и одобряется в качестве такового законом. Что, лишенное удовольствия, может явиться для человека справедливого благом? Скажи‑ка, неужели слава и хвала со стороны людей и богов, хотя они и есть нечто благое и прекрасное, все же неприятны, а бесславие – наоборот? Конечно, нет, дорогой наш законодатель, скажем мы. Неужели неприятно никого не обижать и не быть никем обиженным, хотя это‑то и есть нечто благое и прекрасное, и неужели же противное приятно, несмотря на то что оно позорно и дурно?
Клиний.
Как же иначе?
b
Афинянин.
Итак, учение, не отделяющее приятное от справедливого, благого и прекрасного, имеет по крайней мере то преимущество, что убеждает каждого человека желать благочестивой и справедливой жизни. Если же законодатель станет утверждать, что это не так, то слова его будут в высшей степени позорны и противоречивы. Ведь никто не дал бы себя убедить добровольно исполнять то, что не влечет за собой больше радости, чем страдания. То, на что смотрят издалека, причиняет, так сказать, головокружение всем, а особенно детям. Законодатель же, по‑моему, разогнав эту дымку, должен создать у других ясное мнение.
c
Он должен убеждать с помощью всяких навыков, похвал и рассуждений, что справедливость и несправедливость – точно свет и тень на картине: несправедливость противоположна справедливости, и, когда смотришь на нее с ее собственной точки зрения, несправедливой и дурной, она кажется приятной, а справедливость – в высшей степени неприятной; если же смотреть с точки зрения справедливости, то все выходит как раз наоборот.
Клиний.
Это очевидно.
Афинянин.
Какую из этих двух точек зрения признаем мы более значительной в смысле истинности суждения? Точку ли зрения худшей души или же лучшей?
d
Клиний.
Необходимо признать, что лучшей.
Афинянин.
Значит, необходимо признать и то, что несправедливая жизнь не только более позорна и скверна, но и поистине более неприятна, чем жизнь справедливая и благочестивая.
Клиний.
По крайней мере, мой друг, так вытекает из нашего рассуждения.
Афинянин.
Но если бы даже это было не так – а возможность этого показало наше нынешнее рассуждение, – то законодатель, хоть сколько‑нибудь полезный, дерзнул бы, как и в иных случаях, употребить ложь по отношению к молодым людям ради их же блага.
e
А разве смог бы он найти ложь более полезную, чем эта, для того чтобы заставить добровольно, а не по принуждению поступать во всем справедливо?
Клиний.
Истина прекрасна, чужеземец, и пребывает незыблемой, но убедить в ней, видимо, нелегко.
Афинянин.
Допустим. Однако оказалось легким делом заставить поверить сказке про сидонца, хотя она столь невероятна, да и тысяче других.
Клиний.
Какой сказке?
Афинянин.
О том, как из посеянных зубов родились вооруженные люди[1881]
. Для законодателя это великий пример, что можно убедить души молодых людей в чем угодно.
664
Поэтому ни о чем другом он так не должен заботиться, как о том, чтобы разыскать все то, уверенность в чем доставит государству величайшее благо. Законодатель должен найти всевозможные средства, чтобы узнать, каким образом можно заставить всех живущих совместно людей постоянно, всю свою жизнь выражать как можно более одинаковые взгляды относительна этих предметов как в песнях, так и в сказаниях и рассуждениях. Если вы придерживаетесь иного мнения, чем я, то ничто не препятствует подвергнуть обсуждению спорный вопрос.
b
Клиний.
Мне кажется, ни один из нас не может спорить с этими положениями.
Афинянин.
Следовательно, мое дело говорить о дальнейшем. Я утверждаю, что все три существующих хоровода[1882]
должны петь песни, очаровывающие молодые, еще нежные души детей. В этих песнях надо высказывать все то прекрасное, что мы изложили и еще, пожалуй, изложим. Но главным пусть будет следующее: наилучшая жизнь признается богами наиприятнейшей.
c
Высказывая это, мы выразим сущую правду и вместе с тем скорее убедим тех, кого надо, чем если бы мы выражали этот взгляд как‑то иначе.
Клиний.
Надо согласиться с твоими словами.
Афинянин.
Итак, вполне правильно было бы первым выступить детскому хороводу Муз, чтобы со всевозможным рвением перед всем государством открыто воспевать все нами сказанное. Второй хоровод будет состоять из людей, еще не достигших тридцати лет. Он будет призывать Пеана[1883]
в свидетели истинности своих слов, моля его быть милостивым к молодым и
d
помочь убедить их. В третьем хороводе будут петь люди от тридцати лет до шестидесяти. А кто старше этого возраста, кто уже не в силах петь, те пусть будут сказителями мифов об этих же нравственных правилах, основанных на божественном откровении.
Клиний.
О каком это третьем хороводе говоришь ты, чужеземец? Мы как‑то не слишком ясно представляем себе, что ты хочешь этим сказать.
Афинянин.
А между тем чуть ли не ради него и было изложено почти все предшествующее.
e
Клиний.
Мы все еще не понимаем. Попытайся объясниться.
Афинянин.
Как вы помните, мы сказали в начале нашего рассуждения, что природа всех молодых существ пламенна и потому не в состоянии сохранять спокойствия ни в теле, ни в голосе, а непрерывно и беспорядочно издает звуки и скачет. Кроме человека, ни одно из остальных живых существ не обладает чувством порядка в телодвижениях и звуках.
665
Порядок в движении носит название ритма, порядок в звуках, являющийся при смешении высоких и низких тонов, носит имя гармонии. То и другое вместе называется искусством хора. Затем мы сказали, что боги из сострадания дали нам в участники и предводители наших хороводов Аполлона и Муз; третьим же мы назвали, насколько помнится, Диониса.
Клиний.
Конечно, мы помним это.
b
Афинянин.
О хоре Аполлона и Муз уже было сказано. Теперь необходимо поговорить об оставшемся, третьем хоре – хоре Диониса.
Клиний.
Как? Расскажи об этом. Ведь тому, кто впервые слышит о дионисическом хоре старцев, это кажется очень странным. Неужели этот хор действительно будет состоять из людей, которым уже за тридцать, из тех, кому пятьдесят лет, вплоть до шестидесяти?
Афинянин.
Ты говоришь сущую правду. Действительно, это надо обосновать, чтобы показать, как это согласуется со здравым рассудком.
Клиний.
Как же иначе?
Афинянин.
Не правда ли, по крайней мере относительно предшествующего‑то мы согласны?
c
Клиний.
Относительно чего именно?
Афинянин.
Что каждый человек, взрослый или ребенок, свободный или раб, мужчина или женщина, – словом, все целиком государство должно беспрестанно петь для самого себя очаровывающие песни, в которых будет выражено все то, что мы разобрали. Они должны и так и этак постоянно видоизменять и разнообразить песни, чтобы поющие испытывали удовольствие и какую‑то ненасытную страсть к песнопениям[1884]
.
Клиний.
Можно ли не согласиться, что это должно быть именно так?
d
Афинянин.
При каких же условиях лучшая часть государства, внушающая наибольшее доверие ввиду своего возраста да и разумности, воспевая самое прекрасное, принесет всего больше блага? Неужели мы по неразумию пропустим самое замечательное из наипрекраснейших и наиполезнейших песен?
Клиний.
Из твоих слов вытекает, что пропустить это совершенно невозможно.
Афинянин.
Но как можно подобающим образом это осуществить? Посмотрите, не так ли?..
Клиний.
Как?
Афинянин.
Всякий человек, достигший преклонных лет, полон робости по отношению к песням.
e
Он уже не испытывает удовольствия, исполняя их; если же в том возникает нужда, то он стыдится тем больше, чем он старше и рассудительнее. Не правда ли?
Клиний.
Правда.
Афинянин.
Поэтому еще больше стал бы он стыдиться, если бы ему пришлось петь в театре, выступая перед пестрой толпой людей. Если бы слабые старики были принуждены петь натощак, как это делают натренированные хоры, состязающиеся из‑за победы, они делали бы это совершенно без удовольствия, напротив, со стыдом и неохотой.
666
Клиний.
Да, это неизбежно.
Афинянин.
Как же можем мы их уговорить петь охотно? Не правда ли, мы установим закон, чтобы дети до восемнадцати лет совершенно не вкушали вина; мы растолкуем, что не надо ни в теле, ни в душе к огню добавлять огонь, прежде чем человек не достигнет того возраста, когда можно приняться за труд. Должно остерегаться неистовства, свойственного молодым людям.
b
Более старшим, 30‑летним, можно уже вкушать вино, но умеренно, ибо молодой человек должен совершенно воздерживаться от пьянства и обильного употребления вина. Достигшие сорока лет могут пировать на сисситиях, призывая как остальных богов, так в особенности и Диониса на священные празднества и развлечения стариков. Ведь Дионис даровал людям вино как лекарство от угрюмой старости, и мы снова молодеем и забываем наше скверное настроение, жесткий наш нрав
c
смягчается, точно железо, положенное в огонь, и потому делается более гибким. Итак, прежде всего разве не с большой охотой пожелает всякий, испытывающий подобное состояние, петь и, как мы не раз уже говорили, зачаровывать окружающих? При этом он будет испытывать меньший стыд, находясь среди скромного числа слушателей, а не перед целой толпой, среди близких, а не среди чужих.
Клиний.
Конечно.
d
Афинянин.
Так что этот способ заставить стариков участвовать у нас в пении не так‑то уж несообразен.
Клиний.
Совсем нет.
Афинянин.
Но что будут петь эти люди? Какова будет их Муза? Впрочем, ясно, что это будет нечто приличествующее им самим.
Клиний.
Как же иначе?
Афинянин.
Но что подобает божественным людям? Не хороводные ли песни?
Клиний.
По крайней мере мы, чужеземец, да и лакедемоняне также вряд ли сможем исполнять какие‑либо иные песни, чем те, которым мы научились в хороводах и которые мы привыкли петь.
Афинянин.
Это естественно. В самом деле, ведь
e
вы не владеете лучшими песнопениями, ведь ваше государство – это военный лагерь, а не мирное городское жительство, и ваши юноши – точно жеребята, пасущиеся в общих стадах[1885]
. Никто из вас не держит при себе своего сына, не извлекает его, сильно одичавшего и раздраженного, из среды пасущихся вместе с ним, не приставляет к нему особого конюха, не воспитывает его, чистя скребницей и укрощая. Никто не предоставляет молодому человеку всего требуемого для воспитания,
667
чтобы он стал не только хорошим воином, но мог бы управлять государством и городами. А ведь такой человек, как мы вначале сказали, будет лучшим воином, нежели воины Тиртея, ибо он повсюду – и в частном обиходе, и в государственном – станет всегда почитать мужество четвертым, а не первым достоянием добродетели[1886]
.
Клиний.
Я не знаю, чужеземец, за что ты снова порицаешь наших законодателей.
Афинянин.
Дорогой мой, если я и делаю это, то совершенно ненамеренно. Впрочем, если хотите, давайте двигаться тем путем, которым нас ведет рассуждение. Если бы у нас была Муза более прекрасная, чем Муза хороводов и общественных театров,
b
мы попытались бы предоставить ее тем, кто, по нашим словам, стыдится этой Музы и разыскивает ту, что всех прекраснее, чтобы с нею общаться.
Клиний.
Конечно.
Афинянин.
Не правда ли, со всем тем, с чем связана какая‑нибудь приятность, дело обстоит так, что самое важное – это либо именно сама приятность, либо какая‑то правильность, либо, наконец, польза. Для примера укажу на ту приятность, которая связана с едой, питьем и всем вообще питанием и которую мы, пожалуй, назовем удовольствием.
c
Что же касается правильности и пользы, то признаваемое нами в каждом отдельном случае за здоровое и есть в этих случаях самое правильное.
Клиний.
Конечно.
Афинянин.
Точно так же и в учении присутствует связанное с приятностью удовольствие, а истина довершает правильность, пользу, благо и красоту.
Клиний.
Да, это так.
Афинянин.
Ну а изобразительные искусства? Если созданные ими произведения, схожие с подлинником,
d
доставляют вдобавок и удовольствие, то не следует ли с полным правом и это признать приятностью?
Клиний.
Да.
Афинянин.
Однако правильность в этих искусствах обусловлена прежде всего не удовольствием, но, говоря в целом, равенством воспроизведения и подлинника в отношении величины и качества.
Клиний.
Верно.
Афинянин.
Следовательно, удовольствие служит правильным мерилом только в таких вещах, которые хотя и не несут с собой пользы, истины и подобия, однако, с другой стороны, не доставляют и никакого вреда,
e
но творятся исключительно ради того, что в других случаях является лишь сопутствующим, то есть ради приятности, которую великолепно можно назвать удовольствием, если с ней не связаны вышеупомянутые свойства.
Клиний.
Ты говоришь лишь о безвредном удовольствии?
Афинянин.
Да, и называю это забавой тогда, когда оно не приносит ни вреда, ни пользы чему‑нибудь действительно существенному.
Клиний.
Ты сказал сущую правду.
Афинянин.
На основании только что сказанного уже нельзя утверждать, будто мерило подражания – это удовольствие или неистинное мнение. То же самое относится и ко всякому равенству.
668
Ведь равное является равным и соразмерное соразмерным не потому, что так нравится или по вкусу кому‑либо, но мерилом здесь выступает по преимуществу не что иное, как истина.
Клиний.
Совершенно верно.
Афинянин.
Не признаем ли мы всякое мусическое искусство изобразительным и подражательным?
Клиний.
Как же иначе?
Афинянин.
Значит, совершенно нельзя согласиться с тем, что мерило мусического искусства – удовольствие. Если где и существует такое мусическое искусство, то всего менее стоит его искать, точно это нечто важное.
b
Надо исследовать лишь тот род мусического искусства, который, воспроизводя прекрасное, обладает с ним сходством.
Клиний.
Ты вполне прав.
Афинянин.
Поэтому люди, ищущие самую прекрасную песнь, должны разыскивать, как кажется, не ту Музу, что приятна, но ту, которая правильна. А правильность подражания заключается, как мы сказали, в соблюдении величины и качества подлинника.
Клиний.
Это так.
Афинянин.
Что касается мусического искусства, то ведь всякий согласится, что все относящиеся к нему создания – это подражания и воспроизведения.
c
Неужели с этим не согласятся все поэты, слушатели и актеры?
Клиний.
Без сомнения, согласятся.
Афинянин.
Конечно, о каждом отдельном произведении надо, чтобы не впасть в ошибку, знать, чту оно собой представляет. Кто не знает его сущности, направленности и чему оно действительно подражает, тот едва ли распознает правильность или ошибочность его замысла.
Клиний.
Да, едва ли.
d
Афинянин.
Но человек, не знающий, чту правильно, будет ли в состоянии распознать, что хорошо и что дурно? Впрочем, я выражаюсь недостаточно ясно; быть может, так будет яснее…
Клиний.
Как?
Афинянин.
У нас есть тысячи воспроизведений, предназначенных для глаз.
Клиний.
Да.
Афинянин.
Далее. Если бы кто‑нибудь при этом не знал, чту именно служит предметом того или иного воспроизведения, разве мог бы он судить о правильности выполнения? Я разумею вот что: разве сможет он распознать, соблюдены ли при воспроизведении пропорции тела, а также, соответственно, его отдельных частей, столько ли их, сколько в действительности,
e
соблюден ли надлежащий порядок в их взаимном расположении, их окраска и облик, или же все это находится в беспорядке? Неужели можно думать, что все это распознает тот, кто совершенно не знаком с существом, служившим предметом подражания?
Клиний.
Нет, это невозможно.
Афинянин.
Но если бы мы знали, что нарисован или изваян человек, если бы художник уловил все его части и равным образом окраску и облик,
669
то неизбежно тот, кто знает подлинник, будет готов судить, прекрасно ли это произведение, или же в нем есть какие‑то недостатки с точки зрения красоты.
Клиний.
Да, чужеземец, потому что все мы, так сказать, знакомы с красотой живых существ.
Афинянин.
Ты совершенно прав. Значит, тот, кто хочет здраво судить о каждом изображении живописного, мусического или какого иного искусства, должен обладать следующими тремя вещами:
b
прежде всего знанием, чту именно изображено, затем – правильно ли это изображено и, в‑третьих, хорошо ли любое изображение исполнено в словах, напевах и ритмах.
Клиний.
По‑видимому, так.
Афинянин.
Однако не станем унывать при обсуждении трудных вопросов, связанных с мусическим искусством. Ведь именно потому, что мусическое искусство прославлено несравненно больше остальных видов изображения, здесь‑то более, чем во всех них, необходима особая осторожность. Кто здесь ошибется, тот нанесет себе огромный вред,
c
ибо он станет благоволить к дурным нравам; заметить же свою ошибку в высшей степени трудно, ибо поэты гораздо худшие творцы, чем сами Музы. Ведь Музы никогда не ошиблись бы настолько, чтобы словам мужчин придавать женскую окраску и напев и чтобы, с другой стороны, соединять размер и напев благородных людей с ритмами рабов и людей неблагородных и, начав с благородных ритмов и тонов, вдруг присоединить к ним напев или слово противоположного рода. Никогда Музы не смешали бы вместе голоса зверей, людей,
d
звуки орудий и всяческий шум с целью воспроизвести что‑либо единое. А люди‑поэты страшно спутывают и неразумно смешивают все это, так что непременно должны вызвать смех людей, по выражению Орфея, получивших в удел «возраст услад»[1887]
; эти‑то ведь видят, что все здесь спутано. Подобного рода поэты отделяют сверх того размер и ритм от напева,
e
перекладывая в стихи непоэтичную речь, а с другой стороны, они употребляют напев и ритм без слов, пользуясь отдельно взятой игрой на кифаре или на флейте. В таких случаях, когда ритм и гармония лишены слов, бывает очень трудно распознать их замысел и к какому из достойных внимания родов относится это подражание. Необходимо, впрочем, заметить, что, насколько подобного рода искусство пригодно для скорой, без запинки ходьбы и для изображения звериного крика,
670
настолько же оно, пользующееся игрой на флейте и на кифаре независимо от пляски и пения, исполнено немалой грубости. Без того и другого игра на флейте и на кифаре становится чем‑то в высшей степени безвкусным и достойным лишь фокусника.
Вот что я хотел сказать по этому поводу. Впрочем, наше внимание направлено не на то, чего не должны делать наши граждане, уже достигшие тридцати лет и переступившие за пятьдесят, но на то, чту они должны исполнять. Из сказанного раньше, мне кажется, вытекает следующее: те из пятидесятилетних граждан, которым подобает петь, должны быть лучше образованы в хорической Музе,
b
ибо им необходимо иметь тонкий вкус и сведения относительно ритмов и гармоний; иначе как мог бы кто‑нибудь распознать правильность напевов, – подходит ли в известном случае дорический лад[1888]
или нет, правильный ли или нет употребил поэт ритм?
Клиний.
Ясно, что иначе никак нельзя.
Афинянин.
Так что смешна толпа в своем мнении, будто она достаточно распознает, чту гармонично и ритмично и что нет, – по крайней мере таковы те из них, которые по принуждению научились подпевать и маршировать в такт.
c
Они не понимают, что делают это, не зная ничего о пении и ритме в отдельности. А ведь правилен тот напев, который связан с тем, что к нему подходит, и наоборот.
Клиний.
Это безусловно необходимо.
Афинянин.
Так что же? Тот, кто даже не знает, с чем связана песня, сможет ли, как мы сказали, распознать, насколько она правильна?
Клиний.
Это невозможно.
Афинянин.
Итак, думается, теперь мы открыли, что нынешним нашим певцам, которых мы приглашаем и стараемся каким‑либо образом заставить петь добровольно,
d
необходимо достигнуть такой степени обученности, чтобы каждый из них мог следовать за поступью ритма и за напевом струн. Наблюдая гармонии и ритмы, они могли бы таким образом выбирать подобающее, подходящее для пения людям их возраста и характера и петь именно это. При таком пении они и сами тотчас насладятся невинной усладой и станут руководить более молодыми людьми, возбуждая в них должную любовь к добрым нравам.
e
Достигнув такой степени обученности, они получат более утонченное образование, нежели то, которое получает большинство и даже сами поэты. Ведь поэту нет никакой надобности знать, прекрасно ли его подражание или нет, что составляет третье требование; но ему почти необходимо знать правила гармонии и ритма. Те же, кому предстоит избрать самое прекрасное и то, что к нему приближается, должны иметь в виду все эти три требования, ибо иначе они не смогут, зачаровывая, увлекать молодежь к добродетели.
671
Мы показали по мере сил то положение, которое выставили в начале нашей беседы, а именно что можно отлично защитить дионисийский хор. Посмотрим, удалось ли нам это. Подобное собрание по необходимости постоянно становится тем более шумным, чем больше пьют. Уже вначале мы предположили такую необходимость в случаях, о которых идет речь.
b
Клиний.
Да, это необходимо.
Афинянин.
Во время такого собрания всякий чувствует себя в приподнятом настроении; он весел, преисполнен словесной несдержанности, не слушает окружающих, воображает, что он в силах управлять самим собой и остальными людьми.
Клиний.
Да и как же иначе?
Афинянин.
Разве мы не сказали, что в этом случае души пьющих людей охватываются огнем и, точно раскаленное железо, становятся мягче, моложе, а вследствие этого и податливее в руках того, кто может и умеет воспитывать их и лепить, словно души молодых людей?
c
Таким лепщиком является то же самое лицо, что и раньше: это – хороший законодатель[1889]
. Он должен установить такие законы, касающиеся пиров, чтобы человек, окрыленный надеждами, ставший дерзким и позабывший стыд более чем дулжно, – до того, что он не желает соблюдать порядка и выжидать своей очереди говорить или молчать, пить или петь, – был вынужден поступать противоположным образом. Они должны
d
внушить ему справедливый страх, самое прекрасное средство против вселившейся в него совсем не прекрасной отваги – божественный страх, который мы зовем совестливостью и стыдом.
Клиний.
Да, это так.
Афинянин.
Стражами, содействующими этим законам, должны быть люди спокойные и трезвые; именно они должны быть начальниками над нетрезвыми. Без них воевать с опьянением страшнее, чем воевать с врагами, не имея невозмутимых военачальников. Кто не может заставить себя повиноваться этим законам и
c
переступившим за шестьдесят лет руководителям дионисийских обрядов, того пусть постигнет равный или даже больший стыд, чем человека, не повинующегося военачальникам Ареса[1890]
.
Клиний.
Правильно.
Афинянин.
Не правда ли, если бы опьянение и забавы были таковы, то пирующие получали бы от них пользу и расходились с них не врагами, как ныне,
672
но еще большими друзьями, чем были прежде. Если бы трезвые руководили нетрезвыми, все взаимное общение на пирах совершалось бы согласно законам.
Клиний.
Верно, если бы все было так, как ты сейчас сказал.
Афинянин.
Не станем же безусловно порицать дар Диониса и говорить, будто он плох или недостоин быть принят в государство. Можно было бы сказать даже больше, однако я не решаюсь указывать большинству на величайшее благо, даруемое вином, ведь эти люди так превратно воспринимают и разумеют слова.
b
Клиний.
О каком благе ты говоришь?
Афинянин.
Как‑то незаметно распространился взгляд и молва, будто у этого бога мачеха его, Гера, похитила душевное разумение, будто бы поэтому он из мести ввел вакхические празднества и всякие неистовые пляски и с этой‑то целью и даровал вино[1891]
. Я предоставляю это говорить тем, кто считает, что можно без опасения высказывать о богах подобные вещи. По крайней мере, насколько я знаю,
c
ни одно живое существо не рождается на свет, обладая всем тем умом, какой подобает ему иметь в зрелых летах. Пока это живое существо не приобрело еще свойственной ему разумности, оно неистовствует и кричит что‑то несвязное, а как встанет на ноги, начинает без толку скакать. Припомним же наше утверждение, что в этом‑то и кроется начало муси‑ческого и гимнастического искусств.
Клиний.
Как этого не помнить!
d
Афинянин.
Не правда ли, мы утверждаем, что это начало дало нам, людям, чувство ритма и гармонии и что из богов виновниками этого стали Аполлон, Музы и Дионис.
Клиний.
Как же иначе?
Афинянин.
Остальные люди, видимо, считают, что вино дано людям в наказание, чтобы мы впадали в неистовство. Мы же теперь, наоборот, утверждаем, что вино дано как лекарство для того, чтобы душа приобретала совестливость, а тело – здоровье и силу.
Клиний.
Ты верно напомнил, чужеземец, наше утверждение.
e
Афинянин.
Одну половину вопросов о хороводных плясках мы разобрали. Разобрать ли нам другую половину, чтобы выяснить, что мы думаем, или же оставить так?
Клиний.
О чем ты говоришь и как ты разделяешь хороводные пляски надвое?
Афинянин.
По‑нашему, все в целом искусство плясок и составляет совокупное воспитание. Одну его часть составляет то, что относится к звуку, то есть гармонии и ритмы.
Клиний.
Да.
Афинянин.
Другая же часть касается телодвижений, которые имеют нечто общее с движением звука: это ритм. Но они имеют свой собственный образ, поскольку движение звуков – это мелодия.
673
Клиний.
Совершенно верно.
Афинянин.
Действие звуков, воспитывающее и ведущее душу к добродетели, мы, уж не знаю, каким именно образом, назвали мусическим искусством.
Клиний.
И правильно назвали.
Афинянин.
Если же телодвижения, которые мы обозначили как пляску забавляющихся людей, ведут к усовершенствованию тела, то такое искусное руководство им мы назвали бы гимнастическим искусством.
Клиний.
Правильно.
b
Афинянин.
Я и сейчас повторяю, что теперь мы уже достаточно разобрали вопрос о мусическом искусстве, составляющем почти половину искусства хоров. Что же, будем ли мы говорить о другой ее половине? Как нам поступить?
Клиний.
Мусическое искусство нами разобрано, гимнастическое же еще нет. Между тем, дорогой мой, ведь ты ведешь беседу с критянами и спартанцами; что же, думаешь ты, каждый из нас ответит тебе на подобный вопрос?
с
Афинянин.
Я сказал бы, что этим своим вопросом ты, пожалуй, даешь мне ясный ответ. Но я понимаю, что твой вопрос – это не только ответ, но и поручение разобрать гимнастическое искусство.
Клиний.
Ты прекрасно заметил; так и поступи.
Афинянин.
Приходится. Впрочем, говорить о вопросе, знакомом вам обоим, не слишком трудно. Ведь вы гораздо более опытны в этом искусстве, чем в мусическом.
Клиний.
Пожалуй, ты прав.
Афинянин.
Не правда ли, начало и этого развлечения кроется в природной склонности каждого живого существа к скачущим движениям?
d
Человек же, получив, как мы сказали, чувство ритма, создал и породил пляску. Ритм пробуждает и вызывает в памяти напев. Их взаимное соединение породило хороводы как развлечение.
Клиний.
Совершенно верно.
Афинянин.
Одну часть, именно мусическую, мы уже разобрали. Попытаемся в дальнейшем разобрать другую часть, то есть гимнастическую.
Клиний.
Конечно.
e
Афинянин.
Однако, если вам угодно, сперва завершим обсуждение вопроса об опьянении как о средстве.
Клиний.
Что ты разумеешь?
Афинянин.
Если какое‑нибудь государство стало бы, согласно порядку, установленному законами, серьезно пользоваться упомянутым раньше обычаем, употребляя его как упражнение в рассудительности, если на том же основании оно не воздержалось бы и от остальных удовольствий, применяя их как средство для их же обуздания, то пользоваться всем этим такое государство должно было бы именно вышеуказанным образом. Если же оно смотрит на них только как на забаву и позволяет всякому желающему пить в любое время, с кем угодно и
674
в соединении с любыми другими обычаями, то я не подал бы своего голоса за то, что государство и отдельный человек должны именно так использовать опьянение. Но еще более, чем за критский и лакедемонский обычай, подал бы я свой голос за карфагенcкий закон[1892]
: во время похода никто из воинов не должен вкушать вина, но дулжно в течение всего этого времени пить на совместных трапезах одну только воду; в пределах государства ни рабыня, ни раб никогда не должны вкушать вина; ни правители в течение того года, когда они отправляют
b
свою должность; ни кормчие, ни судьи, стоящие у своего дела, совершенно не должны вкушать вина; ни один из тех, кто собирается участвовать в каком‑либо совещании, достойном внимания; совершенно нельзя пить никому днем – разве что для телесных упражнений или по причине болезни; ни мужчине, ни женщине нельзя пить и ночью, когда замышляется зачатие ребенка. Можно было бы перечислить еще целый ряд случаев, при которых люди, имеющие разум и правильный закон, не должны пить вина; так что по этому правилу ни одно
c
государство не будет нуждаться в большом числе виноградников. Все остальные виды земледелия и весь вообще образ жизни были бы упорядочены, виноделие же велось бы в самых скромных размерах. Этим‑то, чужеземцы, если вы согласны, хотел бы я увенчать нашу беседу о вине.
Клиний.
Отлично. Мы согласны.
Перевод А. Н. Егунова.
В кн.: Платон. Законы. М.: «Мысль», 1999
КHИГА III
676
Афинянин.
Все это так. Но что же, скажем мы, послужило началом государственного устройства? Не будет ли всего легче и лучше рассмотреть это вот с какой точки зрения…
Клиний.
С какой?
Афинянин.
С той же, с какой дулжно в каждом отдельном случае рассматривать постепенное уклонение государства то в сторону добродетели, то порока.
Клиний.
Что же именно ты разумеешь?
Афинянин.
Я разумею безграничную протяженность времени и протекших в нем перемен.
b
Клиний.
Как, как?
Афинянин.
Скажи, сможешь ли ты определить, сколько времени прошло с тех пор, как существуют государства и объединенные в государства люди?
Клиний.
Это совсем нелегко.
Афинянин.
Не была ли эта продолжительность огромной и неизмеримой?
Клиний.
И даже очень.
Афинянин.
Не правда ли, тысячи государств возникали в этот промежуток времени одно за другим и соответственно не меньшее количество их погибало.
c
К тому же они повсюду проходили через самые различные формы государственного устройства, то становясь бульшими из меньших, то меньшими из бульших или худшими из лучших и лучшими из худших[1893]
.
Клиний.
Это неизбежно.
Афинянин.
Не сможем ли мы вскрыть причину этих перемен? Быть может, тогда мы скорее получим указание относительно возникновения государственного устройства и происходящих в нем перемен.
Клиний.
Отлично, надо постараться сделать это. Ты разъясни свои мысли по этому поводу, а мы последуем за тобой.
677
Афинянин.
Считаем ли мы, что древние сказания содержат в известной мере истину?
Клиний.
Какие именно?
Афинянин.
Относительно частой гибели людей от потопов, болезней и многого другого; оставалась лишь незначительная часть человеческого рода.
Клиний.
Все это любому покажется весьма вероятным.
Афинянин.
Представим же себе один из множества случаев, именно гибель от потопа.
Клиний.
И что мы должны об этом думать?
b
Афинянин.
Что избежавшими тогда гибели оказались чуть ли не исключительно горные пастухи – слабые искры угасшего человеческого рода, сохранившиеся на вершинах.
Клиний.
Очевидно.
Афинянин.
Такие люди неизбежно будут несведущими в остальных искусствах, так же как и в городских взаимных уловках, направленных на удовлетворение своекорыстия и честолюбия, и в прочих кознях, измышляемых друг против друга людьми.
Клиний.
Это естественно.
c
Афинянин.
Допустим, что государства, расположенные на равнинах или у моря, совершенно погибли в то время.
Клиний.
Допустим.
Афинянин.
Следовательно, мы должны предположить, что пропали и все орудия, а также погибло и все относящееся к искусству государственного правления или к иной какой‑либо мудрости, которой с усилием удалось к тому времени достичь. Но, дорогой друг, если бы в течение всего времени все было устроено так, как теперь, как могло быть открыто что‑либо новое?
d
Клиний.
Новое было скрыто от тогдашних людей на многие тысячелетия. Лишь тысяча или две тысячи лет прошло с тех пор, как Дедалу открылось одно, Орфею – другое, Паламеду – третье, Марсию и Олимпу – все то, что относится к мусическому искусству, Амфиону – все о лире, и многое‑многое остальное – другим[1894]
. Все это возникло, так сказать, недавно, чуть ли не вчера.
Афинянин.
Великолепно, Клиний! Но ты пропустил друга, жившего действительно вчера.
Клиний.
Ты разумеешь Эпименида?
e
Афинянин.
Да, его. Ибо у вас, мой друг, он всех опередил в изобретательности; как вы утверждаете, он выполнил на деле то, о чем на словах некогда вещал Гесиод[1895]
.
Клиний.
Да, мы утверждаем это.
Афинянин.
Итак, когда случилось это опустошение, дела у людей складывались так: кругом была необозримая страшная пустыня, огромная масса земли; все животные погибли, лишь кое‑где случайно уцелели стада рогатого скота да племя коз. Эти стада и доставляли вначале пастухам скудные средства к жизни.
678
Клиний.
Несомненно.
Афинянин.
Можем ли мы считать, что тогда сохранилось хотя бы, так сказать, воспоминание о государстве, государственном устройстве и законодательстве, о чем у нас теперь и идет речь?
Клиний.
Никоим образом.
Афинянин.
Однако подобного рода условия повели к возникновению всего нынешнего: государств, государственных устройств, искусств, законов; возникла великая испорченность, но и великая добродетель.
Клиний.
То есть как?
b
Афинянин.
Друг мой, ведь тогдашние люди были незнакомы со многими благами, доставляемыми городами, а также и со многим таким, что этим благам противоположно. Можно ли считать этих людей совершенными в добродетели или в пороке?
Клиний.
Прекрасно сказано! Мы улавливаем твою мысль.
Афинянин.
Итак, с течением времени и с умножением человеческого рода все пришло в нынешнее состояние.
Клиний.
Совершенно верно.
Афинянин.
Но не сразу, а, как это и естественно, мало‑помалу, в течение очень долгого времени.
с
Клиний.
Так это и должно быть.
Афинянин.
Думаю, что слишком еще был свеж в памяти недавний страх, чтобы люди решились спуститься с возвышенности на равнину.
Клиний.
Конечно.
Афинянин.
Ввиду своей малочисленности они с удовольствием взирали друг на друга в те времена, а так как с исчезновением искусств пропали, если так можно сказать, чуть ли не все средства сноситься друг с другом по суше или по морю, то людям не очень‑то было возможно встречаться друг с другом.
d
Железо, медь и все руды слились воедино и скрылись под землей, так что стало очень трудно их извлекать; поэтому редко удавалось тогдашним людям срубить дерево. Если где на горах и находилось уцелевшее орудие, то оно из‑за частого употребления скоро изнашивалось, нового же взять было негде, пока снова не возродилось среди людей искусство добычи металла.
Клиний.
Каким же образом это произошло?
Афинянин.
Как ты думаешь, через сколько поколений это произошло?
e
Клиний.
Ясно, что поколений прошло очень много.
Афинянин.
Значит, столько же времени или даже долее не существовали тогда и те искусства, для которых нужно железо, медь и тому подобное.
Клиний.
Разумеется.
Афинянин.
И вот в те времена по многим причинам совершенно исчезли междоусобия и войны.
Клиний.
Каким образом?
Афинянин.
Прежде всего тогдашние люди любили друг друга и вследствие малочисленности относились друг к другу доброжелательно; пищу им также не
679
приходилось оспаривать друг у друга, ибо не было недостатка в пастбищах – разве что кое у кого вначале, – а этим‑то они в то время и жили по большей части. Не могло у них быть и недостатка в молоке и мясе; кроме того, они охотой добывали себе изрядную пищу. В изобилии имели они одежду, постель, жилища и утварь, как обожженную, так и простую; ибо ни одно из искусств, связанных с лепкой и плетением, не нуждается в железе. Оба этих искусства бог даровал людям,
b
чтобы человеческий род, когда ощутит недостаток в железе, все же мог продолжаться и преумножаться. Благодаря этому не было и особенно бедных, так что бедность не принуждала людей к вражде. С другой стороны, они не могли также стать богатыми, ведь в те времена у них не было ни золота, ни серебра. Самые благородные нравы, пожалуй, возникают в таком общежитии, где рядом не обитают богатство и бедность. Ведь там не будет места ни наглости, ни несправедливости, ни ревности, ни зависти.
c
По этой причине и благодаря так называемому простодушию люди обладали тогда достоинством: по простоте душевной они считали истинным все то и повиновались всему тому, что слышали о прекрасном и безобразном. Ибо никто из них не обладал той хитростью, которая в наши дни заставляет во всем подозревать ложь; они считали истиной все рассказываемое о богах и людях и сообразно этому жили. Потому‑то они и были вполне такими, как мы их сейчас изобразили.
d
Клиний.
Я согласен с тобой, да и Мегилл тоже.
Афинянин.
Итак, мы признаём, что много поколений прожило подобным образом. По сравнению с людьми, жившими до потопа, и нынешними они были менее сведущи и опытны в различных искусствах, в том числе и в военном, которое применяют теперь на суше и на море и даже внутри своего государства, причем называют это справедливостью или междоусобием; при
e
этом и на словах и на деле изобретаются всякие средства, чтобы причинить друг другу зло и несправедливость. А те люди были более цельными и мужественными, а вместе с тем и более рассудительными и вообще более справедливыми. Причину этого мы уже разобрали.
Клиний.
Ты прав.
Афинянин.
Пусть сказанное нами со всеми вытекающими отсюда следствиями будет иметь одну цель: мы должны понять, была ли нужда в законах у тогдашних людей и кто был их законодателем.
680
Клиний.
Отлично сказано.
Афинянин.
Не правда ли, те люди не нуждались в законодателях? Да этого обычно и не бывает в такие времена, ведь в тот отрезок круговращения у них еще не было письменности, но жили они, следуя обычаям и так называемым дедовским законам.
Клиний.
Вполне естественно.
Афинянин.
Однако и это есть уже некий вид государственного устройства.
Клиний.
Какой же?
b
Афинянин.
Мне кажется, все называют тогдашнее государственное устройство династией. Оно и до сих пор встречается во многих местах как у эллинов, так и у варваров. Гомер рассказывает, что именно так было в месте пребывания киклопов, говоря: Нет между ними ни сходбищ народных, ни общих советов;
В темных пещерах они иль на горных вершинах высоких
Вольно живут; над женой и детьми безотчетно там каждый
Властвует, зная себя одного, о других не заботясь[1896]
.
с
Клиний.
Прелестный, видно, это у вас поэт; кое‑какие и другие отрывки, очень изящные, изучали мы из него, правда немногочисленные, потому что мы, критяне, не очень‑то пользуемся чужеземными поэмами.
Мегилл.
А мы ими пользуемся, и нам кажется, Гомер превосходит других поэтов подобного рода, хотя он повсюду описывает не лакедемонскую, а скорее какую‑то ионийскую жизнь[1897]
.
d
Сейчас же он прекрасно подтвердил твои слова, изображая, согласно преданию, первоначальный быт киклопов диким.
Афинянин.
Да, он это подтверждает, и мы можем взять его в свидетели, что такие государственные устройства некогда существовали.
Клиний.
Отлично.
Афинянин.
Вследствие нужды, вызванной опустошением, люди разделились по родам с определенным местопребыванием для каждого, причем господствовал старейший, так как он получил эту власть от отца и матери;
e
за ним следовали остальные, составляя, точно птицы, одну стаю, и они находились под управлением законов наших дедов и наиболее справедливой из всех царской власти[1898]
.
Клиний.
Конечно.
Афинянин.
Постепенно все большее количество людей сходятся вместе, составляя бульшие по размеру сообщества. Прежде всего они обращаются к земледелию на склонах гор, сооружая каменные ограды наподобие стен для защиты от зверей и образуя одно общее большое жилище.
681
Клиний.
Очень вероятно, что все это было именно так.
Афинянин.
А это разве не будет вероятным…
Клиний.
Что именно?
Афинянин.
Что эти большие жилища увеличивались за счет первых, небольших. Каждое из меньших сообществ делилось на роды во главе со старейшиной и имело свои собственные обычаи, возникшие под влиянием раздельного жительства.
b
Благодаря различным родоначальникам и воспитателям они приучались к различным воззрениям на богов и на самих себя. От более порядочных воспитателей они перенимали бульшую упорядоченность, от мужественных – бульшую мужественность и точно таким же образом запечатлевали в своих детях и внуках усвоенные ими взгляды. Словом, они вошли в большее сообщество, имея каждый свои законы.
Клиний.
Не иначе.
c
Афинянин.
Неизбежно каждому нравились больше свои законы, чужие же – меньше.
Клиний.
Конечно.
Афинянин.
Так, по‑видимому, мы незаметно подошли к началу законодательства.
Клиний.
Совершенно верно.
Афинянин.
Вслед за этим сошедшиеся неизбежно должны были сообща избрать некоторых лиц из своей среды, чтобы те рассмотрели все узаконения, выбрали из них те, которые им больше понравятся, и, ясно их изложив, представили бы на общий совет предводителей и вожаков, игравших роль царей народов.
d
Сами они должны были получить наименование законодателей, назначить должностных лиц, а государственный строй изменить, введя вместо династий аристократический образ правления или какой‑либо род царской власти.
Клиний.
Это было бы последовательно.
Афинянин.
Я хочу указать теперь еще и на третью форму государственного устройства, в которой сливаются все виды и состояния государственных правлений и вместе с тем государств.
Клиний.
Какая это форма?
е
Афинянин.
Та, на которую вслед за второй указывает и Гомер, так описывая ее возникновение: Он основал Дарданию, когда Илион знаменитый
Не был еще на равнине в то время построен, и люди
Жили тогда на предгорьях богатой потоками Иды[1899]
, –
682
говорит он где‑то. Эти стихи, так же как и те, где говорится о киклопах, он изрек согласно богу и природе. Ибо поэты – это божественное и вдохновенно поющее племя; нередко под воздействием Харит и Муз они касаются и истинных происшествий.
Клиний.
Конечно.
Афинянин.
Проследим же дальше это подвернувшееся нам предание; быть может, оно даст некоторые указания и для нашей цели. Не правда ли, это стоит сделать?
b
Клиний.
И даже очень.
Афинянин.
Так вот, говорим мы, обитателями возвышенностей был основан Илион среди обширной прекрасной равнины, на невысоком холме, омываемом многими реками, стекающими с высот Иды.
Клиний.
Говорят, что так.
Афинянин.
Не правда ли, можно предполагать, что это произошло спустя много времени после потопа?
Клиний.
Конечно, спустя много времени.
c
Афинянин.
Потому что люди должны были полностью забыть о только что упомянутом опустошении, если, доверившись каким‑то не очень высоким холмам, они решились основать город, несмотря на угрозу многих стекающих с высот рек.
Клиний.
Ясно, что должно было пройти много времени после несчастья.
Афинянин.
Я думаю, тогда было заселено уже много других городов ввиду увеличения числа людей.
Клиний.
Разумеется.
Афинянин.
Они‑то и выступили в поход против Илиона, возможно даже и но морю, так как все уже безбоязненно им пользовались.
d
Клиний.
По‑видимому.
Афинянин.
Но разрушили Трою ахейцы после десятилетнего пребывания возле нее[1900]
.
Клиний.
Это так.
Афинянин.
В течение этого десятилетнего промежутка, пока шла осада Илиона, на родине каждого из осаждающих многое случилось из‑за смут, затеянных молодыми, которые неблагосклонно и не по‑справедливому приняли воинов, возвращавшихся в свои города и дома, так что произошло немало смертей, убийств и изгнаний[1901]
.
e
Но тогдашние изгнанники снова возвратились, переменив свое имя: вместо ахейцев они стали называться дорийцами, так как их собрал тогда Дорией[1902]
. Ну а обо всем том, что было после этого, вы, лакедемоняне, и сами рассказываете в своих преданиях.
Meгилл.
Как же иначе?
Афинянин.
Точно по внушению бога, мы возвращаемся опять к тому же, с чего начали наше собеседование о законах, хотя и отклонились в сторону, остановившись на мусическом искусстве и опьянении. Теперь наше рассуждение дает нам случай снова взяться за нашу тему. Ибо мы пришли опять к лакедемонским учреждениям, правильность которых вы утверждаете,
683
и к критским, родственным с ними в смысле законов. Вот какое преимущество дало нам то, что рассуждение наше отклонилось в сторону, когда мы рассматривали некоторые государственные устройства и учреждения: мы последовательно рассмотрели три государства, учреждение которых отстояло друг от друга, по‑нашему, на огромный промежуток времени. Данное же государство или, если угодно, племя представляется нам уже четвертым, некогда учрежденным и поныне сохраняющим свои установления.
b
Не сможем ли мы, Мегилл и Клиний, из всего этого заключить, чту учреждено хорошо, а чту нет? Какие законы хранят сохраняющееся и губят гибнущее? Какие изменения сделают государство счастливым? Об этом нам вновь нужно говорить как бы сначала, если только у нас нет возражений против того, что было сказано раньше.
c
Мегилл.
Если бы, чужеземец, некий бог обещал нам, что при вторичной попытке рассмотреть законодательство нам придется услышать рассуждения не хуже и не слабее только что высказанных, я лично пустился бы и в дальний путь, и этот нынешний день показался бы мне коротким, хотя теперь как раз стоит пора, когда бог поворачивает от лета к зиме.
Афинянин.
Видно, надо рассмотреть и этот вопрос.
Мегилл.
Без сомнения.
Афинянин.
Перенесемся же мысленно в те времена, когда Лакедемон, Аргос, Мессена и прилегающие
d
области очутились во власти ваших, Мегилл, предков; они решили после этого, как говорит предание, разделить вооруженный народ на три части и учредить три государства: Аргос, Мессену и Лакедемон.
Мегилл.
Совершенно верно.
Афинянин.
Темен стал царем Аргоса, Кресфонт – Мессены, царями же в Лакедемоне – Прокл и Еврисфен[1903]
.
Мегилл.
Да, так.
e
Афинянин.
И все их современники поклялись оказывать им помощь, если кто захочет упразднить их царскую власть.
Мегилл.
Да.
Афинянин.
Царская же, клянусь Зевсом, и вообще всякая власть разрушается разве не самими ее носителями? Или мы позабыли уже то, что установили попутно немного раньше?
Мегилл.
Как могли мы забыть?
Афинянин.
Теперь мы будем настаивать на этом с еще большей определенностью. Похоже, что встретившиеся нам обстоятельства привели нас к такому же
684
точно заключению, так что мы будем исследовать не какие‑то пустяки, но действительно бывшее и содержащее истину. Речь идет о следующем. В трех государствах установилась царская власть, и каждое из правительств клятвенно обещало своим городам соблюдать установленные общие законы относительно управления и подчинения: одна сторона клялась не усиливать власти с течением времени при ее переходе от поколения к поколению; другая сторона клялась, если указанные условия будут соблюдены правителями, самим не низвергать никогда царской власти и другим не способствовать в их попытках подобного рода.
b
Цари обещались помогать царям и народам, терпящим обиды, а народы – народам и царям. Не так ли?
Мегилл.
Да, так.
Афинянин.
Цари ли дали такие законы или кто другой, но это было величайшим установлением для сохранения государственного строя этих трех государств.
Мегилл.
Какое именно?
Афинянин.
То, что два государства всегда помогали друг другу против третьего в случае его неповиновения установленным законам.
Мегилл.
Это ясно.
c
Афинянин.
Однако большинство требует от законодателей, чтобы они устанавливали такие законы, которые были бы добровольно приняты большей частью народа. Это вроде того, как если бы требовали от учителей гимнастики и врачей только приятного упражнения и врачевания для поручаемого их попечению тела.
Мегилл.
Совершенно верно.
Афинянин.
Но нередко приходится довольствоваться и тем, что тело делают здоровым и крепким без особой боли.
Мегилл.
Конечно.
d
Афинянин.
Вот еще какое обстоятельство значительно облегчило тогдашним людям установление законов…
Мегилл.
Какое?
Афинянин.
Эти законодатели, устраивая для людей имущественное равенство, не имели дела с величайшим препятствием, которое встречается во многих других получающих законы государствах. Ведь, принимая во внимание, что невозможно установить достаточное равенство без передела земли и отмены долговых обязательств, законодатель пытается поколебать что‑либо из этого, и тогда все восстают против него,
e
утверждая, что нельзя колебать непоколебимое, и проклинают того, кто предлагает передел земли и отмену долгов, так что положение такого человека становится крайне затруднительным. У дорийцев же и здесь дело обстоит прекрасно и безупречно: земля поделена без споров и нет больших и давних долгов.
Мегилл.
Это правда.
Афинянин.
Почему же, мои дорогие, эти установления и законодательство имели у них такой дурной исход?
685
Мегилл.
Как? Что именно ты порицаешь?
Афинянин.
То, что из создавшихся трех больших сообществ два вскоре извратили свой строй и свои законы и лишь третье сохранило их, именно ваше государство.
Meгилл.
Ты задал нелегкий вопрос.
Афинянин.
Однако нам теперь надо рассмотреть его и исследовать, чтобы беспечально пройти весь путь, забавляясь разумной старческой забавой, касающейся законов, ведь мы так решили в начале пути.
b
Мегилл.
Что ж! Сделаем так, как ты говоришь.
Афинянин.
К какому же рассмотрению законов и лиц, их упорядочивших, могли бы мы обратиться скорее, чем к этому? И какие более славные и великие государства и установления могли бы мы исследовать?
Мегилл.
Нелегко назвать другие взамен этих.
Афинянин.
Почти наверняка тогдашние законодатели считали такое устройство, при котором оказывается взаимная помощь, пригодным не только для
c
Пелопоннеса, но и для всех эллинов в случае, если кто из варваров станет их притеснять, – например когда население Илиона, доверившись ассирийскому могуществу, значительному во времена Нина[1904]
, неосмотрительно вызвало Троянскую войну. А ведь сохранившееся тогда еще величие этой державы было немалым; подобно тому как мы теперь опасаемся Великого царя, так тогдашние люди боялись создания этого союза.
d
Вторичное же взятие Трои вызвало немало нареканий на греков, ибо она составляла часть ассирийской державы[1905]
. Учитывая все это, прекрасно, видимо, было придумано и упорядочено единое устройство того войска под властью братьев‑царей, сыновей Геракла[1906]
, которое было поделено между тремя государствами, гораздо лучше, чем устройство ополчения, пришедшего под Трою. Во‑первых, Гераклиды считались лучшими правителями, нежели Пелопиды[1907]
; затем и войско это
e
считалось превосходящим по добродетели то, что пришло под Трою, ибо, победив троянцев, ахейцы в свою очередь были превзойдены дорийцами[1908]
. Не правда ли, все было устроено тогдашними законодателями именно так и с такой целью?
Мегилл.
Конечно.
686
Афинянин.
Итак, естественно было им считать, что такое положение сохранится незыблемым на долгое время, так как они разделили выпавшие на их долю немалые труды и опасности, а находились они под властью единого рода братьев‑царей, да к тому же и вопросили много разных прорицателей, в том числе и Дельфийского Аполлона[1909]
.
Мегилл.
И это было естественно.
Афинянин.
Но все это ожидаемое величие, видно, быстро тогда рассеялось, за исключением, как мы теперь указали, небольшой части вашей области, которая
b
никогда не прекращает войны против остальных двух частей, даже и в наши дни. Между тем возникший тогда единый и согласованный образ мыслей создал бы мощь, непобедимую на войне.
Мегилл.
Не иначе.
Афинянин.
Как же, каким путем все это погибло? Разве не стоит рассмотреть, какая судьба погубила столь совершенный союз?
Мегилл.
Если этим пренебречь, то, рассматривая что‑либо другое, с трудом можно было бы понять, как
c
законы и государственный строй сохраняют величие прекрасных деяний или, наоборот, совсем его губят.
Афинянин.
Значит, как кажется, мы счастливо напали на предмет, достойный рассмотрения.
Мегилл.
Несомненно.
Афинянин.
Не правда ли, дорогой мой, видя возникновение чего‑то прекрасного, пригодного для создания удивительных вещей, все люди так же, как мы сейчас, забывают о том, хорошо ли сумеет кто‑либо
d
этим воспользоваться и как? Вот и мы теперь, пожалуй, рассуждали об этом неверно и несообразно с природой, так же как и все при таком подходе относительно любых других вещей.
Мегилл.
Скажи, в чем дело? И к чему относится это твое замечание?
Афинянин.
Друг мой, сейчас я сам себе смешон. Когда я обратил внимание на то войско, о котором у нас идет речь, оно показалось мне превосходным и чудесным эллинским достоянием, – если бы, повторяю, им тогда умело воспользовались.
e
Мегилл.
Но ведь ты говорил обо всем хорошо и разумно, и мы хвалили тебя.
Афинянин.
Может быть. По крайней мере я думаю, что при виде чего‑то великого, имеющего большую силу и мощь, у всякого тотчас же создается впечатление, что если бы обладатель этой великой силы умел ею пользоваться, то, совершая много чудесных дел, он непременно бы благоденствовал.
687
Мегилл.
Разве это не верно? Каков же твой взгляд?
Афинянин.
Посмотри, на что обращает внимание тот, кто правильно высказывает похвалу этого рода. Но сначала поговорим о том, о чем у нас шла теперь речь: если бы тогдашние устроители сумели надлежащим образом поставить войско, то как бы они этим воспользовались? Если бы они непоколебимо установили войско так, чтобы самим быть свободными, властвовать над кем угодно и вообще среди всех людей,
b
эллинов и варваров, совершать то, что было бы предметом вожделения и для них самих, и для их потомков, то они сохранили бы войско на вечные времена. Разве это не заслужило бы им похвалы?
Мегилл.
И даже очень.
Афинянин.
Так же точно при виде большого богатства и особых отличий знати, равно как и других подобных вещей, всякий обратит внимание на это и скажет то же самое, то есть что посредством этого можно достичь исполнения всех или по крайней мере большинства достойных упоминания желаний.
Мегилл.
Естественно.
с
Афинянин.
Скажи, нет ли у всех людей одного общего желания, к выяснению которого и стремится наше рассуждение, как само оно о том говорит?
Мегилл.
Какое же это желание?
Афинянин.
Чтобы все происходящее, а если не все, то хотя бы все человеческое, делалось по приказу нашей души.
Мегилл.
Хорошо бы!
Афинянин.
Так как все мы всегда желаем этого – и дети, и старики, то, не правда ли, мы неизбежно только об этом и молимся?
Мегилл.
Конечно.
d
Афинянин.
Для дорогих нам людей мы в наших молитвах просим того же, чего они просят сами себе.
Мегилл.
Да.
Афинянин.
Сын дорог отцу: он – ребенок, а тот – взрослый.
Мегилл.
Конечно.
Афинянин.
Однако многое из того, о чем молит для себя ребенок, отец просит богов отвратить, – чтобы это никогда не исполнилось по молитвам сына.
Мегилл.
Ты говоришь о молитвах неразумного юноши.
Афинянин.
Когда отец, будучи стариком или очень еще молодым и не имея понятия о том, что
прекрасно и чту справедливо, усердно молится,
e
а сам находится в состоянии, подобном тому, которое испытывал Тесей в отношении злополучно погибшего Ипполита, как ты думаешь, станет ли сын, зная это, молиться с ним заодно[1910]
?
Мегилл.
Я понимаю, о чем ты говоришь. Мне кажется, ты утверждаешь, что дулжно желать и стремиться не к тому, чтобы все следовало нашей воле, но скорее, чтобы воля следовала за нашим разумением, так что и государству, и каждому из нас дулжно молиться и хлопотать о том, чтобы обладать умом.
688
Афинянин.
Да, я помню и хочу напомнить вам, что законодатель, человек государственный, должен устанавливать распорядок законов, имея в виду всегда именно это. Вспомним, о чем мы говорили вначале: вашим требованием было, чтобы хороший законодатель устанавливал все свои узаконения ради войны. По‑моему, это значило бы устанавливать законы только ради одной добродетели, между тем как их четыре. Дулжно иметь в виду всю совокупность добродетелей,
b
в особенности же первую, руководящую добродетель, а именно разумность, ум и [верное] мнение вместе с любовью и желанием, следующими за ними. Так что наше рассуждение снова вернулось к тому же, и я снова повторяю то, что сказал тогда, – в шутку или серьезно, как хотите: я утверждаю, что для того, кто не обладает умом, опасно пользоваться молитвами и если уж ему следует молиться, то скорее о том, что противоположно его желаниям.
c
Однако, если угодно, примите мои слова всерьез. Я ожидаю, что вы, следуя за рассуждением, изложенным несколько раньше, найдете теперь, что причина гибели царей и всех их замыслов не трусость и отсутствие военных знаний у правителей и тех, кому надлежит подчиняться, но всевозможная порочность другого рода, в особенности же неведение величайших человеческих дел.
d
Что тогда это произошло именно так, да и теперь кое‑где случается и в последующее время будет происходить не иначе, я, если хотите, попробую показать по порядку и по мере сил разъяснить это вам как моим друзьям.
Клиний.
Чужеземец, было бы в высшей степени неуместно восхвалять тебя на словах; лучше пусть это покажут наши дела. Мы усердно будем следить за твоим рассуждением, ведь именно таким образом свободнорожденный человек всего более обнаруживает свое одобрение или порицание.
е
Мегилл.
Превосходно, Клиний. Мы поступим, как ты говоришь.
Клиний.
Да будет так, если угодно богу. Только бы ты продолжал.
Афинянин.
Итак, следуя дальнейшему ходу нашего рассуждения, мы теперь утверждаем, что ту власть погубило тогда величайшее неведение, так же как оно по своей природе совершает это и ныне. При таком положении дела законодателю надо постараться сколь возможно внедрить в государстве разумность, неразумие же как можно скорее изъять.
Клиний.
Очевидно.
689
Афинянин.
Какое же неведение может быть названо по справедливости величайшим? Посмотрите, согласны ли вы с тем, что я говорю. Я полагаю, что следующее…
Клиний.
Какое?
Афинянин.
Когда кто‑нибудь не любит, но ненавидит то, что ему кажется прекрасным и добрым, кажущееся же скверным, несправедливым любит и приветствует. Эту несогласованность страдания и удовольствия с разумным мнением я считаю крайним и величайшим неведением, так как оно принадлежит большей части души.
b
Часть души, испытывающая скорбь и удовольствие, это все равно что народное большинство в государстве. Когда душа противится знаниям, [правильным] мнениям или разуму, от природы предназначенным править, это я признаю неразумием, так же как и в государстве, когда большинство не повинуется правителям и законам. То же самое происходит и в каждом отдельном человеке, если имеющиеся в душе прекрасные понятия порождают лишь свою прямую противоположность.
c
Все это я счел бы самым порочным, неведением как для государства, так и для каждого отдельного гражданина, исключая разве только ремесленников. Улавливаете ли вы, чужеземцы, смысл моих слов?
Клиний.
Мы понимаем, друг мой, и согласны с тем, что ты говоришь.
Афинянин.
Так пусть же это будет у нас так постановлено и выражено: невежественным гражданам нельзя поручать ничего относящегося к власти; их дулжно поносить как невежд, даже если они и горазды рассуждать и наловчились во всевозможных душевных тонкостях и извивах.
a
Людей же противоположного склада должно называть мудрыми, даже если они, как говорят, ни читать, ни плавать не умеют[1911]
; как людям разумным, им надо поручать управление. В самом деле, друзья мои, без лада может ли родиться хоть какой‑то вид разумности? Это невозможно. Всего справедливее было бы назвать самой большой мудростью прекраснейшую и величайшую гармонию. Ей причастен тот, кто живет сообразно с разумом; а кто ее лишен, тот разрушитель своего дома и никогда не будет спасителем государства, но как невежда вечно все будет делать наоборот. Итак, пусть, согласно только что сказанному, это считается установленным.
e
Клиний.
Да будет так.
Афинянин.
Необходимо, чтобы в государствах были правители и подчиненные.
Клиний.
Разумеется.
690
Афинянин.
Прекрасно. Но на каких основаниях одни должны править, а другие подчиняться в больших государствах и малых семьях? Одно из таких оснований – отцовская и материнская влаcть, да и вообще правильно повсюду понимаемая родительская власть над потомством.
Клиний.
Конечно.
Афинянин.
Кроме того, благородные должны править неблагородными; и, в‑третьих, следовательно, старшие должны править, младшие подчиняться.
Клиний.
Да.
b
Афинянин.
В‑четвертых, рабы должны подчиняться, а их господа – править.
Клиний.
Как же иначе?
Афинянин.
В‑пятых, я думаю, должен править сильный, а слабый ему подчиняться.
Клиний.
Ты указал на необходимый вид власти.
Афинянин.
К тому же это самая распространенная и сообразная с природой власть для всех живых существ, как некогда сказал фиванец Пиндар[1912]
. Но главнейшим требованием является, по‑видимому, шестое, чтобы несведущий следовал за руководством
c
разумного и был под его властью[1913]
. Впрочем, о мудрейший Пиндар, по моему мнению, это, пожалуй, и не противоречит природе; я бы сказал, что природе соответствует не насильственная власть закона, но добровольное ему подчинение.
Клиний.
Совершенно верно.
Афинянин.
Седьмой вид власти можно назвать счастливым и угодным богам; мы установим его в зависимости от жребия: вынувший жребий должен править, не вынувший – отступиться и подчиняться. Мы признаём это в высшей степени справедливым.
Клиний.
Совершенно верно.
d
Афинянин.
«Видишь ли ты, законодатель, – шутя сказали бы мы тому, кто с легким сердцем приступает к установлению законов, – сколько есть обоснований власти, по природе своей противоречивых. Ныне мы открыли некий источник раздоров, о котором ты должен подумать. Прежде всего рассмотри вместе с нами, в чем и как погрешили против сказанного сейчас цари Аргоса и Мессены, погубившие, таким образом, и
e
самих себя, и великую в ту пору мощь эллинов. Ведь они знали в высшей степени верное изречение Гесиода, что часто половина больше целого[1914]
: например, когда захватить целое опасно, а половины вполне достаточно, то, думал он, достаточное больше чрезмерного, так как оно лучше его».
Клиний.
Совершенно правильно.
Афинянин.
Что же, по‑нашему, причина гибели в каждом отдельном случае коренилась прежде всего в царях или же в народе?
691
Клиний.
Вероятнее то, что бывает чаще: это болезнь царей, непомерно заносчивых по причине жизни в роскоши.
Афинянин.
Итак, очевидно, что прежде всего это постигло тогда царей. Они желали стоять выше установленных законов и не были согласны друг с другом в том, в чем поклялись и что на словах одобряли. Разногласие же, как мы утверждаем, – это величайшее невежество, хотя и кажется мудростью. Оно‑то и погубило все из‑за небрежности и дремучей необразованности.
Клиний.
По‑видимому.
b
Афинянин.
Отлично. Как же мог бы тогдашний законодатель уберечься от возникновения этого зла? Клянусь богами, теперь‑то не мудрено это знать и нетрудно высказать; но если бы кто предвидел это тогда, он был бы мудрее нас.
Мегилл.
Что ты разумеешь?
Афинянин.
Теперь это можно понять, если обратить внимание на то, что произошло у вас, Мегилл, а поняв, нетрудно сказать, что должно было тогда случиться.
Мегилл.
Скажи яснее.
Афинянин.
Всего яснее будет, пожалуй, сказать вот как…
Мегилл.
Как?
c
Афинянин.
Если, забыв меру, слишком малому придают что‑либо слишком большое: судам – паруса, телам – пищу, а душам – власть, то все идет вверх дном; исполнившись дерзости, одни впадают в болезни, другие – в несправедливость, это порождение высокомерия[1915]
. Но к чему мы клоним речь? Вот к чему: смертная душа, друзья мои, не может по своей природе, если она молода и безответственна, вынести величайшей среди людей власти;
d
разум ее преисполняется тяжелейшим недугом неразумия, и она начинает ненавидеть ближайших друзей, а это вскоре губит ее и уничтожает всю ее мощь. Только великие законодатели, познав соразмерное, могут этого остеречься. Теперь весьма легко догадаться, чту тогда случилось. По‑видимому, вот что…
Клиний.
Да?
Афинянин.
Некий бог, провидящий будущее[1916]
, заботился о вас. Он сделал более умеренной царскую власть, установив вместо одного двойной царский род.
e
Затем некая человеческая природа, соединившись с какой‑то божественной силой, поняла, что вашу власть все еще лихорадит, и соединила рассудительную мощь старости с гордой силой происхождения,
692
установив в важнейших делах равнозначность власти двадцати восьми старейшин и царской власти[1917]
. Третий же спаситель вашего государства, видя, что его все еще обуревают страсти, как бы узду набросил на него в виде власти эфоров, близкой к выборной власти[1918]
. Потому‑то у вас царская власть, возникнув из смеси надлежащих частей, была умеренной и, сохранившись сама, оказалась спасительной и для других.
b
Между тем при Темене, Кресфонте и тогдашних законодателях, кто бы они ни были, даже и удел Аристодема[1919]
не был бы сохранен, ибо они были недостаточно опытными в законодательстве: иначе они не сочли бы возможным с помощью клятв укрощать молодую душу, получившую такую власть, что из нее легко могла возникнуть тирания. Но бог указал, какой и раньше и теперь должна быть постоянно пребывающая власть.
c
Как я сказал раньше, ничего мудреного нет, если мы теперь это знаем, ведь нетрудно судить на примере прошлого. Но если бы тогда кто‑нибудь мог это предвидеть и был в состоянии сделать власть более умеренной и единой вместо тройственной, он спас бы все прекрасное, что тогда было придумано, и никогда не двинулось бы ни персидское, ни какое иное войско против Эллады и не отнеслось бы к нам презрительно, как к малодостойным людям.
Клиний.
Ты верно говоришь.
d
Афинянин.
Постыдно защищались от них эллины, Клиний. Не потому постыдно, что тогда не было одержано прекрасных побед в сухопутных и морских сражениях, но, полагаю, вот почему: во‑первых, из трех существовавших тогда государств лишь одно сражалось за Элладу, остальные же два настолько низко пали, что одно из них даже препятствовало Лакедемону защищаться,
e
ведя по мере сил с ним войну, другое же, а именно Аргос, первенствовавшее при тогдашнем разделе, не повиновалось призыву идти против варваров и не пошло[1920]
. Много можно было бы привести примеров из тогдашней войны, которые вовсе не свидетельствуют в пользу Эллады. Было бы даже неверно утверждать, что Эллада себя защитила.
693
Если бы афиняне и лакедемоняне, следуя общему замыслу, не отвратили надвигавшегося рабства, то почти смешались бы между собой все эллинские племена, а также варварские с эллинскими и эллинские с варварскими, подобно тому как эллины, находящиеся теперь под властью персов, живут скверно, в рассеянии: их то разъединяют, то объединяют.
Вот в чем, Клиний и Мегилл, можем мы упрекнуть тех давних так называемых государственных людей и законодателей, равно как и нынешних.
b
Вскрывая причины их неудач, мы станем отыскивать, что же надо делать вместо этого. Вот, например, то, что мы сейчас сказали: не надо устанавливать законами могущественные и несмешанные власти, принимая во внимание, что государство должно быть свободным, разумным и дружественным самому себе; законодатель должен давать законы, имея в виду именно это.
Не станем удивляться тому, что нередко, выдвинув какое‑либо положение, мы утверждаем, что его‑то и должен иметь в виду законодатель в своем законодательстве, между тем как у нас всякий раз, казалось бы,
c
выдвигаются различные положения; надо принять в расчет следующее: когда мы утверждаем, что дулжно иметь в виду рассудительность, или разумность, или дружбу, то ведь это не разные точки зрения, но все одна и та же. Поэтому не будем смущаться разнообразием подобных выражений.
Клиний.
Попытаемся поступить так, когда вернемся к нашему рассуждению. Поведай нам о дружбе, разумности и свободе, которые, по твоим словам, должны быть целью законодателя.
d
Афинянин.
Слушай же! Есть два как бы материнских вида государственного устройства, от которых, можно сказать по праву, родились остальные. Было бы правильно указать на монархию как на первый из них и на демократию как на второй. Монархия достигла высшего развития у персов, демократия – у нас. Почти все остальные виды государственного устройства, как я сказал, представляют собой пестрые соединения этих двух[1921]
. Чтобы существовала свобода и дружба в соединении с разумностью, неизбежно надо быть причастным и к тому и к другому виду.
e
Этого требует наше рассуждение, утверждающее, что государство, не причастное к ним, не может иметь хорошего строя.
Клиний.
Конечно.
Афинянин.
Персы более, чем было дулжно, полюбили монархическое начало, афиняне – свободу; вот почему ни у тех, ни у других нет умеренности. В лакедемонском и критском государственном устройстве больше меры; у афинян и у персов в старину тоже так было, теперь же в меньшей степени. Причины этого мы разобрали. Не так ли?
694
Клиний.
Вполне, если только завершим нашу задачу.
Афинянин.
Итак, внимание! Персы при Кире[1922]
держались середины между рабством и свободой и стали сначала свободными сами, а затем – господами над многими другими. Но, будучи правителями, они уделяли подчиненным долю в свободе и относились к ним как к равным, так что воины были в большой дружбе с военачальниками и охотно шли навстречу опасности.
b
Если кто из них был разумен и мог подать совет, царь не завидовал, но позволял быть откровенным и ценил тех, кто мог быть советчиком; он давал им возможность публично проявлять свою разумность, и потому в ту пору персам все удавалось благодаря свободе, дружбе и обмену мнениями.
Клиний.
По‑видимому, все было так, как ты говоришь.
c
Афинянин.
Почему же это погибло при Камбисе и снова почти возродилось при Дарий[1923]
? Хотите, прибегнем в наших рассуждениях к своего рода предвидению?
Клиний.
Да, это приведет наше рассмотрение к той цели, которую мы себе поставили.
Афинянин.
Итак, я догадываюсь относительно Кира, что в общем он был хорошим полководцем и любил свое государство, но совершенно не воспринял правильного воспитания и не проявил разума как домохозяин.
Клиний.
Можем ли мы это утверждать?
d
Афинянин.
Видно, он с юных лет и в продолжение всей своей жизни был в военных походах, воспитание же своих детей поручил женщинам. А те воспитали их в сознании, что они счастливы и блаженны от рождения и ни в чем более не нуждаются. Женщины никому не позволяли хоть в чем‑то противоречить этим детям как вполне счастливым, а также заставляли всех восхвалять их слова и поступки. Вот как они их воспитали.
Клиний.
Прекрасное рисуешь ты воспитание!
е
Афинянин.
Это женское воспитание – женщин царского двора, недавно разбогатевших, ибо в отсутствие мужчин – те заняты войной и многими опасными делами – именно эти женщины воспитывали детей.
Клиний.
Это понятно.
Афинянин.
Отец приобрел для них обширные стада крупного и мелкого скота, толпы рабов и много другого имущества.
695
Но он не знал, что те, кому он собирался передать все это, получают воспитание не на отечественный лад, ведь персы – пастухи, дети суровой страны, потому и воспитание их суровое, умеющее создать сильных и крепких пастухов, способных жить под открытым небом, обходиться без сна и в случае нужды нести военную службу. Между тем Кир просмотрел, что его сыновьям женщинами и евнухами было дано гибельное воспитание – в счастье, как принято говорить,
b
воспитание на индийский лад, из‑за чего они стали такими, какими и должны были стать воспитанные без наказаний. После смерти Кира власть перешла к его сыновьям, развращенным негой и безнаказанностью. Из них сперва один убил другого, не желая терпеть себе равного, а затем и сам, безумствуя от пьянства и невоспитанности, потерял свою власть из‑за мидян и известного тогда евнуха, который презирал Камбиса за его глупость.
c
Клиний.
Да, так рассказывают об этом, и, видно, все и было именно так.
Афинянин.
Говорят, что власть снова перешла к персам благодаря Дарию и Семи[1924]
.
Клиний.
Так что же?
Афинянин.
Рассмотрим это по порядку. Ведь Дарий не был сыном царя и не получил изнеженного воспитания. Встав у власти, которую он получил как один из Семи, он разделил государство на семь частей, от которых ныне осталось лишь одно воспоминание; затем он установил законы, введя некое всеобщее равенство;
d
он обусловил законом Кирову дань, которую тот обещал персам, и дружелюбно общался со всеми персами, привлекая персидский народ деньгами и подарками. Поэтому войска охотно добавили к его землям не меньше, чем оставил Кир. После Дария Ксеркс[1925]
был снова воспитан на царский, изнеженный лад. «Ах, Дарий, Дарий, – по праву, пожалуй, можно было бы сказать, – как это ты не понял беды Кира и воспитал Ксеркса
e
в тех же нравах, что Кир Камбиса!» Так как Ксеркс вырос в тех же условиях, что и Камбис, он и претерпел примерно то же самое. Приблизительно с этого времени у персов уже не было на самом деле Великого царя – разве что только по имени[1926]
. По‑моему, причина здесь не в судьбе, но в дурном образе жизни, какой ведут большей частью дети особо богатых людей и тиранов.
696
Под влиянием такого воспитания ни в коем случае нельзя отличиться в добродетели – ни в детстве, ни в зрелом возрасте, ни в старости. На это‑то, утверждаем мы, и должен обратить внимание законодатель, а также и мы теперь в нашей беседе. Надо отдать справедливость, лакедемоняне, вашему государству: вы ни частному лицу, ни царю, ни богатому, ни бедному не уделяете особых почестей и не создаете для них особых условий воспитания, кроме тех, которые возвестил вам изначально божественный законодатель от имени некоего божества.
b
Ибо в государстве не должно существовать чрезмерных почестей лишь за то, что такой‑то отличается богатством, быстротой, красотой либо силой, если все это не сопровождается какой‑либо добродетелью, и даже за добродетель, если при этом отсутствует рассудительность.
Мегилл.
Что ты имеешь в виду, чужеземец?
Афинянин.
Мужество не есть ли часть добродетели?
Мегилл.
Как же иначе?
Афинянин.
Так выслушай же мое слово и сам рассуди: хотел бы ты иметь в своем доме или соседом человека очень мужественного, но нерассудительного и разнузданного?
с
Мегилл.
Боже избави!
Афинянин.
Ну а мастера, мудрого в каком‑либо искусстве, но несправедливого?
Мегилл.
Никоим образом.
Афинянин.
Но ведь справедливость не встречается отдельно от рассудительности?
Мегилл.
Конечно, нет.
Афинянин.
И так же точно не лишен рассудительности описанный нами сейчас мудрый человек, чьи удовольствия и страдания согласуются с верными мнениями и вытекают из них?
Мегилл.
Да.
d
Афинянин.
Рассмотрим же еще следующее по поводу государственных почестей – правильно ли они каждый раз воздаются или нет…
Мегилл.
Что именно?
Афинянин.
Если рассудительность одиноко пребывает в душе, без всей остальной добродетели, то какой она будет по справедливости – ценной или наоборот?
Мегилл.
Не знаю, как и сказать.
Афинянин.
Это удачный ответ, ибо, что бы ты ни сказал, все, по‑моему, было бы невпопад.
Мегилл.
Значит, получилось все к лучшему.
e
Афинянин.
Отлично. Ведь то, добавление чего обусловливает ценность, достойно не слова, но скорее полного молчания.
Мегилл.
Мне кажется, ты говоришь именно о рассудительности.
Афинянин.
Да. Из остального самым правильным будет выше всего ценить то, что с этим добавлением приносит нам наибольшую пользу, а то, что приносит меньше пользы, ставить на втором месте, и так все по порядку займет подобающее ему место.
697
Мегилл.
Действительно, это так.
Афинянин.
Что же? Подобное распределение ценностей не входит разве в задачу законодателя?
Мегилл.
Вполне.
Афинянин.
Согласен ли ты предоставить ему такое распределение в каждом деле, даже в мелочах? Или, так как и мы – ревнители законов, не попытаться ли нам со своей стороны произвести троякое различение, выделив самое важное, а затем – стоящее на втором и на третьем месте?
Мегилл.
Конечно.
b
Афинянин.
Итак, мы утверждаем, что государство, желающее себя сохранить и по мере человеческих сил быть счастливым, должно по необходимости правильно оценивать честь и бесчестье. Но самое ценное по праву – это блага, относящиеся прежде всего к душе, если в ней есть рассудительность, затем прекрасные качества тела и, в‑третьих, так называемые блага, относящиеся к имуществу и достатку. Если какой‑нибудь законодатель или какое‑то государство выйдут за эти пределы,
c
оценив наиболее высоко достаток или поместив в смысле ценности низшее перед высшим, они совершат дело и негосударственное, и нечестивое. Согласны мы с этим или нет?
Мегилл.
Конечно, согласны!
Афинянин.
Несколько дольше распространиться об этом заставило нас рассмотрение персидского государственного устройства. Мы видим, что оно с каждым годом становится хуже. Причина же заключается в том, что персы чрезмерно урезали свободу народа и дали более, чем следует, развернуться деспотическому началу, так что в их государстве погибли дружба и общность.
d
А без них совет правителей, совещаясь, имеет в виду не благо подданных и народа, но лишь свою собственную власть. Если они находят хотя бы малейшую выгоду для себя, они разрушают города, сжигают и опустошают даже дружественные племена, сея повсюду беспощадную ненависть; поэтому‑то их все и ненавидят. Когда случается надобность, чтобы народ сражался за них, они не встречают в нем никакой готовности подвергаться вместе с ними опасностям и сражаться за них, так что все их неисчислимые полчища оказываются непригодными для войны. И вот, точно у них недостаток людей, нанимают они наемников и думают найти спасение при помощи чужеземцев.
698
К тому же они поневоле обнаруживают свое неведение, показывая своими поступками, что все считающееся ценным и прекрасным в государстве – всегда пустяк в сравнении с золотом и серебром.
Мегилл.
Совершенно верно.
Афинянин.
Этим можно заключить наше доказательство, что у персов теперь все устроено неправильно из‑за жестокого рабства и деспотизма[1927]
.
Meгилл.
Безусловно.
Афинянин.
Теперь после этого нам нужно точно так же разобрать аттическое государственное устройство,
b
чтобы показать, что полная свобода и независимость от всякой власти гораздо хуже умеренного подчинения другим людям. Во времена персидского нашествия на эллинов и чуть ли не на все племена, живущие в Европе, у нас еще существовал древний государственный строй, где правительственные должности основывались на имущественном цензе четырех классов[1928]
. Владычицей у нас была некая совестливость, благодаря которой мы охотно жили в подчинении тогдашним законам. К тому же величина персидского войска и флота нагнала на нас безысходный страх;
c
мы еще больше подчинялись властям и законам, и благодаря этому среди нас воцарилась большая взаимная дружба. Ибо почти за десять лет до Саламинской битвы прибыло персидское войско во главе с Датисом[1929]
, которого Дарий послал прямо против афинян и эретрийцев, чтобы их поработить, причем угрожал ему смертью, если он это не выполнит. Датис при помощи
d
многочисленного войска в короткое время совершенно завладел Эретрией[1930]
, а в наше государство пустил страшную весть, будто ни один эретриец от него не ушел, так как его солдаты, взявшись за руки, прочесали всю Эретрию. Это известие – верное или нет, – откуда бы оно ни исходило, поразило остальных эллинов, в том числе и афинян. Они разослали во все стороны гонцов,
e
но никто не хотел оказать им помощи, кроме лакедемонян. Помешала ли им тогдашняя их война с Мессеной или что другое – этого мы не знаем, – но они пришли на день позже Марафонской битвы[1931]
. После этого то и дело приходили известия о больших приготовлениях и бесчисленных угрозах со стороны царя; однако через некоторое время стало известно, что Дарий умер, власть же перешла к его молодому горячему сыну, который вовсе и не думал прекратить наступление.
699
Афиняне полагали, что все это готовится именно против них – из‑за Марафонской битвы. Узнав, что уже подкапывают Афон, а через Геллеспонт наводят мост[1932]
, и услышав о множестве судов, они решили, что им нет спасения ни на суше, ни на море и что никто им не поможет, ведь они помнили, что во время первого нашествия и эретрийских событий им никто не помог и не пожелал рискнуть стать их союзником.
b
То же самое, полагали они, постигнет их и на суше; в то же время и на море было очень трудно спастись, ибо там находилось более тысячи судов[1933]
. Оставался один‑единственный лишь выход, слабый и почти безнадежный: оглянувшись на предшествовавшие события, они заметили, что сражались и тогда при обстоятельствах, казавшихся очень трудными, однако победили. Опираясь на эту надежду, они обрели прибежище только в самих себе и в богах.
c
Все это и господствовавший тогда страх, возникший под влиянием прежних законов и заставлявший им подчиняться, внушили им взаимную дружбу. В предшествовавших рассуждениях мы нередко называли этот страх совестливостью. Мы утверждаем, что ей должны служить те, кто намерен быть порядочным человеком. Лишь презренные трусы свободны от этого страха. Кого не охватил бы тогда этот ужас, тот не собрался бы с духом и не дал бы отпора, не защитил бы святынь, могил, родины, своих домашних и друзей, не пришел бы им на помощь,
d
но все мы были бы рассеяны поодиночке и разбросаны по миру.
Мегилл.
Чужеземец, ты говоришь все правильно и достойно самого себя и своей родины.
Афинянин.
Так обстоит дело, Мегилл. Перед тобой можно по праву излагать события того времени, так как ты одной породы с твоими предками. Посмотри же вместе с Клинием, имеет ли то, о чем мы говорили, какое‑то отношение к законодательству. Ибо я распространяюсь об этом не для того, чтобы только говорить, но ради предмета нашего рассуждения.
e
Ведь вы видите, каким‑то образом мы, афиняне, оказались в том же положении, что и персы, хотя те ведут народ к всевозможному порабощению, мы же, наоборот, направляем людей к всевозможной свободе. Какой же отсюда вывод? Ведь наши прежние рассуждения в известном смысле были прекрасны.
700
Мегилл.
Хорошо сказано, но попытайся еще лучше разъяснить нам свои слова.
Афинянин.
Пусть будет так. Друзья мои, когда были в силе наши древние законы, народ ни над чем не владычествовал, но в некотором смысле добровольно им подчинялся.
Мегилл.
О каких законах ты говоришь?
Афинянин.
Прежде всего о тогдашних законах относительно мусического искусства, если уж разбирать с самого начала чрезмерный расцвет свободной жизни. Тогда у нас мусическое искусство различалось по его видам и формам.
b
Один вид песнопений составляли молитвы к богам, называемые гимнами; противоположность им составлял другой вид песнопений – их по большей части называют френами; затем шли пэаны и, наконец, дифирамб, уже своим названием намекающий, как я думаю, на рождение Диониса[1934]
. Как некий особый вид песнопений дифирамбы называли «номами», а точнее – «кифародическими номами»[1935]
. После того как это и кое‑что
c
другое было установлено, не дозволено стало злоупотреблять обращением одного вида песен в другой. Распознать же их суть, а вместе с тем найти их знатока, а найдя, наказать неповинующегося – это не было делом свистков и нестройных криков толпы, как теперь; и не рукоплесканиями воздавали хвалу, но было постановлено, чтобы те, кто занимается воспитанием, выслушивали их в молчании до конца; дети же, их руководители и большинство народа вразумлялись при помощи указующего жезла.
d
При таком порядке большинство граждан охотно повиновалось и не осмеливалось высказывать шумом свое суждение. Впоследствии, с течением времени, зачинщиками невежественных беззаконий стали поэты, одаренные по природе, но не сведущие в том, чту справедливо и законно в области Муз. В вакхическом исступлении, более должного одержимые наслаждением, смешивали они френы с гимнами, пэаны с дифирамбами, на кифарах подражали флейтам,
e
все перемешивая между собой; невольно, по неразумию, они извратили мусическое искусство, словно оно не содержало никакой правильности и словно мерилом в нем служит только наслаждение, испытываемое тем, кто получает удовольствие, независимо от того, плох он или хорош[1936]
. Сочиняя такие творения и излагая подобные учения, они внушили большинству беззаконное отношение к мусическому искусству и дерзкое самомнение, заставлявшее их считать себя достойными судьями.
701
Поэтому‑то театры, прежде спокойные, стали оглашаться шумом, точно зрители понимали, чту прекрасно в музах, а что нет; и вместо господства лучших в театрах воцарилась какая‑то непристойная власть зрителей. Если бы при этом здесь возникло только господство благородных людей из народа, еще не было бы чрезмерной беды. Но теперь с мусического искусства началось у нас всеобщее мудрствование и беззаконие, а за этим последовала свобода. Все стали бесстрашными знатоками, бесстрашие же породило бесстыдство.
b
Ибо это дерзость – не страшиться мнения лучшего человека, и, пожалуй, худшее бесстыдство – следствие чересчур далеко зашедшей свободы.
Мегилл.
Совершенно верно.
Афинянин.
За этой свободой последовало нежелание подчиняться правителям, затем стали избегать подчинения отцу с матерью[1937]
, всем старшим и их вразумлениям, а в конце концов появилось стремление не слушаться и законов.
c
Достигнув этого предела, уже не обращают внимания на клятвы, договоры и даже на богов; здесь проявляется так называемая древняя титаническая природа; в своем подражании титанам[1938]
люди вновь возвращаются к прежнему состоянию и ведут тяжелую жизнь, преисполненную бедствий. Однако ради чего это нами сказано? Мне кажется, наше рассуждение нужно иной раз осаживать, точно коня, иначе нас понесет необузданность речи.
d
Нам надо, по пословице, не ронять с осла нашей поклажи[1939]
. Вот почему я и задаю вопрос: ради чего это сказано?
Мегилл.
Отлично.
Афинянин.
Это сказано вот ради чего…
Мегилл.
А именно?
Афинянин.
Мы утверждали, что законодатель должен иметь в виду троякую цель: чтобы устрояемое государство было свободным, внутренне дружелюбным и обладало разумом. Так было сказано, не правда ли?
Мегилл.
Совершенно верно.
e
Афинянин.
Ради этого мы выбрали, с одной стороны, самый деспотический, а с другой – самый свободный государственный строй. Посмотрим же теперь, какой из них более правильный. Если ввести и там и тут некоторую умеренность, в одном из них ограничить власть, а в другом свободу, тогда, как мы видели, в них наступит особое благополучие; если же довести рабство или свободу до крайнего предела, то получится вред и в первом, и во втором случае.
702
Мегилл.
Ты говоришь сущую правду.
Афинянин.
Ради этого мы рассмотрели устройство дорийского войска, поселения Дардана на предгорьях, приморские поселения, а также поселения первых людей, оставшихся после потопа; к тому же самому клонились прежние наши рассуждения о мусическом искусстве, об опьянении и все, что было сказано до того. А сказано все это ради рассмотрения вопроса о том, как лучше всего устроить государство и каким образом частному
b
человеку лучше всего прожить свою жизнь. Можем ли мы себе доказать, Мегилл и Клиний, что мы поступили дельно?
Клиний.
Мне кажется, чужеземец, у меня есть такое доказательство. Все рассуждения, что мы вели, возникли у нас, видимо, кстати. Ведь мне они сейчас совершенно необходимы, и я удачно встретил тебя и Мегилла.
c
Не скрою от вас обоих то, что со мной случилось, ибо нашу встречу я считаю счастливым предзнаменованием. Бульшая часть Крита задумала основать колонию и поручила кносийцам заботу об этом; Кнос же передал это дело мне и девяти другим лицам. Мы уполномочены устанавливать законы – здешние, если некоторые из них нам нравятся, и чужеземные, не обращая никакого внимания на их чуждое происхождение, если они окажутся лучше.
d
Доставим же себе это удовольствие: сделав отбор из того, что было сказано, построим, беседуя, государство, устрояя его как бы с самого начала. Мы будем рассматривать занимающий нас вопрос, а вместе с тем возможно, что и я воспользуюсь этим построением для будущего государства.
Афинянин.
Клиний, это совсем не звучит как объявление войны[1940]
! Если только Мегилл не против, я готов предоставить в твое распоряжение все, что у меня есть: и силы, и разумение.
Клиний.
Отлично.
Мегилл.
Я также предоставляю все, что у меня есть.
Клиний.
Прекрасно сказали вы оба! Однако попробуем сначала словесно устроить наше государство.
Перевод А. Н. Егунова.
В кн.: Платон. Законы. М.: «Мысль», 1999
КHИГА IV
704
Афинянин.
Ну а каким же надо представлять себе это будущее государство? Я спрашиваю не о наименовании – нынешнем или будущем, ведь имя оно получит скорее всего от способа своего основания или от места, от реки, от источника либо от богов той местности, где оно будет основано, ведь вновь возникающее государство приобщится к их славе. Задавая свой вопрос, я хотел бы узнать, будет оно приморским или нет.
b
Клиний.
То государство, о котором у нас сейчас шла речь, чужеземец, будет отстоять от моря примерно на восемьдесят стадий[1941]
.
Афинянин.
Что же, будут у него там гавани или оно совершенно будет их лишено?
Клиний.
Да, чужеземец, там будут самые прекрасные гавани, какие только бывают.
c
Афинянин.
Ах, что ты говоришь?! А окружающая местность? Производит ли она все необходимое? Или чего‑то недостает?
Клиний.
Пожалуй, там нет ни в чем недостатка.
Афинянин.
Будет ли там по соседству какое‑либо государство?
Клиний.
Нет, потому‑то и основывается поселение. Вследствие давнего выселения, происшедшего здесь, местность эта с незапамятных времен осталась пустынной.
Афинянин.
Далее. Какая достанется здесь нам доля равнин, гор и леса?
Клиний.
Местность эта по своей природе похожа на всю остальную часть Крита.
d
Афинянин.
Значит, ты назвал бы ее скорее гористой, чем равнинной?
Клиний.
Именно так.
Афинянин.
Следовательно, это государство может исцелиться и обрести добродетель. Ведь если бы оно было приморским, с прекрасными гаванями и в то же время не производило всего необходимого, но испытывало бы во многом недостаток, то при такой природе ему понадобились бы великий спаситель и божественные законодатели, чтобы воспрепятствовать развитию всевозможных дурных наклонностей. Однако восемьдесят стадий служат некоторым утешением.
705
Правда, оно расположено к морю ближе, чем должно, поскольку, по твоим словам, у него есть прекрасные гавани, однако удовольствуемся хоть этим.
Близость моря хотя и дарует каждый день усладу, но на деле это горчайшее соседство. Море наполняет страну стремлением нажиться с помощью крупной и мелкой торговли, вселяет в души лицемерные и лживые привычки, и граждане становятся недоверчивыми и враждебными как друг по отношению к другу, так и к остальным людям[1942]
. Утешением в таких случаях служит то, что страна производит все необходимое, а раз эта местность гориста,
b
то, очевидно, она производит немного, но зато все, что нужно. Иначе, обладая большим вывозом, она снова наполнилась бы в обмен на него серебряной и золотой монетой. А для государства, если взять вопрос в целом, нет, так сказать, большего зла, чем это, когда речь идет о приобретении благородных и справедливых нравов: сколько помнится, именно так мы сказали раньше в нашей беседе.
Клиний.
Мы помним это и согласны, что и тогда и теперь мы были правы.
с
Афинянин.
Дальше. Как обстоит в нашей местности с корабельным лесом?
Клиний.
Там нет ни елей, ни сосен, о которых стоило бы говорить. Кипарисов тоже немного, пихт и платанов мало совсем. А ведь они всякий раз нужны кораблестроителям для внутренних частей судов.
Афинянин.
И в этом отношении природа местности неплоха.
Клиний.
Как так?
Афинянин.
Хорошо, когда государству нелегко подражать своим врагам в дурном.
d
Клиний.
Что из сказанного раньше ты имеешь при этом в виду?
Афинянин.
Друг мой. следи за мной, помня о том, что в самом начале было сказано о критских законах: ведь они, как вы оба сказали, имеют в виду только одно – войну; я же, возражая, ответил: прекрасно, если подобные узаконения имеют в виду добродетель, но нельзя согласиться с тем, что они имеют в виду лишь часть добродетели, а не всю добродетель в целом. Так
e
вот, следите теперь за мной и за предстоящим законодательством – установлю ли я хоть один закон, который не имел бы отношения к добродетели или к какой‑то ее части. Я полагаю, что лишь тот надлежащим образом устанавливает закон, кто, подобно стрелку, всякий раз метит в одну цель – ту, которая непрестанно влечет за
706
собой нечто прекрасное, и оставляет в стороне все прочее – богатство и тому подобные вещи, если это не сопряжено с добродетелями, о которых мы говорили раньше. Я сказал, что дурное подражание врагам возникает в том случае, если какой‑либо народ живет у моря и его тревожат враги, примером может служить (я говорю это не из злопамятства против вас) Минос, некогда принудивший жителей Аттики платить тяжкую дань[1943]
.
b
Он располагал большой морской мощью[1944]
, у них же в стране не было ни военных судов, как теперь, ни корабельного леса, из которого было бы легко построить флот. Поэтому они не смогли, подражая корабельщикам Миноса, сами стать моряками и отразить тогда же врагов. Еще много раз довелось им терять по семь мальчиков,
c
прежде чем стали они из стойких пеших бойцов моряками и приучились делать частые высадки с судов, а затем бегом быстро возвращаться опять на суда; прежде чем возомнили, будто нет ничего постыдного в недостатке стойкой отваги и готовности умереть при натиске врага; прежде чем стали пользоваться весьма сподручными и правдоподобными предлогами при потере оружия и обращении в «почетное», как они выражаются, отступление[1945]
. Ведь подобные выражения, излюбленные на морской службе, вовсе не достойны бесчисленных похвал, какие им нередко воздают:
d
напротив, никогда не следует прививать дурные привычки, тем более лучшей части граждан. А что подобные привычки нехороши, можно усвоить и из Гомера. Ведь Одиссей порицает у него Агамемнона, который приказал стащить корабли в море, когда ахейцев стали теснить троянцы. Одиссей обращается к нему с сердитой речью:
e
Ты предлагаешь теперь же, во время войны и сраженья,
В море спустить корабли, чтоб еще совершилось полнее
Все по желанию тех, кто и так торжествует над нами!
Гибель над нами нависнет вернейшая. Кто из ахейцев
Выдержит бой, если в море спускать корабли вы начнете?
Будут все время они озираться и битву покинут.
Вред лишь советы твои принесут, повелитель народа![1946]
707
Значит, и Гомер также признавал дурным, когда на море, невдалеке от сражающихся гоплитов, стоят триеры. С такими привычками даже львы научились бы бегать от ланей. Кроме того, в государствах, обязанных своими силами флоту, почести достаются вовсе не лучшему из воинов: ведь там, где победа зависит от кормчих, пентеконтархов[1947]
и гребцов,
b
то есть от людей различных и не слишком дельных, вряд ли кто‑нибудь сможет надлежащим образом распределить почести. А если государство этого лишено, может ли быть правильным его строй?
Клиний.
Пожалуй, это невозможно. Однако, чужеземец, мы, критяне, считаем, что морская битва эллинов варварами при Саламине спасла Элладу[1948]
.
с
Афинянин.
Да, так считает большинство эллинов и варваров. Но мы – я и вот Мегилл – думаем, мой друг, что спасению Эллады положила начало сухопутная битва при Марафоне, а завершением его была битва при Платеях[1949]
. Именно эти битвы сделали эллинов лучшими, а те – нет: я имею в виду обе морские битвы – при Саламине и при Артемисии[1950]
; таким образом, я охватываю все битвы, способствовавшие тогда нашему спасению.
d
Однако сейчас мы и природу местности, и строй законов обсуждаем с точки зрения наилучшего государственного устройства, ибо мы считаем самым ценным для людей не спасение во имя существования, как это считает большинство, но достижение совершенства и сохранение его на всем протяжении своей жизни. Впрочем, мне кажется, мы уже об этом сказали раньше.
Клиний.
Конечно!
Афинянин.
Итак, рассмотрим еще только вот что: является ли тот путь, на который мы вступили, наилучшим для основания государств и для законодательства? Клиний. Да, несомненно, он наилучший.
e
Афинянин.
Далее, скажи, какой народ сделаете вы поселенцами? Сможет ли быть поселенцем всякий желающий с Крита, если в том или ином городе народа станет больше, чем может прокормить земля? Ведь вы не всякого из эллинов к себе принимаете, хотя я и вижу в вашей стране переселенцев из Аргоса, Эгины и других мест Эллады. Скажи же нам, откуда вы навербуете граждан?
708
Клиний.
Со всего Крита, конечно, а из остальных эллинов предпочтение, как мне кажется, будет отдано поселенцам из Пелопоннеса. Ведь, как ты верно заметил, здесь, на Крите, есть выходцы из Аргоса, да и наиболее известное здешнее племя, гортинское, образовано выходцами из пелопонесской Гортины.
b
Афинянин.
Основание государств происходит не так легко, если оно не совершается наподобие отроений пчел; хорошо, когда единое племя выселяется из одной какой‑то страны, если она тесна, причем друзья отделяются от друзей, или когда какие‑нибудь другие подобные обстоятельства вынуждают этот род выселиться. Бывает, однако, что междоусобия заставляют какую‑то малую часть граждан переселиться в другое место, а иногда и все граждане какого‑нибудь государства бывают вынуждены бежать, наголову разбитые на войне.
c
В одних из этих случаев легче основать поселение и дать ему законы, в других труднее. Единство племени, языка, законов, общность жертвоприношений и других подобных обычаев способствуют дружбе, однако в этом случае нелегко принимаются чужие законы и иное, чем на родине, государственное устройство. Иногда из‑за плохих законов и стремления по привычке держаться тех же обычаев, которые привели племя к гибели, происходят даже восстания; это причиняет немало затруднений основателю поселения и законодателю,
d
вселяет к нему недоверие. С другой стороны, когда разноплеменные поселенцы стекаются воедино, они, быть может, более расположены повиноваться новым законам, но трудно создать среди них единодушие – так, чтобы по пословице, относящейся к лошадям, вся упряжка шла на едином дыхании, это требует долгого времени. Во всяком случае ничто так не способствует людской добродетели, как законодательство и основание государств.
Клиний.
Возможно. Разъясни нам, что ты имеешь в виду, говоря это?
e
Афинянин.
Друг мой, возвращаясь к рассмотрению законодателей, я должен буду, вероятно, указать и на кое‑что нехорошее. Но это не беда, лишь было бы кстати. Что же именно мне не нравится? Ведь так, по‑видимому, обстоит со всеми человеческими делами,
Клиний.
Что ты имеешь в виду?
709
Афинянин.
Я хотел сказать, что никогда никто из людей не дает никаких законов, но все законы даются нам случайностями и разными выпавшими на нашу долю несчастьями. Либо какая‑нибудь война насильно перевертывает весь государственный строй и изменяет законы, либо бедствие тяжкой нужды. Да и болезни – если нападет мор – вынуждают делать много нововведений, так что иной раз надолго, на много лет, водворяется безвременье. Усмотрев все это, всякий поспешит сказать, как я, что ни один смертный не дает никаких законов, но все человеческое зависит от судьбы и случая.
b
Это утверждение кажется верным в приложении к мореплаванию, кораблевождению, медицине, военному делу, однако оно прекрасно применимо и в настоящем случае.
Клиний.
Какое именно утверждение?
Афинянин.
Что бог управляет всем, а вместе с богом судьба и благовремение правят всеми человеческими делами[1951]
. Впрочем, не будем так строги:
c
есть и нечто третье, следующее за ними, – искусство. В самом деле: своевременное применение искусства кормчего в случае бури дает, по‑моему, большие преимущества. Не так ли?
Клиний.
Да, так.
Афинянин.
То же самое действительно и для других дел, особенно же для законодательства. Чтобы государство благополучно существовало, оно постоянно нуждается кроме удачного сочетания местных условий еще и в законодателе, придерживающемся истины.
Клиний.
Сущая правда.
d
Афинянин.
Итак, тот, кто обладает каким‑либо из упомянутых искусств, правильно стал бы молить о таком стечении обстоятельств, при котором испытывалась бы нужда в искусстве?
Клиний.
Конечно.
Афинянин.
Значит, все упомянутые сейчас люди, если предложить им высказать свое желание, высказали бы именно это? Не правда ли?
Клиний.
Как же иначе?
Афинянин.
И законодатель, думаю я, поступил бы так же?
Клиний.
По крайней мере я так считаю.
e
Афинянин.
«Скажи же, законодатель, – обратимся мы к нему, – какое и находящееся в каком состоянии государство надо тебе дать, чтобы, приняв его, ты смог во всем остальном устроить его сам?»
Клиний.
Какого ответа, по справедливости, можно на это ждать?
Афинянин.
Не ответить ли нам от его имени?
Клиний.
Да.
Афинянин.
Так вот его ответ: «Дайте мне государство с тираническим строем. Пусть тиран будет молод, памятлив, способен к учению, мужествен и от природы великодушен; пусть, кроме того, душа этого тирана обладает теми свойствами, которые, как мы сказали раньше, сопровождают каждую из частей добродетели. Только тогда от остальных его свойств будет польза».
710
Клиний.
Мне кажется, Мегилл, наш гость говорит о рассудительности как о спутнице добродетели. Не так ли?
Афинянин.
Да, Клиний, о рассудительности, и притом в общепринятом смысле слова, а не о той, которую иные торжественно принуждают быть разумением. Нет, рассудительность с самого начала врождена даже животным и детям и сказывается в том, что одни из них могут, а другие не могут воздерживаться от удовольствий.
b
Если эту рассудительность брать отдельно от многого того, что называется благом, то о ней не стуит и говорить. Ведь вы понимаете, что я имею в виду?
Клиний.
Да, конечно.
Афинянин.
Так пусть у нас тиран обладает и этим природным свойством в придачу к прочим, если только государство должно возможно скорее и лучше получить такое устройство, при котором оно станет самым счастливым. Ведь нет и не будет более удачного положения вещей для скорейшего и наилучшего устроения государства.
c
Клиний.
Но как, чужеземец, и на каком основании тот, кто высказывает подобные взгляды, мог бы убедиться в своей правоте?
Афинянин.
Легко заметить, Клиний, что, согласно природе, дело обстоит именно так.
Клиний.
Что ты разумеешь? Если бы был, говоришь ты, тиран – молодой, рассудительный, способный к учению, памятливый, мужественный, великодушный…
Афинянин.
Прибавь: удачливый[1952]
, но лишь в том, что во время его владычества появится славный законодатель и некая судьба их сведет воедино.
d
Если это произойдет, то богом будет совершено почти все, что он делает, когда хочет, чтобы какое‑нибудь государство особенно преуспело. На втором месте мы поставим появление двух таких правителей, на третьем – трех; словом, трудностей будет тем больше, чем бульшим будет число правителей, и наоборот.
Клиний.
Оказывается, ты утверждаешь, что наилучшее государство может возникнуть из тирании – благодаря выдающемуся законодателю и рассудительному тирану и что подобный переход там всего быстрее и легче;
e
возникновение же наилучшего государства из олигархии стоит у тебя на втором месте, из демократии – на третьем. Так ведь?
Афинянин.
Вовсе нет. На первое место я ставлю возникновение государства из тирании, на второе – из царской власти, на третье – из какого‑либо вида демократии, на четвертое – из олигархии. В самом деле, из нее труднее всего возникнуть совершенному государству, ибо при ней больше всего властителей. Мы же говорим, что возникновение наилучшего государства произойдет лишь тогда, когда явится, истинный по природе законодатель и когда мощь его будет действовать сообща с самыми сильными в государстве лицами.
711
А поскольку, чем меньшее число лиц стоит у власти, тем она крепче, как, например, при тирании, то именно в этом случае всего быстрее и легче совершается переход[1953]
.
Клиний.
Но каким образом? Мы все‑таки не понимаем.
Афинянин.
Между тем об этом было сказано у нас не один раз. Но может быть, вы и не видели государства с тираническим строем?
Клиний.
Я не слишком большой охотник до подобного зрелища!
b
Афинянин.
Но ты увидел бы тогда то, о чем у нас сейчас идет речь.
Клиний.
А что именно?
Афинянин.
Если тиран захочет изменить нравы государства, ему не потребуется особых усилий и слишком долгого времени. Хочет ли он приучить своих граждан к добродетельным обычаям или, наоборот, к порочным, ему стоит только самому вступить на избранный им путь. Собственное его поведение будет служить
c
предписанием, так как одни поступки будут вызывать с его стороны похвалу и почет, другие – порицание; ослушника же он будет покрывать бесчестьем за всякий его поступок.
Клиний.
Но можем ли мы предположить, что остальные граждане поспешат пойти за тем, у кого есть власть не только убеждать, но и принуждать?
Афинянин.
Друзья мои, не давайте никому себя убедить, будто государство может легче и скорее изменить свои законы другим каким‑то путем, чем под руководством властителей; нигде этого не случится ни теперь, ни впредь. Однако не в этом немыслимость и сложность осуществления.
d
Трудность здесь иного рода, и она редко, на протяжении веков, бывает устранена; зато уж если удастся ее устранить, государство, где это случилось, пользуется бесчисленными и даже всеми благами.
Клиний.
О чем ты говоришь?
Афинянин.
Это бывает, когда божественная любовь к рассудительным и справедливым нравам зарождается в лицах, облеченных высшей властью, – потому ли, что они монархи, или потому, что выделяются своим богатством и знатностью, –
e
когда кто‑нибудь из них возрождает в себе природные свойства Нестора[1954]
, превосходившего всех людей не только силой слова, но еще больше своей рассудительностью. Так было, по преданию, во времена Трои; в наше же время этого вовсе не бывает. Но если подобный человек родился, родится или теперь среди нас существует, то жизнь его блаженна и блаженны люди, внимающие словам, исходящим из рассудительных уст. То же самое можно сказать и о всякой власти вообще:
712
если у человека величайшая власть соединяется с разумением и рассудительностью, возникают наилучший государственный строй и наилучшие законы – иного не дано. Пусть это будет у нас неким священным словом, точно бы возвещенным оракулом; пусть считается доказанным, что хоть и трудно, с одной стороны, стать государству благоустроенным, с другой стороны, если бы случилось то, о чем мы сказали, нет ничего быстрее и легче.
Клиний.
Как так?
b
Афинянин.
Давайте мы, старики, попробуем, точно дети, создать на словах законы, подходящие твоему государству.
Клиний.
Давайте, немедля.
Афинянин.
Призовем бога в помощь устроению нашего государства! Пусть услышит он нас и снизойдет к нам милостиво и благосклонно, чтобы совместно с нами упорядочить наше государство и его законы!
Клиний.
Пусть снизойдет!
Афинянин.
Итак, какого рода государственный строй установим мы мысленно в нашем государстве?
c
Клиний.
Разъясни, будь добр, нам свой замысел. Говоришь ли ты о демократии, олигархии, аристократии или о царской власти? Ведь не о тирании же в самом деле станешь ты говорить!
Афинянин.
Ну так пусть тот из вас, кто хочет первым ответить на мой вопрос, укажет, какое государственное устройство у него на родине.
Мегилл.
Не мне ли как старшему справедливее отвечать первым?
d
Клиний.
Пожалуй.
Мегилл.
Чужеземец, размышляя о государственном устройстве Лакедемона, я не могу так вот сразу указать, к какому роду его следует причислить. Оно похоже даже на тиранию, так как власть эфоров в нем удивительно напоминает тираническую. А иной раз мне кажется, что моя родина похожа на самое демократическое из всех государств. В свою очередь было бы во всех отношениях странным не признать в ней аристократию.
e
Впрочем, есть у нас и пожизненная царская власть, признаваемая как нами самими, так и всеми другими людьми самой старинной. Так что на этот твой внезапный вопрос я, повторяю, не могу дать точного определения государственного строя моей родины[1955]
.
Клиний.
Оказывается, Мегилл, в таком же положении и я, ведь я в большом затруднении, к какому виду можно с уверенностью причислить государственный строй Кноса.
Афинянин.
Это потому, дорогие мои друзья, что у вас действительно есть государственное устройство; те же виды, которые мы только что назвали, – это не государства,
713
а попросту сожительства граждан, где одна их часть владычествует, а другая рабски повинуется. Каждое такое сожительство получает наименование по господствующей в нем власти. Если бы и наше государство надо было наименовать таким образом, то дулжно было бы назвать его по имени бога – истинного владыки разумных людей.
Клиний.
Какой же это бог[1956]
?
Афинянин.
Не надо ли снова отчасти воспользоваться мифом, чтобы дать складный и ясный ответ на этот вопрос[1957]
?
Клиний.
Да, надо это сделать.
b
Афинянин.
И даже очень. Говорят, что гораздо раньше тех государственных образований, которые мы разобрали выше, существовало, при Кроносе, в высшей степени счастливое правление и общество, которому подражает лучшее нынешнее государственное устройство.
Клиний.
По‑видимому, очень стоит об этом послушать.
Афинянин.
По крайней мере мне так кажется, поэтому‑то я и обратил на это особое внимание.
Клиний.
Ты поступил очень правильно и сделаешь еще лучше, если расскажешь миф до конца – раз уж он нам подходит.
c
Афинянин.
Я должен исполнить ваше желание. До нас дошло предание о блаженной жизни тогдашних людей, о том, как им все в изобилии и само собой доставалось. Причина этому была, говорят, вот какая: Кронос знал, что никакая человеческая природа – мы говорили об этом – не в состоянии неограниченно править человеческими делами без того, чтобы не преисполниться заносчивости и несправедливости; сознавая все это, Кронос поставил тогда царями и правителями наших государств не людей, но даймонов – существ более божественной и лучшей природы.
d
Мы в наше время поступаем так со стадами овец и других домашних животных, ведь мы не ставим быков начальниками над быками и коз – над козами, но сами, принадлежа к лучшему, чем они, роду, над ними властвуем. Точно так же и бог, будучи человеколюбив, поставил тогда над нами лучший род, род даймонов. Сами они с необычайной легкостью, не затрудняя людей, заботились о них и доставляли им
e
мир, совестливость, благоустроенность и изобилие справедливости, что делало человеческие племена свободными от раздоров и счастливыми[1958]
. Это сказание, согласное с истиной, утверждает и ныне, что государства, где правит не бог, а смертный, не могут избегнуть зол и трудов. А подразумевается здесь, что мы должны всеми средствами подражать той жизни, которая, как говорят, была при Кроносе; мы должны, насколько позволяет присущая нам доля бессмертия, убежденно следовать этой жизни как в общественных, так и в частных делах – в устроении наших государств и домов, – именуя законом эти определения разума[1959]
.
714
Если же какой‑то отдельный человек, олигархическая власть или демократия, обладая душой, стремящейся к удовлетворению вожделений, требуют этого удовлетворения, в то же время ничего не могут сберечь и одержимы нескончаемым, ненасытным недугом, и при этом все они, поправ законы, станут управлять государством или каким‑либо частным лицом, – тогда, как мы только что сказали, нет средств к спасению.
b
Вот нам и надо, Клиний, рассмотреть это сказание: прислушаемся ли мы к нему или поступим как‑то иначе?
Клиний.
Необходимо к нему прислушаться.
Афинянин.
Ты, конечно, заметил, что иные люди утверждают, будто существует столько же видов законов, сколько есть видов государственного устройства[1960]
. Сколько видов государственного устройства насчитывает большинство людей, это мы недавно разобрали. Не думай, будто это наше разногласие с мнением большинства незначительно; наоборот, оно очень важно, ибо мы снова разошлись во мнениях относительно того, что надо подразумевать под справедливостью и несправедливостью. Законы, по мнению иных людей, не должны
c
иметь в виду ни войну, ни всю добродетель в целом; люди полагают, что законы должны иметь целью пользу уже установившегося правления, так, чтобы оно оставалось навеки и не было никогда нарушено. Такое определение справедливости они считают наиболее согласным с природой.
Клиний.
Какое определение?
Афинянин.
Гласящее, что справедливость есть польза сильнейшего[1961]
.
Клиний.
Скажи яснее.
Афинянин.
Вот в чем дело: они утверждают, что те, кто одержал верх в государстве, и устанавливают там всегда законы. Не так ли?
Клиний.
Ты прав.
d
Афинянин.
«Не думаете ли вы, – говорят они, – что одержавший победу тиран, народ или другое какое‑нибудь правление добровольно установят законы, имеющие в виду что‑то иное, кроме их собственной пользы, то есть закрепления за собой власти?»
Клиний.
Как может быть иначе?
Афинянин.
Значит, тот, кто устанавливает законы, назовет эти законы справедливыми, а нарушившего их станет наказывать как преступника.
Клиний.
Это очевидно.
Афинянин.
Стало быть, так и всегда обстоит дело со справедливостью.
Клиний.
По крайней мере так вытекает из сказанного.
e
Афинянин.
А это и есть одна из тех основ власти.
Клиний.
Каких?
Афинянин.
Тех, о которых мы упомянули, когда разбирали, кому надлежит кем править. Выяснилось, что родители должны править детьми, старшие – младшими, благородные – неблагородными. Помнится, было там немало и других утверждений, причем многие из них противоречили другим. В том числе говорилось там и об этом, и мы сказали, что Пиндар,
715
ссылаясь на природу, оправдывает величайшее насилие[1962]
, так по крайней мере он говорит.
Клиний.
Да, именно это было тогда указано.
Афинянин.
Смотри же, кому нам следует вручить наше государство. Ведь в некоторых государствах многократно случалось вот что…
Клиний.
О чем ты говоришь?
Афинянин.
Так как в государствах этих происходила борьба за власть, то победители присваивали исключительно себе все государственные дела – настолько, что побежденным, как самим, так и их потомкам, не давали ни малейшей доли в управлении. Всю жизнь они были настороже друг против друга,
b
ибо боялись, что кто‑то восстанет, захватит власть и припомнит им тогда прошлые их злодеяния. А ведь подобное положение вещей, как мы теперь утверждаем, не есть государственное устройство: неправильны те законы, что установлены не ради общего блага всего государства в целом. Мы признаем, что там, где законы установлены в интересах нескольких человек, речь идет не о государственном устройстве, а только о внутренних распрях и то, что считается там справедливостью, носит вотще это имя. Мы говорим так потому, что ведь в твоем государстве мы будем предоставлять государственные должности не тем, кто богат, силен, велик ростом,
c
знатен или обладает другим каким‑либо из подобных качеств, но тем, кто будет всего более послушен установленным законам и этим одержит победу в государстве. Такому человеку, утверждаем мы, надо первому предоставить верховное служение богам[1963]
; второе по важности служение – тому, кто был вторым, и так далее, распределяя места по тому же признаку. Не ради нового словца назвал я сейчас правителей служителями законов,
d
я действительно убежден, что спасение государства зависит от этого больше, чем от чего‑то иного. В противном случае государство гибнет. Я вижу близкую гибель того государства, где закон не имеет силы и находится под чьей‑либо властью. Там же, где закон – владыка над правителями, а они – его рабы, я усматриваю спасение государства и все блага, какие только могут даровать государствам боги.
Клиний.
Клянусь Зевсом, чужеземец, ты дальновиден, как это и бывает в твоем возрасте!
e
Афинянин.
Когда человек молод, он очень плохо различает подобные вещи, в старости же, наоборот, очень отчетливо[1964]
.
Клиний.
Сущая правда.
Афинянин.
Что же дальше? Не предположить ли нам, что наши переселенцы уже пришли и стоят перед нами и дальнейшая наша речь должна быть обращена уже к ним?
Клиний.
Конечно.
Афинянин.
«Поселенцы, – скажем мы им, – бог, согласно древнему сказанию, держит начало, конец и середину всего сущего[1965]
.
716
Прямым путем приводит он все в исполнение, вечно вращаясь при этом[1966]
, согласно природе. За ним всегда следует правосудие, мстящее тем, кто отступает от божественного закона[1967]
. Кто хочет быть счастлив, должен держаться этого закона и следовать ему смиренно и в строгом порядке. Если же кто, по надменности, кичится богатством, почестями, телесным благообразием или, по молодости и неразумию, распаляет свою душу заносчивостью и начинает считать, что ему не нужен ни правитель, ни руководитель, но он сам годится в руководители другим,
b
то такой будет покинут богом. Покинутый таким образом, он вместе с другими себе подобными мечется, все вокруг сокрушая. Многим он кажется человеком значительным, но в скором времени ему приходится дать должное удовлетворение правосудию; он до основания губит себя самого, свой дом и государство. Вот как обстоит дело. Как же должен здесь поступать и мыслить разумный человек и от чего он должен воздерживаться?»
Клиний.
Во всяком случае вот что ясно: всякий человек должен мыслить себя одним из спутников бога.
с
Афинянин.
«Какой же образ действий любезен и соответствует богу? Только один, согласно одному старинному изречению: подобное любезно подобному, если оно сохраняет меру; несоразмерные же вещи не любезны как друг другу, так и вещам соразмерным[1968]
. Пусть у нас мерой всех вещей будет главным образом бог, гораздо более, чем какой‑либо человек, вопреки утверждению некоторых. Поэтому, кто хочет стать любезным богу, непременно должен, насколько возможно, ему уподобиться.
d
В силу этого, кто из нас рассудителен, тот и любезен богу, ибо подобен ему, а кто нерассудителен, тот ему не подобен и, наоборот, отличен от него и несправедлив. То же самое положение сохраняется и в остальном. Выведем же отсюда правило, на мой взгляд прекраснейшее и вернейшее из всех: для хорошего человека в высшей степени прекрасно, хорошо и полезно во имя счастливой жизни совершать жертвоприношения богам, общаться с ними путем молитв, приношений и всякого иного служения, ему это особенно подобает.
e
Для человека дурного все по самой природе обстоит наоборот, ибо душа такого человека нечиста, хороший же человек чист, а принимать дары от человека запятнанного не дулжно ни доброму человеку, ни богу.
717
Поэтому служение богам со стороны людей нечестивых тщетно, со стороны же благочестивых – очень уместно. Вот та цель, в которую мы должны метить. Но что будет нашими стрелами и в каком направлении их надо метать, чтобы вернее всего попасть в эту цель? Благочестивой цели, скажем мы, вернее всего достигнет тот, кто прежде всего вслед за почитанием олимпийских богов и богов – охранителей государства будет уделять подземным богам все четное, вторичное и левое,
b
высшие же почести, противоположные перечисленным, следует уделять тем богам, которые были названы первыми. Вслед за всеми этими богами разумный человек станет почитать священными обрядами даймонов, а после них и героев. Затем следует священное почитание, согласно с законом, частных святилищ родовых богов[1969]
и почитание тех родителей, что еще живы, ведь священная наша обязанность – выплатить им самые большие и настоятельные долги – древнейшие из всех наших повинностей; мы должны сознавать, что все, чем мы обладаем и что имеем,
c
принадлежит тем, кто нас родил и вскормил; потому‑то и дулжно по мере сил предоставлять все это к их услугам: во‑первых – наше имущество, затем – наше тело, наконец – нашу душу. Только этим можем мы отплатить нашим родителям, когда они состарятся и нужды их увеличатся, за их заботливость, за муки родов и давние страдания, которые они претерпели ради нас в нашем детстве. Всю свою жизнь надо с особым благоговением относиться к своим родителям, выражая его в речах, потому что тяжкой бывает кара за легкомысленные, брошенные мимоходом слова:
d
над всем этим поставлена надзирать Немесида[1970]
, вестница Правосудия. Когда родители гневаются, следует уступать их гневу, все равно сквозит он в словах или в поступках, ведь надо признать, что, если отец считает себя обиженным сыном, великий гнев его будет естественным. Когда родители скончаются, то самые скромные похороны – самые лучшие; не следует в пышности превосходить принятое обычаем,
e
но не надо и отклоняться от того, что было установлено в отношении своих родителей нашими предками. Опять‑таки дулжно проявлять ежегодное попечение о покойных, служащее их прославлению. Но высшее почитание заключается
718
в постоянной, неослабной памяти о покойных и в уделении им соответствующей части дарованного нам судьбой имущества. Так поступая и живя сообразно этому, все мы в каждом отдельном случае получим награду от богов и от тех, кто стоит выше нас, и бульшую часть нашей жизни проведем в добрых надеждах».
Что же касается того, как должны мы относиться к нашим потомкам, родственникам, друзьям, согражданам, к лицам, связанным с нами священными узами гостеприимства, вообще, как должны мы общаться с людьми,
b
чтобы и собственная наша жизнь стала радостной и красивой, согласно закону, – все это объяснят сами законы. Они будут частью убеждать, частью исправлять с помощью силы и правосудия те характеры, что не повинуются убеждению: законы, руководясь советом богов, сделают наше государство вполне счастливым и блаженным. Мне кажется, что для законодателя, который придерживается тех же взглядов, что и я,
c
но не может выразить их в форме закона, мной уже дан образец, что и как следует говорить и ему и тем, для кого он устанавливает законы. Поэтому нужно, разобрав по мере сил все остальные вопросы, приступить к самому законодательству. Но какая форма для этого больше всего подходит? Не очень‑то легко охватить все то, что сюда относится, как бы в одном общем очерке, однако не сможем ли мы здесь все‑таки выставить одно основоположение…
Клиний.
Скажи, какое?
Афинянин.
Я хотел бы, чтобы граждане покорно следовали добродетели. Очевидно, и законодатель постарается провести это через все свое законодательство.
d
Клиний.
Как же иначе?
Афинянин.
Сказанное нами принесет, мне кажется, некоторую пользу в том смысле, что, восприняв это, граждане, если только у них не окончательно загрубела душа, станут более кротко и благосклонно внимать увещаниям законодателя. Во всяком случае следует удовольствоваться уже и тем, что мы сделаем слушателя хоть немного более благосклонным и в силу этого более способным к усвоению. Ведь не слишком‑то легко и часто можно встретить людей, усердно стремящихся как можно скорее достичь по возможности более полного совершенства.
e
И большинство людей объявляет Гесиода мудрецом за его слова, что путь к пороку «удобен и прям» и его можно совершить без труда, Но добродетель от нас отделили бессмертные боги
Тягостным потом: крута, высока и длинна к ней дорога.
719
Если ж достигнешь вершины, настолько же легким
Станет тогда твой путь, насколько был ранее тяжек[1971]
.
Клиний.
Похоже, что это прекрасно сказано.
Афинянин.
Да, в высшей степени. Но я хочу сказать вам, какое впечатление произвело на меня наше прежнее рассуждение.
Клиний.
Скажи.
b
Афинянин.
Давайте обратимся к законодателю со следующими словами: «Скажи нам, законодатель, если бы ты знал, как нам надо поступать и говорить, ты, очевидно, и сказал бы нам это?»
Клиний.
Непременно.
Афинянин.
«Но разве мы не слышали от тебя несколько раньше, что законодатель не должен дозволять поэтам творить то, что им нравится? Ведь поэты не знают, какими своими противозаконными словами принесут они вред государству».
Клиний.
Ты прав.
Афинянин.
Будут ли несообразны наши слова, если мы от лица поэтов скажем законодателю…
Клиний.
Что именно?
c
Афинянин.
Вот что. «Есть одно древнее поверье, законодатель, постоянно рассказываемое нами, поэтами, и принятое всеми остальными людьми: поэт, когда садится на треножник Музы, уже не находится в здравом рассудке, но дает изливаться своему наитию, словно источнику[1972]
. А так как искусство его – подражание[1973]
, то он принужден изображать людей, противоположно настроенных, и в силу этого вынужден нередко противоречить самому себе, не ведая, чту из сказанного истинно, а чту нет.
d
Но законодателю нельзя высказывать два различных мнения относительно одного и того же предмета, а следует всегда иметь одно и то же. Примени это к только что сказанному тобой о похоронах. Так, хотя существуют три вида похорон – чрезмерно пышные, наоборот, бедные и, наконец, умеренные, – ты, законодатель, избрал только один вид, соблюдающий средину между двумя крайностями, и его одобрил и предписал. Я же, если бы вывел в своем сочинении чрезвычайно богатую женщину, делающую распоряжения о своем погребении, стал бы хвалить только пышные похороны.
e
Наоборот, если бы я вывел человека скаредного и бедного, то похвалил бы убогое погребение. Если же я выведу человека с умеренным состоянием, да и умеренного характера, то я похвалю и похороны соответствующие. Но тебе нельзя просто говорить: «умеренные похороны», – как ты это сделал сейчас. Твое дело определить, что именно и в каком размере можно назвать умеренным, иначе не думай, что подобное твое слово станет законом».
Клиний.
Ты совершенно прав.
Афинянин.
Разве тот, кто у нас поставлен над законами, не предпошлет им ничего в этом роде, но сразу объявит: то‑то надо делать, а того‑то не надо и, пригрозив наказанием,
720
сразу обратится к другому закону, не добавив ни словечка для увещания и убеждения тех, кому он эти законы дает? Впрочем, и врачи нас обычно так лечат – кто во что горазд. Однако припомним оба способа, чтобы обратиться к законодателю с той же просьбой, с какой обращаются дети к врачу, прося лечить их понежнее. Возьмем пример: ведь бывают врачи, но бывают и их помощники, которых мы тоже называем врачами.
b
Клиний.
Конечно.
Афинянин.
Эти последние, все равно свободные ли они люди или рабы, овладевают своим искусством путем наблюдения, опыта и указаний своих господ, но не в силу природной одаренности, благодаря которой свободные люди научаются сами да еще и обучают своих детей. Принимаешь ли ты это разделение тех, кого мы называем врачами, на два рода?
Клиний.
Как же иначе?
c
Афинянин.
И вот не подметил ли ты, что врачи‑рабы, хотя в городах болеют как рабы, так и свободные люди, лечат по большей части рабов, снуя повсюду и принимая их у себя в лечебницах[1974]
? Никто из подобных врачей не дает своим пациентам‑рабам отчета в их болезни да и от них этого не требует, но каждый из них, точно он все доподлинно знает, с самоуверенностью тирана предписывает те средства, что по опыту кажутся ему пригодными, вслед за чем поднимается и удаляется к другому больному рабу. Таким образом, он немало облегчает господину заботу о своих больных рабах.
d
Врач же из свободных пользует и лечит большей частью людей такого же рода. Он исследует начало и природу их болезней, беседует с больным и его друзьями, так что и сам получает кое‑какие сведения о тех, кого лечит; вместе с тем, насколько это в его силах, он наставляет больного и предписывает ему лечение не прежде, чем убедит в его пользе. Такой врач путем убеждения делает своего больного все более и более послушным
e
и уж тогда пытается достичь своей цели, то есть вернуть ему здоровье. Так какой же из этих двух врачей применяет лучший способ лечения (то же можно спросить и об учителях гимнастики)? Кто лучше: тот ли, кто употребляет двоякий способ для достижения своей цели, или тот, кто держится одного способа, к тому же более сурового и худшего из двух возможных?
Клиний.
Несравненно лучше тот, кто применяет двоякий способ.
Афинянин.
Хочешь, мы рассмотрим, как применяются эти способы – двоякий и однозначный – в законодательстве?
Клиний.
Конечно, хочу.
Афинянин.
Скажи же, ради богов, какой закон установил бы законодатель первым? Не естественно ли, что он прежде всего упорядочит рождение детей – эту первооснову государств?
721
Клиний.
Как же иначе?
Афинянин.
Основа же для рождения детей во всех государствах – это брачные отношения и союзы.
Клиний.
Разумеется.
Афинянин.
Следовательно, первыми во всяком государстве будут по праву законы о браке.
Клиний.
Совершенно верно.
Афинянин.
Применим же сначала однозначный способ. Получится, пожалуй, следующий закон: всем надлежит жениться начиная с тридцати лет до тридцати пяти;
b
кто этого не сделает, будет присужден к пене и лишению гражданских прав – пеня такая‑то, лишение прав такое‑то. Это простой закон о браке.
Закон же, основанный на двойном способе, будет следующий: всем надлежит жениться начиная с тридцати лет до тридцати пяти и сознавая при этом, что человеческий род по природе своей причастен бессмертию, всяческое стремление к которому врождено каждому человеку[1975]
.
c
Именно это заставляет стремиться к славе и к тому, чтобы могила твоя не была безымянной. Ведь род человеческий тесно слит с совокупным временем, он следует за ним и будет следовать на всем его протяжении. Таким‑то образом род человеческий бессмертен, ибо, оставляя по себе детей и внуков, род человеческий благодаря таким порождениям остается вечно тождественным и причастным бессмертию. В высшей степени неблагочестиво добровольно лишать себя этого, а между тем, кто не заботится о том, чтобы иметь жену и детей, тот лишает себя этого умышленно. Повинующийся закону не подвергнется наказанию.
d
Ослушник же, не женившийся до тридцати пяти лет, должен ежегодно в наказание выплачивать такую‑то сумму, чтобы ему не казалось, будто холостая жизнь приносит ему облегчение и выгоду. Ему не будет доли в тех почестях, которые всякий раз люди помоложе оказывают в государстве старшим.
Выслушав этот закон наряду с тем, вы можете судить, надо ли, чтобы законы не только угрожали, но и убеждали и вследствие этого
e
стали бы по меньшей мере вдвое большими по объему, или же они должны употреблять только угрозы и быть вполовину короче первых? Мегилл. Следуя лакедемонскому обычаю, чужеземец, всегда дулжно предпочитать краткость. Но, если бы меня поставили судьей над двумя этими положениями, так что мне предстояло бы решить, какое из них принять в государстве, я выбрал бы более пространное.
722
То же самое сказал бы я и относительно любого закона, если бы он был составлен по этому образцу, двояким способом. Впрочем, и Клинию должны нравиться только что предложенные законы. Ведь мы держим в мыслях, что именно его государство будет пользоваться этими законами.
Клиний.
Ты прекрасно сказал, Мегилл.
Афинянин.
Однако дело совсем не в пространности или краткости. Дулжно ценить, думаю я, не краткое и не подробное изложение, но наилучшее.
b
Из приведенных сейчас законов один лучше другого для применения на деле вовсе не потому, что он вдвое больше; впрочем, здесь вполне уместно только что приведенное сравнение с двумя родами врачей. Видно, ни одному законодателю никогда не приходило на ум, что, издавая законы, можно пользоваться двумя средствами – убеждением и силой, насколько это возможно при невежественности и невоспитанности толпы; обычно законодатели пользуются только вторым средством. В самом деле, издавая свои законы,
c
они не примешивают увещаний и убеждений к необходимости[1976]
, но употребляют лишь чистое насилие. Я же, друзья мои, вижу, что к законам надо присоединить еще нечто третье, чего сейчас нигде нет.
Клиний.
О чем ты говоришь?
Афинянин.
О том, что вытекает по воле некоего бога из наших нынешних рассуждений. Мы начали наш разговор о законах ранним утром, а теперь настал уже полдень, и мы подошли к этому прекрасному месту, где так хорошо отдохнуть; разговор наш все время шел об одних законах;
d
между тем, мне кажется, мы только недавно начали говорить о самих законах, все же предшествовавшее было у нас лишь вступлением. Что я хочу сказать? Да то, что у всяких речей, у всего, что мы сообщаем с помощью голоса, бывает вступление и как бы предварительная разминка, представляющая собой некую искусную подготовку, облегчающую достижение цели. Например, так называемым кифародическим номам, как и номам любой другой музыки, предпосылаются на диво тщательно разработанные вступления[1977]
.
e
Вступлений же к действительным законам – а таковы, утверждаем мы, только государственные законы – никто никогда не составлял, а если даже и составлял, то не стремился их обнародовать – словно и в природе их нет. Нынешняя же наша беседа, думается мне, обнаруживает, что такие вступления существуют. В самом деле, только что указанные законы с двойным значением кажутся мне не просто двузначными, но состоящими из двух частей: собственно закона и вступления к нему. Однозначный, несмешанный закон мы назвали тираническим повелением,
723
уподобив его повелениям врачей, названных нами несвободными. То же, что было изложено прежде и вот им[1978]
было признано увещанием, действительно является таковым и по своему значению равняется вступлениям в речах. Мне ясно, что подобное увещательное рассуждение законодатель приводит ради того, чтобы те, кому он дает законы, благосклонно приняли его предписания (а это и есть закон) и вследствие этой своей благосклонности стали бы восприимчивее. Поэтому‑то, по моему разумению, это может быть названо только вступлением, но не смыслом закона.
b
Что же еще хотелось бы мне добавить к этим моим словам? А вот что: законодатель всегда должен предпосылать своим законам вступления, помня хотя бы на основании только что разобранного примера, как велика разница между законами, имеющими вступления и не имеющими их.
Клиний.
По моему мнению, человек, знающий толк в подобных вещах, должен давать нам законы именно так.
с
Афинянин.
Мне кажется, ты верно заметил, Клиний, что у всех законов должны быть вступления и что, приступая к любому законодательству, следует каждому положению предпослать подобающее ему вводное слово. Ибо слово такое имеет большое значение. Очень важен также вопрос, будет ли это ясно запоминаться или нет. Однако мы были бы не правы, если бы постановили, что вступления к так называемым большим законам и к менее значительным должны звучать одинаково.
d
Так ведь не следует поступать ни при пении, ни при произнесении речей. И хотя естественно, чтобы были вступления ко всему, но не всеми ими надо пользоваться. Предоставим же это на усмотрение самого оратора, певца и законодателя.
Клиний.
Ты говоришь, по‑моему, сущую правду. Однако, чужеземец, не будем больше замедлять течение нашей беседы и обратимся к основному ее предмету. Начнем, если тебе угодно, с того, что ты высказал тогда, еще не думая, что это окажется вступлением.
e
Давайте снова, как говорят в играх, начнем сначала; быть может, во второй раз нам выпадет больше удачи[1979]
и мы действительно изложим вступление, не уклоняясь в обсуждение случайных предметов, как это случилось с нами недавно.
Итак, потолкуем о том же сызнова, признав, что законам должно предшествовать вступление. Однако о почитании богов и заботе о родителях довольно того, что было уже сказано. Попытаемся сказать о том, что за этим следует, пока ты не найдешь, что все вступление изложено достаточным образом. А уж после этого перейдем к изложению самих законов.
724
Афинянин.
Итак, мы говорим, что в тогдашнем вступлении достаточно было высказано о богах, о тех, кто идет вслед за богами, и о родителях, живых или уже покойных. Очевидно, ты приглашаешь меня высказать то, что не было пока затронуто, и как бы вывести на свет эти вопросы.
Клиний.
Да, конечно.
Афинянин.
Итак, после этого слушателям да и самому держащему речь надо обратиться к очень важному и касающемуся всех вопросу о том, в какой степени ревностно – больше или меньше – следует заботиться
b
о своей душе, теле и об имуществе, чтобы по мере сил усовершенствовать свое воспитание. Вот что действительно нам надо вслед за тем подвергнуть рассмотрению.
Клиний.
Ты совершенно прав.
Перевод А. Н. Егунова.
В кн.: Платон. Законы. М.: «Мысль», 1999
КHИГА V
726
Афинянин.
Да внемлет всякий, кто ныне внимал сказанному о богах и любезных нам прародителях! Из всех достояний человека вслед за богами душа – самое божественное, ибо она ему всего ближе. Все, что принадлежит каждому человеку, двояко: одна его часть – высшая и лучшая – господствует, другая – низшая и худшая – рабски подчиняется.
727
Господствующую свою часть каждый должен предпочитать рабской. Поэтому я прав, требуя, чтобы каждый почитал свою душу, ведь, как я говорю, она занимает второе место после богов‑владык и тех, кто за ними следует. А между тем никто из нас, можно сказать, не почитает душу по‑настоящему, но только по видимости. Ведь почет – божественное благо, из зол же ничто его не заслуживает. Кто думает возвеличить душу какими‑либо речами, дарами, уступками, но ничуть не старается сделать ее из худшей лучшею, тот почитает ее лишь по видимости, но не на самом деле.
b
Всякий человек с раннего детства считает себя в состоянии все познать, думает, что похвалами он возвеличивает свою душу, и потому охотно позволяет ей делать все, что угодно. Мы же утверждаем, что, поступая так, человек вредит своей душе, а вовсе не возвеличивает ее. Между тем, согласно нашему утверждению, она должна занимать второе место после богов. Точно так же, когда человек в каждом отдельном случае считает виновником своих проступков и многих громадных зол других людей, а не самого себя и когда он постоянно выгораживает себя, точно он вовсе и не виновен, он лишь по видимости почитает свою душу, на деле же очень далек от этого, ибо он ей вредит.
c
Так же и в том случае человек вовсе не оказывает ей почета, но бесчестит ее, наполняя злом и раскаянием, когда он предается удовольствиям вопреки наказу и одобрению законодателя. И если, наоборот, он не выдержит до конца одобряемых законодателем трудов, страхов, болей и скорбей, но уступит им, то этой уступчивостью он тоже не окажет почета своей душе. Ибо, поступая подобным образом, он ее только бесчестит.
d
Бесчестит он ее и тогда, когда считает жизнь во всех отношениях благом. Ибо если душа считает злом все находящееся в Аиде, то она не может противостоять этой мысли, не может рассудить, пребывая в неведении, не будет ли, наоборот, то, что относится к подземным богам, для нас величайшим из благ. И если кто предпочитает красоту добродетели, это тоже будет подлинным и совершенным бесчестьем души. Ибо, согласно такому взгляду, тело ложно считается более достойным почета, чем душа.
e
Ведь ничто земнородное недостойно большего почета, чем олимпийское; тот, кто держится иного мнения о душе, не ведает, каким чудесным достоянием он пренебрегает. Точно так же, если кто стремится неблаговидным путем приобрести имущество и обладание таким
728
имуществом для него не тягостно, он всеми этими дарами вовсе не оказывает почета своей душе, при этом он очень ее унижает, ибо за небольшое количество золота продает все, что есть в душе драгоценного и вместе с тем прекрасного. Ведь все золото, что есть на земле и под землею, не стуит добродетели. Короче говоря, кто не захочет любыми средствами воздерживаться от всего, что законодатель, указав на это, постановил считать позорным и дурным, и кто, наоборот, не пожелает всеми силами упражняться в том, что законодатель постановил считать хорошим и прекрасным, тот, кто бы он ни был, не ведает,
b
что во всех этих случаях он крайне бесчестно и безобразно обращается с самым божественным – со своей душой. Ведь никто, можно сказать, не принимает в расчет того, что почитается величайшим наказанием за злодеяние; состоит же это наказание в уподоблении людям, дурным по самой своей сути, и в том, что вследствие этого уподобления человек начинает избегать хороших людей и их слов, отходит от них и прилепляется к дурным людям, ищет их общества. Сроднившись с этими людьми, он по необходимости должен поступать так, как, согласно со своей природой, поступают друг в
c
отношении друга и говорят друг с другом подобные люди, и ждать от них соответствующего обращения с собой. Впрочем, это даже не правосудие – ибо правосудие и справедливость есть нечто прекрасное, – но возмездие, иными словами, страдание, сопутствующее несправедливости. Постигнет ли человека это возмездие или нет, все равно он несчастен; в последнем случае – потому, что он неисцелим, в первом – потому, что он погибнет, чтобы спаслись многие другие. Говоря в целом, честь наша состоит в том, чтобы следовать лучшему и улучшать худшее, если оно еще может стать совершеннее.
d
У человека нет ничего, что было бы больше души способно по своей природе избегать зла, разыскивать и находить высшее благо и, нашедши его, проводить остальное время жизни сообща с ним. Потому‑то душа и поставлена на втором месте в смысле почета, и всякий может сообразить, что наше тело по своей природе занимает в этом отношении лишь третье место.
В свою очередь надо рассмотреть и разные виды почета: какие из них истинны, какие обманчивы. Это задача законодателя. Мне кажется, он разъяснит этот вопрос приблизительно так: не то тело заслуживает почета,
e
которое красиво, сильно, быстро, велико, здорово, хотя многие и держатся такого мнения; равным образом и не то, которое обладает противоположными качествами. Несравненно более надежны и лучше ведут к рассудительности свойства, занимающие средину между этими двумя состояниями. Ибо первое делает души пустыми и дерзкими, второе – низменными и неблагородными. То же самое относится к приобретению имущества и владений – оно расценивается в таком же соотношении.
729
Избыток всего этого порождает неприязнь и раздоры как в государственной, так и в частной жизни, недостаток же – большей частью рабскую подчиненность. Пусть также никто не будет корыстолюбив ради детей – чтобы оставить им возможно больше богатства: это нехорошо и для них, и для государства. Для молодых людей всего лучше и целесообразнее такое имущественное положение, при котором обеспечивалось бы необходимое и не было бы повода к лести; оно сделало бы их жизнь беспечальной, так как согласовало бы ее с нашей жизнью и уравновешивало бы ее со всем остальным.
b
Не золото надо завещать детям, а побольше совестливости. Мы думаем, будто молодым людям, поступающим бесстыдно, внушим ее своими наказами. Но это достигается не запоздалыми советами и не словесными требованиями во всем сохранять стыдливость. Разумный законодатель скорее посоветует старшим стыдиться младших и всего более остерегаться, как бы кто из молодых людей не увидел и не услышал с их стороны какого‑нибудь
c
скверного поступка или слова, ибо юноши неизбежно будут весьма бесстыдными там, где бесстыдны даже старики.
Наилучшее воспитание молодых людей, да и самих себя, заключается не во внушениях, а в явном для всех осуществлении в собственной жизни того, что внушается другому. Кто чтит и уважает членов своей семьи и всех тех, которые вследствие кровного родства чтут одних и тех же богов, тот с полным правом может рассчитывать на милость семейных богов к его собственному семени – детям. Чтобы приобрести расположение друзей и приятелей в житейском общении с ними,
d
надо оценивать их услуги выше, чем это делают они сами; наоборот, наши одолжения друзьям надо считать меньшими, чем это полагают наши друзья и приятели. По отношению к государству и гражданам наилучшим будет, бесспорно, тот, кто победам на Олимпийских играх и в любых военных или мирных состязаниях предпочтет славу служителя отечественных законов, лучше всех людей осуществившего в своей жизни это служение[1980]
.
e
С другой стороны, в высшей степени священными дулжно считать все обязательства по отношению к гостям‑чужеземцам. Ибо почти все, что касается чужеземцев и направленных против них преступлений, подлежит божьему отмщению даже в большей степени, чем проступки против сограждан. Ведь чужеземец, не имеющий друзей и родичей, внушает более жалости и богам, и людям. Тот, кто способен отмстить, тем охотнее вступается за них. В особенности это может сделать имеющийся у каждого гостеприимный демон и бог,
730
ведь они следуют за Зевсом‑Гостеприимцем[1981]
. Вот почему всякий, у кого есть хоть немного предусмотрительности, должен очень остерегаться, как бы не совершить никакого проступка против чужеземцев, и уж так держаться всю свою жизнь. Из проступков против чужеземцев и земляков величайшими являются всегда те, что совершены против молящих пощады[1982]
. Ибо тот бог, которого молящий призвал в свидетели данных ему обязательств, становится его главным стражем, и, таким образом, пострадавший никогда не останется неотмщенным.
b
Мы разобрали почти все об отношениях к родителям, к самому себе, к своему имуществу, государству, друзьям, родичам, чужеземцам и землякам. Вслед за этим надо рассмотреть, какие качества дают человеку возможность наилучшим образом прожить свою жизнь. И уже не закон, а похвала и порицание должны здесь воспитывать людей и делать их кроткими и послушными тем законам, которые будут изданы. Вот об этом нам и придется теперь говорить.
c
Во главе всех благ как для богов, так и для людей стоит правда[1983]
. Кто хочет быть счастливым и блаженным, тот с самого начала должен быть ей причастен, чтобы правдиво прожить по возможности долгое время. Такой человек внушает доверие, но его не внушает тот, кому мила добровольная ложь; кому же мила невольная ложь, тот безрассуден. Однако ни то ни другое не заслуживает зависти. Ведь никому не мил невежда, не заслуживающий доверия; его легко распознают по прошествии некоторого времени, и он сам себе подготовляет в конце жизни тяжкое одиночество старости. Жизнь его
d
потечет сиротливо, все равно, живы ли его друзья и дети или же нет.
Кто не совершает несправедливости – почтенен; но более чем вдвое достоин почета тот, кто и другим не позволяет ее совершать. Ибо первый равноценен одному, второй же – многим, так как он указывает правителям на несправедливость других людей. А кто по мере сил содействует правителям в осуществлении наказаний, тот человек совершенный и великий для государства, о нем следует возвестить как о победителе в добродетели.
e
Точно такую же похвалу нужно высказать относительно рассудительности, разумности и остальных благ, если обладающий такими благами не только владеет ими, но и может передать их другим. Передающий заслуживает самых высоких почестей; на втором месте стоит тот, кто хоть и не может все это передать, но желал бы уметь это делать. Порицания заслуживает завистник,
731
не желающий добровольно и дружески поделиться какими‑либо благами. Однако не следует бесчестить достояние из‑за его обладателя; наоборот, надо изо всех сил постараться это достояние приобрести. Пусть каждый из нас без зависти печется о добродетели. Тот, кто так делает, способствует росту государства, стремясь к добродетели сам и не препятствуя остальным клеветой. Завистник думает выдвинуться, клевеща на других, сам же не слишком стремится к истинной добродетели. Несправедливым порицанием он подрывает дух своих соперников
b
и таким образом не дает государству возможности развивать состязание в добродетели; завистник, насколько это в его силах, уменьшает добрую славу своего государства.
Однако любой должен уметь сочетать яростный дух с величайшей кротостью. Есть только одно средство избежать тяжких, трудноисцелимых и даже вовсе неисцелимых несправедливостей со стороны других людей – это бороться с ними, отражать, побеждать и неуклонно карать их. Никакая душа не может этого совершить без благородной ярости духа.
c
Что же касается тех, кто совершает несправедливые, но исправимые поступки, то прежде всего надо знать, что всякий несправедливый человек бывает несправедливым не по своей воле. Ибо никто, никогда и нигде не приобретал добровольно ни одного из величайших зол, и всего менее в той области, которая для него всего ценнее. Душа же, как мы сказали, поистине самое ценное для всех. И пусть лучше никто не воспримет добровольно величайшего зла той своей частью, что ему дороже всего, и не проведет всей своей жизни с таким достоянием. Человек несправедливый и обладающий злом заслуживает всяческого сожаления.
d
Но уместно сожалеть лишь о человеке исправимом; надо укрощать поднимающуюся ярость духа и не поступать под влиянием огорчения несдержанно, словно женщина. В отношении же человека, не поддающегося вразумлению, безусловно скверного и злого, надо дать волю своему гневу. Вот почему мы сказали, что хорошему человеку надо в каждом отдельном случае быть и яростным, и кротким.
В душах большинства людей есть врожденное зло, величайшее из всех зол; каждый извиняет его в себе и вовсе не думает его избегать.
e
Зло это заключается вот в чем: говорят, что всякий человек по природе любит самого себя и что таким он и должен быть. Но поистине в каждом отдельном случае виновником всех проступков человека выступает как раз его чрезмерное себялюбие. Ибо любящий слеп по отношению к любимому, так что плохо может судить, что справедливо, хорошо и прекрасно,
732
и всегда склонен отдавать предпочтение перед истиной тому, что ему присуще. Кто намерен стать выдающимся человеком, тот должен любить не себя и свои качества, а справедливость, осуществляемую им самим либо кем‑то другим.
Из этого же заблуждения проистекает и то, что всем свое собственное невежество кажется мудростью. Поэтому‑то мы и считаем, что знаем все, тогда как мы не знаем, можно сказать, ничего.
b
Мы не поручаем другим делать то, чего не умеем, пытаемся все делать сами и неизбежно ошибаемся. Вот почему каждый человек должен избегать чрезмерного себялюбия, всегда искать тех, кто лучше его, и не стыдиться ставить их выше себя. Часто даются наказы не столь значительные, как эти, однако не менее полезные, надо припомнить их и о них побеседовать. Ведь как в реке вода постоянно убывает и прибывает, так и припоминание есть прилив уходящей разумности.
c
Так вот, следует удерживаться от излишнего смеха и слез, надо советовать друг другу скрывать любую чрезмерную радость и страдание и стараться сохранять благообразие. К нашему благополучию приставлен даймон[1984]
; некоторым поворотам в нашей судьбе даймоны противостоят как чему‑то чрезмерно высокому.
d
Хорошие люди всегда должны надеяться, что бог уменьшит трудности, выпадающие на долю каждого, изменит к лучшему теперешнее положение и дарует им на доброе счастье всевозможные блага, противоположные прежним бедам. Каждый должен жить в такой надежде и всегда обо всем этом помнить; надо, не скупясь, явственно напоминать об этом и самому себе, и другим как при серьезных занятиях, так и в играх.
e
Итак, о том, какой образ жизни нужно вести и каким должен быть каждый из нас, уже приблизительно сказано. Но это вещи скорее божественные, человеческих же мы еще не изложили, а между тем следовало бы. Ведь мы обращаемся к людям, а не к богам. Преимущественно человеческими по природе являются удовольствия, страдания, вожделения. Всякое смертное существо неизбежно подвержено им и в своих устремлениях очень от них зависит.
733
Поэтому дулжно хвалить наилучшую жизнь не только за то, что она своим обликом может стяжать добрую славу, но и за то, что она приведет нас к тому, к чему все мы стремимся, – именно к тому, чтобы в течение всей жизни испытывать больше радости и меньше скорби, если только мы захотим вкусить наилучшей жизни и не удалимся от нее еще в юности.
Весьма легко выяснить, кто правильно вкушает от этой жизни. В чем состоит эта правильность? Это надо обсудить на основе разума и посмотреть, естествен или противоестествен тот или иной образ жизни. Поэтому дулжно сравнить приятную жизнь с неприятной.
b
Мы желаем удовольствия, а не страданий, уж их‑то мы не пожелаем избрать. Промежуточное состояние мы не предпочтем удовольствию, но страдание охотно на него сменим. Нам хотелось бы поменьше страданий в соединении с бульшим удовольствием; меньшее же удовольствие, сопряженное с большой скорбью, для нас нежеланно. Если же удовольствие и страдание соединены поровну, нелегко узнать, желанны они для нас или нет.
Во всем этом – как и в состояниях, противоположных тому, чего мы хотим, – количество, величина, сила и равенство далеко не безразличны для осуществления выбора[1985]
. Все это неизбежно устроено именно так.
c
Значит, мы предпочтем такую жизнь, в которой в больших количествах и в сильной степени присутствуют и удовольствия, и страдания, но удовольствий больше и они более сильные. Противоположного мы не предпочтем. Так же точно мы не захотим такой жизни, где как то, так и другое незначительно, невелико и протекает спокойно и при этом страдания перевешивают; той же, где дело обстоит как раз наоборот, пожелаем. А где наблюдается равновесие, такую жизнь надо расценивать согласно сказанному выше:
d
мы желаем такого равновесия, когда перевешивает то, что нам мило, а того, что нам противно, присутствует меньше.
Следует заметить, что жизнь любого человека от природы заключена в эти пределы, и надо уяснить, какой именно жизни мы ждем согласно природе. Если же мы станем утверждать, что желаем чего‑либо вопреки природе, то наши слова будут следствием лишь неопытности и незнания действительной жизни.
Сколько же есть родов жизни и какие они, в отношении которых нам следует заранее совершать выбор и усматривать в них недобровольное, но желательное и, сделав такую жизнь законом,
e
одновременно избрав милое, приятное, благое и прекрасное, жить наисчастливейшим образом, насколько это доступно людям? Мы можем указать на следующие виды: рассудительную жизнь, разумную, мужественную, здоровую. Этим четырем видам противоположны четыре других: безрассудная жизнь, разнузданная, трусливая, нездоровая. Кто знаком с рассудительной жизнью, согласится, что она тиха во всех отношениях:
734
страдания ее спокойны, удовольствия также спокойны; она не несет с собой ни расслабляющих вожделений, ни неистовых страстей. Наоборот, разнузданная жизнь полна резкости: страдания ее сильны, сильны и удовольствия; она несет с собой безумные, бешеные вожделения и самые неистовые, какие только могут быть, страсти. В рассудительной жизни удовольствия перевешивают тяготы, в разнузданной – страдания превышают удовольствия как величиной, так и количеством и напряженностью.
b
Поэтому первый род жизни для нас более приятен, а второй по своей природе неизбежно становится более скорбным. Для того, кто хочет приятно жить, становится невозможным по доброй воле жить невоздержанно. Отсюда ясно, что всякий бывает разнузданным против воли; это необходимо, если правильно то, что мы только что установили.
Жизнь всякой людской толпы лишена рассудительности либо по невежеству, либо из‑за отсутствия самообладания, либо по обеим этим причинам. То же самое надо заметить и о здоровой жизни и нездоровой; в той и в другой есть удовольствия и страдания, но в здоровье удовольствия превышают страдания, а в болезнях наоборот.
c
Мы же не захотим избрать такой род жизни, где перевешивают страдания; тот род жизни, в котором их меньше, мы считаем более приятным. В целом мы можем сказать, что жизнь рассудительная перевешивает разнузданную, разумная – безрассудную, мужественная – трусливую, ибо в первых как удовольствий, так и страданий меньше, они незначительнее и реже. Но в первых перевешивают удовольствия, а во вторых, наоборот, страдания.
d
Так‑то мужественная жизнь берет верх над трусливой, разумная – над безрассудной. Поэтому первые виды жизни приятнее вторых, то есть рассудительная, мужественная, разумная и здоровая жизнь приятнее трусливой, безрассудной, разнузданной и нездоровой. Словом, жизнь, причастная добродетели, душевной ли или телесной, приятнее жизни, причастной пороку. С избытком превосходит она ее как во всем прочем, так и в смысле красоты, правильности, добродетели и доброй славы.
e
Своего обладателя она заставляет жить решительно во всех отношениях счастливее, чем живет тот, кто ее лишен.
Этими положениями можно закончить наше вступление к законам. За вступлением необходимо должен следовать сам закон или, вернее, очерк законов государства. В тканях или в плетении нельзя делать утук и основу из одного и того же материала, ведь основа неизбежно должна отличаться добротностью, обладать силой и известной крепостью;
735
утук же может быть слабее, и к нему относятся с известным снисхождением. Точно так же надо известным образом отличать будущих правителей в государствах от тех, кто иной раз может получать лишь незначительное воспитание. Есть два вида государственного устройства: один – где над всем стоят правители, другой – где и правителям предписаны законы.
b
Но предварительно надо обратить внимание вот на что: всякий пастух, волопас, конюх и другие такие же люди не раньше берутся за дело, чем очистят с помощью соответствующего подбора стада, отделив здоровых животных от нездоровых, породистых от непородистых; этих последних конюх отошлет в какие‑нибудь другие стада и лишь тогда займется уходом за первыми[1986]
. Он понимает, что тщетным и напрасным будет труд, потраченный как на тело, так и на душу, если не произвести такой чистки.
c
В последнем случае природная испорченность и скверное воспитание погубят в его стаде также и ту породу, что обладает здоровым и чистым нравом, а также телом. Впрочем, что касается всех прочих живых существ, то здесь забот меньше; их стоит привести в этом рассуждении лишь для примера. Но люди заслуживают величайшей заботливости. Поэтому законодатель должен изыскивать и объяснять, чту кому подобает делать для очищения и для всего остального[1987]
.
d
Относительно очищений государства дело обстоит так: полных очищений существует немало; одни из них легче, другие более тягостны. Тягостные и наилучшие мог бы установить лишь тот, кто одновременно является и тираном, и законодателем. Законодатель, лишенный тиранической власти, при установлении нового государственного строя и законов должен удовольствоваться самыми мягкими способами очищений. Наилучший способ мучителен совершенно так же, как бывает, когда принимают подобного рода лекарства.
e
При этом способе правосудие влечет за собой справедливое возмездие; возмездие заканчивается смертью или изгнанием[1988]
. Так обыкновенно отделываются от величайших, к тому же неисцелимых, преступников, чрезвычайно вредных для государства. Более мягкий способ очищения заключается у нас вот в чем: если неимущие люди, следуя за своими вождями, выкажут из‑за недостатка воспитания склонность выступить против имущих, это станет болезнью, вкравшейся в государство.
736
Поэтому их надо выслать прочь, делая это, однако, в высшей степени дружелюбно и смягчая их удаление названием «переселение»[1989]
. Так или иначе всякому законодателю надлежит это сделать сразу. Мы‑то пока оказываемся еще в более легком положении, ибо в настоящее время мы не должны прибегать к переселению или к какому‑либо отбору путем очищения. Но когда много ручьев и потоков вливаются в одно озеро и там сливаются вместе,
b
надо прежде всего следить, чтобы сливающаяся вода была как можно чище, а для этого надо то вычерпывать, то отводить воду, устраивая каналы. Стало быть, и всякое устроение государства сопряжено, как водится, с трудом и опасностью. Впрочем, сейчас мы занимаемся этим лишь словесно, а не на самом деле. Поэтому предположим, что наши граждане уже собраны и что уже произведено разумное их очищение. Мы не дали плохим людям,
c
пытавшимся сделаться гражданами нашего государства, осуществить свое намерение, ибо мы хорошо распознали их за достаточный промежуток времени путем всяческих испытаний; наоборот, хороших людей мы привлекли, обходясь с ними по мере сил дружелюбно и милостиво.
Пусть не укроется от нас одно счастливое обстоятельство, благоприятствовавшее, как мы указали, также и Гераклидам[1990]
при их переселении, а именно отсутствие страшного и опасного спора о переделе земли и о снятии долгов. Если в государстве понадобится такое законодательство,
d
нельзя будет так или иначе не поколебать его древних установлений; с другой стороны, попытка поколебать их будет недопустимой. Остается, можно сказать, только одно – молиться, чтобы переход этот осуществился незаметно, мало‑помалу и в течение долгого времени. Поколебать существующее положение могли бы люди, в изобилии владеющие землей, если бы они пожелали снисходительно отнестись к многочисленным своим должникам, видя их нужду:
e
если бы они согласились часть долгов простить, часть же своего имущества поделить и если бы они так или иначе держались умеренности, полагая, что бедность заключается не в уменьшении принадлежащего им имущества, а в увеличении ненасытности. Это было бы величайшим началом спасения государства, на этом, как на надежном основании[1991]
, можно затем воздвигать государственное устройство, подобающее такому положению дел. Напротив,
737
когда этот переход болезнен[1992]
, дальнейшее положение общества никоим образом не будет благоприятным для государства. Мы считаем, что нам удастся этого избежать или, правильнее сказать, если и не избежать, то все же обрести для этого средство. Это средство заключается в том, чтобы не искать несправедливого обогащения. Нет иного пути, ни широкого, ни узкого, чтобы избегнуть этой беды. Да будет это отныне как бы краеугольным камнем нашего государства[1993]
.
b
Так или иначе, надо устроить, чтобы граждане в отношении имущества не имели повода жаловаться друг на друга, ибо нельзя при наличии старинных взаимных жалоб продвигаться вперед в остальном государственном устроении; это ясно всем, у кого есть хоть немного разума. Где, как нам теперь, бог даровал возможность основать новое государство, там не может быть никакой взаимной вражды. Если бы и здесь возникла вражда друг к другу из‑за раздела земли и жилищ, то виной было бы нечеловеческое невежество, соединенное со всяческой испорченностью.
c
Каким же способом можно произвести такое правильное распределение? Прежде всего следует установить численность населения, иными словами, сколько будет у нас граждан. Затем надо решить, на сколько частей мы поделим всех граждан и как велика будет каждая часть. Обусловив все это, можно приступить к наиболее равномерному распределению земли и жилищ. Какое количество граждан будет достаточным, можно определить не иначе как сообразуясь с количеством земли и с близлежащими государствами.
d
Земли надо столько, чтобы она была в состоянии прокормить это число людей при условии их рассудительности, и не более того. Граждан же нужно столько, чтобы они без особых затруднений могли отражать нападения окрестных жителей и помогать тем соседям, кого обижают. Когда мы увидим и местность, и соседей, мы определим все это и на словах, и на деле. Пока же это лишь общий очерк или набросок; покончив с ним, перейдем к законодательству.
e
Пусть будущих граждан будет пять тысяч сорок, Это – число подходящее, так земледельцы смогут отразить врага от своих наделов[1994]
. На столько же частей будут разделены земля и жилища; человек и участок, полученный им по жребию, составят основу надела. Все указанное число можно прежде всего разделить на две части, затем на три. По своей природе оно делится последовательно и на четыре, и на пять, и на последующие числа вплоть до десяти.
738
Что касается чисел, то всякий законодатель должен отдавать себе отчет в том, какое число и какие свойства числа всего удобнее для любых государств. Мы признаем наиболее удобным то число, которое обладает наибольшим количеством последовательных делителей. Конечно, всякое число имеет свои разнообразные делители; число же пять тысяч сорок имеет целых пятьдесят девять делителей, последовательных же – от единицы до десяти.
b
Это очень удобно и на войне, и в мирное время для всякого рода сделок, союзов, налогов и распределений.
Следующее надо на досуге крепко усвоить тем, кому предписывает это закон, ибо дело обстоит именно так, и потому надо указать на это устроителю государства. Создается ли с самого начала новое государство или переустраивается выродившееся старое, все равно никто из имеющих разум не станет колебать ничего, касающегося богов и святынь: какие именно, каким богам должны быть воздвигнуты святилища в государстве и именем каких богов или даймонов будут они называться, во
c
всем этом надо следовать Дельфам, Додоне, Аммону[1995]
или же убедительным древним сказаниям о бывших знамениях и божественных наитиях. Люди, веря в это, устанавливали жертвоприношения, сопряженные с таинствами, либо местные, либо Тирренские или Кипрские, наконец, заимствованные еще откуда‑нибудь[1996]
. Согласно этим сказаниям освящали божественные речения, статуи, алтари и храмы и отводили каждому из богов священные участки.
d
Из всего этого законодателю нельзя трогать ничего, даже самого малого, но дулжно каждой части граждан дать особого бога, даймона или героя. При разделе земли надо прежде всего выделить отборный священный участок со всем, что ему подобает; там в установленные сроки должна собираться каждая часть граждан, дабы облегчать общие нужды, выражать друг другу доброжелательство при жертвоприношениях, привыкать к соседям и знакомиться.
e
Для государства нет более великого блага, чем близкое знакомство граждан друг с другом. Где во взаимоотношениях нет света, но царит тьма, там никто не может правильно достичь заслуженного почета, власти и подобающих прав. В любом государстве каждый человек должен стремиться всегда быть простым, правдивым, нелицемерным по отношению к другим и, будучи таковым, остерегаться обмана с их стороны.
739
Дальнейший ход рассуждения о законодательстве (точно решительный шаг в игре[1997]
) сначала, пожалуй, удивит слушателя, так он необычен. Однако когда кто поразмыслит и понаблюдает, то согласится, что мы строим государство лишь второе по сравнению с наилучшим. Вероятно, его не примут, ибо необычно государство, где законодатель не обладает тиранической властью. Всего правильнее было бы сначала изложить наилучший государственный строй, затем второй по достоинству и, наконец, третий,
b
а после изложения предоставить выбор тому, кто стоит во главе общества. Согласно этому замыслу мы и поступим сейчас, указав на государственное устройство первое по достоинству, затем на второе и третье. А выбор мы теперь предоставим Клинию, вообще же в дальнейшем любому желающему, когда бы он этого ни пожелал, дабы он мог избрать по своей склонности то, что подходит для его родины.
c
Наилучшим является первое государство, его устройство и законы. Здесь все государство тщательнейшим образом соблюдает древнее изречение, гласящее, что у друзей взаправду все общее[1998]
. Существует ли в наше время где‑либо и будет ли когда, чтобы общими были жены, дети, все имущество и чтобы вся собственность, именуемая частной, всеми средствами была повсюду устранена из жизни? Чтобы измышлялись по мере возможности средства так или иначе сделать общим то, что от природы является частным, – глаза, уши, руки, – так, чтобы казалось, будто все сообща видят, слышат и
d
действуют, все восхваляют или порицают одно и то же? По одним и тем же причинам все будут радоваться или огорчаться, а законы по мере сил сплотят в единое целое государство, выше которого в смысле добродетели, правильности и блага никто никогда не сможет установить. Если такое государство устрояют где‑нибудь боги или сыновья богов и обитают в нем больше чем по одному, то это – обитель радостной жизни.
e
Когда оно есть, нет надобности взирать на другой образец государственного устройства, но достаточно возможно сильнее к нему стремиться. То государство, что мы теперь пытаемся изобразить, также очень близко к бессмертию, но оно занимает по своему значению второе место. Если будет на то воля бога, мы попытаемся обрисовать и третье по значению государство. Сейчас же мы посмотрим, каково это второе по значению государство и как оно образуется.
Прежде всего пусть граждане разделят землю и жилища;
740
общинного земледелия может и не быть, так как нынешнее поколение по своему воспитанию и образованию не доросло до этого. Однако раздел надо производить, считаясь со следующим: каждый получивший по жребию надел должен считать свой надел общей собственностью всего государства. Более, чем дети о своей матери, должны граждане заботиться о родимой земле, ведь она богиня – владычица смертных созданий[1999]
.
b
Так же надо мыслить и о местных богах и даймонах. А чтобы все это сохранилось навеки, надо еще заметить, что установленная нами численность очагов должна быть всегда одинаковой, то есть не увеличиваться и не уменьшаться. Прочного положения во всем государстве можно достигнуть так: обладатель надела оставляет в наследство свое жилище всегда лишь одному из своих детей, самому любимому, который и будет его преемником,
c
почитателем богов рода, государства и людей, живых или уже окончивших свой век. Что касается остальных детей – если у кого их не один, а несколько, – то девочек пристраивают замуж согласно закону, который будет установлен, мальчиков же отдают в сыновья тем из граждан, у кого нет потомства, руководясь при этом более всего личным расположением. Если же такого расположения нет, а потомство мужского или женского пола многочисленно и в обратном случае, то есть при нехватке детей, всем этим будет ведать правительственное должностное лицо,
d
причем должность эта будет значительнейшей и очень почтенной. Лицо это будет наблюдать, как следует поступить при излишке или недостатке, и изыскивать средство, чтобы общее количество хозяйств всегда равнялось только пяти тысячам сорока. Средств таких много, например воздержание от деторождения для тех, у кого обширное потомство, или, наоборот, попечение и заботы о многочисленном потомстве.
e
Можно достичь нашей цели с помощью почета или бесчестья или если старшие будут обращаться с увещаниями и наставительными речами к молодым. Наконец, если уж будет крайне трудно сохранить число пять тысяч сорок семей ввиду появления чрезмерного количества граждан (плод взаимной любви, существующей между жителями), то, чтобы выйти из этого затруднения, у нас имеется старинное средство, о чем мы не раз упоминали, – устройство колоний. Это средство носит вполне миролюбивый характер, поэтому оно кажется вполне пригодным. Если же иной раз нахлынет обратная волна,
741
несущая с собой разлив болезней или гибельные войны, и граждане осиротеют, причем их станет гораздо меньше установленного числа, то все же нельзя включать в число граждан всех желающих – тех, что воспитаны ложным образом. Ведь, по пословице, даже бог не может противиться необходимости[2000]
.
Только что сказанное может быть выражено и в виде такого совета: «Лучшие из людей! Ни на сколько не уклоняйтесь от естественного и общественного почитания этим числом подобия, равенства, тождества и согласованности и не упускайте ни одной возможности для прекрасных и добрых деяний.
b
Поэтому прежде всего сохраняйте на протяжении всей жизни установленную численность; затем сохраняйте величину и размеры вашего имущества. Не бесчестите ваш первоначально соразмерный надел взаимной куплей или продажей, ибо не будет вам в этом союзником ни законодатель, ни бог, по жребию выделивший его вам».
Здесь впервые устанавливается закон для ослушников, предупреждающий, что лишь при этих условиях желающий может получить надел, но не иначе:
c
во‑первых, земля посвящена всем богам; затем при первом, втором и третьем жертвоприношении жрецы и жрицы будут совершать молитвы о том, чтобы того, кто купил или продал полученные по жребию под жилище или поле наделы, постигла за это достойная кара. Записав это на кипарисовых таблицах, пусть поместят их в святилищах, дабы это служило напоминанием на будущее.
d
Кроме того, за исполнением всего этого будет поручено следить самому зоркому из должностных лиц, так, чтобы не укрылись происходящие иной раз нарушения и ослушники наказывались бы законами и богами. Насколько это установление, если ему хорошо следовать, оказывается благом для выполняющих его государств, этого, по старинной пословице, не узнать ни одному дурному человеку, но лишь тот узнает об этом, кто обладает опытом и разумным нравом.
e
Наживе вовсе нет места при подобном устройстве, а отсюда следует, что никто не должен – да, впрочем, и не может – наживаться неблагородным способом; поскольку это зазорное, так сказать, ремесло извращает благородные нравы, недопустимо даже желать подобного обогащения.
Сюда же относится и следующий закон. Никто из частных лиц не имеет права владеть золотом или серебром[2001]
.
742
Однако для повседневного обмена должна быть монета, потому что обмен почти неизбежен для ремесленников и всех тех, кому надо выплачивать жалованье, – для наемников, рабов и чужеземных пришельцев. Ради этого надо иметь монету, но она будет ценной лишь внутри страны, для остальных же людей не будет иметь никакого значения. Общей же эллинской монетой государство будет обладать лишь для оплаты военных походов или путешествий в иные государства посольств
b
либо – если это будет нужно государству – всевозможных вестников. Словом, всякий раз, как надо кого‑то послать в чужие земли, государству необходимо для этой цели обладать действительной по всей Элладе монетой. Если частному лицу понадобится выехать за пределы родины, оно может это сделать лишь с разрешения властей; по возвращении домой оно должно сдать государству имеющиеся у него чужеземные деньги, получив взамен местные деньги, согласно расчету. Если обнаружится, что кто‑либо присвоил чужеземные деньги, они забираются в пользу казны; знавший же об этом и не сообщивший подвергается вместе с тем, кто ввез эти деньги,
c
порицанию и проклятию, а также и пене в размере не менее количества ввезенных чужеземных денег. При женитьбе или замужестве совершенно не разрешается давать или брать какое‑нибудь приданое. Далее, нельзя отдавать денег на хранение тому, кто не внушает доверия. Нельзя также отдавать деньги под проценты, в этом случае позволяется вовсе не возвращать ростовщику ни процентов, ни всего долга.
d
Судить о высоких качествах этих установлений правильнее всего, обращаясь всякий раз к нашему исходному намерению. Мы утверждаем, что намерения разумного политика вовсе не таковы, какими их рисует себе большинство: оно считает, будто хороший законодатель должен стремиться видеть свое государство великим; будто он дает хорошие законы, думая о том, чтобы государство было как можно богаче, чтобы оно обладало золотыми и серебряными рудниками и владычествовало над большинством государств как на море, так и на суше. Надо было бы добавить: надлежащий законодатель должен стремиться к тому, чтобы его государство было наилучшим и счастливейшим.
e
Это отчасти исполнимо, отчасти нет. Устроитель пожелал бы исполнимого; желать же неисполнимого было бы тщетно, тут напрасны все попытки. Например, устроитель пожелал бы, чтобы граждане стали добродетельными, а вместе с тем и неизбежно счастливыми; стать же очень богатыми, оставаясь добродетельными, невозможно – по крайней мере богатыми в том смысле, как это понимает большинство. Ведь богатыми называют тех избранных людей, которые приобрели имущество, оцениваемое огромной суммой, хотя бы сам владелец и был дурным человеком.
743
Если это и в самом деле так, то я лично никогда не соглашусь с большинством, будто богатый может стать поистине счастливым, если только он не является хорошим человеком. Но одновременно быть и очень хорошим, и очень богатым невозможно. «Почему же?» – спросит, быть может, кто‑то. Потому, ответил бы я, что, если кто приобретает и честным, и бесчестным путем, его барыши вдвое больше, чем у того, кто приобретает одним только честным. Издержки же тех, кто не желает тратиться ни на прекрасное, ни на постыдное, вдвое меньше издержек прекрасных людей на прекрасные нужды.
b
При таких двойных доходах и половинных расходах одного разве разбогатеет другой, тот, кто поступает прямо наоборот? Из этих двух людей один хорош и другой не плох, если он бережлив, но нередко он вовсе плох и уж во всяком случае не хорош, как мы это сейчас показали. Тот, кто добывает средства и честным, и бесчестным путем, но не расходует их ни первым, ни вторым способом, бывает богат, если он к тому же и бережлив. Вовсе же плохой человек, как правило, расточителен и вследствие этого очень беден.
c
Тот же, кто тратится на прекрасные дела, а приобретает свои средства одним лишь честным путем, вряд ли особо разбогатеет, однако не станет и очень бедным.
Следовательно, наше утверждение, что нет хороших и вместе с тем очень богатых людей, правильно. А кто не хорош, тот и не счастлив.
Наш набросок законов имел целью сделать людей возможно более счастливыми и дружелюбными. Но разве будут граждане дружелюбны там, где между ними много тяжб и много несправедливостей?
d
Нет, только там они будут дружелюбными, где несправедливостей всего меньше и где они незначительны. Поэтому мы говорим, что в нашем государстве не должно быть ни золота, ни серебра, ни большой наживы путем ремесел и ростовщичества, ни чрезмерно обширного скотоводства, но должны быть только доходы, доставляемые земледелием; да и из них лишь такие, получение которых не вынуждает пренебрегать тем, для чего и нужно имущество. Это – душа и тело; лишенные упражнения и другого воспитания, они не заслуживали бы внимания.
e
Потому‑то мы и говорили неоднократно, что имущество заслуживает всего меньше почета. Из трех вещей, о которых заботится каждый человек, забота об имуществе по справедливости занимает лишь третье, то есть последнее, место, забота о теле – среднее, на первом же месте стоит забота о душе. И государственный строй, который мы сейчас разбираем, окажется правильно установленным только в том случае, если почет будет распределен в нем именно так.
744
Если же какой‑либо из установленных законов ставит в государстве здоровье выше рассудительности по оказываемому ему почету либо богатство – выше рассудительности и здоровья, то это будет служить признаком, что подобный закон установлен неправильно. Вот почему законодатель должен часто задавать себе вопрос: «К чему, собственно, я стремлюсь? Достигну ли я своей цели или же потерплю неудачу?» Таким образом он, пожалуй, скорее завершит свое законодательство и избавит других от этих забот; никакого другого способа у него нет.
b
Итак, мы утверждаем, что получивший надел по жребию должен владеть им на указанных условиях. Было бы прекрасно, если бы каждый член колонии обладал и всем остальным имуществом в равной доле со всеми. Но это невозможно: один явится, обладая бульшим имуществом, другой – меньшим. Поэтому, а также по многим другим причинам для удобства и равной доли для всех в государстве надо установить неравный имущественный ценз. Стало быть, должности, подати, распределения и подобающий каждому почет устанавливаются не только по личной добродетели или по добродетели предков,
c
не только по силе и красоте тела, но и по имущественному достатку или нужде. Должности и почести распределяются как можно более равномерно, сообразно этому имущественному неравенству, причем нет никаких поводов к раздорам. В зависимости от величины имущества надо установить четыре класса, назвав их: первый, второй, третий, четвертый или как‑нибудь иначе.
d
Граждане либо пребывают в своем классе, либо, разбогатев или обеднев, переходят в подобающий каждому из них класс[2002]
.
Кроме того, я установил бы как вытекающий из предыдущего и следующий вид закона: ведь мы утверждаем, что в государстве, не причастном величайшей болезни, более правильным названием которой было бы «междоусобие» или «раздор», не должно быть ни тяжкой бедности среди некоторых граждан, ни в свою очередь богатства, ибо бедность и богатство взаимно порождают друг друга. Вот и надо теперь законодателю установить пределы бедности и богатства. Пределом бедности пусть будет стоимость надела,
e
который должен оставаться у каждого; ни один правитель, а равно и ни один другой гражданин, ревнующий о добродетели, не должен тут ни у кого допускать уменьшения. Приняв это за меру, законодатель допускает приобретение имущества, большего по своей стоимости в два, три, четыре раза; если же кто приобретет свыше этого, найдя ли что‑нибудь, получив ли от кого‑то в подарок или наживши, – словом, если благодаря какому‑нибудь подобного рода случаю у него окажется имущество, превышающее меру,
745
он должен отдать избыток государству и его богам‑покровителям. Сделав это, он обретет добрую славу и останется безнаказанным; ослушника же этого закона может выдать всякий желающий, причем ему достанется половина суммы, другая же половина будет отдана в пользу богов; кроме того, виновный должен будет заплатить еще такую же сумму из своего имущества.
Все, чем владеет каждый, не считая надела, будет публично записано теми, кому это предписывает закон, то есть должностными лицами‑стражами, так, чтобы все тяжбы, касающиеся имущества, стали бы легкими и вполне ясными.
b
Затем прежде всего что касается местоположения нашего города, то оно должно быть по возможности серединным в стране. Надо выбрать местность, дающую городу все удобства. Сообразить это и выразить совсем нетрудно. После этого надо разбить страну на двенадцать частей. Прежде всего надо установить святилище Гестии[2003]
, Зевса и Афины, назвать его акрополем и окружить стеной;
c
начиная отсюда, надо разделить на двенадцать частей и самый город, и всю страну. Эти двенадцать частей должны быть равноценными, поэтому те участки, где почва хороша, будут меньше, а где плоха – больше. Всех наделов устанавливается пять тысяч сорок. Каждый из них опять‑таки делится на два участка: близкий и дальний. Из этих двух половин и составляется каждый надел. Участок, ближайший к городу, надо объединить в один надел с участком, расположенным на окраине;
d
участок, который поодаль от города, – с таким, который не на самом краю, и так далее. При этом разделении на две части надо, как мы сейчас сказали, обращать внимание на плохое или хорошее качество почвы и соответственно увеличивать или уменьшать участки.
Граждан также надо разделить на двенадцать частей. Для этого надо произвести перепись прочего их имущества, а затем поделить все на двенадцать по возможности равноценных частей. Вслед за тем эти двенадцать наделов надо поделить между двенадцатью богами и каждую определенную жребием часть посвятить тому или иному богу, назвав ее его именем.
e
Такая часть будет носить название филы. В свою очередь и город надо разделить на двенадцать частей, точно так же как разделена остальная страна. Каждому гражданину следует отвести два жилища: одно – близ срединной части государства, другое – на окраине.
На этом можно закончить вопрос о поселении. Но мы должны вообще иметь в виду еще вот что: всему указанному сейчас вряд ли когда‑нибудь выпадет удобный случай для осуществления, так, чтобы все случилось по нашему слову.
746
Найдутся ли люди, которые не возмутятся подобным устройством общества и которые в течение всей жизни станут соблюдать установленную умеренность в имуществе и рождении детей, о чем мы упоминали раньше, или люди, которые расстанутся с золотом и всем тем, что будет запрещено законодателем? А что такие запрещения будут, это ясно из всего сказанного раньше. К тому же это срединное положение страны и города, это кругообразное расположение жилищ! Все это точно рассказ о сновидении или лепка государства и граждан из воска!
b
В известном смысле все сказанное нами не так уж плохо, но надо еще раз обдумать про себя следующее. Ведь законодатель снова обратится к нам с такими словами: «Друзья мои, не думайте, будто от меня укрылась определенная истинность этих возражений. Но я держусь того мнения, что правильнее всего в каждом наброске будущего не опускать ничего из самого прекрасного и истинного; это будет служить образцом, к которому мы должны стремиться.
c
Если там встретится что‑либо неосуществимое, то, конечно, его нужно будет избегать и не стремиться к его выполнению. Но в остальном надо стараться осуществить то, что ближе всего к подобающему и по своей природе более всего ему сродни. Стало быть, надо дать законодателю возможность довести до конца все его намерения. Но затем надо вместе с ним рассмотреть, что из сказанного им полезно, а что слишком резко для законодательства. Ведь даже самый захудалый ремесленник, намереваясь создать что‑либо заслуживающее упоминания, должен постоянно сообразовываться с сутью дела».
d
Теперь нужно внимательно рассмотреть, какой смысл в этом решенном нами разделении на двенадцать частей. Ведь внутри этих двенадцати частей есть много подразделений, а также других, вытекающих из этих последних как их естественное порождение. Так мы дойдем и до числа пять тысяч сорок. Этими подразделениями будут: фратрии, демы, комы[2004]
и различные военные отряды (τάξεις και αγωγός);
e
кроме того, будут и такие подразделения: монета, меры веса, а также сухих и жидких тел. Закон должен установить соразмерность и взаимную согласованность всего этого.
При этом не надо бояться упрека в мнимой мелочности, когда будет устанавливаться количество обиходной утвари, и не допускать несоразмерности даже здесь. Следуя общему правилу, надо считать числовое распределение и разнообразие числовых отношений полезным
747
для всего, безразлично, касается ли это отвлеченных чисел или же тех, что обозначают длину, глубину, звуки и движение – прямое, вверх и вниз или же круговое. Законодатель должен все это иметь в виду и предписать всем гражданам по мере их сил не уклоняться от этого установления.
b
Ибо для хозяйства, для государства, наконец, для всех искусств ничто так не важно и никакая наука не имеет такой воспитательной силы, как занятие числами. Самое же главное то, что людей, от природы вялых и невосприимчивых, это занятие с помощью божественного искусства пробуждает и делает вопреки их природе восприимчивыми, памятливыми и проницательными. Если еще с помощью других законов и занятий удастся изгнать неблагородную страсть к наживе из душ тех, кто собирается усвоить себе на пользу эту науку,
c
то все это вместе было бы прекрасным и надлежащим воспитательным средством. В противном случае вместо мудрости незаметно получится, так сказать, лишь плутовство, как это теперь можно наблюдать у египтян, финикиян и у многих других народов[2005]
. Они стали такими либо из‑за других, неблагородных занятий и стяжаний, либо потому, что у них был никчемный законодатель, либо из‑за постигшей их тяжкой доли, либо, наконец, потому, что такова сама их природа.
d
От нас, Мегилл и Клиний, не должно укрыться, что одни местности превосходят другие в смысле рождения лучших или худших людей. И невозможно устанавливать законы вразрез с местными условиями. Ведь в иных местах различные воздушные течения и зной делают людей странными и неудачливыми[2006]
; с другой стороны, влажность климата и даваемая землей пища не только делает то лучшим,
e
то худшим тело, но все это не меньше может влиять и на душу. На земле превосходнее всех те местности, где чувствуется некое божественное дуновение: местности эти – удел даймонов, милостивых к исконным жителям; где этого нет, там все бывает наоборот. Разумный законодатель, обратив на это внимание, попробует, насколько это в человеческих силах именно так устанавливать законы. Вот это‑то и предстоит тебе сделать, Клиний, ибо прежде всего на это надо обратить внимание, если ты хочешь заселить страну.
Клиний.
Твои слова, афинянин, прекрасны. Я так и поступлю.
Перевод А. Н. Егунова.
В кн.: Платон. Законы. М.: «Мысль», 1999
КHИГА VI
751
Афинянин.
Однако после всего только что высказанного тебе придется, пожалуй, обратиться к установлению должностей в этом государстве.
Клиний.
Да, это так.
Афинянин.
К государственному благоустройству относятся две вещи: во‑первых, установление должностей и будущих должностных лиц, то есть определение их количества и способа введения их в должность; во‑вторых, надо установить, какими законами будет ведать каждая из должностей, и определить количество и качество этих законов.
b
Однако, прежде чем произвести этот отбор, задержимся немного и выскажем приличествующее этому поводу соображение.
Клиний.
Какое именно?
Афинянин.
Следующее: всякому ясно, что законодательство – это великое дело. Но если хорошо устроенное государство поставит непригодную власть над хорошо установленными законами, то законы эти не принесут никакой пользы и положение создается весьма смешное;
c
более того, это наносит государству величайший ущерб и приводит его к гибели.
Клиний.
Конечно.
Афинянин.
Представим себе, мой друг, что именно эта опасность угрожает сейчас твоему государственному строю и государству. Потому, видишь ли, и надо, чтобы лица, законно домогающиеся правительственных должностей, представили достаточное доказательство добродетели как своего рода, так и своей собственной, начиная с детства и вплоть до времени избрания[2007]
. В свою очередь и будущие избиратели должны быть хорошо воспитаны, в духе законов,
d
чтобы путем порицания или одобрения либо выбрать, либо отвергнуть избираемого – смотря по заслугам каждого. И разве смогут безупречно выбрать должностных лиц люди, лишь недавно собравшиеся вместе, не знающие друг друга да к тому же и лишенные воспитания?
Клиний.
Это почти невозможно.
Афинянин.
Однако, как говорится, отговорки не очень‑то принимаются во внимание на состязаниях.
e
Так вот и нам с тобой надо сейчас так поступить. Ведь ты, по твоим словам, обещал критскому народу, вместе с девятью другими лицами, позаботиться об установлении государственного строя нового поселения.
752
Я же обещал помочь тебе в нынешнем собеседовании. Поэтому мне не хотелось бы оставить свою речь незавершенной, ведь в таком случае она блуждала бы вокруг да около и показалась бы совершенно бесформенной.
Клиний.
Превосходно сказано, чужеземец!
Афинянин.
И не только сказано, но по мере сил я и осуществляю это.
Клиний.
Давай же поступим так, как мы говорим.
Афинянин.
Да будет так, если угодно богу и если мы сможем настолько превозмочь нашу старость.
b
Клиний.
Вероятно, богу это угодно.
Афинянин.
Да, видно, и в самом деле это так. Значит, следуя богу, заметим вот что…
Клиний.
Что именно?
Афинянин.
Что наше нынешнее государство будет устроено мужественно и отважно.
Клиний.
В каком смысле? Что ты имеешь сейчас в виду?
Афинянин.
Что мы легко и бесстрашно устанавливаем законы для людей неопытных, желая, чтобы они когда‑нибудь приняли установленные ныне законы! Однако, Клиний, всякому человеку, пускай и не слишком мудрому, ясно по крайней мере следующее:
c
сначала люди нелегко примут законы – какие бы они ни были. Но если мы будем стоять на своем до того времени, пока их дети, вкусившие этих законов, не вырастут и достаточно с ними не освоятся и пока они не станут принимать участие в государственных выборах, то, когда осуществится все, о чем мы говорим, – если только каким‑то образом это произойдет как следует, – по моему мнению, государству, так воспитанному, обеспечена прочная устойчивость на будущее время.
d
Клиний.
Это не лишено основания.
Афинянин.
Итак, посмотрим, не найдем ли мы какого средства, достаточного для этой цели. Я утверждаю, Клиний, что кносийцы, преимущественно перед остальными критянами, должны не только принести очистительные жертвы во имя заселяемой ими страны, но употребить также все старания, чтобы главные государственные должности оказались прочными и наилучшими.
e
Что касается остальных должностей, то здесь дело проще. Однако сперва нам надо со всей тщательностью избрать стражей законов.
Клиний.
Но что послужит нам для этого указанием и основанием?
Афинянин.
А вот что: я утверждаю, о дети Крита, что кносийцы, вследствие своего старшинства сравнительно со многими государствами, должны вместе с остальными поселенцами выбрать из них и из своей среды в общей сложности тридцать семь человек, при этом девятнадцать – из числа поселенцев, остальных же – из самого Кноса.
753
Пусть этих последних кносийцы предоставят твоему государству; ты сам также будешь гражданином этой колонии и одним из этих восемнадцати. Кносийцы поступят так либо по личному убеждению, либо уступая умеренному нажиму.
Клиний.
Так разве, чужеземец, ты и Мегилл не будете принимать участия в нашем государственном строе?
Афинянин.
Афины, Клиний, держатся гордо; да и Спарта горда. Кроме того, они далеки отсюда. А у тебя все обстоит хорошо, да и у остальных поселенцев точно так же, как у тебя.
b
Итак, пусть будет сказано о том, как лучше всего устроить дела при нынешнем положении. С течением времени, когда окрепнет государственный строй, избрание должностных лиц будет производиться примерно следующим образом. В выборах государственных должностных лиц обязаны участвовать все, кто носит оружие, – всадники ли или пехотинцы – и кто принимал участие в войне, состоя в отрядах соответственно своему возрасту.
c
Выборы происходят в святилище, которое государство наиболее почитает. Каждый должен возложить на жертвенник бога дощечку, написав на ней имя и отчество избираемого, филу и дем, членом которого тот состоит[2008]
; точно таким же образом он должен приписать и свое собственное имя. Всякий желающий может, если ему покажется, что какая‑либо дощечка заполнена несообразно с его намерением, изъять ее и выставить на площади на срок не менее тридцати дней. Выбрав до трехсот дощечек, получивших
d
предпочтение, должностные лица показывают их всем гражданам. Граждане подобным же образом выбирают из этих трехсот того, кого каждый хочет. Во второй раз из них отбирают сто и снова показывают всем. На третий раз пусть голосуют за тех, кто значится в числе этих ста, опять‑таки за кого кто хочет, но уже принося клятву над внутренностями жертвенных животных. Тридцать семь человек, получивших наибольшее число голосов, становятся государственными правителями. Но кто, Клиний и Мегилл, будет в нашем государстве руководить выборами должностных лиц
e
и производить докимасию? Мы понимаем, что в государствах, впервые таким образом становящихся единым целым, до выборов должностных лиц должны быть какие‑то руководители. И это должны быть не бездельники, но люди самые лучшие. Пословица гласит, что начало – половина всякого дела, и мы всегда воздаем прекрасному началу хвалу. В нашем же случае, как мне кажется, начало – больше, чем половина,
754
и никому не дано достойным образом восхвалить это прекрасное начинание[2009]
.
Клиний.
Ты совершенно прав.
Афинянин.
Раз мы это сознаем, мы не можем обойти молчанием этот вопрос, не уяснив самим себе средства, ведущего к его разрешению. На этот счет я могу сказать разве только одно, однако необходимое и полезное при настоящем положении дел.
Клиний.
Что же это?
Афинянин.
Я утверждаю, что у государства, которое мы собираемся основать, не будет иного отца и матери, кроме того государства, что основывает поселение.
b
Мне хорошо известно, что часто бывают – да и будут впредь – многие различия между колониями и городами‑основателями. Но наше государство, словно дитя, даже если будут у него какие‑нибудь отличия от родителей, любит их, несмотря на все сложности нынешнего своего воспитания, да и родители его любят. Оно прибегает к своим родственникам и только в них всегда находит себе необходимых союзников. Вот я и утверждаю, что именно так будет обстоять дело у кносийцев благодаря их заботливости о новом государстве;
c
и это новое государство будет так же относиться к кносийцам. Я повторяю только что сказанное, ибо прекрасное полезно повторить дважды. Кносийцы сообща должны позаботиться обо всем этом, выбрав старейших и по возможности лучших людей из числа колонистов в количестве не менее ста. Из среды самих кносийцев пусть поставят других сто человек. Они должны, утверждаю я, отправиться в новое государство и там позаботиться, чтобы должностные лица были назначены и проверены согласно законам.
d
После этого кносийцы возвратятся в Кнос, новое же государство будет стараться самостоятельно поддерживать себя и преуспевать.
Пусть у нас и теперь, и впредь выбираются указанным способом тридцать семь должностных лиц. Они будут прежде всего стражами законов, затем – хранителями записей, где каждый гражданин укажет, для сведения должностных лиц, количество своего имущества, за исключением четырех мин для первого класса,
e
трех мин – для второго, двух мин – для третьего и одной мины – для четвертого. Если же окажется, что кто‑нибудь приобрел сверх указанного в записи, то излишек изымается в пользу государства. Кроме того, всякий желающий может возбудить против приобретшего судебное дело; оно поведет вовсе не к доброй славе, а, напротив, к позору, если обнаружится, что этот гражданин пренебрег законами из‑за корыстолюбия. Всякий желающий, указав в письменном виде на его позорное корыстолюбие, может привлечь его к суду в присутствии самих стражей законов.
755
В случае осуждения он лишается права иметь свою часть в общем имуществе; если в государстве будет производиться какой‑нибудь передел, он не получит в нем своей доли, кроме первоначального, полученного по жребию надела; имя виновного в продолжение всей его жизни будет начертано там, где всякий желающий может его прочесть.
Страж законов не должен стоять у власти более двадцати лет; избирать на эту должность можно лишь лиц не моложе пятидесяти. Если будет избран шестидесятилетний, он будет править только десять лет, и так далее из того же расчета, так что переступившие за семьдесят лет пусть имеют в виду, что в своем возрасте они уже не могут занимать эту должность.
b
Ограничимся пока этими тремя предписаниями относительно стражей законов. По мере развития законодательства перед этими лицами встанут кроме только что указанных новые задачи, о решении которых им также придется позаботиться.
А теперь перейдем к вопросу об избрании других должностных лиц. Вслед за указанными лицами надлежит произвести выборы стратегов и, так сказать, их помощников в ратном деле:
c
гиппархов, филархов и тех, кто командует пехотными отрядами; этим последним всего более приличествовало бы название таксиархов, как, впрочем, большинство их и называет[2010]
. Лиц на должность стратегов стражи законов выдвигают из числа граждан. Все причастные военному делу в данный момент и раньше имеют право избирать из числа предложенных лиц. Если окажется, что кто‑то может предложить кого‑нибудь более достойного,
d
чем тот, кто был предложен стражами, он может, присягнув, взамен его выставить другого. Кто из двух при голосовании, производимом путем поднятия рук[2011]
, соберет наибольшее число голосов, тот допускается в качестве избираемого. Трое получивших наибольшее число голосов становятся стратегами и попечителями военных дел, однако лишь после того, как и они, подобно стражам законов, подвергнутся докимасии. Избранные стратеги сами выбирают двенадцать таксиархов, по одному для каждой филы.
e
Впрочем, и здесь, как при выборе стратегов, допускается выдвижение других лиц. При этом точно так же происходит голосование путем поднятия рук и принятие окончательного решения. Пока не избраны пританы и совет, стражи законов созывают это собрание в самом священном и подобающем месте, по отдельности разместив гоплитов[2012]
, всадников, а также всех остальных воинов. За стратегов и гиппархов пусть голосуют путем поднятия рук все граждане;
756
за таксиархов же лишь те, кто носит щит; филархов пусть избирает вся конница. Пусть стратеги сами назначат начальников над легковооруженными, над лучниками или над иного рода войсками. Нам остается еще коснуться вопроса о назначении гиппархов. Их пусть выдвигают те, кто выдвигает также стратегов; избрание и встречное выдвижение на эту должность пусть тоже производится так, как при выбоpax
b
стратегов, но здесь пусть конница голосует путем поднятия рук на виду у пехоты. Двое получивших наибольшее число голосов становятся во главе конницы. Если при поднятии рук возникнет неясность, допускается вторичное голосование. Если же и в третий раз будет неясность, пусть дело решают те, кто в каждом отдельном случае руководил голосованием.
Совет пусть состоит из тридцати дюжин членов. Число «триста шестьдесят» допускает удобное деление. Разделив это число на четыре части,
c
по девяносто в каждой, мы постановим, чтобы каждый из четырех классов граждан выбирал девяносто членов совета. Прежде всего все поголовно должны избрать представителей высшего класса; уклонившийся же подвергается установленному наказанию. После голосования следует записать имена избранных. На другой день избирают представителей второго класса таким же образом, как происходило избрание накануне. На третий день все желающие голосуют за представителей третьего класса, однако трем первым классам это вменяется в обязанность,
d
четвертый же класс, как самый низший, остается свободным от наказания, если кто из граждан этого класса не захочет голосовать. На четвертый день все голосуют за представителей четвертого, самого низшего класса; однако, если гражданин четвертого или третьего класса не захочет голосовать, он не подвергается наказанию. Не голосовавшие граждане первого и второго класса должны понести наказание:
e
принадлежащие ко второму классу – наказание втрое больше первоначального, принадлежащие к первому – вчетверо больше. На пятый день должностные лица выносят списки с именами избранных для обозрения всем гражданам. Всякий снова должен голосовать за кого‑нибудь из них под страхом повторения первоначального наказания. Когда таким образом от каждого класса окажутся избранными сто восемьдесят человек, половина их устраняется путем жеребьевки, остальные же на этот год становятся членами совета.
Выборы, производимые таким образом, занимают средину между монархическим и демократическим устройством: государственное устройство вообще должно всегда придерживаться средины[2013]
.
757
Ведь рабы никогда не станут друзьями господ, так же как люди никчемные никогда не станут друзьями людей порядочных, хотя бы они занимали и равные по почету должности. Ибо для неравных равное стало бы неравным, если бы не соблюдалась надлежащая мера. По обеим этим причинам государства наполняются междоусобицами. Истинна древняя пословица, что равенство создает дружбу; это сказано и вполне правильно, и складно[2014]
. Но какое именно равенство обладает такой силой, не слишком ясно,
b
и это приводит нас в большое смущение. Есть два вида равенства; они хоть и одноименны, но на деле во многом чуть ли не противоположны между собой. Из этих двух видов первому может отвести почетное место всякое государство и всякий законодатель, руководя его распределением с помощью жребия: таково равенство меры, веса, числа. Но любому человеку нелегко усмотреть самое истинное и наилучшее равенство, ибо это – суждение Зевса. Людям его уделяется всегда немного, но, поскольку оно уделено государству или частным лицам,
c
оно создает все блага. Большему оно уделяет больше, меньшему – меньше, каждому даря то, что соразмерно его природе. Особенно большой почет воздает оно всегда людям наиболее добродетельным; противоположное же оно соответственно уделяет тем, кто в добродетели и воспитанности им противоположен.
У нас все относящееся к государственному устройству постоянно совпадает со справедливостью. Мы, Клиний, уже теперь должны стремиться к этому равенству, имея в виду устроить наше растущее теперь государство.
d
Если кто‑то когда‑нибудь будет устраивать другое государство, то и ему надо будет издавать законы, постоянно имея в виду именно это – справедливость, а не тиранов – одного или немногих – и не народовластие. В этом‑то и заключается только что высказанная нами мысль о равенстве, установленном в каждом отдельном случае для неравных согласно природе.
Впрочем, всякому государству, если оно хочет избежать внутренних волнений, необходимо воспользоваться и другим видом равенства, заимствовавшим свое имя от первого.
e
Ведь пристойная снисходительность при своем осуществлении вопреки надлежащей справедливости оказывается нарушением строгого совершенства. Поэтому вследствие недовольства большинства необходимо применять равенство путем жребия, причем бога и благую судьбу надо молить, чтобы они устроили жеребьевку согласно высшей справедливости.
758
Так‑то и приходится пользоваться обоими видами равенства, однако тем из них, которым правит случайность, надо пользоваться как можно реже[2015]
.
Вот как, друзья мои, неизбежно приходится поступать государству, если оно хочет себя сохранить. Подобно тому как корабль, плывущий в море, нуждается в постоянном страже и днем и ночью, точно так же и государство держит свой путь среди бурного натиска остальных государств, рискуя подвергнуться всевозможным козням[2016]
. Поэтому неустанно, с утра до ночи и с ночи до утра,
b
правители должны приходить на смену правителям, а стражи должны сменять стражей. Толпа никогда не сумеет быстро добиться этого. Правда, необходимо допустить, чтобы большинство членов совета значительную часть времени занимались своими делами и приводили в порядок свое хозяйство. Однако каждая двенадцатая их часть поочередно должна быть на страже – соответственно двенадцати месяцам. Они были бы к услугам каждого приходящего из чужих земель или
c
гражданина самого государства, если он захочет сообщить о чем‑то либо, наоборот, узнать что‑нибудь из числа тех вещей, о которых одному государству подобает давать ответы другим государствам или же, напротив, получать от них ответы на свои вопросы. В особенности они должны предупреждать всякий раз внутренние волнения в государстве,
d
которые обычно возникают по самым различным поводам; в случае их возникновения государство должно как можно скорее позаботиться о том, чтобы они улеглись. Поэтому верховные правители государства должны обладать постоянным правом созывать и распускать собрания, как установленные законами, так и те, необходимость в которых возникает внезапно. Всем этим пусть ведает двенадцатая часть совета, прочие же одиннадцать частей пусть отдыхают остальную часть года. Двенадцатая часть совета постоянно стоит на страже государства вместе с остальными правителями.
Для города этих установлений, пожалуй, достаточно. Каковы же будут попечение обо всей остальной стране и установленный в ней распорядок?
e
Раз весь город разделен на двенадцать частей, то не дулжно ли и всю страну также разделить на двенадцать частей? Не следует ли поставить каких‑либо попечителей над дорогами, жилищами, постройками, гаванями, рынком, источниками, равно как и над священными участками, святилищами и всем тому подобным?
Клиний.
Конечно, следует.
759
Афинянин.
Скажем же, что в святилищах должны быть смотрители[2017]
, жрецы и жрицы. А что касается дорог, построек и поддержания там порядка – чтобы люди и животные не причиняли вреда в черте города и в предместьях и чтобы в государстве осуществлялось все надлежащее, – надо выбрать три рода должностных лиц: для только что указанного – так называемых астиномов, для наблюдения за рынком – агораномов[2018]
. Если в некоторых семьях жреческий сан – наследственный и переходит по мужской или женской линии,
b
этого порядка не следует нарушать. Впрочем, во вновь основываемом государстве это, конечно, вряд ли может у кого‑нибудь быть, разве что у немногих. Поэтому следует тем, у кого это не установлено, назначить жрецов и жриц, чтобы они отправляли храмовую службу. Их назначение частью должно быть выборным, частью происходить путем жеребьевки. При этом народ и те, кто к нему не принадлежит[2019]
, дружественно объединяются между собой в каждой части страны и в каждом городе, чтобы достичь сколь возможно большего согласия. Что касается жрецов, то надо самому богу предоставить возможность выбрать тех, кто ему угоден,
c
поручив это с помощью жребия божественной судьбе. Однако всякий раз надо подвергать докимасии того, на кого выпал жребий, проверяя его телесное здоровье[2020]
и законность рождения, а самое главное – происходит ли он из почтенной семьи, чист ли он от убийства и не преступили ли он или его отец и мать другие подобные божественные установления. Относительно всего божественного надлежит взять законы из Дельф и пользоваться ими, назначив для этих законов истолкователей.
d
Каждое жреческое звание должно быть годичным, никак не более. Тот, кто хочет, согласно священным законам и как надлежит, отправлять богослужение, должен иметь у нас не менее шестидесяти лет. Такое же законоположение пусть будет и относительно жриц.
Каждые четыре филы пусть трижды избирают четырех истолкователей, всякий раз по одному от каждой филы. Трое получивших наибольшее количество голосов подвергаются докимасии, все девятеро посылаются в Дельфы, чтобы из каждой тройки был избран один.
e
Докимасия эта и положенный истолкователю возраст пусть будут такими же, как у жрецов, но они будут истолкователями пожизненно. А вместо выбывшего пусть доизберут другого те четыре филы, откуда он был.
760
Из высших классов изберут по три казначея для самых больших святилищ, для меньших – двух, для самых скромных – одного. Они будут ведать священной казной, священными участками и доходами с них, а также будут полномочны отдавать их в аренду. Избрание и докимасия казначеев пусть происходят так же, как у стратегов. Таков будет порядок относительно святилищ.
Пусть по мере сил ничего не остается без надзора. Надзор и попечение над городом будут осуществляться стратегами, таксиархами, гиппархами, филархами, пританами,
b
а также астиномами и агораномами, когда они будут у нас как следует выбраны и назначены. А вся остальная страна будет охраняться так: вся она будет разделена на двенадцать по возможности равных участков. Каждая фила получает по жребию один участок; ежегодно фила доставляет пять агрономов и фрурархов[2021]
.
c
Каждый из этих пяти избирает в своей филе двенадцать молодых людей не моложе двадцати пяти лет и не старше тридцати; между ними по жребию распределяются участки страны, каждому на один месяц, чтобы все они на опыте познакомились со всей страной и приобрели знания. Управление и надзор поручаются смотрителям и начальникам на два года. Получив вначале по жребию какой‑либо участок,
d
они ежемесячно сменяют его на соседний, по кругу слева направо, под руководством начальников стражи, справа при этом будет восток. Чтобы возможно большее количество надзирателей ознакомилось со страной не только в течение какого‑то одного времени года, но узнало бы кроме страны также все происходящее в любом месте в любое время года по истечении года, на другой год тогдашние руководители снова поведут их,
e
но теперь уже налево, постоянно меняя место, пока не пройдет второй год. На третий год надо избрать пять новых агрономов и фрурархов – попечителей тех двенадцати молодых людей. Во время их пребывания в каждой данной местности попечение их будет состоять приблизительно в следующем: прежде всего страна должна быть как можно сильнее укреплена против врагов. Для этого следует выкопать там, где надо, рвы, насыпать валы, чтобы этими сооружениями заградить по возможности путь тем, кто так или иначе попытается причинить зло стране и ее достоянию. Для этого можно использовать местных вьючных животных и рабов, так что первые будут трудиться,
761
а вторые ими управлять, причем по возможности для этого следует выбирать то время, когда они свободны от домашних работ. В стране все надо сделать непроходимым для врагов, для друзей же возможно более проходимым – и для людей, и для вьючных животных, и для стад. Надо заботиться о дорогах, чтобы они были как можно более благоустроенными, а также о дождевых водах, чтобы они не вредили стране, но приносили большую пользу,
b
стекая с вершин во впадины горных ущелий. Надо заградить насыпями и рвами истоки, чтобы там скапливались и вбирались дождевые воды, образуя для всех нижележащих полей и местностей источники и ключи, которые даже самые сухие места обильно снабжали бы водой. Родниковые воды – будь то речные или ключевые – надо привести в порядок как можно лучше с помощью насаждений и сооружений; надо соединить их непересыхающими круглый год каналами,
c
чтобы вся окружающая местность стала плодородной. Если поблизости находится роща или же священный участок, то туда следует отвести воду, чтобы украсить святилища богов. Повсюду в таких местах молодые люди должны устраивать себе гимнасии, а старикам – горячие стариковские бани. Для этого надо собирать большое количество высохших и ставших совершенно сухими дров,
d
на пользу людям больным и изнурившим свое тело земледельческим трудом. Последние нашли бы там гораздо лучший прием, чем со стороны не слишком сведущего врача.
Так‑то вот и таким образом вместе с приятным развлечением осуществлялись бы польза и порядок в этих местах. Серьезная же сторона дела заключается вот в чем: каждые шестьдесят человек будут охранять свои места не только от врагов, но и от тех, кто называет себя другом. Если кто‑либо из соседей или из остальных граждан – свободных или рабов –
e
станет наносить друг другу обиды, то в маловажных случаях пятеро должностных лиц сами рассудят дело потерпевшего; в случае же более важных жалоб, когда речь идет об иске размером до трех мин, дело разбирается с присоединением двенадцати лиц, уже семнадцатью. Ни один судья и ни одно должностное лицо не должны действовать бесконтрольно, за исключением тех, кто, точно цари, выносит окончательное решение. Равным образом и агрономы, если они как‑либо оскорбят тех, кто вверен их попечению,
762
если неравномерно распределят задания или попытаются захватить и унести что‑либо из земледельческих орудий без согласия на то владельца, а также если они станут брать дары от желающих подольститься или будут несправедливо распределять наказания, они будут как люди нестойкие перед лестью заклеймены позором по всему государству. Что касается остальных допущенных ими нарушений в отношении к местным жителям, то за нарушения, оцениваемые в одну мину, если агрономы согласны,
b
они смогут подвергнуться суду соседей и деревенских жителей. В случае же если нарушение менее значительно, но агроном не желает добровольно дать ответ, надеясь избегнуть суда ввиду ежемесячного перехода на новое место, либо в случае более весомого нарушения, пострадавший должен обратиться в общий суд. Если он выиграет дело, то с агронома, пытавшегося бежать и не желавшего добровольно подчиниться, в наказание взыскивается пеня в двойном размере.
Правители и агрономы в течение двух лет ведут следующий образ жизни. Прежде всего в каждой местности будут совместные трапезы,
c
в которых все будут сообща столоваться. Кто без распоряжения должностных лиц или без основательной причины не будет в этом участвовать хотя бы только один день или отлучится на ночь и пятеро обнаружат это, они запишут его имя и выставят на площади как имя нерадивого стража. Он подвергнется посрамлению как человек, изменивший в своем деле государству; любой, кто пожелает, сможет невозбранно его побить.
d
Если же кто из самих должностных лиц совершит нечто подобное, то об этом следует уже позаботиться всем шестидесяти. Если заметивший и узнавший об этом не возбудит дела, он подпадает под те же законы и наказывается более, чем молодые должностные лица: он лишается права занимать все должности, доступные этим лицам. Стражи законов пусть тщательно наблюдают за этим, чтобы ничего такого либо не возникало в самом начале, либо, раз это уже возникло, чтобы за этим следовало достойное наказание.
e
Каждый человек должен мыслить обо всех без исключения людях так: не может стать достойным похвалы господином тот, кто не был раньше подвластным; поэтому более, чем умением хорошо властвовать, дулжно хвалиться умением хорошо подчиняться, прежде всего – умением подчиняться законам, что будет означать подчинение богам; затем – умением юношей подчиняться старшим, честно прожившим всю свою жизнь. Далее, ставший агрономом должен в течение двух лет ежедневно отведывать тяжкой и бедственной жизни. В самом деле, после того как двенадцать будут избраны, пусть они соберутся совместно с пятью на совещание,
763
ведь они, точно слуги, уже не будут иметь других слуг и рабов, не будут пользоваться для своих частных нужд услугами остальных земледельцев и поселян, но только для общественных надобностей. В прочем же пусть сами они обратят внимание друг друга на то, что им предстоит самим себя обслуживать; к тому же им зимой и летом придется во всеоружии обследовать всю свою область как для охраны, так и для постоянной осведомленности о всех местных событиях.
b
Отчетливое знание каждым человеком своей страны – это наука, которая, пожалуй, не хуже всякой иной. Поэтому молодежь должна предаваться псовой или какой‑то иной охоте не меньше, чем остальным удовольствиям, сопряженным с возникающей из них для каждого человека пользой. Тех, кто занимается этим (по роду их занятия), мы назовем разведчиками, или агрономами, или каким‑либо другим подходящим именем,
c
но всякий намеревающийся надлежащим образом поддерживать свое государство пусть ревностно занимается этим по мере сил.
Затем нам следует поговорить об избрании должностных лиц: астиномов и агораномов. Шестидесяти сельским смотрителям пусть соответствуют трое городских смотрителей, которые разделят на три части двенадцать частей города; городские смотрители будут подражать сельским в заботе как о городских улицах, так и о больших дорогах, ведущих в город; в заботе о постройках,
d
чтобы все они возводились согласно законам, а равным образом и о воде, чтобы количества ее, посылаемого и передаваемого ими попечению стражей порядка, хватило бы для источников и чтобы она была чистой и служила украшению и пользе города. Кроме того, астиномы, чтобы заботиться об общем благе, должны быть состоятельными и иметь досуг. Поэтому каждый из высших классов пусть выставляет желаемых лиц для выборов в городские смотрители; избрание довершается путем поднятия рук.
e
Когда число лиц, получивших большинство голосов, дойдет до шести, те, кому надлежит, будут выбирать из них троих путем жребия. Их прошлое подвергается проверке, и они правят согласно установленным для них законам. После них надо произвести выборы пяти смотрителей рынков из второго и первого классов. Во всем прочем их выбор производится так же, как городских смотрителей: путем поднятия рук выбирается десять человек, и уже из них путем жеребьевки выделяют пятерых, проверяют их прошлое и наконец объявляют их должностными лицами. Пусть каждый избиратель участвует в каждом голосовании, производящемся путем поднятия рук.
764
Уклонившийся, лишь только должностные лица будут извещены об этом, подвергнется пене в пятьдесят драхм и, кроме того, прослывет дурным гражданином.
Всякий желающий может посещать народные сходки или собрания. К этому посещению обязываются члены второго и первого классов под угрозой пени в десять драхм за доказанное непосещение. Для граждан третьего и четвертого классов посещение не обязательно; им не угрожает пеня, разве лишь когда должностные лица вследствие какой‑либо надобности объявят присутствие всех обязательным.
b
Агораномы должны охранять на рынке порядок, предписанный законами, заботиться о находящихся на городской рыночной площади святилищах и источниках, чтобы никто ни в чем не терпел обиды; нарушителя же надо наказывать, если он раб или чужеземец, палочными ударами и тюремным заключением, если же станет бесчинствовать местный житель, то агораномы выступают полномочными судьями в тяжбах, не превышающих ста драхм; присуждать обидчика к пене в двойном размере по отношению к этому они могут лишь сообща с астиномами.
c
Такое же право налагать пени и наказание будет и у астиномов в подначальной им местности; пеню до одной мины они могут налагать сами, в двойном размере – совместно с агораномами.
Затем следует назначить должностных лиц, ведающих мусическим и гимнастическим искусствами, – тех и других по два: одного – для обучения, другого – для состязаний. Под первыми закон понимает попечителей над гимнасиями и училищами, поставленных для наблюдения за порядком, воспитанием, посещаемостью
d
и пребыванием там мальчиков и девочек; под вторыми – судей над участниками гимнастических и мусических состязаний. Эти последние будут опять‑таки двоякого рода: одни – судьи в мусическом искусстве, другие – в телесных состязаниях. При состязаниях людей или коней присуждать награду будут одни и те же судьи, но при мусических состязаниях одни будут присуждать награды в одиночном пении и в мимическом искусстве,
e
то есть рапсодам, кифаристам, флейтистам и подобным им мастерам, другие же будут присуждать награды за хоровое пение. Сначала надо выбрать руководителей хоровых игр, то есть хоров мальчиков, мужчин и девушек, их плясок и других видов искусства, воспитателей их мусической стройности. Для этого достаточно одного руководителя не моложе сорока лет.
765
Для одиночного пения будет также достаточен один руководитель не моложе тридцати лет; он будет допускать к состязаниям и судить состязающихся. Руководителя и устроителя хороводов надо выбирать так: те, кто возымел к этому делу склонность, должны явиться на собрание под угрозой наказания в случае неявки; при этом судьями будут стражи законов. Для остальных это не обязательно, если они не желают.
b
Выдвигать для избрания надо сведущих лиц; равным образом при докимасии, отводе или утверждении будет приниматься во внимание одно лишь это обстоятельство, а именно принадлежит ли избранный по жребию к числу сведущих лиц или нет. Из числа десяти лиц, предварительно избранных путем поднятия рук, по жребию после докимасии избирается на год руководитель хоров. Таким же образом, после такой же процедуры из числа явившихся избирается на тот же год руководитель одиночного пения и сопровождения на флейте, причем его избрание будут подтверждать судьи.
c
После этого надо из второго и третьего класса избрать распорядителей‑судей для гимнастических состязаний людей и коней.
Участвовать в выборах обязуются все принадлежащие к первым трем классам, а самый низший класс пусть останется безнаказанным, если не примет участия в выборах. Пусть будет выбранных по жребию только трое, а всех лиц, предварительно избранных путем поднятия рук, – двадцать. Из этих двадцати трое выбираются по жребию, только если они получат в свою пользу голоса лиц, производящих докимасию. Если же тот, на кого пал жребий и о ком надо принять решение,
d
будет при докимасии забракован, на его место надо избрать иных людей тем же самым способом и так же подвергнуть их докимасии.
У нас остается еще одна государственная должность (касающаяся того, о чем речь была выше), состоящая во всевозможном попечении о воспитании мальчиков и девочек. Пусть во главе этого дела стоит, согласно законам, одно должностное лицо, достигшее не менее пятидесяти лет и имеющее законнорожденных детей, лучше всего и сыновей, и дочерей или по крайней мере хоть кого‑то из них.
e
Как избиратель, так и избираемый должны понимать, что эта должность гораздо значительнее самых высоких должностей в государстве. В самом деле, первый отпрыск любого растения, хорошо направленный, получает возможность усовершенствовать качества, свойственные его природе.
766
Это касается не только всех растений и животных, как диких, так и ручных, но и людей. Мы считаем человека существом кротким. Да, если его счастливые природные свойства надлежащим образом развиты воспитанием, он действительно становится кротчайшим и божественнейшим существом. Но если человек воспитан недостаточно или нехорошо, то это – самое дикое существо, какое только рождает земля[2022]
. Поэтому законодатель не должен допускать, чтобы воспитание детей было чем‑то второстепенным и шло как попало. Напротив, это первое, с чего должен начать законодатель. Если он хочет создать должное попечение о детях, ему надо выбрать из числа граждан человека, наилучшего во всех отношениях,
b
и по возможности именно его назначить попечителем о детях. Итак, пусть все должностные лица, кроме членов совета и пританов, собравшись в святилище Аполлона, изберут путем тайного голосования из числа стражей законов того, кто, по мнению избирателей, лучше всего мог бы руководить вопросами воспитания. После докимасии, произведенной всеми избравшими его должностными лицами, кроме стражей законов, получивший наибольшее число голосов отправляет свою должность в течение пяти лет, а на шестой год таким же способом избирают ему преемника.
c
Если кто‑либо из отправлявших общественную должность умрет ранее чем за тридцать дней до истечения срока его полномочий, пусть те, кому надлежит, назначат точно таким же образом другого на эту должность[2023]
. Если сироты лишатся опекуна, то родственники с отцовской и материнской стороны, проживающие в стране, вплоть до двоюродных братьев, должны в течение десяти дней назначить другого опекуна.
d
Иначе каждый из них будет наказан пеней в одну драхму за каждый день до тех пор, пока они не назначат опекуна.
Всякое государство перестает быть государством, если суды в нем не устроены надлежащим образом. В свою очередь, по нашему мнению, никогда не будет в состоянии осуществлять правосудие безгласный судья, не высказывающий во время разбирательства более того, что говорят тяжущиеся стороны; это бывает только при частном посредничестве. Вот почему при многочисленных судьях трудно осуществлять правосудие, так же как и при немногих, если они дурны. Нужно всегда уметь понять то, что оспаривается сторонами;
e
полезно предварительно, исподволь и неоднократно, в течение некоторого промежутка времени вести разбирательство, чтобы выяснить спорный вопрос. Для этого тяжущиеся стороны должны обращаться к своим соседям, друзьям, вообще к тем, кто более всего знаком с делом.
767
Если при этом получится суждение неудовлетворительное, дулжно обратиться к другому суду. Если ни один из этих судов не сумеет разрешить дела, пусть третий вынесет окончательное решение.
Назначение судов известным образом относится к избранию правителей. В самом деле, каждый правитель в определенных случаях выступает как судья; судья же, не будучи правителем, тем не менее становится им – и притом далеко не последним – в тот день, когда своим приговором заканчивает судебное дело.
b
Поэтому причислим и судей к правителям и посмотрим, какие качества им надлежит иметь, чту им подсудно и сколько должно их быть в каждом отдельном случае.
Самым важным пусть будет тот суд, который назначат для себя тяжущиеся стороны, выбрав его сообща. Кроме того, пусть будут еще два суда: один для разбора дел между частными лицами, чтобы тот, кто считает себя оскорбленным другим человеком, мог по желанию обратиться к правосудию;
c
другой же суд – для тех случаев, когда, по мнению гражданина, кем‑нибудь нарушаются интересы общества и он желает прийти им на помощь.
Надо также сказать о том, кто будет судьями и какими качествами должны они обладать. Первый суд у нас будет общим для всех тех частных лиц, которые в третий раз ведут тяжбу по своему делу. Этот суд будет устроен примерно так: должностные лица всех рангов, избранные на годичный и более срок, перед началом нового года, в месяц, следующий за летним солнцестоянием, накануне этого дня должны собраться в одном святилище,
d
принести клятву богу и выделить как первое приношение из каждой правительственной должности в качестве судьи одно лицо, проявившее себя в этой должности наилучшим образом; можно ожидать, что лицо это самым лучшим и благочестивым образом будет творить правосудие в течение предстоящего года среди граждан.
Избиратели сами производят докимасию среди этих избранных. Если кто из них будет забракован, следует таким же способом взамен него выбрать другого. Прошедшие докимасию творят суд над теми, кто уклоняется от прочих судов. Голосование в этом суде должно производиться открыто.
e
Члены совета и прочие должностные лица, избравшие судей, непременно должны быть слушателями и зрителями в этих судилищах, а также и все другие желающие из граждан. Если кто станет жаловаться на умышленное нарушение правосудия со стороны судьи, обвинение следует направлять к стражам законов. Уличенный в этом должен заплатить пострадавшему половину суммы, в которую оценивается убыток. Если окажется, что виновный заслуживает большего наказания, стражи законов, приговору которых он подлежит, решают, чту именно сверх этого должен он претерпеть и чем может он возместить ущерб как обществу, так и пострадавшему, обратившемуся в суд.
768
Обвинения в государственных преступлениях должны сперва передаваться на решение народа. Когда наносят обиду государству, пострадавшими оказываются все граждане; они справедливо негодовали бы, если бы остались непричастными к решению суда. Поэтому‑то начало подобного дела и окончательное решение по нему предоставляются народу, но разбирательство и обсуждение производятся тремя высшими должностными лицами по соглашению истца и ответчика. Если эти последние не могут прийти к соглашению, совет сам назначает судей из числа лиц, выбранных обеими сторонами.
b
Что касается разбора частных дел, то по мере сил все должны принимать и в нем участие. Кто не использует возможность общего отправления правосудия, тот считается вовсе не имеющим отношения к государству. Поэтому необходимо, чтобы и в каждой филе были суды, где судили бы судьи, непреклонные к просьбам и избираемые по жребию. Окончательным же для всех подобных дел будет тот суд, который, как мы сказали, окажется наиболее беспристрастным, насколько это в человеческих силах;
c
суд этот предназначается для окончания тех дел, которые не могли быть разрешены ни судом соседей, ни судом филы.
Вот все, что касается судов. Как мы уже сказали, нелегко разобраться, являются ли судьи государственными должностными лицами или нет. Мы уже отчасти как бы набросали внешний очерк судопроизводства; кое‑что, однако, осталось незатронутым. Впрочем, всего правильнее было бы уже под конец законодательства подробно остановиться на вопросе о судебных законоположениях и подразделениях судов.
d
Это‑то и ждет нас в конце. Что же касается назначения остальных должностных лиц, то большей частью это уже, пожалуй, осуществлено нами в законодательстве. Однако невозможно полностью, и притом точно, выяснить все до единого вопросы, касающиеся государства и устройства всех его дел, прежде чем наше рассмотрение не придет к концу, охватив все к нему относящееся – как главные, так и второстепенные и средние по значению вещи.
e
В настоящее время можно ограничиться сказанным выше, вплоть до избрания должностных лиц. Теперь же начнется установление законов; нет уже больше нужды для отступлений и разных задержек.
Клиний.
Все сказанное тобой, чужеземец, вполне отвечает моим желаниям. Но еще более приятно, что ты покончил с этим и начинаешь говорить о дальнейшем.
769
Афинянин.
Значит, до сих пор нам прекрасно удалось наше разумное старческое развлечение.
Клиний.
Сдается, что не развлечение, а прекрасное и серьезное занятие зрелых людей.
Афинянин.
Весьма возможно. Если ты согласен со мной, то обрати внимание на следующее…
Клиний.
На что же? И из какой области?
Афинянин.
Ты знаешь, что работа художников над своими произведениями не имеет никакого предела; художник так и этак расцвечивает картину, наносит оттенки (так это, кажется, называют ученики живопицев) –
b
словом, он беспрестанно улучшает картину до тех пор, пока она не станет безукоризненно прекрасной и выразительной.
Клиний.
Я приблизительно улавливаю то, о чем ты говоришь, хотя совершенно незнаком с этим искусством.
Афинянин.
Ты от этого ничего не потерял. Однако воспользуемся этим подвернувшимся нам теперь наблюдением.
c
Дело вот в чем: если кто замыслил написать сколь возможно прекрасную картину, такую, чтобы и в последующее время она не потеряла своих достоинств, но казалась бы еще лучше, он, как ты понимаешь сам, должен оставить по себе преемника (сам‑то ведь он смертен), чтобы тот подправлял его картину, если она пострадает от времени, и чтобы он мог с блеском восполнить упущения, оказавшиеся в картине из‑за несовершенства искусства ее творца. В противном случае безмерный его труд долго не просуществует[2024]
.
Клиний.
Верно.
d
Афинянин.
Что же? Разве не таков же и замысел законодателя? Прежде всего законодатель хочет с достаточной по мере сил тщательностью записать законы. С течением времени его набросок проверяется на опыте. Так неужели же, по‑твоему, законодатель может быть настолько безрассуден, чтобы не признать неизбежно пропущенным много такого, что нуждается в дальнейшем исправлении?
e
Только таким образом намеченный законодателем государственный строй и порядок может стать не хуже, а лучше.
Клиний.
Разумеется. Всякий, естественно, будет желать именно этого.
Афинянин.
Если бы кто знал средство, как словесно или на деле обучить другого человека, сколько именно внимания надо обращать на то, каким образом следует охранять и исправлять законы, – неужели он не сообщил бы этого средства, прежде чем окончить свой век?
770
Клиний.
Конечно, сообщил бы.
Афинянин.
Поэтому и нам с вами надо сейчас это сделать.
Клиний.
Что именно?
Афинянин.
Мы намерены дать законы. У нас выбраны стражи законов. Мы находимся на закате нашей жизни[2025]
, они, сравнительно с нами, еще молоды. Поэтому, как мы и говорим, нам надо одновременно с законодательством попытаться по мере сил создать из них законодателей и стражей законов.
b
Клиний.
Ну что ж, если это только в наших силах.
Афинянин.
По крайней мере надо попытаться ревностно этим заняться.
Клиний.
Конечно.
Афинянин.
Так обратимся же к ним с такими словами: «Друзья, вы – спасители законов. Мы сделаем очень много упущений в каждом устанавливаемом нами законе. Это уж неизбежно. Правда, мы по мере сил сделаем как бы общий набросок важных вопросов.
c
Вашей задачей будет дорисовка этого наброска. Поэтому выслушайте, на что вы должны обращать внимание, когда будете это делать: мы с Мегиллом и Клинием уже неоднократно говорили друг другу об этом и признаем правильность наших воззрений. Мы хотим, чтобы вы их разделяли и вместе с тем чтобы вы стали нашими учениками. Обратите же внимание на то, чту, по нашему общему признанию, есть цель законодателя и стража законов.
d
Вот что мы признали самым главным: человек должен стать хорошим, он должен обладать подобающей ему душевной добродетелью, основанной на тех или иных обычаях или нравах, на том, чем он владеет, и на определенном стремлении, мнении или познании. В человеческом общежитии все – мужчины, женщины, молодые, старые – должны со всевозможным рвением в течение всей своей жизни стремиться к осуществлению указанной нами цели. И пускай никто не предпочтет то, что может этому воспрепятствовать.
e
Наконец, и все государство, если обнаружится неизбежность неурядиц, не пожелает пребывать под рабским игом, не допустит, чтобы у власти встали худшие: граждане скорее предпочтут покинуть свое государство и отправиться в изгнание; они предпочтут претерпеть и другие подобные вещи, пока не изменится тот государственный строй, которому свойственно делать людей худшими. В этом мы уже согласились раньше, а теперь вы, стражи законов, должны подвергнуть одобрению или порицанию наши законы, имея в виду, однако, оба этих воззрения. Порицайте те законы, которые не могут вести к этой цели,
771
а те, что могут, приветствуйте, примите их благосклонно и живите под ними. Что же касается остальных обычаев и всего того, что ведет к другим так называемым благам, с ними следует распроститься».
Далее, начало законов пусть будет примерно следующим. Начнем с вопросов божественных. Прежде всего, однако, нам надо вспомнить о числе 5040: на сколько удобных частей оно делилось – да и делится – как вообще, так и по филам?
b
Каждая фила составляет, как мы положили, одну двенадцатую часть этого числа и образуется всего правильнее путем умножения числа двадцать один на двадцать. Общее наше число разделяется на двенадцать частей. На столько же делится число, составляющее филу. Следует вдуматься в то, что каждая получающаяся таким образом часть – это священный дар бога: она соответствует месяцам и обращению Вселенной. Вот почему всякое государство считает эти подразделения священными по своей природе. Другие законодатели других государств, быть может, правильнее произвели подразделение и более счастливо освятили его.
c
Впрочем, мы и теперь скажем, что мы в высшей степени верно выбрали раньше это число 5040, ведь у него есть различные делители, начиная от единицы до двенадцати, за исключением числа одиннадцать. Но и здесь очень легко помочь беде: если от пяти тысяч сорока очагов отнять два, то все придет в порядок. Что это действительно так, легко покажет небольшое доказательство, которое мы дадим на досуге, а сейчас примем на веру разумность этого откровения.
d
Произведем сообразно с ним подразделение и посвятим каждую часть богу или одному из детей богов. Мы воздвигнем им алтари со всей относящейся к ним утварью. Мы учредим жертвенные собрания у этих алтарей дважды в месяц. Первые двенадцать таких собраний будут соответствовать разделению каждой филы, вторые двенадцать – членению самого государства. Эти собрания должны совершаться, во‑первых, во имя милости богов и всего божественного, а затем и ради нашей собственной близости, знакомства и, так сказать, всяческого общения.
e
В самом деле, при брачных отношениях и сочетании надо избегать неосведомленности относительно того, из какой семьи ты берешь себе жену или в какую семью отдаешь свою дочь. Надо очень и очень ценить безошибочность в подобного рода вопросах, – конечно, насколько это возможно. Ради этой важной цели надо учредить хороводные игры юношей и девушек,
772
где у них были бы разумные и подобающие их возрасту поводы видеть друг друга обнаженными – в пределах, дозволяемых скромной стыдливостью каждого. Попечителями, упорядочивающими все это, будут руководители хороводов, а также законодатели и стражи законов, они будут исправлять допущенные нами упущения. Ведь законодатель неизбежно, как мы сказали, пропускает много мелочей в подобного рода вопросах.
b
Поэтому сведущие лица, с каждым годом приобретающие все больше опыта, постоянно должны делать исправления и ежегодно вносить перемены, пока не окажется, что достигнут предел для этих установлений и обычаев. Десятилетний срок будет достаточен и соразмерен для приобретения опыта в жертвоприношениях и хороводах как в целом, так и в подробностях. При жизни законодателя, установившего все это, изменения производятся сообща с ним.
c
После его смерти каждое должностное лицо само доводит до сведения стражей законов об упущениях в его области, нуждающихся в исправлении. Так продолжается, пока все не достигнет окончательной завершенности. После же этого все устанавливается уже незыблемо и применяется наряду с остальными законами, изначально установленными законодателем. Впредь уже никогда не допускается никакое добровольное нарушение в этих вещах; если же в будущем возникнет необходимость в изменениях,
d
то всем должностным лицам надо сойтись на совещание и обратиться за советом как ко всему народу, так и к божественным прорицаниям. Если все будут согласны, можно произвести изменение, в противном же случае – никоим образом и никогда: согласно закону, любой протест здесь имеет силу.
После того как человек, достигший двадцатипятилетнего возраста, посмотрит невест и они посмотрят его, пусть он выберет по желанию женщину и уверится, что она подходит для рождения и совместного воспитания детей,
e
и тогда пусть женится – не позднее тридцати пяти лет. Однако сперва пусть он выслушает, как он должен отыскивать подходящее и подобающее. Как говорит Клиний, каждому закону следует действительно предпослать соответственное вступление.
Клиний.
Твое напоминание, чужеземец, превосходно и кажется мне вполне подходящим. Ты кстати выбрал момент в нашей беседе.
773
Афинянин.
Отлично. «Дитя, – так скажем мы сыну честных родителей, – тебе надо вступить в брак, который вызвал бы одобрение разумных людей. Они не посоветуют тебе при заключении брака избегать бедных и слишком гнаться за богатыми. При прочих равных условиях следует предпочесть скромное состояние и тогда заключить брачный союз. Ведь это было бы на пользу и данному государству, и будущим семьям».
В самом деле, с точки зрения добродетели равное и соразмерное бесконечно выше чрезмерного. Человеку, сознающему себя дерзким и вместе с тем склонным быстрее должного приниматься за разные дела,
b
надо усердно стремиться стать свойственником умеренных людей, а кто от природы обладает противоположными качествами, тому надо и в свойственниках искать противоположное. Относительно всякого брака пусть соблюдается одно предписание: каждый человек должен заключать брак, полезный для государства, а не только очень приятный ему самому. От природы так устроено, что всякий человек всегда склоняется к тому, что всего более с ним сходно;
c
отсюда по всему государству возникает несоответствие, как имущественное, так и в отношении нравов. Поэтому в большинстве государств очень часто случаются нежелательные для нас вещи. Однако если бы мы в соответствии со сказанным буквально законом предписали богатому не вступать в брак с богатой, могущественному – с женщиной из могущественной семьи или если бы мы стали принуждать сочетаться между собой живые характеры и медлительные, мы возбудили бы этим не только смех, но и негодование большинства людей. Ведь нелегко понять, что государство должно быть смешано наподобие напитка в кратере,
d
где бурлит налитое неистовое вино, а другое, трезвое божество его сдерживает, так что получается добрый, смешанный в меру напиток[2026]
. Что то же самое бывает и при бракосочетании, заметить этого никто, так сказать, не в силах. Поэтому нельзя принуждать к этому законом, а надо попытаться как бы заворожить людей и убедить, что в браке каждый человек должен выше всего ставить взаимное соответствие своих детей,
e
а не стремиться ненасытно к имущественному равенству. Кто при браке всячески обращает внимание лишь на имущественное положение, того мы попытаемся отвратить от этого путем порицания. Однако мы не станем принуждать его с помощью писаного закона.
Ограничимся этими увещаниями относительно браков. Упомянем еще только сказанное выше, а именно: человек должен следовать своей вечнотворящей природе, поэтому он должен оставлять по себе детей и детей своих детей,
774
постоянно доставляя богу служителей вместо себя. Вступая надлежащим образом в разговор, помимо всего этого можно было бы еще много сказать о браке и о том, как надо его заключать.
Но если кто не будет повиноваться по доброй воле, станет вести себя как чужеземец, непричастный данному государству, и не женится по достижении тридцати пяти лет, он будет ежегодно платить пеню: гражданин, принадлежащий к высшему классу, – сто драхм, ко второму – семьдесят, к третьему – шестьдесят, к четвертому – тридцать[2027]
. Деньги эти будут посвящены Гере[2028]
.
b
Не выплачивающий их ежегодно будет принужден заплатить в десятикратном размере. Взыскивать их будет казначей богини; если же он не взыщет, то сам будет должен их выплатить. Это принимается в соображение при его отчетах. Итак, не желающий жениться подвергнется подобной денежной пене; что касается почета, то младшие будут подвергать его всевозможному поруганию[2029]
. Пусть никто из молодых не слушается его добровольно, если же он попытается принудить кого‑либо, то всякий должен прийти на помощь и защитить обижаемого.
c
Кто, будучи свидетелем подобного принуждения, не придет на помощь, тот, по закону, будет назван трусом и дурным гражданином.
О приданом было сказано уже ранее. Повторим снова: людей бедных надо наставить[2030]
, что взаимное равенство заключается в том, чтобы не брать и не давать вследствие имущественной нужды приданого. Необходимое есть у всех граждан нашего государства; поэтому из‑за денег там меньше возникает дерзости у женщин и низкого, неблагородного порабощения ими мужей.
d
Повинующийся совершит тем самым прекрасный поступок, а неповинующийся, давший или получивший приданое на приобретение одежды, если стоимость его больше, чем пятьдесят драхм, должен уплатить в общественную казну одну мину, если он принадлежит к четвертому классу, три полумины – если к третьему, две мины – если ко второму, и вдвое больше последнего, если он принадлежит к высшему классу. А данное или полученное приданое посвящается Гере и Зевсу. Казначеи этих двух божеств взыскивают его таким же образом,
e
как это было сказано о взыскании казначеями Геры постоянной пени с неженатых, иначе казначеи сами выплачивают пеню.
При помолвке полномочным является поручительство прежде всего со стороны отца, затем – деда, наконец, – со стороны единокровных братьев. Если никого из них нет, то так же точно полномочно поручительство с материнской стороны. Если произойдет какой‑нибудь необычный случай, то полномочны всегда ближайшие родственники и опекуны.
775
Что касается предварительных брачных жертвоприношений и других священнодействий, которые подобает совершать во время брака, до него или после, то каждый должен вопросить истолкователей и, выполнив их предписания, считать, что все совершено соответствующим образом.
На брачные пиршества каждая сторона должна приглашать не более пяти друзей или подруг, и таким же должно быть число родственников и домочадцев с обеих сторон. Издержки ни у кого не должны быть бульшими, чем это позволяет состояние, а именно: для граждан самого богатого класса – одна мина, для второго – пол‑мины и так далее,
b
согласно уменьшению имущественного ценза. Тому, кто повинуется закону, все должны выразить одобрение; неповинующегося подвергают наказанию стражи законов как человека, лишенного чувства прекрасного и не воспитанного в законах о свадебных музах. Пить до опьянения не подобает никогда, за исключением празднеств в честь бога – дарителя вина[2031]
; к тому же это и небезопасно для человека, серьезно относящегося к браку.
c
Здесь и жениху, и невесте подобает быть очень разумными, ведь это немалая перемена в их жизни. Да и потомство должно произойти от наиболее разумных родителей; между тем ведь почти неизвестно, в какую ночь – или день – будет с помощью бога зачат ребенок. Поэтому зачатие не должно совершаться, когда тело расслаблено от вина. Напротив, ребенок должен зародиться, как это и подобает, крепким, спокойным, в утробе он не должен блуждать. А пьяный человек и сам мечется во все стороны, и увлекает все за собой;
d
он неистовствует и телом, и душой; стало быть, тот, кто пьян, не владеет собой и не годится для произведения потомства. Естественно, что ребенок иной раз рождается ненормальным, не внушающим доверия и неудачным как по характеру, так и телом. Поэтому как в течение целого года, так и в течение всей своей жизни, а всего более тогда, когда наступает время родить, дулжно остерегаться и не совершать по доброй воле ничего вредного, дерзкого и несправедливого. Ибо все это неизгладимо отпечатлевается в душе и теле ребенка, и дети рождаются плохими во всех отношениях.
e
Особенно надо воздерживаться от этого в тот день и в ту ночь, когда совершается брак. Ибо божественное начало, заложенное в человеке, спасает все, если каждый подобающим образом его чтит.
Тот, кто вступает в брак, должен считать один из своих домов, входящих в его надел, местом рождения и воспитания детей.
776
Там он женится или выходит замуж, расставшись с отцом и матерью; это – место, где живет и питается он сам и его дети. В самом деле, если в дружеских отношениях присутствует род страстного влечения, он связует и скрепляет различные характеры. А пресыщенность совместной жизнью, в которой не возникает время от времени этого влечения, вызывает взаимное отчуждение. Поэтому, предоставив матери, отцу и родственникам жены их жилища, сами новобрачные должны отправиться как бы в колонию.
b
Однако они навещают своих родителей, и те навещают их. Родив и воспитав детей, они передают им – одни другим – жизнь, словно факел[2032]
, тем самым постоянно оказывая богам согласное с законом почтение.
Далее, обладание какого рода имуществом является наиболее благоприятным? Относительно большинства предметов это нетрудно сообразить, да и приобрести это нетрудно.
c
Но вопрос о рабах труден во всех отношениях. Причиной служит то, что мы как‑то неправильно говорим о рабах и тем не менее до известной степени правильно. В самом деле, наши выражения относительно рабов то противоречат тому, как мы пользуемся ими, то в свою очередь согласуются с этим.
Мегилл.
Что это мы опять говорим? Чужеземец, мы не понимаем, о чем ты спрашиваешь!
Афинянин.
Это очень естественно, Мегилл. Чуть ли не всем эллинам лакедемонская илотия[2033]
доставила бы величайшее затруднение и возбудила бы споры: по мнению одних, это хорошее учреждение, по мнению других – плохое.
d
Меньше споров было бы о рабском положении мариандинов, порабощенных гераклейцами, а также о фессалийском племени пенестов[2034]
. Если мы обратим внимание на подобные явления, как мы должны будем поступить с рабовладением? Я в своей речи мимоходом коснулся этого; ты, естественно, задал мне вопрос, чту я тут разумею. А вот что: все мы сказали бы, как известно, что надо обладать лучшими и самыми благожелательно к нам настроенными рабами. Действительно, многие рабы оказались по своим достоинствам лучше братьев и сыновей своих господ,
e
так как спасли и своих господ, и их имущество, и все их жилище. Именно это, как мы знаем, иной раз рассказывают о рабах.
Мегилл.
Действительно.
Афинянин.
Однако утверждают и обратное, то есть что душа раба лишена всего здравого и что никогда человек, обладающий разумом, не должен доверять такой породе людей. Это выразил и самый мудрый из наших поэтов, говоря о Зевсе:
777
Тягостный жребий печального рабства избрав человеку,
Лучшую разума в нем половину Зевс истребляет[2035]
.
Стало быть, люди держатся различных воззрений: одни ни в чем не доверяют породе слуг и делают их души рабскими, воздействуя на них стрекалами и бичами, точно это дикие звери, причем совершают это не по три раза, а многократно. Другие же поступают прямо наоборот[2036]
.
Мегилл.
Конечно.
b
Клиний.
Раз все это так различно, что же делать нам, чужеземец, в нашей стране с рабами – как владеть ими и как наказывать их?
Афинянин.
В чем дело, Клиний? Раз человек – существо с нелегким нравом, то, думается мне, ясно, что он ни за что не захочет добровольно подвергнуться этому необходимому разграничению – на свободных господ и рабов. Владение рабами тяжко.
c
Это многократно было доказано возникновением частых и ставших обычными восстаний мессенцев[2037]
. Сколько случается бедствий в государствах, которые обладают большим числом рабов, говорящих на одном языке! Добавим еще разнообразные хищения и ущерб, причиняемый в пределах Италии так называемыми пиратами. Взглянув на все это, иной затруднился бы сказать, как надо поступать во всех этих случаях. Остается только два средства: во‑первых, чтобы рабы лучше подчинялись, они не должны быть между собой соотечественниками[2038]
, а, напротив,
d
должны по возможности больше разниться по языку; во‑вторых, надо воспитывать рабов надлежащим образом, и не только ради них самих, но и ради своей собственной чести. Это воспитание заключается в том, чтобы не позволять себе никакой резкости в отношении к рабам и по возможности причинять им еще меньше обид, нежели тем, кто нам равен. Ведь именно в отношениях с теми людьми, которых легко обидеть, и обнаруживается вполне, кто по природе, а не ради видимости чтит справедливость и подлинно ненавидит несправедливость. Итак, кто в своих привычках и действиях по отношению к рабам окажется незапятнанным нечестием и несправедливостью,
e
тот будет самым достойным сеятелем на ниве добродетели. То же самое будет правильным сказать о господине, о тиране и о любом другом виде господства над более слабыми. Впрочем, дулжно наказывать рабов по справедливости и не изнеживать их, как свободных людей, увещаниями. Почти каждое обращение к рабу должно быть приказанием[2039]
.
778
Никоим образом и никогда не надо шутить с рабами – ни с женщинами, ни с мужчинами. Многие весьма безрассудно изнеживают рабов; этим они лишь делают более трудной их подчиненную жизнь, да и себе затрудняют управление ими.
Клиний.
Ты прав.
Афинянин.
Итак, мы допускаем, что граждане будут снабжены достаточным по мере сил количеством рабов, а качества рабов будут пригодны для помощи в любой работе. Теперь надо описать и жилища граждан.
Клиний.
Конечно.
b
Афинянин.
К тому же позаботиться о строительстве жилищ в новом и дотоле не заселенном государстве – это, скажем прямо, естественно. Каким же образом будут устроены стены и все относящееся к святилищам? Эти законы, Клиний, должны были бы предшествовать законам о браках. Но поскольку наше государство возникает пока лишь словесно, вполне уместно и сейчас об этом поговорить. Когда же государство будет основываться на деле, тогда, если богу угодно,
c
мы осуществим это еще до брачного законодательства и увенчаем этим последним все остальное. А сейчас мы дадим только краткий набросок.
Клиний.
Отлично.
Афинянин.
Храмы надо построить вокруг всей торговой площади. Да и весь город надо расположить кругами, поднимающимися к возвышенным местам, ради хорошей защищенности и чистоты. Рядом с храмами надо расположить помещения для правителей и судилищ. Там‑то как в самых священных местах и будет вершиться правосудие частью постольку,
d
поскольку жалобы касаются благочестия, частью же потому, что рядом находятся храмы соответствующих богов. Здесь будут и, те суды, в которых будут разбираться дела об убийстве и присуждаться наказания за преступления, достойные смертной казни.
Что касается городских стен, Мегилл, то я бы сослался на Спарту, а именно: пусть стены покоятся в земле и пусть их не восстанавливают[2040]
. И вот по какой причине: прекрасно сказано о них в слове поэта,
e
что стены скорее должны быть медными и железными, нежели земляными[2041]
; однако что до нас, то мы справедливо вызвали бы великий смех после того, как ежегодно посылали бы молодых людей для устройства там и сям то рвов, то окопов, в иных же местах – и каких‑то сооружений для ограждения от врагов, чтобы не допустить неприятеля преступить границу нашей страны, и вдруг возвели бы вокруг города стену. Прежде всего это совсем не полезно для государств, так как обычно приводит души
779
жителей в расслабленное состояние, ведь стены приглашают граждан укрываться за ними и не давать отпора врагам. Поэтому граждане не спасаются тем, что постоянно, день и ночь, некоторые из них стоят на страже, но, наоборот, почивают, считая себя огражденными стеной и вратами, словно они и на самом деле обрели в этом средство спасения и словно они родились не для трудов: им невдомек, что на самом деле облегчение явилось результатом трудов. Из постыдных же поблажек и малодушия, думаю я, обычно снова возникают труды. Но если уж нужны людям какие‑нибудь стены, то надо с самого начала, при строительстве жилищ,
b
так располагать частные дома, чтобы весь город представлял собой одну сплошную стену; при этом доброй защитой будет служить однородность и сходство всех домов, выходящих на улицу. Приятно было бы видеть город, имеющий облик единого дома; к тому же его, весь в целом, было бы чрезвычайно легко охранять и таким образом сберечь. Заботиться о том, чтобы сохранились постройки, воздвигнутые вначале, следовало бы больше всего самим обитателям.
c
Астиномы также пекутся об этом, принуждают и наказывают нерадивого; они же пекутся и о чистоте всех частей города, а также о том, чтобы ни одно частное лицо не захватывало городской земли для своих построек и рвов. Астиномам надо заботиться и о хорошем стоке дождевых вод, а также обо всем внутри и вне города, что подлежало бы устроению. Стражи законов тоже будут наблюдать за всем этим
d
и по мере надобности устанавливать дополнительные законы относительно всего, что могло быть пропущено законом ввиду трудности.
После того как у нас будут воздвигнуты эти здания, а также и те, что расположены вокруг рыночной площади, и после того как гимнасии, всякого рода училища и театры будут устроены и станут лишь ожидать посетителей или зрителей, мы продолжим наше законодательство в той части, что идет прямо за браком.
Клиний.
Конечно.
Афинянин.
Итак, Клиний, допустим, что браки у нас уже заключены. После этого надо коснуться образа жизни,
e
который будут вести молодые супруги до появления детей в продолжение не менее года. Как дано будет им жить в государстве, столь отличном от большинства государств? Это имеет близкое отношение к тому, о чем мы уже сейчас высказались. Однако договориться здесь не так‑то легко, народ примет это еще неохотнее, чем многие прежние законы подобного рода. Во всяком случае, Клиний, следует высказать то, что представляется верным и истинным.
Клиний.
Конечно.
780
Афинянин.
Неверно рассуждает тот, кто замыслил дать государствам законы о жизненных правилах поведения в общественном и всенародном обиходе, но не счел необходимым коснуться частной жизни и предоставил всем и каждому возможность проводить свои дни как угодно; не прав тот, кто не считает, что вообще все должно быть упорядочено, надеясь, что граждане, несмотря на то что частная их жизнь осталась неузаконенной, все‑таки пожелают в общественной и всенародной жизни поступать согласно законам. Для чего я говорю это? Вот для чего: молодые супруги, утверждаем мы,
b
не должны пользоваться преимуществами и будут так же, как и до брака, питаться за общими трапезами. Этот закон вначале возбуждал удивление, когда впервые появился в ваших краях. По‑видимому, он был вызван какой‑то войной или каким‑нибудь другим обстоятельством, влияющим так же, как и война, когда людей мало и они пребывают в большой нужде. Вынужденные воспользоваться сисситиями и их вкусить, они признали, что закон этот очень важен для жизни. Как‑то так и установился у вас этот обычай сисситий.
c
Клиний.
Вероятно.
Афинянин.
Вот почему я и сказал, что обычай этот некогда возбуждал удивление и рискованно было его предписать. Но в наше время уже не так трудно было бы его узаконить, если кто‑нибудь этого пожелает. Зато дальнейшее – что было бы естественно осуществить, хотя сейчас этого нигде нет, – заставляет законодателя, как говорят в шутку, чесать шерсть в огонь[2042]
d
и заниматься тысячью других бесполезных вещей подобного рода. Об этом нелегко говорить, а сказавши, нелегко это довести до конца.
Клиний.
Что же это такое, чужеземец? Ты хочешь что‑то сказать и, по‑видимому, сильно колеблешься.
Афинянин.
Так слушайте же, чтобы не было у нас много разговоров из ничего. Всевозможные блага в государстве производит то, что причастно порядку и закону. А беспорядок или плохие порядки разрушают бульшую часть других, хороших порядков. На этом основано и то, о чем у нас сейчас речь. У вас, Клиний и Мегилл, как я сказал, словно по какой‑то божественной необходимости, на удивление прекрасно установились сисситий. Однако они предназначены только для мужчин. А для женщин сисситии нигде как следует не узаконены,
781
и этот обычай не появился на свет. Между тем женский пол – это часть нашего человеческого рода; правда, ввиду своей слабости он уродился более скрытным и лукавым. К тому же он беспорядочен, так что попустительство законодателя здесь неправильно. Поэтому, если оставить женщин в стороне, многое от нас ускользнет. Гораздо лучше было бы и для них издать законы, чем то положение, которое существует ныне. Если оставить все касающееся женщин неупорядоченным, то мы просмотрим более половины необходимых законов. Ведь насколько женская природа по своему достоинству хуже нашей, мужской,
b
настолько же она превосходит нас своей многочисленностью – чуть ли не более чем вдвое. Следовательно, для благополучия государства лучше повторно возвращаться к этому вопросу, производить здесь улучшения и все обычаи устанавливать одинаково как для женщин, так и для мужчин. Однако в наше время род людской относится к этому неблагосклонно, так что разумному человеку нельзя даже и упомянуть об этом в иных краях и в тех государствах,
c
где вовсе отсутствуют сисситии как государственное установление. Как же не возбудит смеха чья‑нибудь попытка на самом деле заставить женщин на людях, у всех на виду принимать пищу и питье? Ведь нет ничего, к чему женский пол относился бы с бульшим отвращением, чем к этому. Женщины привыкли жить, укрывшись в тени; если насильно вытащить их на свет, они станут оказывать всяческое сопротивление и победят законодателя.
d
Поэтому‑то я и сказал, что в других местах не перенесут без громкого крика даже самого упоминания об этом, – разве что, быть может, здесь[2043]
. Если решить, что рассуждение наше о государственном строе в целом не является неудачным, ибо цель его разумна, то мне хотелось бы сказать, что такое постановление будет хорошим и подходящим, если только вы не откажетесь слушать. В противном случае оставим это.
Клиний.
Да нет же, чужеземец, оба мы очень хотим послушать.
e
Афинянин.
Ну, так давайте! Но нисколько не удивляйтесь, если вам покажется, что я пытаюсь повести речь издалека. Ведь мы наслаждаемся досугом, и нам нечего торопиться. Поэтому мы можем со всех сторон рассмотреть вопрос о законах.
Клиний.
Ты прав.
Афинянин.
Итак, вернемся к сказанному раньше. Всякий человек должен хорошо поразмыслить хотя бы над тем, что род людской либо вовсе не имел никакого
782
начала, так что не будет ему и конца, но он был всегда и всячески будет, либо, что со времени его возникновения протекло неизмеримое количество времени.
Клиний.
Как же иначе?
Афинянин.
Итак, мы должны считать, что по всей земле происходили всевозможные образования и разрушения государств, разнообразные по своему порядку или, наоборот, беспорядочности в отношении обычаев, а также потребностей в еде, питье и жилье[2044]
; происходили и разные повороты времен,
b
при которых живые существа, естественно, подверглись многочисленным изменениям.
Клиний.
Конечно.
Афинянин.
Дальше. Разве мы не поверим, что виноградная лоза когда‑то появилась, а раньше ее не было? То же самое можно сказать и об оливковом дереве, о дарах Деметры и Коры; разве мы не поверим, что некий Триптолем[2045]
был при этом прислужником? И не будем считать, что в то время, когда ничего этого не было, живые существа обратились, как, впрочем, и теперь, к взаимному пожиранию?
Клиний.
Почему же так не считать?
с
Афинянин.
Пережитки того, что люди приносили друг друга в жертву, мы и сейчас видим у многих народов[2046]
. И наоборот, по слухам, в иных местах не осмеливаются вкушать говядины, не приносят богам в жертву живых существ, но лишь лепешки, плоды, увлажненные медом, и тому подобные чистые приношения. Там воздерживаются от мяса, точно нечестиво есть его и осквернять жертвенники богов кровью. Тогдашние люди жили некоей так называемой орфической жизнью; всего неодушевленного они придерживались в пище, а от всего одушевленного, напротив, воздерживались[2047]
.
d
Клиний.
О том, что ты говоришь, часто рассказывают; все это достаточно убедительно.
Афинянин.
Но, скажут, к чему мы все это сейчас вспомнили?
Клиний.
Верное замечание, чужеземец.
Афинянин.
Итак, Клиний, если я смогу, я попытаюсь сообщить то, что за этим следует.
Клиний.
Пожалуйста, говори.
Афинянин.
Я вижу, что у людей все зависит от тройной нужды и вожделения. Когда все это идет правильно, рождается добродетель, когда жа неправильно – происходит противоположное.
e
Прежде всего это вожделение к еде и питью, возникающее с самого дня рождения; всякое живое существо яростно стремится к еде и питью и уже не слушает, если кто советует ему поступать иначе, а не только и делать, что удовлетворять этого рода вожделения и наслаждаться, постоянно устраняя всякого рода страдание. Третья же величайшая наша нужда и самое яростное стремление овладевает нами позднее;
783
оно воспламеняет людей неистовством и сжигает их на огне всевозможных бесчинств. Это – стремление к продолжению рода. Три эти болезни надо направить к высшему благу, отвратив их от так называемого высшего наслаждения. Надо попытаться сдержать их с помощью трех могущественнейших средств: страха, закона и правдивого слова, пользуясь при этом также музами и богами – покровителями состязаний, дабы погасить рост и наплыв этих страстей.
b
Итак, после речи о браках поговорим о рождении детей, а после этого – об их вскармливании и воспитании. Может статься, что, продолжая таким путем нашу беседу, мы доведем до конца все законы и дойдем тем самым и до сисситий. Когда мы ближе подойдем к этого рода союзам, нам станет яснее, должны ли они состоять из одних мужчин или также из женщин, – и тогда мы, быть может, скорее увидим, чту здесь остается
c
пока неузаконенным, и продвинем это вперед. Как было сейчас сказано, мы яснее увидим, какие более подходящие и подобающие законы здесь надо установить.
Клиний.
Ты совершенно прав.
Афинянин.
Так сохраним же в нашей памяти только что сказанное. Быть может, все это нам когда‑нибудь пригодится.
Клиний.
Что именно советуешь ты запомнить?
Афинянин.
То, что мы определили тремя словами: мы говорили о пище, затем о питье и, в‑третьих, о любовных потрясениях.
d
Клиний.
Мы хорошенько запомним, чужеземец, то, что ты нам советуешь.
Афинянин.
Прекрасно. Перейдем же к речи о новобрачных. Мы наставим их, как надо производить детей: если мы их не убедим, мы будем угрожать им соответствующими законами.
Клиний.
Каким образом?
Афинянин.
Новобрачные должны подумать о том, чтобы дать государству по мере сил самых прекрасных и наилучших детей.
e
Все люди, в какой бы работе они ни участвовали, делают все хорошо и прекрасно, пока они внимательны к своей работе, а также к самим себе. Когда же они невнимательны или не обладают разумом, все происходит наоборот. Пусть же молодой супруг обратит внимание на свою жену и на деторождение. То же самое пусть делает и молодая супруга, в особенности в тот промежуток времени, когда дети у них еще не родились.
784
Блюстительницами тут будут женщины, которых мы изберем; число их может быть бульшим или меньшим по усмотрению правителей, точно так же и срок их деятельности. Они будут ежедневно собираться к святилищу Илифии[2048]
приблизительно на треть дня и здесь сообщать друг другу то, что каждая из них заметила относительно разных мужчин и женщин, производящих детей, а именно: не обращают ли те своих взоров на что‑либо иное,
b
а не на то, что было установлено свадебными священными жертвоприношениями. Срок для рождения детей и охраны лиц, их рождающих, пусть будет десятилетний, не более, в том случае, когда течение рождений идет хорошо. Если же в продолжение этого времени у некоторых супругов не будет потомства, то они, для взаимной пользы, расходятся, посоветовавшись сообща с родными и женщинами‑надзирательницами. Если же возникнет какое‑либо сомнение в том, чту полезно и подобает обеим сторонам,
c
они должны выбрать из числа стражей законов десятерых и исполнять их предписания и постановления. Женщины‑надзирательницы, посещая дома новобрачных, частью увещевают их, частью же прибегают к угрозам для прекращения невежества и нарушений. Если они окажутся тут бессильными, они обращаются к стражам законов, рассказывают им все, а уже те принимают меры. Но если и стражи окажутся в чем‑то бессильными, то они объявляют это всенародно, возбуждают судебное дело и клянутся, что такого‑то и такого‑то они оказались не в силах исправить.
d
Если на суде обвиняемый не убедит своих обвинителей, он лишается гражданских прав в таком отношении: он не может посещать свадеб и празднеств в честь рождения ребенка; если он туда явится, всякий желающий может невозбранно наказать его палочными ударами. Те же самые узаконения будут и относительно женщин. Если женщина таким же образом будет обвинена в бесчинстве и если на суде она не оправдается, она не может участвовать в женских шествиях, не может занимать почетных женских должностей и участвовать в посещении свадеб и дней рождения детей.
e
Если супруги произведут по закону детей, а затем муж для этой же цели сойдется с чужою женой, а жена – с чужим мужем, то, если они сойдутся с людьми, по возрасту своему еще предназначенными для рождения детей, они подвергаются тем же наказаниям, что были указаны для тех, кто еще рождает детей. А когда уже минет этот возраст, то рассудительный во всем этом мужчина и рассудительная женщина будут пользоваться доброй славой. В противном случае и почет будет противоположным, вернее, они подвергнутся бесчестью.
785
Если большинство проявляет в этом отношении умеренность, закон обходит это молчанием, но если совершаются бесчинства, то устанавливаются правила сообразно установленным раньше законам.
Начало жизни каждого – его первый год. Это начало жизни мальчика или девочки надо записать в родовых святилищах. Пусть в каждой фратрии на выбеленной стене рядом с этой записью обозначат имя правителя, по которому именуется год[2049]
;
b
живых членов фратрии всегда будут записывать близко друг к другу; имена же покинувших жизнь будут стираться.
Срок вступления в брак для девушки будет с восемнадцати до двадцати лет: это – самое позднее; для молодого человека – с тридцати до тридцати пяти лет. Для занятия государственных должностей устанавливается возраст: для женщины – сорок лет, для мужчины – тридцать. Военную службу мужчина должен нести с двадцати до шестидесяти лет, а женщина (если будет решено и их привлекать к ратному делу, установив там дополнительно то, что им подходит и подобает) – лишь после того, как она уже родит детей, и до пятидесяти лет.
Перевод А. Н. Егунова.
В кн.: Платон. Законы. М.: «Мысль», 1999
КHИГА VII
788
Афинянин.
После речи о рождении детей мужского и женского пола всего правильнее было бы сказать об их воспитании и образовании. Оставить это неразобранным невозможно; но то, что мы выскажем, будет скорее похожим на некое поучение и увещание, чем на законы. В самом деле, в частной и в семейной жизни каждого человека есть много мелочей, совершающихся не на виду у всех;
b
здесь, под влиянием личного страдания, удовольствия и вожделения, легко возникают явления, противоречащие советам законодателя, почему нравы граждан оказываются разнообразными и непохожими друг на друга, а это – беда для государств. Однако было бы неблаговидно и вместе с тем непристойно давать тут законы и устанавливать наказания, настолько явления эти незначительны, хоть и часты. С другой стороны, если люди привыкнут поступать противозаконно в часто повторяющихся мелочах, то это поведет к гибельной порче самих законов, пусть и установленных в письменной форме.
c
Поэтому, хотя и затруднительно дать здесь законы, тем не менее промолчать невозможно. Однако надо выяснить мою мысль, выставить ее, точно образчик[2050]
, на свет, а то ведь сейчас мы, по‑видимому, находимся как бы во тьме.
Клиний.
Совершенно верно.
Афинянин.
Итак, было правильно сказано, что надлежащее воспитание должно оказаться в силах сделать и тела и души прекраснейшими и наилучшими[2051]
.
Клиний.
Как же иначе?
d
Афинянин.
Чтобы тело стало прекраснейшим, нужно, думаю я, просто‑напросто взрастить его с малых лет наиболее правильным образом.
Клиний.
Безусловно.
Афинянин.
Но разве мы не замечаем, что у всякого живого существа ранний рост бывает самым большим и сильным? Это заставило многих утверждать, что величина человеческого тела с пятилетнего возраста не удваивается в продолжение остальных двадцати лет.
Клиний.
Правда.
789
Афинянин.
Так что же? Разве мы не знаем, что сильный рост причиняет тысячи телесных недугов, если при этом не сопровождается многими соответствующими телесными нагрузками?
Клиний.
Конечно.
Афинянин.
Следовательно, тело нуждается в наибольших телесных нагрузках именно тогда, когда получает наибольшее питание?
Клиний.
Чужеземец, неужели мы в самом деле предпишем наибольшие телесные нагрузки детям, только родившимся на свет и самым маленьким?!
Афинянин.
Нет, не им, а сначала тем, кто питается в утробе матери.
Клиний.
Друг мой, что ты говоришь? Неужели ты разумеешь утробных младенцев?
b
Афинянин.
Да. Нет ничего удивительного, если вы не знаете о телесных упражнениях применительно к младенцам такого возраста. Как бы это ни было странно, я хотел бы все‑таки разъяснить вам этот вопрос.
Клиний.
Действительно, это очень странно.
Афинянин.
Это легче заметить у нас, так как тут более, чем должно, некоторые люди предаются забавам. У нас не только дети, но даже кое‑кто и из старших воспитывает домашних птенцов и приучает этих животных к боям друг с другом. Однако люди эти невысоко ставят трудные упражнения в движениях,
c
которые предназначены лишь для того, чтобы обучить птицу сражаться; так вот, кроме упражнений эти люди берут птиц – маленьких в ладони, больших захватывают руками – и так‑то, неся птицу под мышкой, отправляются гулять далеко, на много стадий, во имя здоровья – не своего собственного тела, а этих вот птенчиков[2052]
. Для человека, способного соображать, отсюда становится ясным хотя бы то,
d
что для всякого тела полезны эти беспрестанные сотрясения и толчки в разных направлениях, – все равно, само ли оно их над собой производит или испытывает их на качелях, на море, либо при верховой езде, либо, наконец, несомое движением любых тел. Благодаря этому пища и питье бывают для нас питательнее, и, стало быть, эти упражнения могут доставить нам здоровье, красоту и другую силу.
Раз все это так, то как же, спросим мы себя, надо нам поступать?
e
Хотите, мы с улыбкой скажем, что устанавливаем следующие законы: беременная женщина должна гулять; младенца надо лепить, словно он сделан из воска, пока он гибок, и пеленать до двухлетнего возраста. Точно так же и кормилиц мы под страхом наказания принудим законом постоянно выносить младенца в поля, или к святилищам, или куда‑нибудь к родственникам до тех пор, пока он не сможет стоять на ногах. Но и тогда кормилицам надо остерегаться, как бы малолетние дети не искривили свои члены, когда они сильно опираются на что‑то; кормилица и тогда должна еще чуть‑чуть потрудиться и носить ребенка, пока он не достигнет трех лет. Она должна по возможности обладать силой и не быть одна при ребенке.
790
Ну а если все эти условия не будут выполняться? Не назначить ли нам наказаний? Или вовсе не стоит этого делать? В самом деле, эта мера вызвала бы в изобилии то, о чем мы только что говорили.
Клиний.
А именно?
Афинянин.
Мы вызвали бы много смеха; кроме того, женский и рабский нрав кормилицы не дал бы себя убедить.
Клиний.
Но в таком случае для чего же мы решили об этом сказать?
b
Афинянин.
Вот для чего: услышав все это, господа и свободные люди в государстве придут, весьма возможно, к здравому сознанию, что тщетно было бы надеяться на прочность законодательства в вопросах общественных, если не предусмотрен надлежащий распорядок в частной жизни. Сообразив это, господа и свободнорожденные люди стали бы пользоваться только что указанными законами и, пользуясь ими, хорошо устроили бы свой дом и государство и были бы счастливы.
Клиний.
Твои слова очень правдоподобны.
c
Афинянин.
Поэтому‑то мы не оставим этой части законодательства, пока не установим занятий, касающихся души даже младенцев, – так же как мы стали доводить до конца нашу речь о телесных упражнениях.
Клиний.
Вполне правильно.
Афинянин.
И в том и другом случае, то есть и для тела, и для души младенцев, возьмем за первоначало кормление грудью и движения, совершаемые по возможности в течение всей ночи и дня. Это полезно всем детям, а всего более самым младшим, – так, чтобы они постоянно жили, если это возможно, словно на море.
d
Всячески надо стремиться именно так поступать с новорожденными младенцами. Удостовериться в этом можно и из того, что именно это усвоили на опыте и признали полезным кормилицы младенцев и женщины, совершающие священное врачевание корибантов[2053]
. В самом деле, когда матери хотят, чтобы заснуло дитя, а ему не спится, они применяют вовсе не покой,
e
а, напротив, движение, все время укачивая дитя на руках. Они прибегают не к молчанию, а к какому‑нибудь напеву, словно наигрывая детям на флейте. Подобным же образом врачуют и вакхическое исступление, применяя вместе с движением пляску и музыку.
Клиний.
Но что же, чужеземец, служит здесь главной причиной?
Афинянин.
Это не так трудно узнать.
Клиний.
Каким образом?
Афинянин.
То и другое состояние сводится к страху, страх же возникает вследствие дурного расположения души.
791
Когда к подобным состояниям примешивается внешнее сотрясение, это внешнее движение берет верх над движением внутренним, состоящим в страхе и неистовстве. Одержав верх, оно как бы создает в душе безветрие и успокоение. Тяжкое сердцебиение прекращается, а это во всяком случае желательно. На детей это наводит сон, а тем, кто бодрствует, пляшет и играет на флейте, это дает возможность с помощью богов, которым они приносят благоприятные жертвы, сменить свое неистовство на разумное состояние.
b
Хотя мы сказали об этом лишь вкратце, но и тут есть некое веское основание.
Клиний.
Конечно.
Афинянин.
Если все это производит такое действие, то мы должны вдуматься в то, что можно заметить и на себе: всякая душа, которой свойствен с младенчества страх, с течением времени еще больше к нему приучается. И любой скажет, что здесь происходит упражнение не столько в мужестве, сколько в трусости.
Клиний.
Да, так.
c
Афинянин.
И наоборот, мы сказали бы, что занятие, с малых лет развивающее мужество, заключается в уменье побеждать нападающие на нас боязнь и страх.
Клиний.
Правильно.
Афинянин.
Мы скажем также, что упражнения младенцев в движениях окажут у нас сильное влияние на одну из частей душевной добродетели.
Клиний.
Конечно.
Афинянин.
В самом деле, спокойное душевное настроение – это немалая часть хорошего состояния души, точно так же как тяжелое расположение духа – немалая доля дурного душевного состояния.
Клиний.
Как же иначе?
d
Афинянин.
Каким же образом можно сразу внушить новорожденному это желательное нам настроение? Надо попытаться выяснить, насколько здесь можно будет достигнуть успеха.
Клиний.
Да.
Афинянин.
Я приведу господствующее у нас мнение: изнеженность делает характер детей тяжелым, вспыльчивым и очень впечатлительным к мелочам; наоборот, чрезмерно грубое порабощение детей делает их приниженными, неблагородными, ненавидящими людей, так что в конце концов они становятся непригодными для совместной жизни.
е
Клиний.
Каким же образом все государство в целом может растить детей в том возрасте, когда они еще не говорят и не способны вкусить также прочее воспитание?
Афинянин.
Примерно так: первый звук всякого новорожденного существа – крик; это не меньше касается и всего человеческого рода, которому кроме крика особенно свойствен плач.
Клиний.
Конечно.
792
Афинянин.
Поэтому кормилицы, желая узнать, чего хочет ребенок, заключают об этом, поднося ему разные вещи. В самом деле, если ребенок замолчит, заметив подносимую вещь, они считают, что хорошо отгадали; если же плач и крик продолжаются, значит, не отгадали. Дети обнаруживают свою любовь или ненависть плачем и криком – знаками далеко не удачными. А между тем время это длится не меньше трех лет; немаловажно, как провести эту часть жизни: худо или получше.
Клиний.
Ты прав.
b
Афинянин.
Разве вам не кажется, что ребенок с тяжелым нравом, никогда не бывающий радостным, склонен к плачу и хныканью гораздо больше, чем это нужно хорошему человеку?
Клиний.
По‑моему, да.
Афинянин.
Что же? Если попытаться в течение указанных трех лет применять всякие средства, чтобы наш воспитанник по мере сил возможно меньше подвергался боли, страху и любому страданию, – разве, по‑нашему, это не сделает его душу веселой и радостной?
Клиний.
Видимо, да; в особенности же, чужеземец, если ему доставлять много удовольствий.
c
Афинянин.
Здесь, дорогой мой, я уже не последую за Клинием, потому что, действуя так, мы сильно испортим ребенка, что весьма часто случается в начале воспитания. Посмотрим, говорю ли я дело.
Клиний.
Скажи, что ты разумеешь?
Афинянин.
У нас идет сейчас речь о предмете немаловажном. И ты, Мегилл, рассуди нас. Согласно моему утверждению, в правильной жизни и не надо стремиться к наслаждениям, и в свою очередь не следует совсем избегать страданий.
d
Надо довольствоваться чем‑то средним, о чем я сейчас упомянул, обозначив это как радостное; такое расположение духа все мы, согласно некоему священному откровению, метко приписываем и богу. Я утверждаю, что тот из нас, кто намерен стать божественным человеком, должен стремиться к подобному состоянию, так, чтобы ни самому не стремиться к одним только удовольствиям (ибо не миновать ему и страданий), ни всем нам остальным – старикам и юношам, мужчинам и женщинам – не позволять стремиться к тому же, а всего меньше по мере сил новорожденному ребенку.
e
Ведь главные черты характера каждого человека складываются в силу привычки именно в этом возрасте. И я, если бы не показалось только, что я намерен шутить, сказал бы, что все беременные женщины также должны во время беременности особенно заботиться о том, чтобы не испытывать многочисленных неистовых наслаждений, а равно и страданий; желательно, чтобы этот промежуток времени они прожили в радостном, безмятежном и кротком настроении.
793
Клиний.
Тебе, чужеземец, вовсе не надо спрашивать Мегилла, кто из нас обоих более прав. Я сам уступаю тебе: да, в жизни все должны избегать неумеренных страданий и удовольствий и всегда придерживаться середины. Ты это прекрасно сказал, и я с тобой согласен.
Афинянин.
Очень хорошо, Клиний. Но кроме того, давайте обсудим все втроем еще вот что.
Клиний.
Что именно?
Афинянин.
Все то, что мы сейчас разобрали, относится к неписаным обычаям, как называет их большинство.
b
То, что именуют дедовскими законами, есть не что иное, как совокупность подобных правил. Осенившая нас сейчас мысль о том, что в этих случаях нельзя говорить о законах, хотя, с другой стороны, нельзя также оставить все это невысказанным, прекрасно выражена. Обычаи эти связуют любой государственный строй; они занимают середину между письменно установленными законами и теми, что будут еще установлены. Попросту это как бы дедовские, чрезвычайно древние узаконения. Если хорошо их установить и ввести в жизнь, они будут в высшей степени спасительным покровом для современных им писаных законов. Если же по небрежности переступить при этом границы прекрасного,
c
все рушится; это все равно как если бы удалили внутренние основы возведенного строителями здания; и так как одно поддерживает другое, то при ниспровержении древних оснований обваливается и все позднейшее великолепное сооружение. Мы, Клиний, должны с этим считаться; поэтому тебе нужно всячески укрепить новое государство, не упуская по возможности ни великого, ни малого
d
из того, что называется законами, обычаями или привычками. Ибо все это связует государство; ни одно из этих начал не может быть прочным без другого. Поэтому не следует удивляться, если законы у нас становятся пространнее из‑за наплыва многочисленных узаконений и привычек, которые кажутся на первый взгляд мелочными.
Клиний.
Ты говоришь верно; мы будем держаться такого же образа мыслей.
Афинянин.
Следовательно, для малолетних воспитанников будет очень полезно, если к ним будут не между прочим, но очень тщательно
e
применять все эти правила вплоть до достижения мальчиком или девочкой трехлетнего возраста. Впрочем, по своему душевному складу трехлетние, четырехлетние, пятилетние и даже шестилетние дети нуждаются в забавах. Но надо избегать изнеженности, надо наказывать детей, однако так, чтобы не задеть их самолюбия; здесь следует поступать так, как обычно и делают в отношении рабов, о чем мы уже говорили: не надо позволять тем, кто наказывает, оскорблять подвергающегося наказанию, так как это вызовет у него раздражение,
794
но нельзя и баловать отсутствием наказаний. Точно так же надо поступать и с детьми свободнорожденных. У детей этого возраста забавы возникают словно сами собой; когда дети собираются вместе, они придумывают их даже сами. Все дети этого возраста, то есть от трех до шести лет, пусть собираются в святилищах по поселкам, так, чтобы дети всех жителей поселка были там вместе. Кормилицы также должны смотреть, чтобы дети этого возраста были скромными и не распущенными. Над самими же кормилицами и над всей этой детской стайкой будут поставлены двенадцать женщин –
b
по одной на каждую стайку, чтобы следить за ее порядком; их будут ежегодно назначать из числа упомянутых раньше кормилиц стражи законов. Выборы их будут производить главные попечительницы о браках. Среди своих ровесниц они выберут по одной из каждой филы. Назначенная на эту должность будет ежедневно посещать какое‑нибудь святилище и всякий раз налагать наказание, если кто провинится; раба и рабыню, чужеземца и чужеземку она накажет сама с помощью государственных рабов, а гражданина, если он станет противиться наказанию, она поведет на суд астиномов;
c
если же гражданин не противится, она и его наказывает сама. После того как дети достигнут шестилетнего возраста, полы разделяются. Мальчики проводят время с мальчиками, точно так же и девочки с девочками. Но и те и другие должны обратиться к учению. Мальчики поступают к учителям верховой езды, стрельбы из лука, из пращи, метания дротиков. Если девочки согласятся, они также занимаются этим,
d
по крайней мере до тех пор, пока не обучатся; в особенности же следует им научиться употреблению оружия. Здесь никто почти не отдает себе отчета в установившемся положении.
Клиний.
В чем именно?
Афинянин.
Считают, будто правая и левая рука у нас от природы употребляются для различных действий. Между тем ясно, что ноги и вообще нижние конечности вовсе не различаются в смысле работы. Что же касается рук,
e
то здесь каждый из нас может стать калекой по неразумию кормилиц и матерей. В самом деле: природа почти уравновесила те и другие конечности, и уже мы сами путем привычки сделали их различными, пользуясь ими ненадлежащим образом[2054]
. При некоторых действиях разница эта невелика; так, лиру мы держим в левой руке, а плектр – в правой[2055]
и так далее, здесь это не имеет значения. Однако это может служить нам примером, что было бы почти безумием полагать, будто не следует поступать так же и при других действиях.
795
Доказывается это и обычаем скифов: они не держат лук только в левой руке, а стрелу только в правой, но пользуются и для того и для другого поочередно обеими руками. Весьма много других примеров можно найти в искусстве управлять колесницами и в любом другом мастерстве. Из этих примеров можно понять, что поступают вопреки природе те, кто развивает правую руку в ущерб левой. Как мы сказали, при роговых плектрах и тому подобных орудиях
b
это несущественно. Но это очень важно, когда приходится пользоваться для военных целей железными орудиями, луками, дротиками, вообще оружием. А всего важнее это в тех случаях, когда оружием надо отражать оружие. Здесь огромная разница между человеком, усвоившим это и не усвоившим, между тем, кто в этом упражнялся, и тем, кто не упражнялся. Так, человек, вполне искусный в панкратии[2056]
, в кулачном бою или в борьбе, бывает в состоянии бить и слева, но если он этим пренебрежет, то станет спотыкаться и волочить ногу, если противник переменит направление и заставит его нападать с другой стороны;
c
то же самое, думаю я, нужно по праву ожидать и при вооруженной борьбе, и во всех остальных случаях. Ведь человек обладает двумя руками, чтобы отражать нападения и нападать на противника самому; поэтому ни одну из них по мере сил нельзя оставлять бездеятельной и нетренированной. И если кто родится подобным Гериону или Бриарею, то он должен быть в состоянии всей сотней своих рук метать сотню стрел[2057]
.
d
Обо всем этом должны заботиться должностные лица – женщины и мужчины. Первые станут наблюдать за этим при играх и воспитании, вторые – при обучении, чтобы все юноши и девушки приобрели ловкость ног и рук и по мере сил ничуть не извратили дурными привычками своих природных свойств.
Обучение надо давать, так сказать, двоякое: тело следует обучать гимнастическому искусству, а душу – для развития ее добродетели – мусическому. То, что относится к гимнастическому искусству, в свою очередь подразделяется на два вида: во первых, это пляска, во‑вторых – борьба.
e
Один вид пляски воспроизводит язык Музы, сохраняя величественность и вместе с тем благородство; другой вид служит для придания здоровья, ловкости и красоты членам и частям самого тела с помощью подобающих каждому из них сгибаний и разгибаний, причем из ритмических движений состоит вся пляска, которая непрерывно с ними связана.
796
Что касается борьбы, то для участия в войне вовсе не полезно и не достойно словесных прикрас то, что из бесчестного честолюбия приняли в этом искусстве Антей и Керкион, а Эпей и Амик[2058]
– в кулачном бою. В борьбе стоя, когда стараются высвободить [из захвата] затылок, руки, бока и ревностно и стойко трудятся ради благообразной мощи, а также здоровья, это полезно во всех отношениях. Такой борьбой нельзя пренебречь;
b
напротив, ее надо предписать как ученикам, так и учителям, когда мы в нашем законодательстве дойдем до этого места. Учителя пусть благосклонно все это преподают, а ученики с благодарностью воспринимают.
Нельзя оставить в стороне и того, что есть подобающее в хороводных плясовых подражаниях. Таковы здешние вооруженные игры куретов, а в Лакедемоне – Диоскуров[2059]
. И у нас Дева‑Владычица, возрадовавшись хороводной забаве, не сочла возможным ликовать с пустыми руками,
c
но, украсившись полным вооружением, в нем и исполнила свою пляску[2060]
. Юношам и девушкам подобало бы всячески этому подражать, чтя милость богини, а также ради военных надобностей и празднеств[2061]
. Малым детям, пока они еще не идут на войну, надо было бы во время шествий и торжественных процессий в честь всех богов[2062]
всегда украшаться оружием, усаживаться на коней, в пляске и движении, то быстрее, то медленнее, возносить молитвы богам и детям богов.
d
Состязания и подготовительные упражнения к ним надо устраивать именно ради этого, а не чего‑то иного. Эти состязания полезны и в мирное время, и во время войны как для государства, так и в частном быту. Все же остальные труды, забавы и заботы о теле несвойственны свободнорожденным людям, Мегилл и Клиний.
В предшествующей речи я указал, что надо исследовать гимнастическое искусство. Теперь я его почти разобрал. Будем считать это исчерпанным. Но если вы можете предложить нечто лучшее, то сообщите это для общего сведения.
e
Клиний.
Нелегко, чужеземец, отклонить сказанное тобой и предложить нечто лучшее для гимнастического искусства и состязаний.
Афинянин.
Итак, что касается следующего вопроса о дарах Муз и Аполлона, то мы полагали тогда, будто всё уже высказали и остается только вопрос о гимнастике. Но теперь ясно, в чем заключается этот вопрос, а также и то, чту о нем надо говорить в первую очередь. Так перейдем же сразу к нему.
Клиний.
Отлично, перейдем.
797
Афинянин.
Выслушайте меня так, как вы слушали и раньше. Теперь тоже придется с большой осторожностью сказать и выслушать нечто странное и необычное. Поэтому я не без страха скажу свое слово; однако же я соберусь с духом и не отступлю.
Клиний.
О чем ты говоришь, чужеземец?
Афинянин.
Я утверждаю: ни в одном государстве никто не знает, что характер игр очень сильно влияет на установление законов и определяет, будут ли они прочными или нет. Если дело поставлено так, что одни и те же лица принимают участие
b
в одних и тех же играх, соблюдая при этом одни и те же правила и радуясь одним и тем же забавам, то все это служит незыблемости также серьезных узаконений. Если же молодые колеблют это единообразие игр, вводят новшества, ищут постоянно перемен и считают приятными разные вещи, если они недовольны всегда своим внешним обликом и убором, не признают раз навсегда установленных правил о том, чту благообразно и чту безобразно,
c
но особенно высоко чтят тех людей, которые постоянно вводят какие‑то новшества, что‑то иное, непривычное во внешний облик, в цвета и в другие подобные вещи, то мы полностью вправе сказать, что для государства нет ничего более гибельного, чем все это. В самом деле, все это незаметно изменяет нравы молодых людей и заставляет их бесчестить старое и почитать только новое. Я снова повторяю: для всех государств нет худшего наказания, чем подобного рода мнения и установки. Выслушайте, насколько, по‑моему, велико это зло.
d
Клиний.
Ты говоришь о презрении к старине в государствах?
Афинянин.
Да, именно об этом.
Клиний.
В таком случае мы будем внимательными и очень сочувствующими слушателями этой твоей речи.
Афинянин.
Естественно.
Клиний.
Только бы ты продолжал.
Афинянин.
Давайте же скажем друг другу, что сейчас нам надо быть особенно внимательными. В самом деле, мы найдем, что перемены во всем, за исключением злых бедствий, – это самое ненадежное дело: это касается и смены всех времен года, и смены ветров, и перемен в укладе телесной жизни, в характере – словом, изменений не в чем‑то одном,
e
но решительно во всем, исключая, как я сейчас сказал, лишь злые бедствия. Если взглянуть на тело, можно заметить, как оно привыкает к разной еде, разным напиткам, к трудам. Сперва все это вызывает расстройство, но затем, с течением времени, из этого возникает соответствующая всему этому плоть;
798
тело знакомится, свыкается с этим укладом жизни, любит его, испытывает при нем удовольствие, здоровеет и чувствует себя превосходно. И если такое тело будет вынуждено когда‑нибудь снова изменить тот или иной привычный ему уклад, то сначала оно переживает расстройство и с трудом восстанавливается, когда привыкнет к новому виду питания. Надо думать, что то же бывает и с образом мыслей и душевной природой людей. Законы, на которых они были вскормлены,
b
стали по прошествии долгого времени неколебимыми благодаря некой божественной судьбе, так что никто не помнит да и не слышал, чтобы с законами дело обстояло когда‑то иначе, чем теперь. Любая душа благоговейно боится поколебать что‑либо из установленных раньше законов. Так вот законодателю и надо придумать какое‑то средство, чтобы в его государстве каким‑то способом было осуществлено именно это. Что касается меня, то я усматриваю это средство в следующем. Ведь изменения в играх молодых людей все считают, как мы говорили раньше, просто игрой, в высшей степени несерьезной и не влекущей за собой никакого вреда,
c
и потому они не отвращают от этого молодых, но снисходительно сами в этом за ними следуют. Здесь не принимают в расчет вот чего: те дети, которые вводят новшества в свои игры, неизбежно станут взрослыми и при этом иными людьми, чем те дети, что были до них; а раз они станут иными, они будут стремиться и к иной жизни и в этом своем стремлении пожелают иных обычаев и законов. Никто из них не боится, что вслед за этим для государства наступит величайшее бедствие, о котором сейчас идет речь.
d
Правда, иные изменения, касающиеся лишь внешнего облика, произвели бы не столько бед. Но если дело идет об изменении нравов, когда люди нередко начинают хвалить то, что раньше порицали, и порицать то, что раньше хвалили, то, думаю я, к этому более, нежели к чему‑то другому, надо бы отнестись с величайшей осмотрительностью.
Клиний.
Конечно.
Афинянин.
Что же? Убеждены ли мы и до сих пор в том, что утверждали раньше, то есть что все относящееся к ритмам и вообще любому мусическому искусству – это подражание человеческим характерам, как лучшим, так и худшим? Так ли обстоит дело или иначе?
e
Клиний.
Именно так и не иначе; по крайней мере таково наше мнение.
Афинянин.
Следовательно, мы утверждаем, что надо найти всевозможные средства, чтобы дети не стремились у нас в плясках или в напевах к другим подражаниям и чтобы никто не побудил их к этому соблазном будущих удовольствий.
Клиний.
Ты совершенно прав.
799
Афинянин.
Есть ли у кого‑нибудь из нас для этого лучший прием, чем у египтян?
Клиний.
О каком приеме ты говоришь?
Афинянин.
Он заключается в том, чтобы всякую пляску и всякое пение сделать священными. Для этого сначала были установлены празднества, рассчитанные на целый год, причем было установлено, какие празднества и в какое время надо справлять и в честь каких богов, их детей или даймонов; кроме того, какое песнопение надо возносить при каждом жертвоприношении и какой хороводной пляской следует почтить богов при этой жертве.
b
Сперва были установлены некоторые песни и пляски. Но коль скоро они установились, то все граждане стали сообща совершать жертвоприношение Мойрам и всем остальным богам и во время возлияния освящать каждое песнопение в честь каждого из богов и из остальных высших существ[2063]
. Если же вопреки этому кто‑нибудь пытался вводить другие гимны или хороводные пляски в честь кого‑либо из богов, то его удерживали жрецы и жрицы вместе со стражами законов, следуя в этом благочестию и закону. Если же человек этот не подчинялся, то в течение его жизни всякий желающий мог привлечь его к суду за нечестие.
Клиний.
Правильно.
c
Афинянин.
В этом месте нашей беседы нам придется испытать то, что свойственно нашим летам.
Клиний.
О чем ты говоришь?
Афинянин.
Всякий юноша, не говоря уже о стариках, увидев или услыхав что‑то редкостное и необычное, не уступит легко в трудном споре и не примет сразу решение, но остановится, очутившись словно бы на распутье. Один ли он совершает свой путь или с другими людьми,
d
но, раз он не слишком хорошо знает дорогу, он будет спрашивать и самого себя, и других о том, что его затрудняет, и двинется дальше не прежде, чем исследует основательно свой путь и то, куда он ведет. И нам теперь надо поступить точно так же. Раз нам встретилось сейчас странное утверждение о законах, нам надлежит всесторонне его исследовать, а не спешить легкомысленно высказаться по столь важному вопросу, словно мы в силах немедленно решить что‑то с полной ясностью, ведь не таковы уже наши годы.
Клиний.
Совершенно верно.
e
Афинянин.
Предоставим же это времени; мы дадим обоснование всему, когда достаточно это рассмотрим. И чтобы не сбить понапрасну порядка законов, которые нам следует теперь завершить, мы доведем до конца их рассмотрение. Очень возможно, если только угодно богу, что, когда наше рассмотрение в целом будет окончено, оно достаточно разъяснит это временное затруднение.
Клиний.
Чужеземец, ты говоришь превосходно. Мы поступим так, как ты сказал.
Афинянин.
Вот мы и говорим: пусть будет допущено это странное обстоятельство, что песнопения станут у нас законами[2064]
. Ведь название это – «номы» – древние, как видно, прилагали к тому, что исполнялось певцом под сопровождение кифары.
800
Очень может быть, что они не так уж были далеки от нашего нынешнего утверждения: кто‑то тогда, во сне или наяву, пробудившись от пророческой грезы, предугадал его. Итак, наше решение пусть будет следующим: никто не должен петь либо плясать несообразно со священными общенародными песнями и всеми принятыми у молодежи плясками. Этого надо остерегаться больше, чем нарушений любого другого закона. Кто будет это соблюдать, останется безнаказанным; ослушника же будут наказывать, как мы сказали сейчас,
b
стражи законов, жрецы и жрицы. Пусть же будет так постановлено в этой нашей беседе.
Клиний.
Пусть будет постановлено.
Афинянин.
Как же установить этот закон, чтобы не возбудить слишком сильных насмешек? Обратим внимание здесь на следующее: самое безопасное – сначала создать эти законы словесно, сделав с них как бы пробный оттиск. Так вот, я представляю себе один такой оттиск примерно в следующем роде: если, допустим, после совершенного по закону жертвоприношения
c
и сожжения жертвенных животных чей‑нибудь сын или брат по собственному почину встанет подле алтаря и жертв и всячески начнет злословить, неужели, спросим мы, это не породит уныния в его отце и в остальных родственниках и не явится дурным предзнаменованием и предвещанием?
Клиний.
Конечно.
Афинянин.
Между тем это у нас случается, можно сказать, чуть ли не во всех государствах. Когда какое‑либо должностное лицо совершает от лица государства какое‑то жертвоприношение, то вслед за этим являются туда хоры – не один, а несколько, –
d
становятся неподалеку от алтаря, а иной раз и подле него самого и начинают извергать всяческое злословие по адресу священнодействия, смущая души слушателей своими словами, ритмами и жалобнейшими гармониями; и кто больше всего вызывает слез у тех, кто только что совершил жертвоприношение, тот получает победную награду. Неужели мы не отменим этот обычай? Если когда‑то граждане и должны выслушивать подобные вопли, например в несчастливые и нечистые дни, то для
e
этого следует выступать скорее каким‑нибудь иноземным хорам, состоящим из нанятых певцов, подобно тому как на похоронах нанятые люди сопровождают покойника карийскими плачами[2065]
; нечто подобное подобало бы и упомянутым песнопениям. И погребальным песнопениям подобали бы не венки и не позолоченные уборы, но длинное одеяние. Чтобы возможно скорее покончить с этим, скажу, что все здесь должно быть совсем иным. Нам же самим я снова задам вопрос: угодно ли нам установить сначала этот первый образец для песнопений?
Клиний.
В чем именно он состоит?
Афинянин.
В благоречии[2066]
. Пусть род песнопений будет у нас во всех отношениях благоречивым.
801
Нужно ли еще говорить об этом или можно считать это уже установленным?
Клиний.
Разумеется, установи это. Ведь закон этот собрал все голоса.
Афинянин.
Что же будет вторым законом мусического искусства после благоречия? Не молитвы ли тем богам, которым мы каждый раз приносим жертвы?
Клиний.
Да, так.
Афинянин.
А третьим законом, думаю я, будет вот какой: поэты должны знать, что молитвы к богам – это просьбы;
b
и они должны обратить всяческое внимание на то, чтобы под видом добра не попросить нечаянно зла. Смешное бы создалось положение, думаю я, если бы исполнилась такая молитва!
Клиний.
Еще бы.
Афинянин.
Немного раньше в нашей беседе мы пришли к убеждению, что в государстве не должно быть места серебряным и золотым запасам.
Клиний.
Разумеется.
Афинянин.
Почему мы привели в нашей речи этот пример? Не потому ли, что не весь род поэтов способен вполне отличить благо от зла?
c
Значит, если какой‑то поэт в своем сочинении, в напеве или в словах в этом отношении погрешит, такие молитвы будут неправильны, и это заставит наших граждан в самых серьезных делах молиться не о том, о чем следует. Как мы говорили, не много можно найти погрешностей бульших, чем эта. Установим же и это правило как один из образцов и законов Музы.
Клиний.
Какое именно правило? Скажи нам яснее.
Афинянин.
Поэт не должен творить ничего вопреки обычаям государства,
d
вопреки справедливости, красоте и благу[2067]
. Свои творения он не должен показывать никому из частных лиц, прежде чем не покажет их назначенным для этого судьям и стражам законов и не получит их одобрения. У нас уже почти имеются лица, назначенные для этого: это выбранные нами законодатели в деле мусического искусства и попечитель о воспитании. Что же? Я повторяю свой вопрос не впервые: установим ли мы это как третий закон, образец и оттиск? Или вы другого мнения?
Клиний.
Установим. Как же иначе?
e
Афинянин.
Далее, вполне правильно было бы воспевать гимны богам и хвалебные песни вместе с молитвами и точно так же вслед за богами возносить подобающие молитвы и хвалебные песни даймонам и героям.
Клиний.
Как же иначе?
Афинянин.
После этого сразу можно установить закон, который не встретит возражений: следовало бы почитать хвалебными песнями тех из почивших граждан, кто телом или душой совершил прекрасные, трудные дела и был послушен законам.
Клиний.
Конечно.
802
Афинянин.
Небезопасно чтить хвалебными песнями и гимнами живых людей, пока они не пройдут весь свой жизненный путь и не увенчают его прекрасным концом. Все это будет у нас одинаково касаться как мужчин, так и женщин, которые проявят свою добродетель. Песнопения и пляски надо устраивать так: в мусическом искусстве есть много прекрасных древних сочинений старых поэтов, а для тела точно так же есть много плясок. Ничто не мешает выбрать из них то, что подобает и соответствует устрояемому государству.
b
Оценщиками их будут избраны лица не моложе пятидесяти лет. Они произведут выбор из древних сочинений и допустят те, что окажутся подходящими; вовсе неподходящие сочинения они совершенно отринут; сочинения с недостатками они многократно подвергнут исправлению. Для этого они привлекут поэтов и музыкантов, используя их поэтическое дарование;
c
и они не будут считаться с их вкусами и страстями – разве лишь в немногих случаях, – но как можно лучше истолкуют им намерения законодателя, дабы в этом духе были составлены пляски, песнопения и все относящееся к хороводам. То занятие Музами, где строй приходит на смену нестройности, всегда бесконечно лучше, даже если здесь и нет сладостной Музы. А приятность есть общее свойство всех Муз. Человек, который, начиная с детства и вплоть до разумного, зрелого возраста, сживается с рассудительной и умеренной Музой,
d
услышав враждебную ей Музу, презирает ее и считает неблагородной; кто же воспитался на расхожей, сладостной Музе, тот говорит, что противоположная ей Муза холодна и неприятна. Поэтому, как сейчас было сказано, в смысле приятности или неприятности ни одна из них не превосходит другую. Зато первая чрезвычайно улучшает людей, на ней воспитавшихся, вторая же – ухудшает.
Клиний.
Это ты хорошо сказал.
Афинянин.
Еще надо было бы определить характер, которым мужские песнопения отличаются от песнопений, свойственных женщинам.
e
Необходимо установить для них подобающие гармонии и ритмы. Нехорошо, если напев идет вразрез с гармонией в ее целом, если нарушается ритм и ничто не соблюдено в напевах как следует. Надо и здесь установить законом определенные формы. И мужчинам и женщинам надо уделить обе эти необходимые формы – [гармонию и ритм], но при этом женщинам надо принять во внимание, чту именно соответствует природным особенностям женского пола. Вот это‑то и надо выяснить. Следует признать, что все величавое и склоняющее к смелости имеет мужественное обличье, то же, что тяготеет к скромности и благопристойности, более сродни женщинам; поэтому и было бы разумно уделить им это по закону. Примерно таким будет это установление.
803
Затем надо поговорить относительно обучения этому – как передать все это другим и каким образом, кому и в какое время надо все это делать. Подобно тому как кораблестроитель, делая набросок для начала постройки, намечает форму киля судна, так же точно, кажется мне, поступаю и я, пытаясь очертить образ человека (σχήματα των βίων). При этом я основываюсь на душевном складе каждого; он действительно образует киль жизни.
b
Я, конечно, стараюсь верно учесть, с помощью каких средств и способов мы всего лучше проведем жизнь во время того плавания, каким является наше существование[2068]
. Правда, человеческие дела не заслуживают особых забот, но все же необходимо о них заботиться, хотя счастья в этом нет. Но раз уж мы очутились в таком положении, было бы, пожалуй, целесообразно выполнить нашу задачу подобающим образом. Впрочем, к чему я все говорю? Кто‑нибудь мог бы с полным правом прервать меня этим вопросом.
c
Клиний.
Это верно.
Афинянин.
Я утверждаю, что в серьезных делах надо быть серьезным, а в несерьезных – не надо. Божество по своей природе достойно всевозможной блаженной заботы, человек же, как мы говорили раньше, это какая‑то выдуманная игрушка бога, и по существу это стало наилучшим его назначением. Этому‑то и надо следовать; каждый мужчина и каждая женщина пусть проводят свою жизнь, играя в прекраснейшие игры, хотя это и противоречит тому, что теперь принято.
d
Клиний.
В каком смысле?
Афинянин.
Теперь думают, что серьезные заботы должны существовать ради игр. Так, считают, что серьезные вопросы, связанные с войной, надо хорошенько упорядочить ради мира. Но ведь то, что бывает на войне, это по своей природе вовсе не игра и не воспитательное средство, достойное нашего упоминания, и сейчас оно не таково, и впредь не будет таким. А мы‑то говорим, будто для нас это самое важное. Каждый должен как можно дольше и лучше провести свою жизнь в мире. Так что же, наконец, правильно? Надо жить играя.
e
Что ж это за игра? Жертвоприношения, песни, пляски, чтобы уметь снискать к себе милость богов, а врагов отразить и победить в битвах. Но с помощью каких песен и плясок можно осуществить то и другое? Образцы для этого были указаны и проложены как бы пути, которыми надо идти, если считать, что и поэт был прав, говоря:
804
Многое сам, Телемак, ты своим угадаешь рассудком;
Многое демон откроет тебе благосклонный; не против
Воли ж бессмертных, я думаю, был ты рожден и воспитан[2069]
.
Точно так же должны мыслить и наши питомцы, считая, что отчасти им уже вдоволь дано указаний о жертвоприношениях и хороводных плясках, отчасти же даймон и бог внушат им,
b
в честь кого и в какое время надо их совершать, чтобы, играя, снискать милость богов и прожить согласно свойствам своей природы, ведь люди в большей своей части – куклы и лишь немного причастны истине[2070]
.
Мегилл.
Ты полностью принижаешь наш человеческий род, чужеземец!
Афинянин.
Не удивляйся, Мегилл, прости меня! Я взирал на бога и под этим впечатлением сказал сейчас свои слова. Если тебе угодно, будем считать наш род не презренным, но достойным некоторого попечения.
c
Далее пойдет речь о постройке гимнасиев и вместе с тем школ в трех местах посредине города. Затем – об устроении, опять‑таки в трех местах, но уже вне города, в окрестностях, ипподромов и площадок, хорошо приспособленных для стрельбы из лука и других упражнений в метании. Они будут устроены для обучения и вместе с тем для упражнения молодых людей. Если раньше об этом было сказано недостаточно, пусть теперь это будет не только сказано, но и постановлено законом. Во всех этих школах наемные учителя из числа оседлых чужеземцев будут обучать приходящих учеников[2071]
всем военным наукам и мусическому искусству;
d
при этом училище будет посещать не только тот, у кого этого желает отец, – у кого же он не хочет, тот, мол, может и отстраниться от воспитания, – но, как говорится, и стар, и млад должны по мере сил непременно его получить, ведь дети больше принадлежат государству, чем своим родителям. Все это мой закон предписал бы одинаково и для женщин, и для мужчин:
e
первые таким же образом должны упражняться. Я ничуть не побоялся бы утверждать то же самое о верховой езде и о гимнастике; разве это подобает только мужчинам, а женщинам нет? Слыша древние предания, я убеждаюсь в своей правоте, да, к слову сказать, и сейчас, я знаю, есть бесчисленное множество женщин в области Понта – их называют савроматидами[2072]
, – которым предписано наравне и сообща с мужчинами
805
упражняться не только в верховой езде, но и в стрельбе из лука и в применении другого оружия. Сверх того, у меня есть еще вот какие соображения по этому поводу: я утверждаю, что коль скоро это вообще возможно, то в высшей степени неразумно поступают теперь в наших местах, когда не приучаются к этому изо всех сил единодушно и одинаково как мужчины, так и женщины. Чуть ли не всякое государство становится таким образом половинным, вместо того чтобы быть вдвое бульшим благодаря единству трудов и цели. Конечно, это странная погрешность со стороны законодателя.
b
Клиний.
Кажется, так. Однако, чужеземец, очень многое из высказанного нами теперь противоречит обычному государственному устройству. Впрочем, ты был весьма дальновиден, сказав, что надо предоставить нашей беседе хорошенько развиться, а затем, когда она разовьется, выбрать из нее то, что будет признано дельным. Так что мне приходится теперь упрекать самого себя за то, что было мной сказано. Так говори же дальше все, что тебе по сердцу!
c
Афинянин.
Мне, Клиний, по сердцу то, о чем я говорил и раньше. Если мой замысел недостаточно обоснован на деле, пожалуй, найдутся против него возражения. Но сейчас тому, кто совсем не приемлет этот закон, надо поискать что‑то другое. Но при этом не будет забыто наше пожелание, чтобы женщины у нас наравне с мужчинами подлежали воспитанию и всему остальному; в самом деле, мы должны здесь мыслить примерно так.
d
И скажи: если женщины непричастны наравне с мужчинами всем сторонам жизни, не правда ли, для них надо установить какой‑нибудь иной распорядок?
Клиний.
Это необходимо.
Афинянин.
Какой же образ жизни из числа указанных нами выше мы сейчас установим для женщин, раз мы теперь предписываем им участие в жизни вместе с мужчинами? Тот ли, что у фракийцев и у многих других племен,
e
использующих женщин в земледелии, скотоводстве, овцеводстве, для домашних услуг, – словом, не делающих никакого различия между женщинами и рабами? Или тот, что у нас и у всех жителей наших мест[2073]
? У нас теперь дело обстоит так: все наше, так сказать, [семейное] имущество мы сносим в какое‑нибудь одно жилище и вручаем его женщинам; они распоряжаются им, руководят тканьем и пряжей шерсти. Лакедемонские же порядки, Мегилл, занимают, не правда ли, середину между двумя этими крайностями.
806
Девушки должны участвовать в гимнастических упражнениях[2074]
, а вместе с тем и в занятиях мусическими искусствами. Женщины же, хоть и не трудятся над пряжей шерсти, должны плести жизнь, полную упражнений и вовсе не ничтожную и малоценную; здесь опять‑таки они занимают некую середину в попечении о хозяйстве и воспитании детей[2075]
, но в ратном деле они не участвуют. Поэтому в случае необходимости сражаться за государство и за детей они не умеют применять лук, как это делают амазонки;
b
не искусны они и в других метательных орудиях; они не могут, взявши щит и копье, подражать богине, чтобы гордо противостоять разорению своей родины или хотя бы навести страх на врагов, представ перед ними в воинском строю. Ведя такой образ жизни, они, конечно, не осмелятся подражать савроматидам, ведь женщины савроматов в сравнении с женщинами вообще могут показаться мужчинами.
c
Итак, если кто хочет, пусть хвалит ваших законодателей. Я же высказал бы свое прежнее мнение: законодатель должен быть последовательным до конца, а не останавливаться на полдороге. Поэтому он не должен допускать, чтобы женщины предавались неге, расточительности и вели бестолковую жизнь, ведь, до конца позаботившись лишь о мужчинах, законодатель тем самым дает государству, пожалуй, половину счастливой жизни вместо двойной.
Мегилл.
Как нам поступить, Клиний? Позволить ли этому чужеземцу делать подобный набег на Спарту?
d
Клиний.
Да, придется позволить, раз ему предоставлена полная свобода слова, – пока мы не разберем законы достаточно и всесторонне.
Мегилл.
Ты прав.
Афинянин.
Таким образом, пожалуй, уже мое дело попытаться выяснить и дальнейшее.
Клиний.
Конечно.
Афинянин.
Какой же образ жизни станут вести люди, в должной мере снабженные всем необходимым? Ремесла там поручены чужеземцам;
e
земледелие предоставлено рабам, собирающим с земли жатву достаточную, чтобы люди жили в довольстве; общие трапезы устроены отдельно для мужчин, а невдалеке – для их домочадцев: детей женского пола и матерей. Должностным лицам мужского и женского пола там предписано каждодневно пристально наблюдать за поведением сотрапезников и затем распускать эти собрания,
807
причем должностное лицо и все остальные совершают возлияние богам, которым посвящены тогдашний день или ночь. После этого все отправляются по домам. Но неужели не осталось ни одного необходимого и вполне приличного дела для людей, соблюдающих такой 'распорядок? Или каждый из них должен лишь жить, жирея наподобие скота? Нет, утверждаем мы, это и несправедливо, и нехорошо, да и невозможно, чтобы живущего так не постигла должная кара. А состоит она в том, что
b
праздное и беспечно разжиревшее существо становится добычей другого существа, закаленного мужеством и трудами. Если мы будем тщательно, как мы это и делаем, вести наше исследование, то, возможно, этого и не произойдет до тех пор, пока каждый из нас будет иметь собственную жену, детей, жилища и вообще будет обладать частной собственностью. Значит, если осуществится менее совершенный строй[2076]
, о чем сейчас и идет речь,
c
то при этом, конечно, будет соблюдена надлежащая мера. Мы утверждаем, что людям, живущим указанным образом, остается на долю очень немаловажное дело; наоборот, оно самое важное из всего, что предписывается справедливым законодательством. В самом деле, даже у тех, кто домогается победы в Пифийских или Олимпийских играх, вовсе нет досуга для прочих житейских дел; вдвое или еще больше недосуг тому, кто проводит свою жизнь в заботах о всяческой добродетели, телесной и душевной, как это и было вполне правильно указано.
d
Поэтому никакие посторонние занятия не должны служить помехой для того, что дает телу подобающую закалку в трудах, душе же – знания и навыки. Кто станет осуществлять именно это и будет стремиться достичь достаточного совершенства души и тела, тому, пожалуй, не хватит для этого всех ночей и дней.
Раз дело обстоит так по самой природе, то для всех свободнорожденных надо установить распорядок на все время дня.
e
Начинаться этот распорядок должен чуть ли не с самого утра и продолжаться без перерыва до следующего утра, иначе говоря, до восхода солнца. Показалось бы некрасивым, если бы законодатель стал говорить обо всех мелочах, частых в домашнем обиходе вообще, и особенно о ночном бдении, подобающем лицам, которые намерены до конца тщательно охранять государство. Впрочем, все должны считать позорным и недостойным свободного человека, если он предается сну всю ночь напролет
808
и не показывает примера своим домочадцам тем, что всегда пробуждается и встает первым. Назвать ли это законом или обычаем – безразлично. Точно так же если хозяйка дома заставляет служанок будить себя, а не сама будит всех остальных, то раб, рабыня, слуга и – если только это возможно – весь дом целиком должен говорить между собой об этом как о чем‑то позорном.
b
Всем надо пробуждаться ночью и заниматься множеством государственных или домашних дел: правителям – в государстве, хозяевам и хозяйкам – в собственных домах. Долгий сон по самой природе не подходит ни нашему телу, ни нашей душе и мешает как телесной, так и душевной деятельности. В самом деле, спящий человек ни на что не годен, он ничуть не лучше мертвого. А кто из нас больше всего заботится о разумности жизни,
c
тот пусть по возможности дольше бодрствует, соблюдая при этом, однако, то, что полезно его здоровью. Если это войдет в привычку, то сон людей будет недолог. Правители, бодрствующие по ночам в государствах, страшны для дурных людей – как врагов, так и граждан, – но любезны и почтенны для людей справедливых и здравомыслящих; полезны они и самим себе, и всему государству.
Ночь, проведенная подобным образом, кроме всего, что указано раньше, внедрила бы мужество в душу каждого гражданина.
d
Утром, на рассвете, дети должны отправляться к учителям. Без пастуха не могут жить ни овцы, ни другие животные; так и дети не могут обойтись без каких‑то руководителей, а рабы – без господ. Но ребенка гораздо труднее взять в руки, чем любое другое живое существо. Ведь чем меньше разум ребенка направлен в надлежащее русло, тем более становится он шаловливым, резвым и вдобавок превосходит дерзостью все остальные существа. Поэтому надо обуздывать его всевозможными средствами,
e
и прежде всего тогда, когда из рук кормилицы и матери он в малолетстве отдается попечению руководителя, а впоследствии и учителям разных наук, подобающих свободнорожденному человеку. Если же ребенок принадлежит к сословию рабов, то любой встречный из свободнорожденных людей пусть наказывает как самого ребенка, так и его пестуна или учителя, когда кто из них в чем‑либо погрешит. Если же такой встречный не наложит справедливого наказания, пусть его, во‑первых, постигнет величайший позор, а затем пусть тот из стражей законов, кто был избран на должность попечителя детей, (809 наблюдает за прохожим, о котором идет речь, раз тот не наказал кого нужно, хоть и должен был это сделать, или же наказал, но не так, как следует. Такой страж законов должен быть у нас зорким, он должен очень заботиться о воспитании детей, исправлять их характер и всегда направлять их ко благу согласно законам.
Но каким же образом сам закон воспитает у нас, как дулжно, самого этого стража законов? Ведь пока мы не сказали ничего достаточно ясного;
b
кое о чем уже шла речь, но о прочем – нет. Между тем закону нельзя по возможности опускать ничего; надо растолковать каждое слово, чтобы закон этот служил предостерегающим и воспитующим примером для остальных. Относительно хоровых песен и плясок уже было сказано, а именно о том, какой характер они должны носить, как их надо выбирать, исправлять и освящать. Но мы еще не сказали, какие именно сочинения письменные, хоть и не стихотворные, станешь ты использовать, наилучший из попечителей детей,
c
для занятий со своими воспитанииками и каким именно образом будешь ты это делать. Впрочем, относительно ратного дела ты уже знаешь из нашей беседы, чту должны изучать воспитанники и в чем они должны упражняться. Грамоте же прежде всего, затем игре на кифаре и счету по крайней мере, поскольку они применяются в ратном деле, домоводстве и в государственном управлении, как мы сказали, следует обучаться каждому, а кроме того, получать полезные сведения о божественных круговоротах – звезд, Солнца и Луны, раз всякому государству необходимо иметь установления относительно этого…
d
но о чем, собственно, у нас сейчас идет речь? О распорядке дней в зависимости от месячных обращений Луны и распорядке месяцев в каждом году, чтобы всем временам года, жертвоприношениям и празднествам было уделено то, что каждому из них подобает по самой природе; чтобы это животворило и будоражило государство; чтобы богам воздавался почет, а люди становились бы разумнее в этих делах – все это, друг мой, пока недостаточно изложено для тебя законодателем.
e
Так обрати же внимание на то, о чем будет речь дальше! Мы сказали, что у тебя прежде всего нет достаточных указаний относительно грамоты. Что же мы ставим в упрек нашему изложению? Вот что: тебе не было указано, должен ли любой, кто намерен стать достойным гражданином, вдаваться в подробности этой науки, или он может к ней даже не прикасаться. То же самое и относительно игры на кифаре. Итак, мы утверждаем теперь, что он должен этому обучаться. Начиная с десятилетнего возраста ребенок должен учиться грамоте в течение примерно трех лет;
810
тринадцатилетний возраст подходит для начала обучения игре на кифаре; это обучение займет еще три года. Но ни отцу ребенка, ни самому ребенку – любит ли он учение или его ненавидит – не разрешается ни увеличивать, ни уменьшать этот срок, преступая тем самым закон. Ослушник пусть будет лишен права на те почести за образованность, о которых мы будем говорить несколько позже. Но чему должны учиться молодые люди в указанный промежуток времени у своих учителей? Это‑то вот и надо прежде всего усвоить тебе самому.
b
Над грамотой ребенку следует трудиться до тех пор, пока он не сможет писать и читать. Что же касается беглости или красоты, то на этом не надо настаивать, если природа ребенка не содействует этому в установленный срок. Что же касается изучения не имеющих музыкального сопровождения записанных поэтических сочинений, частью стихотворных, частью же не имеющих размера, иначе говоря, прозаических, лишенных гармонии и ритма,
c
то некоторыми авторами оставлены нам здесь опасные сочинения. Как используете вы их, лучшие из стражей законов? Или: чем именно предпишет пользоваться законодатель и при каких условиях его предписание будет правильным? Я предвижу, что он будет в большом затруднении.
Клиний.
В чем дело, чужеземец? Кажется, ты действительно в затруднении и говоришь сам с собой?
Афинянин.
Хорошо, что ты прервал меня, Клиний. Вы ведь вместе со мной участвуете в установлении законов, поэтому перед вами и надобно изложить, чту мне кажется легкоосуществимым, а чту нет.
d
Клиний.
Так что же? О чем ты сейчас говоришь и что тебя к этому побудило?
Афинянин.
Ну, так и быть, скажу, да ведь совсем нелегко высказывать то, что нередко противоречит тысячеустой молве.
Клиний.
Но как же? Разве то, что мы сказали раньше о законах, немного или совсем чуть‑чуть противоречит мнению большинства?
Афинянин.
Тут ты совершенно прав. Ты велишь мне, как кажется, следовать тем же самым путем, ставшим ненавистным для многих, но, впрочем, и любезным, может быть, не меньшему числу людей, а если и меньшему, то по крайней мере это не худшие люди;
e
ты побуждаешь меня смело идти вместе с ними, презирая опасности, и не отступать в нашем законодательстве от того пути, что намечен нами в этой беседе.
Клиний.
Как же иначе?
Афинянин.
Итак, я не отступлю. Я говорю, что у нас есть очень много поэтов, пользующихся в своих сочинениях гекзаметром, триметром и другими так называемыми размерами; одни из этих поэтов творят всерьез, другие – чтобы рассмешить. Тысячи людей нередко утверждают, что именно сочинениями всех этих поэтов, выученными целиком наизусть, следует кормить и насыщать получающих должное воспитание молодых людей, чтобы путем чтения они услыхали о многом, знали бы и усвоили многое.
811
Другие выбирают из всех поэтов самое главное, составляют сборники изречений и утверждают, что именно это должен запомнить и выучить наизусть всякий, кто хочет стать у нас достойным и мудрым благодаря большой опытности и знаниям. Итак, ты велишь мне откровенно высказаться, в чем они правы и в чем – нет?
Клиний.
Да, именно так.
b
Афинянин.
Что же мне сказать, чтобы в одном слове ответить на все вопросы? Я думаю, вот что – и всякий тут со мной согласится: каждый из этих поэтов высказал много прекрасного, но много и очень плохого, а раз дело обстоит так, то, утверждаю я, большие знания здесь для детей опасны.
Клиний.
Так что же посоветовал бы ты стражу законов?
Афинянин.
В каком отношении?
c
Клиний.
На что должен он взирать как на образец? Что он предоставит для изучения всем молодым, а что запретит? Скажи немедля.
Афинянин.
Добрый мой Клиний, мне выпала, кажется, в некотором роде удача.
Клиний.
Какая же?
Афинянин.
Да та, что я не совсем в неведении относительно этого образца. Сейчас, оглядываясь на беседу, которую мы вели с утра и до этого времени, – причем, как мне кажется, не без некоего божественного вдохновения, – я нахожу, что речи наши во многом подобны поэзии. И быть может, ничего удивительного нет в том, что, взирая на мои речи в целом,
d
я испытываю радостное чувство. В самом деле, из большинства сказанных речей, которые я знаю или слышал в стихах или в прозе, они мне показались самыми сообразными и наиболее подходящими для слуха молодых людей. Поэтому и для стража законов и воспитателя я не нашел бы, думаю, лучшего образца, чем именно этот:
e
пусть учителя обучают детей по моему совету. Если случится, проходя сочинения поэтов, письменную прозу или же просто устные творения, встретить такие же речи, родственные нашим суждениям, то никак нельзя этого упускать, но надо записывать. Прежде всего надо заставить самих учителей усвоить и одобрить это. Не надо пользоваться помощью учителей, которым это не нравится;
812
помощью же тех, кто одобряет и соглашается, надо воспользоваться. Именно им надо вручить молодых людей для обучения и воспитания. На этом я кончу свое слово об учителях грамоты и о самой грамоте.
Клиний.
Что же касается нашей задачи, то мне кажется, чужеземец, что мы не свернули с пути, намеченного нашей беседой. Удержимся ли мы до конца на нашем пути, сейчас, пожалуй, трудно решить.
Афинянин.
Это, конечно, обнаружится, Клиний, когда, как часто уже говорилось, мы дойдем до конца нашего рассуждения о законах.
b
Клиний.
Верно.
Афинянин.
Итак, вслед за учителем грамоты нам надо поговорить о кифаристе?
Клиний.
Да.
Афинянин.
Припомнив наши прежние рассуждения, мы, думается мне, уделим кифаристам подобающее место в образовании и вместе с тем в любом виде подобного воспитания.
Клиний.
О чем ты сейчас говоришь?
Афинянин.
Помнится, мы утверждали, что шестидесятилетние певцы, участники дионисииского хора[2077]
, должны стать очень восприимчивыми
c
к ритму и гармоническим сочетаниям, чтобы в песенных подражаниях отличать хорошие подражания душевным состояниям от плохих. Кто может отличить подобия благого душевного состояния от подобий дурного, тот эти отвергнет, а первые возьмет для своего выступления; он станет петь и зачаровывать души юных людей, побуждая с помощью таких подражаний каждого следовать за собой и стяжанию добродетели.
Клиний.
Ты совершенно прав.
d
Афинянин.
Итак, ради этого кифарист и его воспитанники должны воспользоваться сопровождением лиры – ввиду ясности ее звуков, – подлаживая звучания лиры к звукам напева. Однако разноголосица и разнообразие звучаний лиры, когда струны издают один напев, а поэт сочинил другую мелодию, когда добиваются созвучий и противозвучий сочетанием плотности и разреженности, ускорения и замедления, повышения и понижения и точно так же приспосабливают пестрое разнообразие ритмов к звучаниям лиры, –
e
все это не приносит пользы при обучении детей, раз им надо быстро, в течение всего лишь трех лет, овладеть тем, что есть полезного в музыке. В самом деле: противоположности, вносящие взаимную путаницу, создают лишь трудности для усвоения, молодые же люди должны усваивать все как можно лучше. И предписанные им обязательные науки вовсе не незначительны и их немало, как со временем покажет дальнейший ход рассуждения. Так вот, пусть у нас воспитатель именно так позаботится относительно музыки. Что же касается самих напевов, а также слов, каким должны обучать наставники хоров, то это все у нас уже было разобрано раньше.
813
Мы сказали, что они должны быть священными; напевы и слова должны сообразоваться с определенными празднествами; они должны принести государствам благое удовольствие и в то же время пользу.
Клиний.
Это тоже сказано верно.
Афинянин.
И даже очень. Пусть же воспримет эти наши слова должностное лицо, выбранное для попечения над музыкой, и пусть его заботы об этом увенчаются полным успехом. Мы же разберем еще кое‑что в дополнение к сказанному раньше о пляске и гимнастических упражнениях.
b
Подобно тому как мы разобрали все пропущенное прежде относительно обучения музыке, так же точно поступим мы и с гимнастикой. И мальчики, и девочки должны обучаться пляскам и гимнастическим упражнениям. Не так ли?
Клиний.
Да.
Афинянин.
Для упражнения было бы более целесообразно, чтобы у мальчиков были учителя пляски, а у девочек – учительницы.
Клиний.
Пусть будет так.
c
Афинянин.
Давайте снова призовем попечителя детей, хотя у него и будет очень много работы, ведь он печется как обо всем в деле музыки, так и обо всем в деле гимнастики, так что досуга у него будет мало.
Клиний.
Между тем это человек почтенного возраста. Как же сможет он осуществить свое попечение о столь многом?
Афинянин.
Очень просто, мой друг. Закон дал и даст ему право привлекать для этого попечения тех из граждан – мужчин или женщин, – кого он захочет. А он уже будет знать, кого здесь надо привлечь; он не захочет оказаться небрежным, так как разумно посовестится, понимая значение своей должности,
d
да, кроме того, примет в соображение то обстоятельство, что все у нас пойдет как следует, если молодые получили или получают хорошее воспитание. Если же этого нет… впрочем, не стоит заканчивать: мы не станем говорить об этом, считаясь с теми людьми, которые привыкли при возникновении нового государства во всем усматривать предзнаменования.
Итак, мы уже много сказали и об этом, то есть о том, что имеет отношение к пляскам и всевозможным гимнастическим упражнениям. В самом деле, мы считаем, что гимнастические упражнения включают также телесные упражнения в ратных трудах: стрельбу из лука, всякие виды метания,
e
обращение с легким и различным тяжелым оружием, строевой порядок, умение отправиться в любой поход, разбить лагерь, а также все знания по верховой езде. Всему этому должны обучать общественные учителя, состоящие на жалованье у государства. Их учениками будут граждане – мужчины и мальчики, девочки и женщины, причем девочки должны прилежно обучаться пляскам в полном вооружении и бую, женщины же приступают к боевому порядку, строю, надеванию и сниманию оружия.
814
Это следует делать если не ради чего‑то иного, то ради тех случаев, когда всенародному ополчению приходится, оставив город, выступать в поход за его пределы. В этих случаях они должны уметь хоть настолько владеть оружием, чтобы защитить детей и государство, да и в противоположных случаях (а ведь никак нельзя поручиться, что их не будет), когда неприятель вторгнется извне с огромной мощью – все равно, будут это варвары или эллины, – надо выказать готовность стоять до конца уже за самое государство.
b
При этом великим бедствием для государства будет такое позорное воспитание женщин, что они не пожелают умереть или претерпеть всяческие опасности ради детей, в то время как это делают даже птицы, сражаясь за своих детенышей с любым из самых сильных зверей. Женщины же тотчас устремляются к святилищам, заполняют все храмы, окружают алтари, распространяя о человеческом роде славу как о самом по своей природе трусливом из всех существ[2078]
.
Клиний.
Клянусь Зевсом, чужеземец, если где это случится, государству не будет славы, не говоря уж о вреде.
c
Афинянин.
Значит, мы установили этот закон в следующих пределах: женщины не должны пренебрегать ратным делом, но все, как граждане, так и гражданки, должны о нем печься.
Клиний.
Я по крайней мере с этим согласен.
Афинянин.
Далее, мы говорили уже о борьбе. Но мы не коснулись того, что я назвал бы самым важным, правда, нелегко выразить это словами, без показательных телодвижений. Поэтому мы будем судить об этом только тогда,
d
когда слово будет сопровождаться делом и выяснится нечто определенное как относительно остального, о чем шла речь, так и относительно нашего мнения, что такая борьба значительно больше других движений действительно родственна бою. Особенно же станет ясным, что борьбой надо заниматься ради войны, но не следует изучать ратное дело ради борьбы.
Клиний.
Это‑то очень верно.
Афинянин.
Пока ограничимся сказанным о значении борьбы. Что же касается всех прочих движений тела – большую их часть правильно было бы назвать своего рода пляской, –
e
то здесь надо различать два рода: первый воспроизводит, с возвышенной целью, движения более красивых тел; второй же воспроизводит, с низменной целью, движения тел безобразных. В свою очередь низменный род пляски распадается на два вида, да и серьезный род – тоже на два. Из видов серьезной пляски один воспроизводит движения красивых тел и мужественной души на войне или в тягостных обстоятельствах, а другой – те движения, с которыми рассудительная душа предается благим делам и умеренным удовольствиям. Такую пляску можно, согласно с ее природой, назвать мирной.
815
Воинственную же пляску, противоположную мирной, правильно было бы назвать «пиррихои»[2079]
. Путем уклонении и отступлении, прыжков в высоту и пригибаний она воспроизводит приемы, помогающие избегнуть ударов и стрел; пытается она воспроизводить и движения противоположного рода, пускаемые в ход при наступательных действиях, то есть при стрельбе из лука, при метании дротика и при нанесении различных ударов. Когда подражают движениям хороших тел и душ,
b
правильным будет прямое и напряженное положение тела с устремлением всех членов тела, как это по большей части бывает, прямо вперед; противоположное же этому положение тела неправильно. В свою очередь при любой мирной пляске надо обращать внимание, правильно ли и не вопреки ли природе берется кто за эту прекрасную пляску и должным ли образом проводит он время в хороводах законопослушных мужей. Стало быть, прежде всего следует отделить сомнительный вид пляски от пляски, не вызывающей никаких сомнений.
c
Какой же будет эта последняя и по какому признаку надо отделить один ее вид от другого? Что касается вакхической пляски и примыкающих к ней других видов, называемых плясками нимф, панов, силенов и сатиров, где, как считается, подражают тем, кто захмелел, причем справляются эти пляски во время обрядов очищения и некоторых других таинств, то нелегко определить, мирный ли весь этот род пляски или воинственный и какова его цель. Мне кажется, всего правильнее будет определить его так:
d
отделив этот род как от воинственной, так и от мирной пляски, мы скажем, что он не имеет отношения к государственной жизни[2080]
. Поэтому мы и оставим его в покое и перейдем к воинственной и мирной пляскам, что уже, несомненно, наше дело.
То, что относится к невоинственной Музе, когда люди плясками почитают богов и детей богов, составляет один род пляски, он возникает на основе людских представлений о благополучии. В свою очередь мы снова разделили бы его на два вида:
e
первый свойствен людям, избежавшим трудностей и опасностей и достигшим блага, от него получают бульшие удовольствия. Второй же вид свойствен людям, сохраняющим и умножающим прежние блага, этот вид несет с собой более спокойные удовольствия, чем первый. В этих условиях каждый человек производит более или менее сильные телодвижения в зависимости от того, испытывает он более или менее сильное удовольствие. Чем более человек умерен и более закален в мужестве, тем меньше движений он производит;
816
если же он труслив и не упражнен в рассудительности, то в его движениях больше изменений и они сильнее. Вообще не всякий может сохранять свое тело в покое, когда он издает звуки – при пении ли или при разговоре. Поэтому‑то подражание жестам говорящих и породило все в совокупности искусство пляски. Однако движения у одних из нас бывают складными, у других же совершаются невпопад.
b
Если вдуматься, то нельзя не одобрить как многих других древних названий, прекрасно данных согласно природе, так и того названия, что было дано пляскам людей благополучных, но умеренных в своих удовольствиях. Как верно и изящно назвал их тот – кто бы он ни был, – который с полным основанием дал всякой такой пляске название «эммелия»[2081]
! Он установил два вида прекрасных плясок: первый, военный, – «пирриха» и второй, мирный, – «эммелия»; каждому виду он дал подходящее и подобающее ему название.
c
Законодатель должен на примерах растолковать характер этих плясок. И страж законов должен их придумывать, а придумав, соединять с остальными видами мусического искусства и распределять между всеми праздничными жертвоприношениями, на пользу каждому празднеству. Так он должен их все по порядку освятить, чтобы впредь уже ничего не менять ни в пляске, ни в пении и чтобы одно и то же государство и те же самые граждане
d
проводили время в одних и тех же удовольствиях, оставаясь, сколь возможно, себе подобными и живя хорошо и счастливо.
Итак, мы покончили с разбором того, какими должны быть хороводные пляски людей, прекрасных телом и благородных душой. Что же касается возбуждения смеха и шуточного подражания в слове, пении и пляске действиям людей, безобразных телом и со скверным образом мыслей, то это еще нужно рассмотреть и объяснить.
e
В самом деле, без смешного нельзя познать серьезного[2082]
; и вообще противоположное познается с помощью противоположного, если только человек хочет быть разумным. Зато одновременно осуществлять то и другое невозможно, если опять‑таки человек хочет быть хоть немного причастным добродетели. Но именно потому‑то и надо ознакомиться со всем этим, чтобы по неведению не сделать и не сказать когда‑то совершенно некстати чего‑то смешного. Подобные подражания надо предоставить рабам и чужеземным наемникам. Никогда и ни в коем случае не следует заниматься этим серьезно; свободные люди – мужчины ли или женщины – не должны обнаруживать подобных познаний. То, что здесь воспроизводится, постоянно должно казаться новым.
817
Следовательно, вот этот закон и в таком выражении мы и установим относительно смешных забав, называемых всеми нами комедией.
Что же касается творцов трагедий, считающихся серьезными, то, если кто из них, придя, задаст такой вопрос: «Чужеземцы, приходить ли нам в ваше государство и в вашу страну или нет? Вводить ли нам у вас свои произведения? Или вы приняли иное решение?» – какой ответ мы были бы вправе дать божественным этим людям?
b
Мне кажется, такой. «Достойнейшие из чужеземцев, – сказали бы мы им, – мы и сами – творцы трагедии, наипрекраснейшей, сколь возможно, и наилучшей. Ведь весь наш государственный строй представляет собой подражание самой прекрасной и наилучшей жизни. Мы утверждаем, что это и есть наиболее истинная трагедия. Итак, вы – творцы, мы – тоже творцы. Предмет творчества у нас один и тот же. Поэтому мы с вами соперники и по искусству, и по состязанию в прекраснейшем действе. Один лишь истинный закон может по своей природе завершить наше дело;
c
на него у нас и надежда. Так не ожидайте же, что когда‑нибудь мы так легко позволим вам раскинуть у нас на площади шатер и привести сладкоголосых артистов, оглушающих нас звуками своего голоса; будто мы дадим вам витийствовать перед детьми, женщинами и всей чернью и об одних и тех же занятиях говорить не то же самое, что говорим мы, но большей частью даже прямо противоположное. В самом деле, мы – да и все государство в целом, – пожалуй,
d
совершенно сошли бы с ума, если бы предоставили вам возможность делать το,
о чем сейчас идет речь, если бы должностные лица не обсудили предварительно, допустимы ли и пригодны ли ваши творения для публичного исполнения или нет. Поэтому теперь вы, потомки изнеженных Муз, покажите сначала правителям ваши песнопения для сравнения с нашими. Если они окажутся такими же или если ваши окажутся даже лучшими, мы дадим вам хор. В противном случае, друзья мои, мы этого никогда не сможем сделать»[2083]
.
e
Итак, относительно хоровых плясок и обучения им пусть будут, если вы согласны, установлены законами именно эти обычаи – отдельно для рабов, отдельно для господ.
Клиний.
Как же нам с этим не согласиться?!
Афинянин.
Итак, для свободных людей остаются еще три предмета обучения: счет и арифметика составляют один предмет; измерение длины, плоскости и глубины – второй; третий касается взаимного движения небесных светил и свойственных их природе круговращений.
818
Трудиться над доскональным изучением всего этого большинству людей не надо, но только лишь некоторым. Кому же именно – об этом у нас пойдет речь потом, под самый конец: там это будет уместнее. Однако правильно говорится, что позорно, если большинство людей не имеют необходимых сведений в этой области и пребывают в невежестве; вдаваться же здесь в подробные изыскания нелегко, да и вообще невозможно. Но необходимое отбрасывать здесь нельзя.
b
Тот, кто первым пустил в ход поговорку о боге, а именно что бог никогда не борется с необходимостью, имел, надо думать, в виду божественную необходимость[2084]
. Если же дело идет о человеческих необходимостях – а ведь именно это имеет в виду большинство людей, высказывая такое суждение, – то подобное утверждение будет самым нелепым из всех.
Клиний.
Какие же из необходимостей при обучении, чужеземец, будут не человеческими, а божественными?
c
Афинянин.
По‑моему, это те, без осуществления, а также усвоения которых решительно никто не стал бы для людей богом, даймоном или героем и не смог бы ревностно печься о людях. Многого недостает человеку, чтобы стать божественным, если он не может распознать, что такое единица, два, три и вообще, что такое четное и нечетное; если он вовсе не смыслит в счете; если он не в состоянии рассчитать ночь и день; если он ничего не знает об обращении Луны, Солнца и остальных звезд.
d
Поэтому большая глупость думать, будто все это не суть необходимые познания для человека, собирающегося обучиться хоть чему‑нибудь из самых прекрасных наук[2085]
. Прежде всего надо надлежащим образом определить, чему именно из этого, в каком объеме и когда надо обучаться, в какой последовательности – вместе или отдельно от прочего, – словом, каково должно быть сочетание изучаемых предметов. Только после этого можно перейти к остальному, руководствуясь при обучении перечисленными науками. Так утверждает свои природные права необходимость,
e
с которой, как мы говорим, ныне не борется – и никогда не будет бороться – ни один из богов.
Клиний.
Кажется, чужеземец, эти твои слова правильны и согласны с природой.
Афинянин.
Так обстоит дело, Клиний. Однако трудно устанавливать законы после того, как мы заранее выдвинули все это. Если угодно, мы в другое время подробнее этим займемся.
Клиний.
Кажется, чужеземец, ты опасаешься, что мы невежественны в подобных вопросах. Но твои опасения неосновательны. Попытайся же высказаться, ничего не утаивая по этим причинам.
819
Афинянин.
Да, я опасаюсь и того, о чем ты сейчас говоришь, но еще более боюсь я людей, прикоснувшихся к этим наукам, но прикоснувшихся плохо. Полное невежество вовсе не так страшно и не является самым великим из зол, а вот многоопытность и многознание, дурно направленные, – это гораздо более тяжелое наказа‑ние[2086]
.
Клиний.
Ты прав.
Афинянин.
Итак, надо сказать, что свободные люди должны обучаться каждой из этих наук в таком объеме,
b
в каком им обучается наряду с грамотой великое множество детей в Египте[2087]
. Прежде всего там нашли простой способ обучения детей счету; во время обучения пускаются в ход приятные забавы: яблоки или венки делят между бульшим или меньшим количеством детей, сохраняя при этом одно и то же общее число; устанавливают последовательность выступлений и группировку кулачных бойцов и борцов; определяют по жребию, как это обычно бывает, кому с кем стать в пару. Есть еще и такая игра: складывают в одну кучу сосуды – золотые, бронзовые, серебряные и из других сходных материалов –
c
столько, чтобы при разделе было целое число, и, как я сказал, в процессе игры происходит необходимое ознакомление с числами. Для учеников это полезно, так как пригодится в строю при передвижениях, перестройках и даже в хозяйстве. Вообще это заставляет человека приносить больше пользы самому себе и делает людей более бдительными.
d
Кроме того, путем измерения длины, ширины и глубины люди освобождаются от некоего присущего всем им от природы смешного и позорного невежества в этой области.
Клиний.
О каком невежестве ты говоришь?
Афинянин.
Друг мой Клиний, я и сам был удивлен, что так поздно узнал о том состоянии, в котором все мы находимся. Мне показалось, что это свойственно не человеку, но скорее каким‑то свиньям. И я устыдился не только за самого себя, но и за всех эллинов.
e
Клиний.
Объясни, чужеземец, что ты этим хочешь сказать.
Афинянин.
Хорошо, объясню. Впрочем, это выяснится, если я буду тебе задавать вопросы, а ты будешь отвечать, но только кратко. Ты знаешь, что такое длина?
Клиний.
Да.
Афинянин.
А ширина?
Клиний.
Конечно, знаю.
Афинянин.
А также и то, что это составляет два [измерения], третьим же [измерением] будет глубина?
Клиний.
Разумеется, так.
Афинянин.
Не кажется ли тебе, что все это соизмеримо между собой?
Клиний.
Да.
Афинянин.
А именно что по самой природе возможно измерять длину длиной, ширину – шириной и точно так же и глубину?
820
Клиний.
Вполне.
Афинянин.
А если бы оказалось, что это возможно лишь отчасти, поскольку кое‑что несоизмеримо ни полностью, ни чуть‑чуть, ты же считаешь все соизмеримым, – в какое положение, по‑твоему, ты бы попал?
b
Клиний.
Ясно, что в незавидное.
Афинянин.
Так что же? Разве все мы, эллины, не полагаем, что длина и ширина так или иначе соизмеримы с глубиной или что ширина и длина соизмеримы друг с другом?
Клиний.
Да, именно так мы полагаем.
Афинянин.
И вот если снова окажется, что это никоим образом невозможно, между тем как, повторяю, все мы, эллины, полагаем, что это возможно, то разве это не достаточная причина, чтобы устыдиться за всех них? Разве не стоит сказать им: «Лучшие из эллинов, это и есть одна из тех вещей, не знать которые, как мы сказали, позорно; впрочем, такое знание, коль скоро оно необходимо, еще не есть что‑то особенно прекрасное».
Клиний.
Да, это так.
c
Афинянин.
Кроме этого есть и другие родственные этим вещи, в отношении которых у нас возникает опять‑таки много заблуждений, сродных первым.
Клиний.
Какие же это вещи?
Афинянин.
Это причины, по которым, согласно природе, возникает соизмеримость и несоизмеримость. Необходимо иметь их в виду и различать, иначе человек будет совсем никчемным. Надо постоянно указывать на это друг другу. Таким образом люди проводили бы время гораздо приятнее, чем старики при игре в шашки: ведь старикам прилично, состязаясь в этой игре, коротать свое время.
d
Клиний.
Возможно. Итак, по‑видимому, игра в шашки не столь далеко отстоит от этих наук[2088]
?
Афинянин.
Поэтому‑то, Клиний, я и утверждаю, что молодые люди должны этому обучаться. В самом деле, это не приносит вреда и нетрудно, обучение, сопряженное с игрой, будет полезно и ничуть не повредит нашему государству. Впрочем, надо выслушать, нет ли каких возражений?
Клиний.
Да, надо.
Афинянин.
Если обнаружится, что дело обстоит именно так, то ясно, что мы примем это; если же окажется, что это не так, это будет отвергнуто.
e
Клиний.
Ясно. Как же иначе?
Афинянин.
Итак, чужеземец, постановим это, так как предмет этот относится к числу тех наук, которые обязательно должны изучаться, чтобы не было пробелов в наших законах. Но только пусть это будет принято в государственное устройство как некий вклад, который может быть вновь изъят из всего государства, если это вовсе не понравится ни нам, учредителям, ни вам, для кого это учреждено.
Клиний.
Твой закон справедлив.
Афинянин.
После этого рассмотрим, будет ли соответствовать нашим желаниям или не будет, чтобы молодежь изучала упомянутую науку о звездах?
Клиний.
Продолжай.
Афинянин.
Тут положение очень странное и совершенно недопустимое.
821
Клиний.
В чем же дело?
Афинянин.
Мы говорим, будто не следует заниматься суетными изысканиями и исследованиями относительно верховного божества и всего космоса в целом, а также не надо доискиваться причин, ибо это будто бы нечестиво. Но по‑видимому, в действительности дело обстоит как раз наоборот.
Клиний.
Что ты разумеешь?
Афинянин.
То, что я скажу, покажется, пожалуй, неожиданным и неподходящим для старика. Однако если находишь какую‑нибудь науку прекрасной, истинной, полезной для государства и вполне любезной богу, то никак невозможно это не высказать.
b
Клиний.
Естественно. Но найдем ли мы что‑либо подобное в науке о звездах?
Афинянин.
Друзья мои, ныне, сказал бы я, все мы, эллины, заблуждаемся относительно великих богов – Солнца и Луны.
Клиний.
В чем же состоит это заблуждение?
Афинянин.
Мы говорим, что они никогда не движутся одним и тем же путем, так же как и некоторые другие звезды, и потому мы их называем блуждающими[2089]
.
c
Клиний.
Клянусь Зевсом, чужеземец, ты говоришь правильно. Однако я в своей жизни нередко наблюдал, как Утренняя звезда, Вечерняя[2090]
и некоторые иные никогда не совершают бега по тому же пути, но блуждают повсюду; Солнце же и Луна проделывают то, что нам всем постоянно известно.
Афинянин.
Поэтому‑то, Мегилл и Клиний, я утверждаю сейчас, что наши граждане и молодые люди должны узнать все это о небесных богах
d
хотя бы в таком объеме, чтобы не поносить их, но всегда славословить при жертвоприношениях и сохранять благочестие в молитвах.
Клиний.
Это верно, если только прежде всего возможно узнать то, о чем ты говоришь. Затем, раз мы кое в чем ошибаемся относительно этих богов, обучившись же, перестанем делать ошибки, то и я уступаю тебе в том, что подобную науку надо усвоить по крайней мере в таком объеме. А ты попытайся всячески растолковать нам, что дело действительно обстоит таким образом. Усвоив это, мы за тобой последуем.
е
Афинянин.
Хотя и нелегко понять, о чем я говорю, однако и не так уж трудно. Да и времени это не требует особенно долгого. Вот вам доказательство: немолодым и не так давно узнал я об этом, однако я мог бы теперь объяснить это вам, и притом за короткое время. А ведь будь это трудно, я никогда не сумел бы объяснить это вам, учитывая мои и ваши преклонные годы.
822
Клиний.
Это верно. Но о какой науке говоришь ты такие странные вещи? Ей должна обучаться молодежь, между тем как нам она неизвестна? Попробуй хоть немного разъяснить это.
Афинянин.
Надо попробовать. Друзья мои, это мнение о блуждании Луны, Солнца и остальных звезд неправильно. Дело обстоит как раз наоборот. Каждое из этих светил сохраняет один и тот же путь; оно совершает не много круговых движений, но лишь одно. Это только кажется, что оно движется во многих направлениях. Опять‑таки неверно считать самое быстрое из этих светил самым медленным, а самое медленное – самым быстрым[2091]
.
b
Природа устроила это по‑своему, а мы держимся иного мнения… Если бы в Олимпии при конных ристаниях или при состязании людей в длинном пробеге мы держались подобного образа мыслей и считали бы самого быстрого бегуна самым медленным, а самого медленного – самым быстрым, то мы стали бы воздавать побежденному хвалу за победу. Я думаю, было бы неправильно и неприятно для бегунов, если бы мы стали так раздаривать наши хвалы, а ведь бегуны – только люди.
c
Если же мы и по отношению к богам впадем в такую ошибку, то разве мы не сообразим, что то, что было смешно и неправильно в первом случае, окажется вовсе не смешным теперь, когда речь идет о богах. Богам неприятно, если мы поем им ложную славу.
Клиний.
Несомненно, если дело обстоит так.
Афинянин.
Следовательно, если мы докажем, что дело обстоит именно так, то все подобные науки надо будет изучать хотя бы в таком объеме. Если же мы этого не докажем, то придется эти науки оставить. Пусть так и будет у нас постановлено.
d
Клиний.
Безусловно.
Афинянин.
Итак, надо сказать, что мы покончили с законами по поводу преподавания наук. Об охоте и всех подобных вещах надо судить таким же образом. Обязанность законодателя может оказаться шире, и он не должен, дав законы, считать свою задачу выполненной. Кроме законов есть и нечто иное, занимающее по своей природе среднее место между наставлением и законом. Это иное уже часто вторгалось в нашу беседу:
e
таким, например, был вопрос о воспитании малолетних детей. Мы утверждаем, что нельзя оставить это невысказанным, но, с другой стороны, считать все, что мы выскажем, установленными законами значило бы преисполниться великого безумия. После того как определенным образом будут намечены законы и весь государственный строй, все же нельзя будет считать совершенной похвалой выдающемуся своей добродетелью гражданину, если о нем скажут, что он лучше всех служит законам и больше всех им повинуется и, следовательно, он – хороший человек. Более совершенным будет такой отзыв: «Вот человек, проводящий всю свою жизнь в повиновении законодателю, все равно,
823
даны ли его предписания в виде законов или же только в виде одобрения и порицания». Это будет самым точным выражением похвалы гражданину. Действительно, законодатель должен не только начертать законы, но и, кроме того, включить в свой набросок мнение о том, чту прекрасно и чту нет. А образцового гражданина это должно обязывать ничуть не меньше, чем предписания, за неисполнение которых законы грозят наказанием.
Мы можем сослаться на то, чем мы теперь заняты. Это скорее всего выяснит наше намерение.
b
Охота – это нечто очень разнообразное, но в наше время все это охватывает одно название. Есть много видов охоты на водяных животных, много видов охоты на птиц, а также очень много видов охоты на сухопутных зверей. Впрочем, охота может быть не только на зверей, но и на людей, как это бывает на войне. Ведь и это заслуживает, если вдуматься, названия охоты. Много есть видов охоты, вызванных любовью: одни из них похвальны, другие – нет. Далее, грабежи, как разбойников, так и одного войска другим, – это тоже виды охоты.
c
Законодателю, издающему законы об охоте, нельзя не выяснить это, но, с другой стороны, невозможно для всего этого установить грозные законы и добавить к ним различные распоряжения и наказания.
Как же поступить в этих случаях? Одному, то есть законодателю, следует выразить свое одобрение или порицание трудам и занятиям молодежи, касающимся охоты; с другой стороны, молодому человеку следует выслушать его указания и повиноваться им, чему не должны препятствовать ни удовольствия, ни трудности;
d
в особенности следует уважать и выполнять то, что одобрено и предписано законодателем, – больше, чем постановления, сопровождаемые угрозами наказания.
После такого предисловия уместно было бы прямо перейти к одобрению или порицанию тех или иных видов охоты[2092]
. Заслуживает одобрения тот вид охоты, который совершенствует души юношей; порицания же заслуживает противоположный вид. Затем обратимся к молодым людям с таким пожеланием: «О, если бы, друзья, вас никогда не охватывала страстная жажда морской охоты,
e
уженья рыбы, вообще охоты на водных животных, совершается ли это безделье днем или ночью, с помощью верши! И пусть не охватывает вас стремление к ловле людей и морскому разбою, которое сделало бы из вас жестоких и беззаконных охотников! Пусть вам в голову не приходит даже отдаленная мысль заняться воровством в своей стране и в своем государстве. Пусть никого из молодых людей не охватит лукавая страсть к охоте на птиц, совсем не подходящая свободнорожденному человеку.
824
Нашим любителям состязаний остается только охота и ловля наземных животных; однако и здесь недостойна похвалы так называемая ночная охота, во время которой лентяи поочередно спят, а также и та охота, где допускаются передышки и где побеждает не сила трудолюбивого духа, а тенета и силки, с помощью которых побеждают силу диких животных. Стало быть, остается лишь один наилучший для всех вид охоты – конная и псовая охота на четвероногих животных; в ней люди применяют силу своего тела; те, кто печется о божественном мужестве, одерживают там верх; они несутся вскачь, наносят удары, стреляют из лука и собственными руками ловят добычу».
Слово наше может служить похвалой и порицанием всем этим видам охоты, закон же будет такой: этим в самом деле священным охотникам пусть никто не препятствует заниматься где и как угодно псовой охотой. Ночному же охотнику, полагающемуся на свои тенета и западни, пусть никто никогда и нигде не позволяет охоту. Птицелову пусть не мешают охотиться в бесплодных местах и в горах, но первый встречный пусть прогонит его с обрабатываемых священных земель. Рыбаку дозволяется ловить рыбу везде, за исключением гаваней, священных рек, озер и прудов, лишь бы он не употреблял смеси соков, мутящих воду.
Теперь можно утверждать, что законы об обучении пришли к концу.
Клиний.
Прекрасно.
Перевод А. Н. Егунова.
В кн.: Платон. Законы. М.: «Мысль», 1999
КHИГА VIII
828
Афинянин.
После этого надо перейти к учреждению и узаконению празднеств с помощью Дельфийских прорицаний; надо определить, какие жертвоприношения и каким богам будут полезнее и лучше для государства, в какое время надо их совершать и в каком количестве. Наше дело также, пожалуй, установить здесь некоторые законы.
Клиний.
По крайней мере мы должны установить количество праздников.
b
Афинянин.
Итак, прежде всего определим их количество. Пусть празднеств будет не менее трехсот шестидесяти пяти, чтобы всегда какое‑нибудь одно должностное лицо совершало жертвоприношение какому‑нибудь богу или даймону за государство, за граждан и за их достояние. Пусть толкователи, жрецы, жрицы и прорицатели соберутся вместе со стражами законов и определят то, что неизбежно пропустит законодатель. Потому‑то им и надо знать толк во всем том, что законодателем было пропущено. Закон же гласит так: пусть будет двенадцать празднеств в честь двенадцати богов,
c
имена которых носят двенадцать фил. Каждому из этих богов пусть совершаются ежемесячные жертвоприношения; пусть устраиваются хороводы и мусические состязания; что же касается гимнастических состязаний, то их надо добавить положенным образом, соответственно всем этим богам и временам года. Надо определить, на какие женские празднества не допускаются мужчины, а на какие допускаются. Кроме того, почитание подземных богов не следует смешивать с почитанием богов, которых следует назвать небесными, и их спутников. Напротив, это надо разграничить, и почитание подземных божеств приурочить к двенадцатому месяцу – месяцу Плутона[2093]
.
d
Воины не должны питать отвращения к этому богу; нет, им надо его почитать, ведь это во всех отношениях самый благой бог для человеческого рода. В самом деле, общность души и тела ничуть не лучше их разобщения[2094]
, я это серьезно готов утверждать. К тому же тем, кто потом внесет здесь должное разграничение, надо поразмыслить о том, что в смысле досуга и необходимых для жизни средств едва ли кто отыщет среди существующих теперь государств другое такое, как наше. Поэтому государство наше, как и любой отдельный в нем человек, должно жить счастливо,
829
а те, кто счастливо живет, по необходимости должны прежде всего не обижать друг друга и не подвергаться обидам со стороны других. Первое из двух этих условий не столь уж трудное, но очень трудно обладать такой силой, чтобы не подвергаться обидам. Достичь этого полностью возможно не иначе как став совершенно добродетельным. Точно так же бывает и с государством: у государства, ставшего добродетельным, жизнь бывает мирной, а у государства порочного – мятежной вовне и внутри. И раз дело обстоит таким образом,
b
каждый должен упражняться в войне не на войне, а в мирной жизни. Поэтому разумное государство должно уделять воинским упражнениям в лагерях каждый месяц не меньше одного дня, лучше же – больше, если так решат правители; при этом не надо бояться ни холода, ни жары. Если правители решат устраивать эти упражнения всенародно, то граждане должны выходить на них со своими женами и детьми; в других случаях в упражнениях будет участвовать только часть граждан. С жертвоприношениями надо объединять приятные забавы; надо, чтобы при этом происходили торжественные бои,
c
по возможности наглядно воспроизводящие настоящие. Для каждого отдельного состязания надо установить победные награды и отличия. Граждане будут восхвалять друг друга или порицать, смотря по тому, каким кто себя выкажет на состязаниях да и вообще в своей жизни. Того, кто будет признан самым лучшим, будут увенчивать, а самого худшего подвергать порицанию. Не всякий поэт будет иметь право воспевать эти подвиги; прежде всего он должен иметь не менее пятидесяти лет от роду и не должен принадлежать к числу тех, кто хотя и обрел в себе поэтический дар, однако никогда не совершил ни одного прекрасного поступка. Пусть поются, хоть и не очень складные, сочинения тех поэтов, что и сами по себе хорошие люди,
d
и пользуются почетом в государстве за мастерство в прекрасных делах. Суждение об этих поэтах должен иметь воспитатель и остальные стражи законов; лишь таким поэтам предоставят они как почетный дар полную свободу для сочинительства, остальных же поэтов лишат этой возможности полностью. Никто не осмелится воспевать презренную Музу, не получившую одобрения стражей законов, даже если он будет петь слаще Орфея или Фамиры[2095]
.
e
Допускаются лишь сочинения в честь богов, признанные священными, и хвалы либо порицания, составленные добродетельными людьми, поскольку будет признана их сообразность.
То, что я говорил о воинской службе и о свободе сочинительства, должно одинаково касаться как мужчин, так и женщин. Законодателю надо все это взвесить и рассуждать про себя так: «Прекрасно, государство‑то я устроил, но какими должен я воспитать его граждан?
830
Разве не борцами в величайшем сражении, где у них будет много тысяч противников?» «Конечно, так», – правильно было бы на это ответить. «Так что же? Если бы мы воспитывали кулачных бойцов, панкратистов и тому подобных борцов, неужели мы вышли бы на состязание, ни разу перед тем ни с кем не сразившись? Или раз уж мы кулачные бойцы, то мы задолго до состязания
b
в течение многих дней будем учиться сражаться и приложим много трудов, чтобы усвоить все те приемы, что пригодятся нам потом для победы? Научимся подражать им как можно лучше: вместо ремней мы наденем на руки шары, чтобы как можно лучше изучить удары и способы их отражения. Если у нас будет недостаток в товарищах по гимнастике, то мы станем упражняться, заменив противника подвешенным неодушевленным чучелом. Неужели же мы не осмелимся сделать это, убоясь смеха неразумных людей?
c
Наконец, если у нас не будет живых противников и никаких неодушевленных предметов, если нам придется упражняться в пустыне, разве не посмеем мы это делать наедине, в самом деле борясь уже со своей тенью? Разве нельзя сказать, что так и бывает, когда мы привыкаем к различным движениям рук?»
Клиний.
Пожалуй, чужеземец, дело обстоит именно так, как ты сейчас сказал.
Афинянин.
Что же? Хуже ли этих борцов будет подготовлено воинство нашего государства? Во всяком случае оно в любое время отважно двинется в самый тяжелый бой,
d
сражаясь за жизнь, за детей, за имущество и за все государство. Поэтому законодатель не убоится того, что подобные упражнения по двое могут показаться кому‑то смешными; напротив, он предпишет еще и каждодневные небольшие походы, пусть без оружия, и приспособит к этому хороводы и всю вообще гимнастику. Он предпишет также гимнастические упражнения, более или менее тяжелые, не реже чем раз в месяц. По всей стране граждане должны будут вступать друг с другом в борьбу,
e
борясь за захват каких‑нибудь мест, устраивая засады и вообще подражая военным действиям. Они будут метать ядра и пускать стрелы, по возможности подобные настоящим, пользуясь не совсем безопасными снарядами, чтобы это была не просто безопасная взаимная забава, но присутствовал бы и страх, тогда обнаружится, у кого есть присутствие духа, а у кого нет.
831
Первым оказывается почет, вторые же предаются бесчестью. Таким образом, все государство, пока оно существует, все время должным образом подготовляется к настоящему бою. Если при этом кто‑нибудь даже лишится жизни, то, поскольку убийство произошло невольно, руки убийцы считаются чистыми, после того как он по закону совершит очищение. Законодатель держится того мнения, что смерть немногих людей будет восполнена рождением других, притом не худших, чем были погибшие. Если же исключить здесь страх, то нельзя будет найти средство отличать лучших людей от худших, а это будет для государства значительно большей бедой.
b
Клиний.
По крайней мере, чужеземец, мы готовы согласиться, что всякое государство должно установить законом все эти упражнения и превратить занятия ими в обычай.
Афинянин.
Неужели же все мы так и не поняли, почему хоровые пляски и все подобные состязания почти совсем не в ходу в теперешних государствах – разве лишь в крайне ничтожных размерах? Не из‑за невежества ли большинства людей и тех, кто устанавливает для них законы?
Клиний.
Весьма возможно.
c
Афинянин.
Нет, вовсе нет, дорогой Клиний. Надо сказать, что тут есть две вполне достаточные причины.
Клиний.
Какие?
Афинянин.
Первая заключается вот в чем: из‑за страсти к богатству, поглощающей весь досуг, люди не заботятся ни о чем, кроме своего собственного достатка. Душа всякого гражданина привязана к этому и больше уже ни о чем не заботится, кроме как о каждодневной выгоде. Всякий про себя полон готовности изучить те науки и те занятия, что ведут к этой цели, все же прочее у них подвергается осмеянию.
d
Это и следует признать одной из причин, почему государства не желают серьезно вводить как упомянутые обычаи, так и вообще любой другой достойный обычай. Из ненасытной страсти к золоту и серебру всякий готов прибегнуть к любым уловкам и средствам, достойные ли они или нет, лишь бы разбогатеть. Благочестив ли поступок или нечестен и безусловно позорен, это его не трогает,
e
лишь бы только обрести обильную пищу, питье и, словно зверь, предаваться всевозможному сладострастию.
Клиний.
Верно.
Афинянин.
Следовательно, то, о чем я говорю, и есть одна из причин, не дающих государствам развивать хорошие навыки в чем бы то ни было, в том числе и в военном искусстве. Из людей, по природе своей вообще‑то порядочных, она создает купцов, корабельщиков, всевозможных прислужников;
832
из храбрецов – разбойников, подкапывателей стен, святотатцев, драчунов и тиранов; иной раз они даже вовсе не плохи, но так уж им не посчастливилось.
Клиний.
Как ты говоришь?!
Афинянин.
Да как же не назвать их совсем несчастными, если всю свою жизнь они обречены на душевную нищету и ненасытность?
Клиний.
Итак, это одна из причин. Что же ты считаешь второй, чужеземец?
Афинянин.
Хорошо, что ты мне напомнил.
b
Клиний.
Первая причина, по твоим словам, состоит в постоянной и ненасытной алчности; при этом всякому недосуг да и трудно упражняться как дулжно в военном деле. Пусть так. Укажи, какая же вторая причина.
Афинянин.
Уж не думаешь ли ты, что я в затруднении и потому медлю ее назвать?
Клиний.
Нет. Но мне кажется, что, когда речь зашла о ненавистных тебе нравственных свойствах, ты более, чем дулжно, подверг их бичеванию.
Афинянин.
Ваш упрек, чужеземцы, вполне справедлив. Все‑таки выслушайте и следующее.
Клиний.
Говори, говори.
Афинянин.
Я утверждаю – и говорил об этом не раз в предшествующей беседе, – что причиной служит также и государственный строй:
c
демократический, олигархический, тиранический. Впрочем, ни то, ни другое, ни третье не есть даже государственный строй (πολιτεία), все это скорее может быть названо длительной междоусобицей (στασιωτεία), ибо ни одно из этих устройств не принимается добровольно, но держится постоянным насилием и произволом, подавляющим волю подданных. Властитель же, опасаясь своих подданных, добровольно никогда не допустит, чтобы дни стали достойными, богатыми, сильными, мужественными и вообще сведущими в ратном деле. Таковы две главные причины почти всех бед, в особенности же того, о чем мы упоминали. Однако ни той, ни другой причине нет места в том государстве, о котором у нас идет речь и для которого мы устанавливаем законы.
d
У граждан там будет величайший досуг; они не будут зависеть друг от друга; думаю, что при наших законах они совсем не будут сребролюбивыми. Поэтому только такое государственное устройство из всех существующих ныне, естественное и одновременно разумное, сможет осуществить то воспитание, о котором мы говорили, и те военные забавы, обсуждение которых мы правильно завершили в нашей беседе.
Клиний.
Прекрасно.
Афинянин.
Вслед за этим разве не надо упомянуть о гимнастических состязаниях?
e
Поскольку некоторые из них пригодны для ратного дела, в них должны быть установлены победные награды; остальные же состязания придется оставить. О каких именно состязаниях идет речь, лучше сказать заранее и подтвердить законом. Прежде всего, что касается состязаний в беге на скорость, разве их не следует допустить?
Клиний.
Конечно, следует.
Афинянин.
В самом деле, подвижность тела, в частности ног и рук, имеет первостепенное значение в воинском деле.
833
Скорость ног пригодится при бегстве, а также преследовании; при рукопашных схватках требуется крепость и сила рук.
Клиний.
Конечно.
Афинянин.
Однако без оружия от всего этого немного пользы.
Клиний.
Еще бы.
Афинянин.
Прежде всего у нас глашатай на состязаниях, как это делают и теперь, станет вызывать бегуна на ристалище. Тот выйдет с оружием: для состязающихся без оружия мы не установим наград. Первым выйдет тот, кто примет участие в одинарном пробеге с оружием;
b
вторым – состязающийся в двойном пробеге; третьим – состязающийся в беге на конной дистанции; четвертым – состязающийся в длинном пробеге; пятого же мы сначала выпустим вооруженным на дистанцию в шестьдесят стадий[2096]
по направлению к святилищу Ареса; следующему же, дав ему имя гоплита и вооружив тяжелее, предложим более ровный путь; еще один стрелок в полном своем уборе пусть состязается в беге на сто стадий по гористой местности в направлении к святилищу Аполлона и Артемиды.
c
Начав это состязание, мы будем ожидать их возвращения и каждому из победивших дадим награду.
Клиний.
Прекрасно.
Афинянин.
Мы разделим эти состязания на три разряда: первый разряд будет для мальчиков, второй – для юношей, третий – для взрослых мужчин. Юношам мы назначим две трети пробега; мальчикам – половину двух третей, и они выступят в состязании как стрелки и гоплиты. Что касается женщин, то для не достигших зрелости девушек
d
мы установим одинарный пробег, двойной пробег на конной дистанции, длинный пробег – все это без оружия. Девушки с тринадцати лет вплоть до замужества, то есть не более как до двадцати лет, но и не менее чем до восемнадцати, будут выходить на эти состязания одетые надлежащим образом.
Пусть таким образом будут устроены состязания в беге мужчин и женщин. Что касается состязаний в силе, то вместо борьбы и других принятых теперь тяжелых упражнений будет введен бой с оружием:
e
один на один, два против двух и так далее – до десяти против десятерых. Что касается приемов и нападения и защиты, ведущих к победе, то точно так же, как для борьбы теми, кто ею ведает, устанавливается, что считать правильным, а что нет, так и для боя с оружием установление правил надо поручить тем, кто в нем отличился. Они установят условия победы и поражения, допустят те или иные приемы нападения и защиты.
834
То же самое относится и к состязаниям женщин до их замужества. Кулачные бои для них следует заменить полными состязаниями пелтастов с применением стрел, легких щитов, дротиков, пращей или ручного метания камней. Относительно всего этого надо также установить правила. Кто лучше всех будет их соблюдать, тот получит почетные дары и награды.
b
Вслед за этим надо установить правила конных состязаний. Впрочем, у нас – ведь дело идет о Крите – не будет особой нужды в конях[2097]
. Поэтому будет неизбежно меньше забот об их разведении и о состязаниях в конном пробеге. У нас совсем не будет людей, разводящих коней для упряжек; следовательно, ни у кого не будет оснований для подобного рода честолюбия. Устраивать такие несообразные с местными условиями состязания было бы совершенно лишено смысла. Все же мы установим, сообразуясь с природой страны,
c
состязания для скаковых коней, молочных жеребят и для тех лошадей, что занимают середину между молочными жеребятами и взрослыми конями. Пусть, согласно закону, между ними устраиваются соревнования и состязания; общее же суждение обо всех пробегах и соревнованиях с оружием будет принадлежать филархам и гиппархам. А невооруженным было бы правильно запретить участие как в гимнастических, так и в этих соревнованиях.
d
Критский же конный стрелок может пригодиться, то же самое и метатель дротика. Поэтому, для забавы, пусть между ними также будет соперничество и состязание. Женщин не стоит принуждать законами и предписаниями к участию в таких состязаниях. Впрочем, если кто из девочек или девушек благодаря воспитанию к этому привык и природа их это приемлет и не негодует, можно допустить их участие и не следует за это их порицать.
Все связанное с состязаниями и с гимнастическим воспитанием как во время общественных игр, так и при повседневных занятиях с учителями теперь уже выяснено.
b
Точно так же разобрана до конца и бульшая часть того, что относится к мусическому искусству. Правила для рапсодов и всего с ними связанного, а также для соревнований праздничных хоров надо установить впоследствии, когда будут приурочены месяцы, дни и годы к различным богам и их спутникам. Именно тогда и выяснится, дулжно ли эти состязания устраивать каждые три года или один раз в пять лет, мы будем следовать в этом указаниям, данным нам богами.
835
Надо думать, что тогда будут установлены устроителями состязаний, воспитателем молодежи и стражами законов также разные мусические состязания. Для этого указанные лица соберутся все вместе и сами станут законодателями; они установят, в какое время, какие и в каком составе надо устраивать состязания всевозможных хоров – песенных и плясовых. А какими должны быть в каждом отдельном состязании слова, песни и гармонии,
b
смешанные с ритмами и плясками, это не раз уже было сказано первым законодателем. Того же самого должны придерживаться и все последующие законодатели, чтобы уделять каждому жертвоприношению в надлежащее время подобающие состязания и таким образом установить для государства надлежащие празднества. Нетрудно понять, каким образом все подобные вещи могут быть упорядочены законом; кроме того, различные перестановки не принесут здесь ни особой выгоды, ни вреда государству.
c
Однако в важных вещах убедить чрезвычайно трудно. Всего более это подходит богу, если бы только было возможно от него самого получить предписания. В наше время для этого, видно, нужен очень отважный человек, который особо бы чтил откровенность и не скрыл бы своего мнения относительно высшего блага для государства и граждан, который установил бы среди людей с порочной душой должные правила поведения, соответствующие всему государственному порядку. Ему пришлось бы восстать против самых сильных страстей; ни один человек не пришел бы ему на помощь; в полном одиночестве он следовал бы одним лишь доводам разума.
d
Клиний.
О чем это опять зашла у нас речь, чужеземец? Мы что‑то не понимаем.
Афинянин.
Это естественно. Впрочем, попытаюсь понятнее вам это разъяснить. Когда я в своем рассуждении подошел к вопросу о воспитании, я увидел юношей и девушек в дружественном общении. И вот, как это и понятно, у меня возник страх при мысли о том, как может использовать каждый из них такое государственное устройство. Ведь в нашем государстве юноши и девушки будут отлично вскормлены, свободны от нудного и унизительного труда,
e
который лучше всего усмиряет дерзость; единственной их заботой в жизни будут жертвоприношения, празднества и хороводы. Каким же образом в таком государстве уберечься им от страстей, ввергающих в крайности многих людей? Между тем доводы разума велят воздерживаться от этих страстей, причем доводы эти силятся стать законом. И ничего удивительного, если прежде установленные обычаи одержат верх над большей частью страстей.
836
В самом деле, невозможность сильного обогащения послужит немалым подспорьем для рассудительности. С этой же целью были даны соответствующие законы для всего воспитания в целом; тому же служит надзор правителей, обязанных не спускать с молодежи глаз и постоянно оберегать ее. Итак, все это умеряет естественные страсти людей. Но вот из‑за влечения мальчиков к девочкам, женщин к мужчинам и мужчин к женщинам
b
проистекают несметные беды как для отдельных людей, так и для государств. Как же от этого уберечься? Какое придумать снадобье в каждом из этих случаев, чтобы избегнуть подобной опасности? Да, Клиний, это во всех отношениях трудно. В самом деле: во многих других вещах весь целиком Крит и Лакедемон оказали нам довольно большую помощь, дав нам законы, отличные от большинства обычаев. А вот что касается любовных влечений – ведь мы тут одни и это можно сказать, – Крит и Лакедемон полностью с нами расходятся. Поэтому верным, пожалуй, было бы слово того человека,
c
который одобрил бы, следуя в этом природе, закон, бывший до Лая[2098]
. Человек этот рек бы: мужчины не должны сходиться с юношами, как с женщинами, для любовных утех, это правильно; и он подтвердил бы свои слова указанием на животных, у которых самцы не касаются самцов, так как это противоречит природе. Но это совсем не подходит вашим двум государствам. В то же время ваши обычаи не согласуются с тем, что, по нашим
d
словам, обязательно должен соблюдать законодатель. В самом деле, мы постоянно смотрим, какие из установленных нами законов ведут к добродетели, а какие – нет. Допустим, мы установили бы сейчас все эти вещи законом как прекрасные и совсем не позорные; чем бы способствовало, однако, все это добродетели? Уж не тем ли, что осуществление всего этого вселит в душу человека, покорно давшего склонить себя на подобное дело, дух мужества, а в душу того, кто склонит на это другого, некий род рассудительности? Нет, этому никто никогда не поверит. Скорее совсем наоборот: всякий станет осуждать мягкотелость человека,
e
который уступает удовольствиям и не в состоянии им сопротивляться. И разве любой не подвергнет порицанию того человека, который решается на подражание образу женщины? Кто же из людей решится все это возвести в закон? Решительно никто, по крайней мере из тех, кто помышляет об истинном законе. Но как нам убедиться в истинности нашего взгляда? Кто хочет здесь правильно мыслить, тому необходимо рассмотреть природу дружбы, вожделения и вместе с тем того, что называют любовным влечением.
837
В самом деле, трудность и неясность здесь создает то, что одним общим названием охвачены все эти [виды], хотя на самом деле их два, и уж из этих двух возникает особый вид, третий.
Клиний.
Как это?
Афинянин.
Иногда мы говорим так: подобное дружественно подобному по своим качествам, равное дружественно равному. С другой стороны, и недостаточное мы называем дружественным избыточному, хотя по своей природе оно ему противоположно; когда же то и другое становится очень сильным, мы называем это любовью.
b
Клиний.
Верно.
Афинянин.
Итак, дружба, основанная на противоположностях, страшна, дика и редко приводит к общности нас, людей. Дружба же, основанная на сходстве, кротка и едина всю жизнь. В дружбе, возникшей из смешения этих двух видов, прежде всего нелегко распознать, к чему стремится человек, испытывающий этот третий вид влечения. Далее, положение такого человека затруднительно, так как два вида [чувства] влекут его в противоположные стороны: одно побуждает его коснуться цветущей юности, другое ему это запрещает.
c
Ведь кто вожделеет тела и алчет цветущей юности, словно созревшего плода, тот стремится ею насытиться; он вовсе не ценит душевных свойств своего возлюбленного. А у кого вожделение к телу является чем‑то побочным, тот скорее созерцает, чем вожделеет, так как душой страстно стремится к душе другого и считает бесспорной дерзостью удовлетворять свое тело телом любимого. Он стыдливо чтит рассудительность, мужество, великодушие и разумность, и единственное его желание –
d
это всегда хранить чистоту вместе с таким же чистым своим возлюбленным. Таков этот третий вид влечения, смешанный из тех двух; в качестве третьего вида мы его и разобрали. Но раз есть столько видов влечения, неужто надо их все запретить законом и от них отказаться? Нет, ясно, что мы желали бы, чтобы в государстве нашем бытовал тот вид влечения, который сопряжен с добродетелью и заставляет юношу стремиться к достижению высшего совершенства. А остальные два вида влечения мы запретили бы, если только это возможно. Каково твое мнение, дорогой Мегилл?
e
Мегилл.
Ты, чужеземец, прекрасно все это выразил.
Афинянин.
Очевидно, мой друг, я достиг своей цели – добиться с тобой согласия. Мне не стоит доискиваться, в каком смысле установлен у вас закон относительно всего этого; мне только нужно было добиться твоего согласия с моим рассуждением. А потом я попытаюсь убедить в этом и Клиния, зачаровывая его словами. Пусть же так и будет с вашей легкой руки. Обратимся снова к общему разбору законов.
Мегилл.
Ты совершенно прав.
838
Афинянин.
Что касается установления этого закона при нынешних обстоятельствах, то у меня есть один прием, отчасти легкий, хотя, с другой стороны, он и очень труден.
Мегилл.
Что ты имеешь в виду?
Афинянин.
Мы знаем, что и в наше время большинство людей, пусть даже незаконопослушных, с большой тщательностью воздерживаются от общения с красивыми, причем вовсе не против воли, но добровольно.
Мегилл.
Что ты говоришь?!
Афинянин.
Да вот если у кого окажутся красивые брат или сестра, а также сын или дочь.
b
Здесь, собственно, неписаный закон отлично удерживает от тайных и явных связей, а также от всяких иных поползновений. У большинства людей в этих случаях нет даже вожделения к подобного рода связям.
Мегилл.
Это правда.
Афинянин.
Значит, простое слово гасит подобные удовольствия?
Мегилл.
Какое такое слово?
Афинянин.
Слово, гласящее, что подобные отношения нечестивы, богопротивны и что они позорнее всего позорного.
c
А причина здесь та, что никто не высказывает иного мнения; каждый из нас с самого дня рождения всегда и повсюду слышит подобное мнение как в комедиях, так и в трагедиях, где это повторяется со всей серьезностью, когда перед нами выводят Фиестов, Эдипов или же Макареев: Макарей тайно вступил в связь со своей сестрой, а потом, когда это обнаружили, наложил на себя руки, чтобы искупить свое преступление[2099]
.
d
Мегилл.
Ты прав, указывая на какую‑то странную силу молвы, раз никто никогда не пробует даже вздохнуть вопреки обычаю.
Афинянин.
Значит, мы правильно сказали сейчас, что законодателю легко распознать тот способ, с помощью которого можно подавить какую‑то страсть из числа тех, что особенно порабощают людей, надо только сделать всеобщую молву священной для всех – для рабов, для свободных, для женщин, детей и вообще для всего государства; так законодатель сделает свой закон неколебимым.
e
Мегилл.
Совершенно верно. Надо бы, однако. иметь возможность всем людям вселить желание выражать подобные мнения…
Афинянин.
Твое возражение очень метко. Вот именно об этом‑то я и говорил, когда заметил, что у меня есть искусный способ для установления закона о том, чтобы соитие, предназначенное для деторождения, происходило лишь сообразно природе. От мужского пола надо воздерживаться и не губить умышленно человеческий род; не надо также ронять семя на скалы и камни. где оно никогда не пустит корней и не получит естественного развития.
839
Надо воздерживаться и от всех тех женщин, на чьей пашне ты не хотел бы, чтобы произрастал твой посев. Этот закон, если он всегда будет действовать и возобладает в той степени, как теперь возобладал закон против сношений с родителями, а также если он справедливо возобладает в отношении всех остальных видов подобных сношений, принесет с собой тысячи благ. Прежде всего он согласен с природой; затем он заставит воздержаться от любовных борений, неистовств, от всякого рода прелюбодеяний, от чрезмерного пристрастия к питью и еде;
b
мужей он сделает близкими друзьями их жен. И какое было бы еще множество благ, если бы человек овладел этим законом! Впрочем, возможно, какой‑нибудь молодой и крепкий мужчина, отягченный обилием семени, услышав об установлении такого закона, встанет перед нами и, оглашая все своим криком, начнет поносить нас за то, что мы, мол, установили нелепые и невыполнимые узаконения. Так вот, имея в виду именно это, я и сказал, что прием, которым я располагаю,
c
с одной стороны, самый легкий из всех, с другой же стороны, чрезвычайно трудный в том смысле, чтобы закон этот, будучи установлен, оставался в силе. В самом деле, очень легко сообразить, что этот закон осуществим, а также каким образом это сделать. Мы утверждаем, что достаточно объявить его священным, чтобы он поработил любую душу и вообще заставил человека с ужасом повиноваться установлениям. Но в настоящее время дело дошло до того, что осуществить это считается невозможным; правда, точно так же не поверили бы в осуществимость обычая, касающегося сисситий,
d
и в то, что все государство в целом все время своего существования станет придерживаться такого обычая. Но опровержением здесь служит то, что у вас есть такие сисситии; впрочем, даже в ваших государствах пока считают, что природа женщин не позволяет распространить этот обычай также на них. Именно из‑за такого сильного недоверия я и сказал, что невероятно трудно, чтобы обычай этот получил законную силу.
Мегилл.
И в этом ты прав.
Афинянин.
Хотите, я приведу вам одно сказание, не лишенное правдоподобия, с целью пояснить, что все это не превышает человеческих сил и вполне может быть осуществлено?
Клиний.
Конечно, хотим.
e
Афинянин.
Какой человек скорее воздержится от любовных утех и согласится умеренно пользоваться ими в установленных законом пределах – тот ли, чье тело в хорошем состоянии и всесторонне развито, или тот, чье тело в плохом состоянии?
Клиний.
Гораздо скорее тот, чье тело хорошо развито.
Афинянин.
Не правда ли, мы знаем понаслышке, что тарентинец Икк[2100]
ради Олимпийских игр и других
840
состязаний ни разу не касался ни женщин, ни мальчиков в то время, когда усердно готовился к состязаниям? Причиной здесь было его честолюбие, преданность своему искусству, а также и то, что наряду с рассудительностью он обладал и душевным мужеством. То же самое рассказывают о Крисоне, Астиле, Диопомпе[2101]
и об очень многих других, хотя души их были воспитаны куда хуже, чем у наших с тобой, Клиний, граждан, а тело их гораздо больше было преисполнено жизненных сил.
b
Клиний.
Да, это правда: то, что древние рассказывают об этих атлетах, действительно было ими совершено.
Афинянин.
Что же? Они отважились воздерживаться от того, что большинство называет блаженством, ради победы в борьбе, в беге и других таких состязаниях; так неужели же наши дети не совладают с собой ради гораздо лучшей победы?
c
Чарующую красоту этой победы мы, естественно, станем изображать им с самого детства в мифах, изречениях и песнях.
Клиний.
Какая же это победа?
Афинянин.
Победа над удовольствиями, которая сделает блаженной их жизнь; уступка же удовольствиям повлечет за собой жизнь совершенно иную. Да, кроме того, неужели же для того, чтобы совладать с собой, как совладали те, кто был хуже, чем наши граждане, не будет иметь значения страх перед тем, что отсутствие такого самообладания вовсе не благочестиво?
Клиний.
Конечно, и это будет иметь значение.
d
Афинянин.
Я утверждаю, что хоть мы остановились на том месте законов, которое затруднило нас из‑за испорченности большинства людей, все же наш этот закон должен действовать, выражая ту мысль, что гражданам нашим не подобает быть хуже птиц и многих других животных, рожденных в больших стадах, которые вплоть до поры деторождения ведут безбрачную, целомудренную и чистую жизнь. Когда же они достигают должного возраста, самцы и самки по склонности соединяются между собою попарно и все остальное время ведут благочестивую и справедливую жизнь,
e
оставаясь верными своему первоначальному выбору. Наши граждане должны быть лучше животных. Однако, если их развратят остальные эллины и большинство варваров, у которых они увидят так называемую беспутную Афродиту[2102]
и услышат о ее великой силе, тогда стражам законов придется стать законодателями и придумать для них другой закон.
841
Клиний.
Какой же закон ты им посоветуешь установить, если будет нарушен тот, который мы сейчас учредили?
Афинянин.
Ясно, Клиний, что этот второй закон будет непосредственно примыкать к первому.
Клиний.
Но в чем он будет состоять?
Афинянин.
Он с помощью труда будет по возможности умерять развитие удовольствий, сдерживая их наплыв и рост и давая потребностям тела противоположное направление. Это может удаться, если не будут любовные утехи бесстыдными.
b
Если люди из стыдливости будут редко им предаваться, это ослабит власть бесстыдства благодаря редкому обращению к любовным утехам. Тайное занятие ими пусть будет узаконено для наших граждан как нечто прекрасное; пусть будет признано именно это обычаем и неписаным законом. Напротив, пусть считается позорной явность таких отношений[2103]
, однако не сами эти отношения как таковые. Позорное или прекрасное в этих делах намечается, таким образом, в нашем законе лишь как нечто вторичное, так как и сами эти отношения с точки зрения их правильности считаются нами вторичными. Все развращенные по своей природе люди – мы их называем побежденными собственной слабостью – составляют один род; остальные три рода граждан окружают их со всех сторон и принуждают не преступать законов.
c
Клиний.
Какие это три рода граждан?
Афинянин.
Те, кто благочестив, далее – те, кто честолюбив, и, наконец, те, кто страстно вожделеет не к телу, но к прекрасным свойствам души. Правда, все эти наши слова остаются пока лишь благим пожеланием вроде тех, что выражаются в сказках; однако насколько лучше было бы, если бы это осуществилось во всех государствах. Если будет на то воля бога, мы, весьма возможно, принудим соблюдать в любви одно из двух:
d
либо пусть гражданин не смеет касаться никого из благородных и свободнорожденных людей, кроме своей законной жены; пусть он не расточает своего семени в незаконных, не освященных религией связях с наложницами, а также в противоестественных и бесплодных связях с мужчинами. Или же мы совершенно исключим связи с мужчинами, а что касается связей с женщинами, то если кто помимо жены, вступившей в его дом с ведома богов, путем священного брака, станет жить с другими женщинами,
e
купленными или приобретенными иным каким‑либо способом, причем это явно обнаружится перед всеми мужами и женами, то мы как законодатели, думается мне, правильно сделаем, лишив его всех почетных гражданских отличий как человека, действительно чуждого нашему государству. Итак, пусть будет установлен этот закон относительно любовных утех и всего относящегося к разным видам любви – все равно, будет ли это считаться одним законом или двумя.
842
Закон этот определяет, какие поступки при взаимоотношениях, возникающих под влиянием таких вожделений, правильны, а какие неправильны.
Мегилл.
Я весьма охотно принял бы этот твой закон, чужеземец. Что касается Клиния, то пусть он сам выскажет свое мнение.
Клиний.
Я это сделаю, Мегилл, когда улучу подходящее время. А сейчас предоставим нашему гостю излагать дальше свои законы.
Мегилл.
Хорошо.
b
Афинянин.
Так вот, теперь нам надо перейти к устройству совместных трапез. Если, как мы считаем, в иных краях их и трудно установить, то на Крите всякий считает, что должны быть именно общие трапезы. Но как их устроить? Так ли, как они существуют здесь, или так, как в Лакедемоне[2104]
? Или же наряду с двумя этими видами сисситий есть еще и третий вид, лучший, чем эти? Мне кажется, нетрудно придумать и третий вид, однако это не принесет никаких преимуществ. Ведь удачны и те устройства, которые существуют теперь.
c
С сисситиями связан вопрос о добывании съестных припасов. Каким образом это будет устроено? Во всех остальных государствах съестные припасы бывают различны и добываются отовсюду, так что источников там вдвое больше, чем у наших граждан. Ведь большинству эллинов пищу доставляют и суша, и море, у нас же – только суша.
d
Для законодателя это легче: законы станут больше чем наполовину короче; вдобавок они больше будут подходить свободнорожденным людям. В самом деле, законодатель нашего государства может распроститься с большей частью законов о морской крупной и мелкой торговле, о гостиницах, таможнях, о рудниках, о кредите и о сложных процентах, а также с бесчисленным множеством других тому подобных установлений. Он будет устанавливать законы лишь для земледельцев, пастухов, пчеловодов, для их хранилищ и для надзирателей за [сельскохозяйственными] орудиями.
e
Ведь мы уже установили самые важные законы – о браках, рождении детей и их взращивании, а кроме того, законы о воспитании и об учреждении государственных должностей. Теперь законодателю необходимо обратиться к вопросам о пище и о тех, кто ее добывает.
Начнем с законов, носящих название земледельческих. Первый закон, закон Зевса – охранителя рубежей[2105]
, будет гласить так: пусть никто не нарушает земельных границ своего ближайшего соседа, будь то гражданин или чужеземец, если чей‑то участок лежит на окраине, так что граничит с его землей. Пусть каждый считает, что это поистине будет нарушением того, что нельзя нарушать.
843
Пусть каждый скорее попробует сдвинуть огромную скалу, чем межевой столб или даже маленький камень, заклятый перед лицом богов и размежевывающий вражду и дружбу. Для гражданина свидетелем здесь будет Зевс Единоплеменный, для чужеземца – Зевс Гостеприимный[2106]
, которые могут наслать яростнейшую вражду. И тот, кто будет повиноваться этому закону, не изведает от него зла, тот же, кто им пренебрежет, понесет двойную ответственность: первую и главную – перед богами, вторую – перед законом.
b
Вот почему пусть никто не нарушит добровольно границ соседей; если же кто это сделает, всякий желающий может донести об этом землевладельцам, а те привлекают его к суду.
Если кто окажется виновным в том, что тайно и насильственным путем стал делить заново землю, то суд определяет, какое наказание должен понести или какую пеню должен выплатить проигравший дело. Бывает, что соседи причиняют друг другу много мелочного вреда, и это, часто повторяясь, порождает тягостное чувство вражды,
c
так что соседство становится невыносимым и горьким[2107]
. Поэтому каждый сосед должен всячески остерегаться, чтобы не подать соседу повода к вражде как вообще, так в особенности при запашке чужой земли. Причинить вред вовсе не трудно – это может всякий, а вот оказать помощь доступно не каждому. Кто запашет землю своего соседа, то есть преступит межу, тот должен возместить причиненный вред и, кроме того, заплатить пострадавшему в двойном размере,
d
дабы и самому исцелиться от бесстыдства и неблагородных наклонностей. В этих и во всех им подобных случаях разбирать, судить и назначать пеню будут агрономы; в случае больших нарушений, как было ранее сказано, – все должностные лица данного округа, составляющего двенадцатую часть всей страны; в случае меньших нарушений – местные начальники стражи. Если же кто захватит чужие пастбища, то судить и назначать возмещение за убытки будут те же лица, после того как убедятся воочию в нанесенном ущербе. Если кто присвоит чужие рои пчел, зная, чем их приманить,
e
и, когда рой сядет поблизости, его огребет, он возместит убыток. Если кто станет выжигать свой лес, не думая о соседском, пусть он будет наказан по усмотрению должностных лиц. Если же кто станет делать посадки, не сохранив определенного промежутка между своей и соседней землей, то он подвергнется наказанию, как это уже было указано многими законодателями: надо здесь использовать и их законы.
Нельзя требовать, чтобы верховный устроитель государства установил законы для всех мелочей – такие законы по плечу и любому законодателю.
844
Прекрасен древний закон о воде, установленный для земледельцев, и не стоит давать иного направления нашей беседе: нет, пусть тот, кто хочет провести воду на свою землю, отводит ее из общественных водохранилищ, но пусть ни в коем случае не берет воды из источников, несомненно принадлежащих частному лицу; отводить воду он может в любом направлении, за исключением мест, занятых домами, святилищами и гробницами; при этом не нужно портить окрестной земли, а надо ограничиться местом для водопровода.
b
Если в иных местностях природные свойства земли таковы, что она лишена воды, а потому сильно впитывает дождевую влагу и там не остается источников питьевой воды, то надо рыть водоемы на своем собственном участке вплоть до глинистого слоя земли; если же и на такой глубине нигде не будет воды, надо брать воду у соседей – столько, сколько необходимо для каждого члена семьи. Если же у соседей самих едва хватает воды, то порядок ее доставки устанавливается агрономами: кто должен ежедневно ходить за водой и таким образом пользоваться ею вместе с соседями.
c
Если кто из живущих под горой загородит сток дождевых вод и причинит этим вред обработанной земле расположенного выше или рядом участка соседа либо, наоборот, живущий на горе станет как попало отводить воду, так что нанесет вред нижнему своему соседу, то, если они не захотят договориться друг с другом, пусть всякий желающий призовет астинома (если дело происходит в городе) или агронома (если в деревне), чтобы установить, как здесь должен поступить каждый. Кто не станет соблюдать установленного порядка, тот будет обвинен в завистливости и несговорчивости;
d
если он окажется виноватым, то должен будет возместить пострадавшему ущерб в двойном размере за то, что не захотел послушаться должностных лиц.
Что касается участия всех граждан в осеннем сборе плодов, то здесь надо соблюдать следующее. Богиня милостиво дарует нам два вида даяний: во‑первых, виноград – недолговечную дионисическую забаву, а во‑вторых, виноград, по своим природным свойствам заготовляемый впрок[2108]
. Пусть будет установлен такой закон об урожае: кто вкусит сельских плодов, винограда ли или смокв, до наступления времени сбора
e
(а это совпадает с восходом Арктура), все равно, на своей ли земле или чужой, тот должен заплатить штраф в пользу Диониса: пятьдесят драхм[2109]
в случае, если он сорвал плоды на своей земле, и одну мину, если он сделал это на земле у соседей; если же он сорвет плоды у кого‑то другого, он должен заплатить две трети мины. Кто захочет собрать плоды виноградной лозы, называемой теперь благородной, или благородной смоковницы, тот может пользоваться ими сколько и когда угодно, если это его собственность; если же это чужое и владелец не дал позволения, то человек этот немедленно будет подвергаться наказанию по закону, запрещающему трогать то, что положено не тобой.
845
Если раб без разрешения владельца земли прикоснется к таким вещам, он будет наказан палочными ударами соответственно числу виноградин в грозди и числу смокв. Метек может пользоваться, если ему угодно, плодами благородной лозы, но за плату. Если же прибывший чужеземец пожелает, проезжая дорогами, отведать плодов, пусть пользуется, если ему угодно, благородной лозой бесплатно – он сам и один из его спутников, это будет законом гостеприимства.
b
Что касается так называемой полевой лозы и других подобных плодов, то наш закон запрещает их рвать даже и чужеземцу. Если же чужеземец или его раб, не зная закона, коснутся запретного, то раба наказывают ударами, а свободнорожденного чужеземца отпускают, но делают ему выговор и поучают тому, что можно касаться лишь всех других видов лозы, непригодных для заготовки изюмного вина, и лишь тех смокв, что не годятся для сушки. Пусть не считается позорным тайком срывать груши, яблоки, гранаты
c
и другие такие плоды, однако пойманный на этом подвергнется побоям, если он моложе тридцати лет. Впрочем, не надо наносить ему ран. Кроме этих побоев свободнорожденный человек не подвергнется никакому суду. Чужеземцу дозволяется пользоваться этими плодами таким же образом, как виноградом. Если же гражданин старше тридцати лет сорвет эти плоды, чтобы тут же их съесть, но ничего не унесет с собой, то он может это сделать на равных правах с чужеземцем.
d
Ослушник же этого закона рискует быть исключенным из соревнования в добродетели, если об этом напомнят судьям, когда оудут присуждаться награды.
Вода имеет наибольшее значение для садоводства, но она легко портится. Дело в том, что землю, солнце и ветры, которые вместе с водой влияют на то, что произрастает из почвы, нелегко испортить; их нельзя отравить, отвести в сторону, украсть, а с водой все это можно сделать, такова ее природа.
e
Поэтому здесь должен прийти на помощь закон. Так вот, пусть будет действовать следующий закон о воде: если кто умышленно испортит чужую воду, ключевую ли или дождевую, которая была собрана, отравит ее, отведет в сторону с помощью подкопа или украдет, то пострадавший должен обратиться за правосудием к астиномам, оценив нанесенный ему убыток. Кто будет уличен в том, что портит воду какой‑то отравой, тот кроме возмещения убытка должен будет очистить водоем или источник воды. В каждом отдельном случае истолкователи законов будут указывать, как именно надо произвести эту очистку.
846
Что касается сбора плодов, то всякому желающему дозволяется собирать их по всей местности, лишь бы только он не причинял этим никому никакого ущерба и не извлекал тройной выгоды из ущерба, который потерпит сосед. Должностные лица должны разбираться в этом, а также во всем том, чем гражданин сознательно – тайно или явно – наносит вред другому против его воли – ему самому или его имуществу. Обо всем этом надо доводить до сведения должностных лиц, которые и назначают кару, если убыток не превышает трех мин.
b
В случае серьезных обвинений дело поступает в общий суд, который и определяет наказание для обидчика.
Если окажется, что кто‑либо из должностных лиц назначил несправедливую пеню, пострадавший взыскивает с него судом вдвое бульшую сумму. Каждый желающий может подать в общий суд жалобу на неправильные действия должностных лиц.
Есть еще тысячи мелких узаконений, на основании которых надо назначать наказания, учинять тяжбы, вызывать в суд, приводить свидетелей для истца –
c
двух ли или столько, сколько их нужно, – и так далее в том же роде. Нельзя оставить все это без законов. Но престарелому законодателю не стоит этого делать. Пусть установят здесь законы более молодые люди, подражая до мелочей установленным ранее важным законам. Необходимость таких мелких законов они узнают на опыте, пока не будет решено, что все устроено так, как надо. Тогда они незыблемо установят эти законы и будут жить, умеренно ими пользуясь.
d
С ремесленниками надо поступить так: прежде всего пусть никто из местных жителей, а также их рабов не занимается ремеслами. Дело в том, что гражданину достаточно владеть тем искусством, которое одновременно нуждается в упражнении и во многих познаниях, это – умение поддерживать и соблюдать общегосударственное благоустройство. Гражданин не может этим заниматься так, между прочим. Усердно же предаваться двум занятиям или двум искусствам не способен, пожалуй, по своей природе ни один человек,
e
так же как никто не может и сам упражняться в чем‑то как надо, и одновременно руководить упражнениями других. Вот это‑то и должно осуществиться в государстве. Ни один кузнец не должен одновременно заниматься и плотничьим делом; в свою очередь и плотник не должен заботиться о чужом для него кузнечном деле больше, чем о своем собственном ремесле, под тем предлогом, что, управляя многочисленными работающими на него рабами, он, естественно, должен иметь большее попечение об их занятиях, поскольку доход от их кузнечного дела превышает доход от его собственного ремесла.
847
Нет, в государстве каждый должен владеть только одним ремеслом, которое и доставляет ему средства к жизни[2110]
. Астиномы должны усердно следить за соблюдением этого закона. И если кто из местных жителей больше склоняется к какому‑то ремеслу, чем к заботам о добродетели, астиномы должны его удержать, угрожая бесчестьем, пока он не исправится и не последует своей дорогой. Если кто из чужеземцев станет заниматься двумя ремеслами, то его под страхом тюрьмы, денежной пени и высылки
b
из государства принуждают быть одним человеком, а не многими сразу. Что касается оплаты заказов и их выкупа, когда кто‑нибудь несправедливо обойдется с мастером или сам будет им обижен, то астиномы разбирают эти дела, если они не превышают пятидесяти драхм. Сверх этой суммы решение выносит, согласно закону, общий суд.
Никто в государстве не должен платить никакой пошлины ни на ввозимые товары, ни за те, что вывозятся. Не допускается ввоз ладана и других чужеземных курений, употребляемых при богослужении,
c
и ввоз пурпура и окрашенных тканей, которых не производит страна, а также всего того, что нужно для ремесел, работающих на чужеземных товарах, раз в этом нет ровно никакой необходимости. Точно так же не разрешается вывоз таких предметов, наличие которых необходимо в стране. Во всем этом должны разбираться стражи законов; они же будут всем этим ведать – первые двенадцать по возрасту, за исключением пяти старших.
d
Что касается оружия и всех других военных орудий, то, если для этого понадобится ввоз чужеземных изделий, дерева, металла, предметов, годных для скрепления, или животных, гиппархи и стратеги распоряжаются ввозом или вывозом всего того, что производит или в чем нуждается государство. Стражи законов и в этом случае установят подходящие и удовлетворительные законы. Но здесь, как и во всем остальном, по всей нашей земле, во всем государстве не будет места мелкой торговле с целью наживы.
e
Что касается пищи и распределения доставляемых страной припасов, то правильным здесь было бы, конечно, осуществить порядок, близко напоминающий критский закон[2111]
. Все эти припасы должны быть всеми разделены на двенадцать частей и соответственно должны потребляться. А каждая двенадцатая часть – например, пшеницы, ячменя и всего того, что созреет,
848
а также всех тех животных, которые у каждого идут на продажу, – будет, согласно расчету, разделена еще на три части: первая часть назначается для свободнорожденных людей, вторая – для их рабов, третья – для ремесленников и вообще чужеземцев, как для тех переселенцев, что поселились у нас из нужды в пропитании, так и для тех, что всякий раз приезжают к нам по государственным или частным делам. Только эту третью часть, выделенную из необходимых припасов, придется пустить в продажу; из остальных же двух частей нет никакой необходимости что бы то ни было продавать.
b
Но как всего правильнее произвести подобное разделение? Прежде всего ясно, что части эти в одном отношении будут между собой равны, а в другом неравны.
Клиний.
Что ты имеешь в виду?
Афинянин.
Неизбежно, что одни из припасов уродятся лучше, другие хуже.
Клиний.
Конечно.
Афинянин.
Раз это так и раз всех частей три, то часть, предназначенная для господ, ничем не должна быть обильнее остальных двух частей, предназначенных для рабов, а равным образом и для чужеземцев. Надо произвести разделение так, чтобы все части были вполне равны и в отношении качества.
c
Каждый из граждан получает две части и производит распределение припасов между рабами и свободнорожденными людьми, количество и качество распределяемого он определяет по своему желанию. Излишек надо распределить соответственно по числу живых существ, пищу которым доставляет земля.
Гражданам надо отвести отдельные жилища. Тут был бы пригоден такой порядок: должно быть двенадцать поселков, по одному в середине каждой филы, составляющей двенадцатую часть страны. В каждом селении надо прежде всего выделить площадь для святилища богов
d
и для их спутников‑даймонов. Это будут либо местные боги магнетов[2112]
, либо иные древние боги, память о которых хранят сохранившиеся строения; их‑то и будут почитать граждане так же, как чтили их в старину. Повсюду надо воздвигнуть святилища Гестии, Зевса, Афины и того бога, что для каждой двенадцатой части страны является главным. Вокруг этих святилищ надо прежде всего на самом возвышенном месте воздвигнуть здание,
e
которое будет самым надежным приютом для стражей порядка. Ремесленников надо разделить на тринадцать частей и распределить их по всей стране; одну же, тринадцатую, их часть надо поселить в городе, разделив и ее соответственно двенадцати частям всего государства. Все остальные ремесленники поселятся в окрестностях, за пределами города, так что в каждом поселке вместе с земледельцами будет жить полезное для них сословие мастеров. За всеми ними будут надзирать начальники агрономов. Они будут смотреть, сколько и какого рода мастеров требует каждая местность и какое место их жительства причинит земледельцам меньше всего неприятностей и больше всего доставит им пользы. За мастерами, живущими в городе, будут смотреть во всех этих случаях правители‑астиномы.
849
За рыночной площадью должны иметь надзор агораномы. Помимо заботы о том, чтобы никто не осквернял святилищ, расположенных на площади, этот надзор будет состоять в охране необходимого достояния людей; кроме того, они должны быть на страже рассудительности и противодействовать наглости, а также наказывать тех, кто нуждается в наказании. Что касается товаров, то агораномы должны смотреть, чтобы вся продажа городскими жителями своих товаров чужеземцам происходила согласно закону.
b
А закон таков: первого числа каждого месяца те из чужеземцев или рабов, кто получил поручение от горожан, доставляют на рынок часть товаров, предназначенную для продажи чужеземцам, то есть прежде всего двенадцатую часть всего количества хлеба. В этот первый рыночный день чужеземец должен закупить для себя на весь месяц хлеб и всю остальную пищу. Десятого числа каждого месяца производится в достаточных размерах продажа и покупка жидких товаров на целый месяц,
c
двадцать третьего числа – продажа животных. Каждый продает или покупает, что ему нужно; земледельцы продают утварь и различные вещи – шкуры, любую одежду, ткани, войлок и все подобное, чужеземцам же приходится приобретать все это путем покупки. Пусть никто не торгует этим в розницу, так же как и ячменной или пшеничной крупой. Пусть никто не продает ничего из других припасов ни горожанам, ни их рабам; если же кто продает, пусть никто у него не покупает.
d
Чужеземец может продавать на рынке вино и хлеб чужеземцам, ремесленникам и их рабам; это то, что большинство называет торговлей в розницу. Мясники пусть торгуют в розницу разделанными на части тушами; пусть они продают их чужеземцам, ремесленникам и их слугам. Так же точно чужеземец может каждодневно себе покупать, если ему угодно, разного топлива у тех лиц, которым в данной местности поручена эта продажа;
e
затем он сам может продать топливо другим чужеземцам в любое время и сколько угодно. Продажу разных других вещей и утвари в размерах, необходимых каждому, можно производить на общем рынке в любом месте, которое стражи законов и агораномы вместе с астиномами обозначат как подходящее, установив предельную цену товарам. В этих пределах и будут обмениваться монеты на вещи и вещи на монеты; продавец и покупатель не будут откладывать обмена на будущее. А кто откладывает обмен, тот, очевидно, доверяет другому и надеется получить свое; если же он не получит того, что дулжно, пусть не ропщет: правосудие не распространяется на подобного рода взаимный обмен.
850
Если товар будет куплен или продан в большем количестве или по более высокой цене, чем установлено законом, который определил и уступку, и прибыль и запретил выходить за эти пределы, то излишек записывается у стражей законов, а недостача зачеркивается. То же самое касается и записи имущества переселенцев.
Желающий переселиться может это сделать лишь на определенных условиях.
b
Чужеземец, который хочет и может поселиться[2113]
, получит жилище, если он владеет ремеслом, и останется в стране не более как на двадцать лет, считая со времени записи. Никакой пошлины за право переселения с него не возьмут; от него требуется лишь рассудительность. За право торговли с него также не взыщут пошлин. Но зато по истечении срока он должен взять свое имущество и удалиться. Если же в течение этих лет ему удастся обратить на себя внимание своими добрыми делами для государства; если он верит, что может убедить совет и народное собрание
c
и что просьба его об отсрочке выселения будет уважена, даже если он испросит позволения пожизненно остаться в стране, – то пусть он выступит перед советом и народным собранием и, коль скоро он убедит государство, пусть исполнится то, в чем он его убедил. А у детей метеков, если они знают ремесла и достигли пятнадцати лет, срок переселения исчисляется с пятнадцатилетнего возраста. Затем, по прошествии двадцати лет, они должны удалиться, куда им угодно. Если же они захотят остаться, то должны точно так же убедить государство.
d
До удаления из государства надо вычеркнуть ту запись их имущества, которую ранее произвели должностные лица.
Перевод А. Н. Егунова.
В кн.: Платон. Законы. М.: «Мысль», 1999
КHИГА IX
853
Афинянин.
Естественный распорядок законов приводит нас, далее, к вопросу о судебной ответственности, сопутствующей всем вышеуказанным деяниям. За какие именно деяния дулжно нести ответственность перед судом, отчасти уже было сказано, поскольку это касается земледелия и смежных с ним областей, но еще ничего не было сказано относительно величайших проступков. Поэтому в дальнейшем следует последовательно разобраться именно в этих проступках, отдельно обсудить каждый из них, чтобы прийти к выводу, какое наказание здесь следует назначать и каким судьям это будет подсудно.
b
Клиний.
Верно.
Афинянин.
Впрочем, даже как‑то позорно то, что мы собираемся теперь делать, то есть устанавливать подобные законы в таком государстве, которое, по нашему признанию, будет устроено хорошо и вообще получит правильное направление в смысле добродетельных навыков его граждан. И вдруг мы предполагаем, что в подобном государстве появится человек, причастный таким величайшим проступкам, которые во всех остальных государствах являются следствием испорченности. Приходится, таким образом, законодательствовать, предвосхищая события:
c
угрожать – на тот случай, если подобный человек встретится. Устанавливать законы для предотвращения подобных проступков и наказания за них, коль скоро они совершены, в предположении, что такие люди непременно встретятся, – вот в этом‑то, повторяю, и есть что‑то позорное. Мы ведь не то что древние законодатели. Те были, как теперь рассказывают, и сами божественного происхождения, да и законы свои они давали детям богов, героям, то есть существам также божественным.
d
Нет, мы – люди и даем теперь законы семени людей; поэтому мы вправе бояться, что у нас встретятся граждане с природой неподатливой, точно рог[2114]
, так что их ничем не проймешь. Как те семена, что не поддаются огню, так и они неподатливы законам, даже столь сильным. Эти люди побуждают меня сказать о непривлекательном законе относительно святотатства – на случай, если кто отважится на такое дело. Впрочем, не хотелось бы даже думать, что получивший правильное воспитание гражданин может когда‑либо остро заболеть этой болезнью, зато много попыток подобного рода можно ожидать со стороны принадлежащих гражданам слуг, чужеземцев и их рабов.
854
Из‑за них в особенности – впрочем, и вообще‑то остерегаясь человеческой слабости, – я назову закон о святотатстве и о всех подобных преступлениях, поскольку они трудноисцелимы или даже вовсе не исцелимы.
Согласно вышеустановленному правилу, и здесь надо предпослать вступление, однако по возможности краткое. Вот что можно сказать в увещание, когда беседуешь с человеком, которого злая страсть к святотатству одолевает днем и не дает покоя ночью:
b
«Странный ты человек, это не человеческое и не божественное зло побуждает тебя идти теперь на святотатство; нет, это какое‑то жало, внедрившееся в людей из‑за старых, не искупленных очищением проступков; оно‑то губит и терзает тебя; его надо всеми силами остерегаться. Узнай, в чем состоит такая осторожность. Когда тебе придет в голову подобного рода мысль, прибегни для ее отвращения к жертве Зевсу. Прибегни как умоляющий к святыням богов, отвращающих несчастья. Прибегни к общению с людьми, признаваемыми у вас хорошими.
c
То слушай их речи, то пробуй сам говорить о том, что всякий человек должен почитать прекрасное и справедливое. Без оглядки беги общества дурных людей. Если от исполнения всего этого уймется твоя болезнь, тем лучше; если же нет, считай, что для тебя лучше смерть, и простись с жизнью!»
Вот как гласит наше вступление, данное для людей, замышляющих всякие нечестивые и пагубные для государства деяния. Тому, кто повинуется, закон ничего не скажет; ослушнику же вслед за вступлением он громко глаголет:
d
«Кто будет уличен в святотатстве, тому, если это раб или чужеземец, отметят лицо и руки клеймом его злополучия, подвергнут его стольким ударам, сколько решат судьи, и в нагом виде выгонят за пределы страны». Возможно, что такое наказание исправит и образумит его. Дело в том, что по закону ни одно наказание не имеет в виду причинить зло. Нет, наказание производит одно из двух действий:
e
оно делает наказываемого либо лучшим, либо менее испорченным. Но если будет обнаружено, что подобный поступок совершен каким нибудь гражданином, который нанес великое, несказанное оскорбление богам, своим родителям или государству, то судье придется считать его неисцелимым: он знает, какое воспитание получил этот гражданин, как он был взращен с детства, а между тем он не удержался от величайшего зла. Наказание такому человеку – смерть, и это еще наименьшее из зол.
855
Для остальных граждан полезным примером станет бесславие преступника и то, что его труп будет выброшен за пределы страны. Его детям и его роду, если они не будут походить нравом на своего отца, – честь и слава; все будут говорить, что они хорошо и мужественно перешли от зла к добру. Имущество кого‑либо из таких преступников государству не подобает конфисковывать, раз наделы в нем всегда должны оставаться одними и теми же и одинаковыми. Зато его надо наказывать денежной пеней, когда окажется, что проступок можно искупить деньгами;
b
эту пеню взимают из того имущества, которое окажется излишним сравнительно с наделом, однако размер денежной пени не должен превышать этого излишка. Для этой цели стражи законов должны тщательно просматривать записи и всякий раз сообщать точные данные судьям, чтобы никто никогда не оказался лишенным надела из‑за недостатка денег. Если кто‑нибудь будет признан заслуживающим большей пени, причем его друзья не захотят за него поручиться и в складчину внести за него деньги, чтобы его освободить, то его наказывают долговременным тюремным заключением и вдобавок какими‑нибудь явными поношениями.
c
Вообще никто никогда не должен оставаться безнаказанным за какой бы то ни было проступок, даже если совершивший его бежал за пределы государства. Наказанием должны быть смерть, тюремное заключение, палочные удары, унизительные места для сидения и стояния или стояние возле святилищ на окраине страны; либо наказанием должна быть денежная пеня, как мы сказали ранее[2115]
. Судьями, назначающими смертную казнь, пусть будут стражи законов и особый суд, выбранный из наиболее отличившихся в прошлом году должностных лиц.
d
Последующим законодателям надлежит иметь попечение о таких вопросах, как подача жалобы, вызов в суд и тому подобное, – вообще о том, как все это должно совершаться. Нашей же задачей будет установить закон относительно подачи голосов. Голосование пусть будет открытое. Еще до начала его судьи должны занять места прямо против истца и обвиняемого, возможно более соответственно своему возрасту. Все граждане, у которых есть досуг, пусть отнесутся с сугубым вниманием к такому суду.
e
Сперва слово предоставляется истцу, затем обвиняемому. После их речей старейший из судей начинает допрос, обращая особое внимание на их показания, а затем и все остальные судьи последовательно должны разобрать, чту им желательно так или иначе узнать из показаний или умолчаний обеих тяжущихся сторон. У кого из судей нет такого желания, тот передает дальнейшее ведение допроса другому. Запись показаний, которые окажутся идущими к делу, следует запечатать, скрепив ее печатью всех судей,
856
и доложить на жертвенник Гестии. На другой день судьи снова собираются вместе и точно так же, путем расспросов, разбирают дело и скрепляют своей печатью запись показаний. Так поступают трижды; затем, когда собрано достаточно доказательств и показаний свидетелей, каждый судья подает свой священный голос, обязуясь перед Гостией судить по мере сил справедливо и верно. Подобным образом и заканчиваются такие судебные дела.
b
После преступлений против богов идут преступления, касающиеся ниспровержения существующего государственного строя. Кто стремится сделать законы рабами людей и заставляет государство подчиняться партиям, того, раз он при этом прибегает к насилию, возбуждая противозаконное восстание, надо считать самым отъявленным врагом всего государства в целом, А кто, хотя и не имеет ничего общего ни с кем из подобных людей, при отправлении главнейших государственных должностей не обратил внимания на такие явления или, хотя и обратил,
c
из трусости не встал на защиту отечества, – такого гражданина следует числить на втором месте в смысле испорченности.
Всякий человек, если он хоть на что‑то годен, должен оповещать правителей о заговорах, имеющих целью насильственное и вместе с тем противозаконное изменение государственного строя, и должен привлекать заговорщика к суду. Судьями пусть будут для них те же лица, что и для святотатцев. Весь ход судебного дела будет тоже такой, как и в первом случае. Большинством голосов присуждают виновного к смертной казни.
d
Посрамление и наказание отца не распространяется ни на кого из детей, исключение составляют те дети, чей отец и дед, и отец деда – все подряд были присуждены к смерти. Государство подвергает таких лиц высылке обратно на их родину, в исконное их государство, причем они сохраняют свою собственность, за исключением обработанного ими надела. Но если у гражданина не один сын, а несколько, причем всем им исполнилось уже десять лет, то по жребию из них выбирают десять человек, в пользу которых высказался отец или дед со стороны отца либо матери;
e
имена вынувших жребий сообщаются в Дельфы. Кого изберет бог, тот вступает в дом в качестве наследника с лучшей надеждой на счастье, чем была у тех, кто оставил дом.
Клиний.
Отлично.
Афинянин.
В‑третьих, тот же закон будет касаться судей, которым придется судить по таким делам, и способа судопроизводства в тех случаях, когда кого‑нибудь привлекут к суду по обвинению в измене. Также и относительно пребывания в стране потомков преступника и их выезда на родину
857
будет установлен один закон, одинаковый для всех трех видов преступлений: для измены, святотатств и насильного ниспровержения законов страны.
Для вора, уворует ли он что‑нибудь большое или какую‑нибудь мелочь, будет опять‑таки установлен один закон и одно судебное взыскание, одинаковое для всех воров. Прежде всего вору придется в двойном размере возместить стоимость украденного, раз он будет уличен в воровстве и его имущество сверх надела позволит ему выплатить такую пеню; в противном случае он будет подвергнут тюремному заключению, пока не уплатит деньги или не примирится со своим обвинителем.
b
Если кто будет уличен в краже публично, он может освободиться из тюрьмы, лишь получив прощение со стороны государства или уплатив двойную стоимость украденного.
Клиний.
Хорошо ли мы говорим, чужеземец, что для вора вовсе не надо делать различий, украдет ли он что‑нибудь большое или же мелочь и будет ли это кража жертвоприношений или священных предметов и так далее? Все эти виды кражи совсем небезразличны, а раз так, то, следовательно, и законодателю надо установить совершенно различные наказания.
Афинянин.
Очень хорошо, Клиний, что ты как бы разбудил меня и не дал слишком далеко занестись.
c
Ты напомнил мне то, о чем и раньше у меня возникала мысль: все относящееся к законодательству ни в коей мере и никогда не было еще правильно разработано до конца, по крайней мере в затронутом теперь случае. Но опять‑таки, что тут сказать? Неплохо было бы сравнить всех нынешних людей, для которых устанавливаются законы, с рабами, которых лечат также рабы. Надо твердо усвоить следующее: если бы какой‑нибудь врач из числа тех, что врачуют по опыту, а не на основе знаний,
d
застал свободнорожденного врача в беседе со своим, тоже свободнорожденным, больным, причем этот врач в речах своих приближался бы к философии, затрагивая самый источник болезни и, следовательно, обсуждая природу тел вообще, то врач‑раб тотчас же бы расхохотался и обратился бы к другому врачу с такими словами, какие всегда бывают в подобных случаях на языке у большинства таких вот врачей: «Ах ты, чудак, – сказал бы он, – да ты не лечишь больного, а чуть ли не обучаешь его, словно ему надо не выздороветь, а стать врачом[2116]
!»
e
Клиний.
Разве он не был бы прав, говоря это?
Афинянин.
Быть может, если бы при этом он думал, что тот, кто разбирает вопрос о законах так, как разбираем сейчас мы, обучает граждан, а не только дает им законы. Не кажется ли тебе уместным такой его взгляд?
Клиний.
Пожалуй.
Афинянин.
Мы находимся в настоящее время в благоприятном положении.
Клиний.
Почему?
858
Афинянин.
Потому что у нас нет никакой необходимости давать законы; нет, мы сами занимаемся рассмотрением всего, что касается государственного строя, и пытаемся распознать, каким образом может быть осуществлено то, что всего лучше и что всего более необходимо. Вот и сейчас мы можем, конечно, если хотим, рассмотреть то, что является наилучшим; или опять‑таки, если хотим, мы можем рассмотреть, что является самым необходимым в законах. Выберем же одно из двух.
Клиний.
Смешной выбор нам предстоит, чужеземец. Вот уж когда мы уподобились бы тем законодателям,
b
которых настоятельная необходимость заставляет законодательствовать немедленно, так как завтра уже нельзя будет этого сделать. А ведь мы, слава богу, можем, словно каменщики или те, что начинают какое‑нибудь иное строительство, собрать груду строительного материала и выбрать оттуда все, что подходит для будущей постройки; выбор этот мы можем произвести на досуге. Итак, допустим, что мы сейчас не те люди, которых необходимость заставляет строить дом, а те, кто на досуге то сравнивает один материал с другим, то пробует эти материалы составлять вместе.
c
Стало быть, мы вправе сказать, что часть законов уже установлена, другие же поставлены рядом для сравнения.
Афинянин.
Итак, Клиний, предпочтем естественный общий обзор законов. Обратим, ради богов, внимание вот на что относительно законодателей…
Клиний.
На что же?
Афинянин.
В государствах есть много писаний и записанных произведений, сочиненных разными людьми; в том числе есть писания и сочинения законодателей.
Клиний.
Конечно.
d
Афинянин.
Неужели мы станем обращать внимание только на писания остальных лиц – поэтов, писавших в стихах, или сочинителей, изложивших для памяти свои взгляды на жизнь, а на сочинения законодателей не обратим внимания? Или, напротив, всего более на них?
Клиний.
Без сомнения.
Афинянин.
Не должен ли из всех писателей только законодатель изложить свои взгляды на прекрасное, благое и справедливое? Не должен ли он объяснить смысл этих вещей и то, как их надо применять тем, кто намеревается быть счастливым?
Клиний.
Разумеется.
e
Афинянин.
Разве более позорно Гомеру, Тиртею и прочим поэтам плохо изложить в своих сочинениях взгляды на жизнь и на ее устроение, чем Ликургу, Солону и вообще тем, кто, став законодателем, написал сочинения? Или правильнее, чтобы из всех сочинений, имеющихся в государствах, сочинения, написанные о законах, чаще развертывались читателем, так как они гораздо прекраснее и лучше? И чтобы сочинения остальных писателей были согласованы с этими или в случае расхождений считались бы достойными осмеяния?
859
Не таково ли наше убеждение относительно того, как в государствах должна происходить запись законов? Эти записи должны походить на людей разумных и любвеобильных, подобных отцу и матери. Неужели надо считать дело оконченным, если на стенах будут начертаны законы, подобные тирану и деспоту, полные угроз?
Так вот, давайте мы с вами разберем теперь нашу попытку высказывать именно такие убеждения относительно законов.
b
По силам ли это нам или нет, все равно таково наше ревностное желание. Если, идя этим путем, мы должны будем кое в чем пострадать, – что ж, пострадаем, ведь это было бы благом, и, если будет на то воля бога, это именно так и осуществится.
Клиний.
Прекрасные слова. Мы поступим так, как ты говоришь.
Афинянин.
Следовательно, как мы и попытались, сначала надо тщательно рассмотреть вопрос о святотатцах, всякого рода воровстве и всех других преступлениях.
c
Не надо беспокоиться, если в ходе законодательного труда мы одно уже сумели установить, другое же пока только подвергаем рассмотрению. Ведь мы еще не законодатели; мы только ими становимся и, возможно, скоро станем. Итак, давайте, если вы согласны приступить к рассмотрению, рассмотрим то, о чем я говорил, и именно так, как я сказал.
Клиний.
Разумеется, мы согласны.
Афинянин.
Относительно всего прекрасного и справедливого попробуем распознать следующее: в чем мы здесь сейчас между собой согласны, а в чем мы не согласны даже с самими собой; ведь мы высказали бы живейшее желание хоть этим, уж если не чем другим, отличить себя от толпы. Затем опять‑таки посмотрим, в чем здесь согласна или не согласна сама с собой толпа.
d
Клиний.
Какие же ты заметил у нас разногласия?
Афинянин.
Попробую разъяснить. Относительно справедливости вообще, справедливых людей, поступков и деяний мы все как‑то согласны, что все это прекрасно. Стало быть, если утверждать, что все справедливые люди, даже с безобразным телом, прекрасны именно этими своими справедливейшими нравственными качествами, то, пожалуй, в этих словах не окажется ничего несообразного.
e
Клиний.
Совершенно верно.
Афинянин.
Возможно. Теперь, раз все причастное справедливости прекрасно, посмотрим, относятся ли у нас ко всему этому и претерпевания почти наравне с действиями.
Клиний.
И что же?
Афинянин.
Ведь всякое справедливое действие, пожалуй, лишь постольку причастно справедливому, поскольку оно причастно прекрасному.
Клиний.
Как же иначе?
860
Афинянин.
Следовательно, и претерпевание, причастное справедливому, становится в силу этого прекрасным? Если мы согласимся с этим, то в нашем рассуждении не будет противоречия.
Клиний.
Верно.
Афинянин.
Если же мы решим, что претерпевание справедливо, но безобразно, то получится противоречие между справедливым и прекрасным, коль скоро мы соглашаемся, что в данном случае справедливое является самым безобразным.
Клиний.
Как, как ты говоришь?
Афинянин.
Очень легко сообразить. Дело в том, что установленные нами немного раньше законы могли бы показаться идущими совершенно вразрез со всем нынешним рассуждением.
Клиний.
С каким именно?
b
Афинянин.
Мы установили, что святотатец справедливо должен умереть; то же самое и враг хорошо установленных законов. Собираясь установить великое множество таких узаконений, мы приостановились, ведя, что в таком случае будет бесконечно много очень больших претерпеваний, которые, правда, наиболее справедливы из всех претерпеваний, но зато и наиболее безобразны из них. Не будет ли казаться нам справедливое и прекрасное то одним и тем же, то совершенно противоположным?
Клиний.
Чего доброго, случится и так.
с
Афинянин.
Вот почему большинство и выражает такие небрежные и несогласованные мнения о прекрасном и справедливом.
Клиний.
По‑видимому, так, чужеземец.
Афинянин.
Значит, Клиний, давайте снова посмотрим, как обстоит у нас дело в смысле согласованности мнений на этот счет.
Клиний.
В смысле согласованности чего с чем?
Афинянин.
В предшествующей беседе, думается мне, я с полной определенностью высказался об этом; если же это было не так, позвольте мне сказать сейчас…
Клиний.
Что именно?
d
Афинянин.
Вот что: все дурные люди бывают дурными во всем лишь против воли. А раз это так, то отсюда необходимо вытекает и дальнейшее следствие.
Клиний.
Какое?
Афинянин.
Человек несправедливый дурен, но дурной человек бывает таким против воли. Совершать против воли что‑либо добровольное не имеет смысла. Итак, тому, кто установил, что несправедливость совершается против воли, человек, совершающий несправедливость, должен казаться совершающим это невольно. С этим я также должен согласиться; дело в том, что и я утверждаю: все совершают несправедливости лишь против воли. Если же кто из соперничества или честолюбия станет утверждать,
e
что люди бывают несправедливы против воли, но все‑таки многие добровольно совершают несправедливости, то я соглашусь с первым утверждением, но не со вторым. Однако в чем состоит лад моих слов? Не зададите ли вы мне, Клиний и Мегилл, следующий вопрос: «Если дело обстоит так, чужеземец, то каков будет твой совет относительно законодательства для государства магнетов? Стоит ли здесь законодательствовать или нет?» «Конечно, стоит», – отвечу я. «Следовательно, ты разграничишь добровольные и невольные несправедливые поступки, и мы установим бульшие наказания за добровольные погрешности и несправедливости, а за недобровольные – меньшие?
861
Или же за все мы назначим равные наказания, раз уже вовсе нет добровольных несправедливостей?»
Клиний.
Конечно, ты прав, чужеземец; но как же нам применить то, что теперь сказано?
Афинянин.
Прекрасный вопрос. Мы это применим прежде всего вот как…
Клиний.
Да?
Афинянин.
Вспомним, что раньше мы прекрасно сказали: относительно справедливости у нас царит полнейшая сумятица и неразбериха. Исходя из этого, снова зададим сами себе вопрос:
b
«Разве мы не выбрались из этого затруднительного положения и не разграничили, чем разнятся между собой добровольные и невольные поступки? Ведь во всех государствах всеми когда‑либо бывшими законодателями признано существование двух видов несправедливых поступков: одни – добровольные, другие – невольные. Неужели же так это и будет установлено законом и мы ограничимся лишь тем. что выскажем сейчас известное положение, словно это изречение бога, на вовсе не обоснуем его правильность, а прямо‑таки возведем в закон?»
c
Нет, это невозможно; необходимо, прежде чем давать законы, разъяснить эти два вида проступков и их различие, чтобы всякий, когда будет назначать наказание за проступок, относящийся к первому или второму виду, мог руководиться установленным положением и был бы в состоянии так или иначе судить о том, подходит ли данное установление или нет.
Клиний.
Мне кажется, ты прав, чужеземец. И вот нам предстоит одно из двух: либо отказаться от утверждения, что все несправедливые поступки совершаются против воли, либо же сначала определенно выяснить правильность нашего утверждения.
d
Афинянин.
Из этих двух возможностей первая – отказаться от утверждения того, что считаешь истинным, – для меня совсем неприемлема. В самом деле, это было бы и противозаконно, и нечестиво. Надо попробовать каким‑то образом разъяснить, можно ли по какому‑либо иному признаку разделить эти проступки на два вида, если уж отказаться от различения их по тому, что одни из них добровольны, а другие совершаются против воли.
Клиний.
Мы, чужеземец, совершенно не можем мыслить об этом как‑то иначе.
е
Афинянин.
Пусть так и будет. Ну вот хотя бы при взаимном общении и знакомствах – граждане тогда, конечно, немало причиняют друг другу вреда, причем и здесь в изобилии встречается добровольное и невольное.
Клиний.
Разумеется.
Афинянин.
Так вот, пусть не считают при рассмотрении любого вреда, нанесенного несправедливостью, что здесь бывает два вида несправедливых поступков: во‑первых – умышленные, во‑вторых – неумышленные. Дело в том, что вред, причиняемый невольно, встречается не реже и вредит не меньше всякого рода добровольно наносимого вреда.
862
Посмотрите, имеют ли мои слова какое‑нибудь отношение к заданию, которое я себе поставил, или же вовсе не имеют? Дело вот в чем: я, Клиний и Мегилл, утверждаю, что, когда один человек, совсем того не желая, невольно причиняет вред другому, он совершает несправедливый поступок, однако совершает его невольно. Поэтому, законодательствуя, я установлю законом, что поступок этот есть невольная несправедливость. Но я вовсе не стану относить этот вид причинения вреда к несправедливости вообще, все равно, в каких бы размерах и кому бы ни был он нанесен. Если мое мнение победит, то мы часто будем утверждать, что несправедливый поступок совершен и тем. кто является виновником какой‑нибудь оказанной неправильно услуги.
b
Дело, пожалуй, друзья мои, вот в чем: не потому приходится попросту считать одно справедливым, а другое несправедливым, что человек дал кому‑нибудь что‑то свое или, наоборот, отнял у кого‑нибудь что‑то: нет, законодателю надо смотреть, каковы были по отношению к справедливости намерения и образ действий человека, когда он оказал кому‑нибудь услугу или нанес какой‑нибудь вред. Надо обращать внимание на две различные стороны: на несправедливость и на вред. С помощью законов надо, насколько возможно, возместить нанесенный вред, спасая то, что гибнет,
c
поднимая то, что по чьей‑то вине упало, и леча то, что умирает или ранено. Коль скоро проступок искуплен возмездием, надо попытаться с помощью законов из каждого случая раздоров и вреда сделать повод для установления между виновником и пострадавшим дружеских отношений.
Клиний.
До сих пор все прекрасно.
Афинянин.
В свою очередь что касается несправедливого нанесения вреда из‑за корысти, когда кто‑то, причиняя другому несправедливость, обогащается, то, поскольку здесь зло исцелимо, его надо исцелить, считая это душевной болезнью. Надо признать, что, по‑нашему, исцеление от несправедливости клонится вот в какую сторону…
Клиний.
В какую?
d
Афинянин.
Всякого совершившего большой или малый несправедливый поступок закон наставит и принудит либо никогда более не отваживаться на повторение подобных поступков по доброй воле, либо совершать это в значительно меньшей степени; кроме того, надо возместить нанесенный вред. Делом или словом, удовольствием или страданием, почетом или бесчестьем, пенями или дарами – словом, вообще каким бы то ни было образом заставить человека возненавидеть несправедливость и полюбить или но крайней мере не питать ненависти к природе справедливости –
e
это и есть задача наилучших законов. Если законодатель заметит, что человек тут неисцелим, то какое наказание определит он ему по закону? Законодатель сознает, что для самих этих людей лучше прекратить свое существование, расставшись с жизнью; тем самым они принесли бы двойную пользу всем остальным людям: они послужили бы для других примером того, что не следует поступать несправедливо, а к тому же избавили бы государство от присутствия дурных людей.
863
Таким образом, законодатель вынужден назначить в наказание таким людям именно смерть, а не что‑то иное.
Клиний.
Кажется, ты очень удачно все это выразил, однако мы с удовольствием послушали бы это еще в более ясном изложении, а именно мы хотим знать разницу между несправедливостью и вредом и в каком виде сюда включается добровольное и невольное.
b
Афинянин.
Попытаюсь в своей речи исполнить ваше желание. Дело вот в чем. Ясно, что вы в своих беседах держитесь такого взгляда на душу: в самой душе по природе есть либо какое‑то состояние, либо какая‑то ее часть – яростный дух; это сварливое, неодолимое свойство внедрилось в душу и своей неразумной силой многое переворачивает вверх дном.
Клиний.
Да, это так.
Афинянин.
А удовольствие мы не отождествляем с яростным духом. Оно владычествует, говорили мы, благодаря силе, противоположной этому духу. С помощью убеждения, соединенного с насилием и обманом, оно осуществляет все, чего только не пожелает.
Клиний.
Конечно.
с
Афинянин.
Не будет ошибкой в качестве третьей причины проступков указать на невежество. Со стороны законодателя было бы лучше разделить это невежество на два вида: простое невежество, которое можно считать причиной легких проступков, и двойное, когда невежда одержим не только неведением, но и мнимой мудростью[2117]
, – точно он вполне сведущ в том, что ему вовсе неведомо. Если сюда присоединяется сила и мощь, то это можно считать причиной крупнейших и грубейших проступков;
d
если же сюда присоединяется слабость, то возникают детские и старческие заблуждения. Законодатель должен признавать это проступками, но в этом случае законы относятся к виновным очень мягко и снисходительно.
Клиний.
То, что ты говоришь, естественно.
Афинянин.
Пожалуй, мы все признаем, что одни из нас сильнее удовольствий и ярости, а другие – слабее. Вот как обстоит дело.
Клиний.
Совершенно верно.
Афинянин.
Но неслыханно, чтобы одни из нас были сильнее невежества, а другие – слабее.
e
Клиний.
Сущая правда.
Афинянин.
Все эти три свойства – [яростный дух, склонность к удовольствиям и невежество] – заставляют нас искать удовлетворения их желаний и нередко влекут нас в противоположные стороны.
Клиний.
Да, это часто бывает.
Афинянин.
Так вот, теперь я могу ясно и прямо определить, как я понимаю различие между справедливостью и несправедливостью. Тираническое господство в душе ярости, страха, удовольствия, страдания, зависти и страстей я считаю несправедливостью вообще,
864
все равно, наносит ли это кому‑нибудь вред или нет. Напротив, господство в душе представления о высшем благе, каких бы воззрений ни держалось государство или частные лица на возможность его достижения, делает всякого человека порядочным. Хотя бы он и совершил какой‑нибудь ложный шаг, все равно надо считать вполне справедливым поступок, совершенный подобным образом, и все, что происходит под руководством такого начала, является наилучшим для всей человеческой жизни. Многие относят такое нанесение вреда к невольной несправедливости. Мы сейчас не станем спорить из‑за названий,
b
зато в первую очередь как можно лучше запомним выяснившееся сейчас наличие трех видов проступков. Итак, страдание, которое мы обозначили как ярость и страх, составляет у нас один их вид.
Клиний.
Конечно.
Афинянин.
Второй вид проступков проистекает из‑за удовольствий и, с другой стороны, из‑за страстей; третий вид связан со стремлением к осуществлению надежд и правильного мнения о наивысшем благе. Разделив этот третий вид снова на три части, мы получим пять видов проступков, как это сейчас получается. Для этих пяти видов надо установить два различных рода законов.
c
Клиний.
Какие именно?
Афинянин.
Один – для явно насильственных действий, другой – для поступков, совершаемых втайне, среди мрака, путем обмана. Впрочем, бывают поступки, где налицо и то и другое. В этом случае законы должны были бы быть наиболее суровыми, если только они соблюдают правильное соотношение.
Клиний.
Естественно.
Афинянин.
Возвратимся далее снова к тому, что было нашим исходным пунктом, и будем продолжать установление законов.
d
Помнится, мы установили законы относительно святотатцев, изменников и тех, кто извращает законы с целью ниспровержения существующего государственного строя. Человек может, пожалуй, совершить подобный поступок под влиянием безумия, болезней или глубокой старости, все это ничем не отличается от детского состояния. Если о преступлении поставлены будут в известность судьи, избираемые в каждом отдельном случае, причем об этом заявит либо сам преступник, либо его защитник, и если будет признано, что человек преступил законы, находясь в одном из указанных состояний,
e
то он должен будет попросту возместить тот вред, который он кому‑то нанес, а от всей прочей судебной волокиты он будет избавлен. Исключение составляет тот случай, когда убийца не очистил своих рук от убийства; в этом случае он должен удалиться в другую страну, в другое место и там провести целый год в отлучке. Если он вернется до истечения определенного законом срока и ступит где бы то ни было на родную землю, то стражи законов должны посадить его в государственную тюрьму, причем он может быть выпущен из нее по истечении двух лет[2118]
.
865
Раз мы уже начали говорить об убийстве, попробуем установить до конца законы относительно всех его видов. Прежде всего поговорим об убийствах насильственных и невольных. Если кто на состязании или на государственных играх невольно убьет человека, с которым находится в дружеских отношениях, – все равно, последует ли смерть сразу или потом из‑за нанесенных ударов, – или если кто убьет точно так же на войне либо при воинских упражнениях, когда военные действия воспроизводятся либо с применением оружия, либо без него, –
b
то человек должен очиститься согласно полученному на этот случай из Дельф закону, а затем он считается уже чистым[2119]
. Это касается и всех врачей, если против их воли умрет больной; в этом случае, согласно закону, врач считается чистым. Если же кто убьет кого‑нибудь хоть и невольно, но собственноручно, силой своего тела или оружием, стрелой или тем, что даст ему что‑нибудь выпить и съесть, а также тем, что прибегнет к огню или холоду или лишит человека дыхания, – словом, собственной силой или с помощью иных тел, –
c
все равно он считается человеком, убившим собственноручно. Наказание ему будет следующее: если он убьет раба, приняв его за своего, он должен возместить хозяину умершего раба причиненный вред и убыток, иначе ему придется в наказание в двойном размере оплатить стоимость умершего. Определение стоимости дадут судьи. Очищений в этом случае будет больше, и они многочисленнее, чем для убивших на играх.
d
Решить этот вопрос правомочны избранные богом истолкователи. Если же кто убьет своего раба, то по совершении очищений ему, согласно закону, убийство не ставится в вину. Кто невольно убьет свободнорожденного человека, пусть прибегнет к тем же очищениям, что и человек, убивший раба. Однако пусть он отнесется при этом с почтением к одному старинному поверью из числа самых древних: рассказывают, что насильственно умерщвленный человек, проведший свою жизнь с тем образом мыслей, какой свойствен свободнорожденному человеку, гневается на убийцу за свою раннюю смерть
e
и, будучи полон страха и ужаса из‑за испытанного насилия, наводит страх на убийцу, если видит, что тот продолжает жить в местах, привычных для покойного[2120]
. Полный тревоги сам, покойник изо всех сил тревожит убийцу и вносит тревогу во все его дела, причем союзником ему в этом служит память. Поэтому убийца должен уступить своей жертве и удалиться из всех родных для покойного мест его отечества на целый год[2121]
.
866
Если покойный был чужеземец, в течение того же срока убийца не должен посещать его страну. Кто добровольно повинуется этому закону, того ближайший родственник покойного, бывший свидетелем всего происшедшего, должен простить и вообще с ним примириться. Если же ослушник, который еще не очистился от убийства, посмеет отправиться в святилища и приносить жертвы да вдобавок не пожелает выдержать указанного срока отлучки,
b
ближайший родственник покойного должен преследовать его по суду за убийство. В случае обвинительного приговора все меры наказаний удвояются. Если же этот ближайший родственник не возбудит судебного преследования за происшедшее, то всякий желающий может возбудить против него дело как против человека, на которого перешла скверна и обратилось мучение пострадавшего; в этом случае пусть он по закону покинет свое отечество на пять лет.
c
Если чужеземец невольно убьет чужеземца из числа проживающих в государстве, его может преследовать по суду всякий желающий на основании тех же самых законов. Если это метек[2122]
, пусть он удалится на один год; если же он просто чужеземец, то в случае убийства чужеземца, метека или же горожанина он должен помимо очищения на всю жизнь покинуть страну, где действуют эти законы. Если вопреки законам он возвратится, пусть законодатели накажут его смертью, а имущество, какое у него есть, пусть передадут ближайшему родственнику пострадавшего. Коль скоро он возвратится против своей воли,
d
например если морской бурей будет выброшен на берег этой страны, он может раскинуть палатку, однако лишь на краю берега, так, чтобы вода касалась его ног; здесь он должен подстерегать случай для отплытия. Если же кто насильно поведет его в глубь страны, пусть его освободят первые встречные должностные лица и отправят целым и невредимым обратно в прибрежную полосу.
Если кто собственноручно убьет свободнорожденного, причем это будет сделано в ярости, здесь надо различать два случая, а именно: совершен ли поступок в состоянии ярости, так, что человеку причиняют смерть ударами или чем‑то другим подобным внезапно и непреднамеренно, под влиянием мгновенного порыва,
e
а затем тотчас же возникает раскаяние в совершенном поступке. Точно так же под влиянием ярости действуют и в том случае, когда замышляют отомстить за нанесенную раньше словами или бесчестными делами обиду и потом с намерением убить действительно убивают обидчика; в этом случае не возникает раскаяния в совершенном поступке. Стало быть, по‑видимому, надо различать два вида убийства, и чуть ли не оба этих вида совершаются под влиянием ярости;
887
всего справедливее было бы сказать, что они занимают середину между умышленными и неумышленными преступлениями. Впрочем, нет, эти виды убийства имеют сходство – одно с умышленным, другое с неумышленным действиями. Ведь тот, кто подавляет ярость, не действует сразу, но намеренно откладывает свое мщение на будущее; действия такого человека подобны умышленным. Напротив, человек, необузданный в гневе, сразу ему подпадающий и не отдающий себе отчета в своих намерениях, подобен действующему невольно, хотя и он действует не вполне так, здесь только внешнее сходство с невольным поступком.
b
Вот почему трудно разграничить те случаи убийств, когда они совершены под влиянием ярости, с точки зрения того, какие из этих убийств должен закон признать умышленными, а какие – неумышленными. Всего лучше и согласнее с истиной было бы судить о них по признаку сходства и различать оба вида преступлений с точки зрения их преднамеренности или же непреднамеренности, а затем назначать по закону для тех, кто в гневе совершил преднамеренное убийство, наказание более тяжелое, а для тех, кто совершил это непреднамеренно и внезапно, – более легкое. В самом деле, за большее зло естественно назначить большее наказание, а за меньшее – меньшее. Так должны поступить и мы в наших законах.
c
Клиний.
Конечно.
Афинянин.
Снова вернувшись к нашему предмету, скажем следующее: если кто собственноручно убьет свободнорожденного человека и совершит это непреднамеренно, в состоянии гнева, то виновный должен подвергнуться всем тем же наказаниям, что и тот, кто убил без ярости, а именно ему придется на два года отправиться в изгнание в виде кары[2123]
за свою запальчивость.
d
Если же кто совершит убийство, пусть в состоянии ярости, но преднамеренно, он подвергнется всем тем наказаниям, что указаны в первом случае, но вместо двух лет изгнания ему назначается три года, то есть более продолжительный срок за более сильную степень ярости. Что же касается обратного возвращения этих лиц, то здесь пусть соблюдается следующее: вполне точные законы дать тут трудно; бывают случаи, когда из этих двух видов убийства тот вид, который признан законом более тяжким, на самом деле оказывается более легким, и, наоборот, тот вид, который признан законом более легким, на деле оказывается более тяжелым, причем во всех обстоятельствах, связанных с убийством, один человек действует более жестоко, другой – более мягко. Впрочем, большей частью все происходит так, как мы сейчас говорим.
e
Во всем этом должны разбираться стражи законов. После того как истекут сроки изгнания для каждого из этих двух видов преступников, пусть они пошлют двенадцать судей к границам страны, с тем чтобы за это время они еще точнее рассмотрели деяния изгнанников и вынесли решение относительно их совестливости и обратного их допущения в государство. Изгнанники со своей стороны должны будут подчиняться решениям этих должностных лиц.
868
Если же по своем возвращении кто‑нибудь из бывших в изгнании, поддавшись гневу, снова совершит тот же самый проступок, то ему назначается изгнание без права возвращения; если же он все‑таки возвратится, то его надо подвергнуть тому же, чему подвергается чужеземец в случае возвращения после высылки[2124]
.
Кто убьет своего собственного раба, пусть подвергнется очищениям; кто же в состоянии ярости убьет чужого раба, пусть вдвойне возместит убытки его владельцу. Всякий убийца, не подчинившийся закону, не подвергшийся очищению, осквернивший своим присутствием рыночную площадь,
b
игрища и все остальные святыни, может быть привлечен к суду любым желающим, равным образом может быть привлечен и родственник покойного, допускающий, чтобы убийца все это делал: его можно принудить по суду уплатить в двойном размере пеню, а также вдвойне подвергнуть прочим мерам взыскания. Полученная пеня поступает по закону в пользу того, кто подал дело в суд. Если раб в состоянии ярости убьет своего господина, то близкие покойного могут сделать с убийцей все, что им угодно,
c
но никоим образом не должны оставить раба в живых – в этом случае они будут чисты от вины. Если же какой‑нибудь раб убьет свободнорожденного человека в состоянии ярости, то господа этого раба пусть передадут его близким покойного, те же обязаны умертвить убийцу каким им угодно способом. Бывает, – правда, редко, – что отец или мать в ярости причиняют ударами или другим каким‑то насильственным образом смерть своему сыну или дочери; тогда они должны прибегнуть к тем же самым очищениям, что и все прочие, и отправиться в изгнание на три года.
d
По возвращении убившая должна расстаться с мужем, а убивший – с женой; впредь они не должны вместе производить детей, не могут быть членами семьи, которую они лишили потомка или брата, и не должны принимать участия в почитании общих святынь. Нечестивый ослушник, который не считается с этим, может быть любым желающим привлечен к суду по обвинению в нечестии.
e
Если муж в гневе убьет свою законную жену либо жена совершит такой же точно проступок в отношении мужа, то они должны прибегнуть к указанным очищениям и пробыть в изгнании три года. По возвращении человек, совершивший подобное преступление, не должен принимать участия в священных обрядах вместе со своими детьми и не может иметь с ними общего стола. Ослушник же, будь то отец или сын, опять‑таки может быть привлечен к суду по обвинению в нечестии любым желающим. Если брат в ярости убьет брата или сестру или также сестра – брата или сестру, очищения и сроки изгнания будут те же самые, что назначены для родителей и их детей; они также не могут быть членами той семьи, в которой у братьев отняли брата, а у родителей – сына, и не могут принимать вместе с ними участия в священных обрядах. К ослушнику можно правильно и по справедливости применить упомянутый закон о нечестии.
869
Если кто будет настолько несдержан и запальчив по отношению к своим родителям, что в припадке неистового гнева осмелится убить одного из них, убийца, если покойный до своей кончины добровольно простил ему, должен прибегнуть лишь к тем очищениям, что предписаны для невольных убийц; совершив и все остальное, что предписано делать тем, он будет считаться чистым от вины.
b
Но если покойный не простил, тогда человек, совершивший что‑либо подобное, подсуден многим законам, ведь он будет судим по самому тяжкому обвинению в оскорблении действием, а равным образом в нечестии и святотатстве, коль скоро он посягнул на жизнь своего родителя. Значит, весьма справедливо было бы подвергнуть отцеубийцу и матереубийцу, совершившего убийство по причине ярости, многократной смертной казни, если бы только было возможно одному и тому же человеку умереть много раз. Ибо закон запрещает человеку защищаться,
c
даже если родители угрожают ему смертью, и ни один закон не позволяет детям убить отца или мать, произведших их на свет. Поэтому закон предпишет человеку сдержаться и вынести все, лишь бы не совершить такого поступка. Раз это так, то к какой же иной ответственности привлечет закон человека, убившего отца или мать? Нет, пусть будет установлено, что для того, кто в ярости убил отца или мать, наказанием будет смерть[2125]
. Если же брат убьет брата во время стычки при междоусобице или при обстоятельствах, подобных этим,
d
причем он будет лишь обороняться от зачинщика схватки, то он считается чистым от вины так же, как если бы он убил неприятеля. То же самое, если при подобных обстоятельствах гражданин убьет гражданина или чужеземец чужеземца. Если гражданин, обороняясь, убьет чужеземца или чужеземец – гражданина, то, согласно тому же правилу, он считается невиновным. То же самое, если раб убьет раба. Напротив, если раб, хотя бы и обороняясь, убьет свободнорожденного, он подпадает под действие тех же законов, что и отцеубийца. То, что сказано относительно прощения отцом своего убийцы, одинаково касается и всех этих случаев.
e
Если человек по доброй воле простит своего убийцу как совершившего это дело невольно, пусть преступник прибегнет к очищениям и по закону выселится на один год из страны.
Относительно убийств насильственных или непреднамеренных, а также происходящих под влиянием ярости достаточно сказано. Затем нам надо поговорить о случаях намеренного убийства или убийства, происходящего под влиянием крайней необузданности, а также о злом умысле, возникающем из‑за приверженности человека к удовольствиям и из‑за страстей и зависти.
Клиний.
Ты прав.
870
Афинянин.
И в этом случае мы сначала по мере сил укажем, сколько здесь может быть видов. Самое великое зло – это господство страсти, когда душа дичает от вожделений. Всего более это проявляется в том, к чему у большинства имеется самое глубокое и сильное вожделение, то есть в силе, которая вследствие дурных природных свойств и воспитания порождает тысячи побуждений к ненасытному и беспредельному стяжанию имущества либо денег. Причиной же невоспитанности служит распространенное среди эллинов и варваров мнение, превратно восхваляющее богатство.
b
Признавая богатство первым из благ – между тем как на самом деле оно стоит лишь на третьем месте, – они портят и самих себя, и свое потомство. Насколько лучше и прекраснее было бы, если бы во всех государствах господствовал истинный взгляд на богатство: оно существует ради тела, тело же существует ради души. Раз имеются блага, ради которых и существует богатство, значит, его надо поставить на третье место – после телесных и душевных качеств. Положение это учит, что человек, желающий быть счастливым, должен не стремиться к обогащению,
c
но быть богатым, сохраняя справедливость и рассудительность. В этом случае в государствах не было бы убийств, которые требуют для своего искупления других убийств. А теперь, как мы и заметили вначале, есть одно, и притом величайшее, зло[2126]
, требующее величайшего наказания за намеренно совершенное убийство. На втором месте стоит честолюбие, порождающее в одержимой им душе зависть, которая с трудом уживается прежде всего со своим владельцем, а затем и с лучшими людьми в государстве. На третьем месте стоят низменные и неправедные страхи, которые вызывают много убийств, когда человек хочет,
d
чтобы никто, кроме него, не знал о совершении им – теперь или в прошлом – тех или иных поступков, вот он и устраняет путем умерщвления всех тех, кто мог бы о них донести.
Пусть все это послужит вступлением к такого рода законам. Вдобавок можно напомнить учение, которому многие люди очень верят, когда слышат его из уст тех, кто во имя него ревностно занимается священными таинствами. Учение это утверждает, что за все подобного рода поступки человека ожидает расплата в Аиде, а когда он снова вернется на Землю,
e
ему придется расплатиться согласно природному правосудию, то есть испытать участь пострадавшего от него лица, в своей тогдашней жизни он подобным же образом будет убит другим человеком. Кто повинуется и уже на основании самого вступления всячески страшится этого правосудия, тому совсем не нужно, чтобы и закон это провозглашал. Но для ослушника пусть будет дан следующий закон, и притом в письменном виде.
871
Кто с заранее обдуманным намерением и противозаконно собственной рукой убьет кого‑либо из своих соплеменников, тот прежде всего лишается покровительства законов, не смеет осквернять своим присутствием ни святилищ, ни рыночной площади, ни гаваней, ни иных общих мест собраний; при этом все равно, запретил ли кто преступнику туда вход или нет, ведь сам закон запрещает ему это и будет выражать такой запрет всегда в защиту всего государства.
b
Кто из родичей покойного, включая двоюродных родственников по мужской или по женской линии, не возбудит судебного преследования против преступника и не потребует прекращения всякого общения с ним, на того прежде всего обращается скверна и вражда богов, как об этом предупреждает слово закона. Во‑вторых, всякий желающий отомстить за покойного может привлечь к суду преступника. Человек, желающий отомстить, пусть выполнит все, что касается тщательного совершения очистительных омовений и прочих обычаев, предписанных богом.
c
Далее, пусть сделает предупреждение, а затем уже он может заставить преступника подвергнуться законному правосудию. Законодателю легко показать, что все это должно сопровождаться некими молитвами и жертвоприношениями определенным богам, которые пекутся о том, чтобы в государствах не совершалось убийств. Стражи законов совместно с толкователями, прорицателями и божеством установят, каким образом надо учинять подобные дела, и издадут законы о том,
d
каким богам это подвластно и какой способ ведения таких судебных дел всего вернее соответствует божественному праву. Судьи здесь будут те же, которые, как было сказано, правомочны в суде над святотатцами.
В случае признания виновности преступник наказывается смертью; его не следует хоронить в стране пострадавшего, так как кроме нечестия преступник выказал еще и бесстыдство. Кто не пожелает подвергнуться суду и с помощью бегства от него уклонится, пусть навсегда остается в изгнании. Если же преступник снова где‑нибудь вступит в страну убитого,
e
то первый встречный, будь то член семьи умершего или же кто‑нибудь из остальных граждан, может его невозбранно убить либо, связав, передать для казни правителям, являющимся судьями в таких делах. Истец пусть вместе с тем требует, чтобы лицо, которому он предъявляет иск, представило поручителей. Ответчик же пусть представит тех поручителей, которых данные судьи признают достойными, иначе говоря, трех верных поручителей, которые поручатся, что обвиняемый явится в суд. Того, кто не желает или не может представить поручителей, власти задерживают, берут под стражу и предоставляют решению суда.
872
Если кто убил не собственноручно, а лишь замышлял кого‑нибудь умертвить и, став из‑за этого своего желания и замысла виновником смерти этого человека, продолжает жить в государстве, не очистившись от убийства, то разбор дела и в этом случае происходит так же, за исключением поручительства. Виновному дозволяется быть погребенным у себя на родине, все же остальное здесь происходит точно так же, как там. Это одинаково касается отношений как между чужеземцами, так и между гражданами и чужеземцами;
b
касается это и отношений между рабами, как в случае убийства собственной рукой, так и в случае намерения убить. Исключением здесь является лишь поручительство; поручители, как уже было сказано, требуются только тем, кто собственноручно совершил убийство. Тот, кто обвиняет кого‑либо в таком убийстве, должен одновременно требовать и поручительства. Если раб намеренно убьет свободнорожденного человека, собственноручно ли или замыслив это убийство, и будет признан виновным, пусть государственный палач отведет его к надгробному памятнику умершего, так, чтобы он мог видеть могилу, и здесь подвергнет его стольким ударам бича, сколько предпишет обвинитель;
c
если раб не умрет во время бичевания, его предают смерти. Если же кто убьет раба, не совершившего ничего дурного, из опасения, как бы он не донес о позорных и злых делах этого человека или по какой‑нибудь другой подобной причине, то убийца раба подвергнется такому же наказанию, как за убийство гражданина.
Бывают случаи, при которых очень страшно и нелегко издавать законы, между тем как не издать их невозможно.
d
Таковы случаи намеренного и во всех отношениях несправедливого убийства, собственноручного или подстроенного, которое случается между родственниками. В большинстве случаев это бывает в плохо устроенных и диких государствах, но отдельные случаи такого рода могут встретиться и там, где их меньше всего ожидаешь. Поэтому надо повторить то, что мы недавно сказали, чтобы тот, кто нас слушает, по этой причине лучше добровольно воздержался от тех убийств, которые во всех отношениях самые нечестивые. Ведь древние жрецы ясно рекли слово или сказание
e
– как бы это ни называть – о том, что за пролитие крови родичей мстит блюстительница Правда[2127]
; пользуясь только что названным законом, она предписывает, чтобы человек сам неизбежно подвергся тому, что он совершил. Если кто убил когда‑нибудь своего отца, то настанет час и ему придется со стороны своих детей подвергнуться такому же насилию. Если же он убил свою мать, то ему неизбежно суждено вновь родиться уже в виде женщины, а впоследствии лишиться жизни от собственного же чада. Ибо нет иного способа очиститься от пролитой родной крови; кровавое пятно нельзя смыть до тех пор, пока душа виновного не искупит своего преступления тем же самым образом: подобное подобным,
873
убийство – смертью от руки убийцы – и не успокоит тем самым гневный дух родни. Поэтому каждому следует воздерживаться от таких преступлений из страха перед божественным возмездием. Если же иных людей все‑таки постигнет эта несчастная судьба и они намеренно и добровольно осмелятся разлучить с телом душу своего отца, матери, брата или ребенка, то на этот случай смертным законодателем издается следующее установление.
b
После предупреждения об иске люди эти объявляются вне закона; поручительство они должны представить таким же образом, как в упомянутых раньше случаях. И если человек будет уличен в подобном преступлении, то есть если он действительно убил кого‑нибудь из своих родичей, его предают смертной казни служители судей и должностные лица, а тело его обнаженным должно быть выброшено за пределы государства, на отведенный для этого перекресток. Затем все должностные лица от лица всего государства пусть принесут каждый по камню и бросят его в голову трупа, чтобы таким образом очистить все государство[2128]
.
c
После этого труп выносят к крайним пределам страны и здесь выбрасывают, причем по закону он лишается погребения.
Чему же в таком случае должен подвергнуться человек, убивший то, что всего ближе и, как говорится, всего дороже? Я говорю о самоубийцах, которые насильно лишают себя того, что им суждено судьбой, хотя их к этому не приговаривало государство, не вынудила неотвратимым страданием несчастная случайность или выпавший на их долю тягостный стыд, делающий невозможной жизнь, сами над собой творят они этот неправедный суд из‑за своей слабости и отсутствия мужества.
d
Что касается очищения и погребения такого человека, то обычаи эти ведомы богу. Поэтому ближайшие родственники должны обратиться к толкователям и вместе с тем к законам, касающимся этих дел, и поступить согласно их предписаниям. Погребать самоубийц надо прежде всего в одиночестве, а не вместе с другими людьми. Далее, столь бесславных людей надо хоронить на пустырях, не имеющих имени, на границах двенадцати частей государства, не отмечая при этом места их погребения ни надгробными плитами, ни надписями[2129]
.
e
Если подъяремная скотина или иное какое‑нибудь животное убьет человека (исключение здесь составляют те случаи, когда это постигает атлета, выступающего на общегосударственном состязании), то родственники должны выступить судебным порядком против убийцы; дело разбирают агрономы, выбранные в любом числе каким‑нибудь родственником. Уличенное животное убивают и выбрасывают за пределы страны. Если же неодушевленный предмет лишит человека души, за исключением молнии и тому подобных перунов божеств, иными словами, если предмет своим падением убьет человека или человек сам на него упадет,
874
пусть родственник выберет в судьи для этого дела своего самого близкого соседа и перед ним очистит себя и всю свою родню; виновный же предмет надо выбросить вон, как это было указано для животных.
Если, с другой стороны, обнаружена чья‑нибудь смерть, но неясно, кто убийца, и даже после тщательных розысков не смогут его найти, то вступают в силу те же самые предупреждения, что и в остальных случаях. Совершившего объявляют виновным в убийстве,
b
решение суда провозглашается на рыночной площади: «Убивший такого‑то осужден за убийство и не имеет доступа в святилища и вообще в страну, где жил пострадавший; если он появится и будет опознан, он будет предан смертной казни и без погребения выброшен вон за пределы страны пострадавшего». Пусть у нас действует один такой главный закон об убийстве.
Вот как до сих пор обстоит дело с такими вещами. Что же касается того, при каких условиях убийство какого‑нибудь человека не ставится в вину убившему, то здесь пусть будет постановлено следующее: если кто ночью убьет вора, захватив его при попытке ограбить дом, тот невиновен;
c
кто, обороняясь, убьет грабителя, тот невиновен; если кто‑то пытается изнасиловать свободнорожденную женщину или отрока, того может невозбранно убить лицо, подвергнувшееся насилию, а также отец, братья или сыновья. Если муж застанет кого‑нибудь, пытавшегося изнасиловать его жену, то по закону он невиновен, коль скоро убьет насильника[2130]
; если кто совершит убийство, защищая своего отца, не сделавшего ничего нечестивого, или свою мать, детей, братьев, супругу, то он совершенно невинен.
d
Мы уже установили законы о воспитании и образовании живой души, делающих для нее приемлемой жизнь (для души, лишенной их, жизнь невозможна), а также относительно смертной казни, являющейся карой за насилие; сказано нами также о телесном уходе и воспитании. Вслед за тем надо рассмотреть намеренные и невольные насильственные деяния, учиняемые друг другу людьми. Надо по мере сил определить, каковы они,
e
сколько их [видов] и какие наказания были бы полезны в этих случаях[2131]
. Вот о чем, видимо, правильно было бы установить дальше законы.
На втором месте после убийства всякий, даже самый неумный из законодателей, поставил бы ранения, а также увечья от ран. Как мы различили разные виды убийства, так нужно различать и виды ранений: одни из них причиняются невольно, другие – в состоянии ярости, третьи – под влиянием страха, четвертые – с сознательным умыслом. Относительно всего этого надо предварительно сказать вот что:
875
людям необходимо установить законы и жить до законам, иначе они ничем не будут отличаться от самых диких зверей. Причина здесь та, что природные свойства человека далеко не достаточны, чтобы распознать все полезное для человеческого общежития или, даже распознав это, всегда быть в состоянии осуществлять высшее благо и стремиться к нему. Прежде всего трудно распознать, что истинное искусство государственного правления печется не о частных, но об общих интересах – ведь эта общность связует, частные же интересы разрывают государство – и что как для того, так и для другого,
b
то есть для общего и для частного, полезно, если общее устроено лучше, чем частное. Во‑вторых, если даже кто и распознает, что от природы все это обстоит именно так, и усвоит это в достаточной мере на деле, то впоследствии, став неограниченным и самовластным главой государства, он ни в коем случае не сумеет остаться при этих взглядах и не сочтет нужным всю свою жизнь поддерживать в государстве общие нужды, предоставляя частным нуждам следовать за общими. Нет, его смертная природа всегда будет увлекать его к корысти и служению своим личным интересам. Безрассудно избегая страданий и стремясь к удовольствиям,
c
она поставит их выше того, что более справедливо и лучше. Себя самое она ввергнет в мрак и в конце концов преисполнит всяческим злом и себя, и все государство в целом. Ведь если бы по воле божественной судьбы появился когда‑нибудь человек, достаточно способный по своей природе к усвоению этих взглядов, то он вовсе не нуждался бы в законах, которые бы им управляли. Ни закон, ни какой бы то ни было распорядок не стоят выше знания.
d
Не может разум быть чьим‑либо послушным рабом; нет, он должен править всем, если только по своей природе подлинно свободен. Но в наше время этого нигде не встретишь, разве что только в малых размерах. Поэтому надо принять то, что после разума находится на втором месте, – закон и порядок, которые охватывают своим взором многое, но не могут охватить всего. Все это было сказано с такой именно целью.
Теперь мы установим, чему должен подвергнуться или что должен уплатить человек, ранивший другого или нанесший ему какое‑нибудь повреждение. У каждого вполне основательно возникнет здесь много вопросов:
e
куда нанесена рана, кого ранили, как и когда – все надо им объяснить, ведь здесь есть несчетное количество случаев, сильно отличающихся друг от друга. Поручить суждение обо всем этом судам невозможно, отнять у них это право тоже нельзя. Зато одно необходимо предоставить их решению, а именно, произошло ли действительно ранение, или его вовсе не было.
876
Впрочем, ничего не предоставлять их усмотрению из вопросов о наказании и должной каре обидчику, но самому установить законы о всех существенных и незначительных видах ранений тоже едва ли возможно.
Клиний.
Что же нам на это сказать?
Афинянин.
А вот что: часть вопросов надо предоставить судам; другую же часть им предоставить нельзя, а надо самому установить здесь законы.
Клиний.
О чем же надо установить законы и что можно передать на решение судей?
b
Афинянин.
Правильнее всего было бы сказать вот что: в государстве, где негодные, безгласные суды скрывают свои мнения и втайне принимают решения или, что еще более ужасно, выносят их не спокойно, но среди страшного шума, точно в театре, криками поощряя или порицая каждого из выступающих ораторов, – в таком государстве обычно создается трудное положение. Необходимость давать законы таким судам не приносит никакой радости. Однако, если кто все‑таки вынужден устанавливать законы для подобного государства,
c
нужно бульшую часть их подробно оговорить самому, судьям же предоставить установление наказаний лишь по самым пустячным делам. Зато в государстве, где суды по мере сил устроены надлежащим образом, где те, кто собирается стать судьями, хорошо воспитаны и их прошлое подвергнуто тщательной проверке, там в большинстве случаев предоставление судьям решения, какому наказанию должны подвергаться виновные или какую пеню уплатить, будет делом правильным и прекрасным.
d
Поэтому нам нельзя сейчас поставить в упрек, что мы не даем им самых важных и многочисленных предписаний, ведь даже получившие не очень хорошее воспитание судьи могут сообразить, какое нужно установить наказание за то или иное преступление, чтобы оно было достойно совершенного проступка и вызванного им страдания. А раз мы считаем судей, для которых мы устанавливаем законы, ничуть не хуже тех, о которых сейчас сказали, то им можно предоставить весьма многое. Впрочем, как мы нередко указывали и как мы поступали раньше, устанавливая законы,
e
надо и здесь дать общий обзор и типы взысканий, которые служили бы судьям образцами и препятствовали бы им выходить за пределы правосудия. Тогда это было правильно; и теперь надо, поступив точно так же, снова вернуться к законам.
Иск по делам о ранении будет у нас установлен так: если (за исключением тех случаев, когда это допускается законом) кто с заранее обдуманным намерением хотел убить мирного обитателя, но не смог этого сделать, а лишь ранил его, такого человека, злонамеренно нанесшего рану, не стоит жалеть,
877
без всякого зазрения совести его надо привлечь к суду точно так же, как и убийцу. Однако из уважения к его не совсем злой судьбе и к божеству, которое смилостивилось над ним и над раненым, отвратив от одного из них смертельную рану, а от другого – проклятую участь и несчастье, в благодарность этому божеству, чтобы ему не противиться, надо избавить от смертной казни того, кто нанес рану,
b
и заменить ее пожизненной высылкой в соседнее государство с сохранением права пользования всем принадлежащим ему имуществом. Если же он нанес раненому увечье, то обязан его возместить согласно оценке суда, которому подлежит это дело. Это тот самый суд, куда поступило бы дело об убийстве, если бы пострадавший скончался от нанесенной раны. Если сын умышленно ранит своих родителей, а раб – своего господина, то наказанием назначается смертная казнь.
c
Если точно так же брат ранит брата или сестру или сестра – брата или сестру и будет доказана умышленность нанесения раны, то наказанием назначается смертная казнь. Жена, ранившая своего мужа, или муж – свою жену – с заранее обдуманным намерением убить – должны отправиться в вечное изгнание. Об имуществе изгнанного, если его сыновья или дочери малолетние, позаботятся опекуны и возьмут под опеку детей как сирот. Если же дети уже взрослые, то они наследуют собственность родителей, причем без обязательства содержать изгнанника. Если такое несчастье постигнет человека бездетного,
d
то родственники изгнанника, вплоть до двоюродной степени родства с обеих сторон как по мужской, так и по женской линии, должны собраться вместе и назначить наследника этого дома – одного из пяти тысяч сорока домов в государстве, – посоветовавшись со стражами закона и жрецами и приняв в соображение следующее правило: ни один дом из числа пяти тысяч сорока не является собственностью его обитателя или его семьи, но скорее частной собственностью всего государства. А государственные дома должны быть по мере сил как можно более благочестивыми и счастливыми.
e
Если какой‑нибудь из этих домов впадает в такое нечестие и несчастье, что владелец не оставит в нем детей, будучи холостым или бездетным в браке, и в то же время будет изобличен в умышленном убийстве или в ином преступлении против богов либо граждан, за которое законом ясно определена смертная казнь, или будет отправлен в вечное изгнание, то по закону надо прежде всего совершить очищение этого дома и принести искупительные жертвы Зевсу.
878
Затем домочадцы, как было только что сказано, должны собраться вместе со стражами законов и рассмотреть, какая семья в государстве снискала себе наилучшую славу своей добродетелью и счастливой судьбой, притом что в ней есть несколько детей: одного из этих детей надо сделать приемным сыном отца покойника и всех предков этого рода и дать ему доброе имя, дабы он при более счастливых предзнаменованиях, чем его отец, стал отцом семейства, домохозяином и заботливым исполнителем благочестивых священнодействий. Помолившись таким образом, его назначают законным наследником,
b
а преступник остается без имени, без детей, без надела, коль скоро его постигло такое несчастье.
Конечно, не у всего, что существует, предел соприкасается с пределом, бывают промежутки, внедренные в пределы, предшествующие им и оказывающиеся между ними. То же самое можно сказать и о намеренных или невольных поступках, совершенных в состоянии ярости.
c
Итак, если кто будет уличен в том, что именно в этом состоянии он нанес рану другому, то прежде всего он должен в двойном размере возместить ущерб, если рана излечима; если же неизлечима, он должен возместить ущерб в четверном размере. Если рана излечима, но раненый понес великий позор и поношение, виновный должен возместить ущерб в тройном размере. Если же ранение вредит не только пострадавшему, но и государству, так как раненый лишился возможности защищать родину от врагов, виновник сверх остальных наказаний возмещает ущерб, нанесенный им государству:
d
кроме собственной воинской повинности он несет ее также и за увечного, заместив его в военном строю. Если он не исполнит этого, любой желающий может привлечь его по закону к суду за уклонение от воинской службы. Судьи, назначенные путем голосования, определяют двойное, тройное или четверное возмещение за нанесенный ущерб. Если брат ранит брата указанным образом, родственники со стороны его отца и матери, вплоть до двоюродной степени родства по женской и мужской линии, собираются вместе – и мужчины, и женщины – на совет,
e
а определение наказания поручают его родителям. Если степень наказания вызывает споры, берет верх решение родственников по мужской линии. Если же и они не в силах этого сделать, то в конце концов они поручают это стражам законов. Необходимо, чтобы судьи по делам о ранениях, нанесенных родителям детьми, уже переступили за шестьдесят лет и имели бы детей, не приемных, а своих собственных. Если кто будет уличен в преступлении, надо определить, должен ли такой человек быть просто казнен, подвергнут чему‑то еще большему или же должен понести немного меньшее наказание.
879
Из родственников преступника никто не имеет права участвовать в суде, даже если он достиг положенного законом возраста. Если раб в припадке ярости ранит свободнорожденного человека, его владелец передает этого раба раненому – пусть тот поступит с ним как угодно. Если же он не передаст раба, то сам должен искупить нанесенный ущерб. Если он обвиняет раба и раненого в заговоре и какой‑нибудь уловке, он может начать тяжбу. Если он не выиграет, он втройне оплачивает ущерб, а если выиграет, то тот, кто хитрил вместе с рабом, подпадает под обвинение в незаконном присвоении раба.
b
Кто невольно ранит другого, тот просто возмещает ему ущерб, потому что никакой законодатель не волен над судьбой. Судьями пусть будут те же лица, которые указаны для случаев ранения детьми родителей, они определяют размер возмещения убытка за понесенный ущерб.
Все указанные нами сейчас действия являются насильственными. Всякий вид оскорбления действием есть также насилие. Каждый мужчина, женщина и ребенок должны всегда мыслить об этом так: престарелые люди гораздо больше заслуживают почтения, чем молодые, в глазах богов,
c
а также людей, желающих быть счастливыми и невредимыми. Позорное для государства и ненавистное богам зрелище, когда младший бьет старшего. Если же старик ударит молодого человека, тот должен терпеливо подавить свой гнев, имея в виду, что и ему самому, когда он состарится, будет предоставлено такое же преимущество. Итак, пусть действует такое постановление: всякий и в делах, и в речах должен у нас совеститься тех, кто старше его. Каждого мужчину и каждую женщину, на двадцать лет старших себя, надо считать отцом или матерью и бережно к ним относиться. Ради богов – покровителей рождения
d
надо удерживаться от оскорбления всех тех, кто по своему возрасту мог бы тебя родить и произвести на свет. По этой причине не следует оскорблять даже чужеземца, все равно, давно ли тот поселился в стране или же прибыл недавно, ни по собственному почину, ни ради защиты не дулжно вразумлять ударами человека такого возраста. Если же кто находит, что надо обуздать чужеземца, нагло и бесстыдно напавшего на него с ударами, то он может его задержать и отвести к правителям‑астиномам, но сам пусть воздержится от побоев. Тем более он должен остерегаться дерзко ударить когда‑нибудь своего земляка.
e
Чужеземца, совершившего это, астиномы задерживают и производят разбор дела, бережно относясь к богу – покровителю чужеземцев. Если они решат, что чужеземец несправедливо бил местного жителя, они назначат ему столько же ударов бичом, сколько он нанес сам, – за его чужеземную дерзость, этим дело и ограничивается. Если же чужеземец поступил по справедливости, то астиномы, пригрозив и вынеся порицание тому, кто его вызвал в суд, отпускают обоих.
880
Если сверстник побьет своего сверстника или человека старше себя, но не имеющего детей, или если старик побьет старика либо юноша – юношу, то разрешается естественная защита, но без оружия, лишь голыми руками. Если же человек, переступивший за сорок лет, осмелится с кем‑нибудь драться, сам являясь зачинщиком или только обороняясь, его будут считать грубым, неблагородным и подобным рабу, и такое порицание будет подобающим ему наказанием. Если он повинуется такому увещанию, его легко обуздать. А неповинующийся, не обращающий никакого внимания на введение к этим законам, пусть будет готов к принятию следующего узаконения:
b
если кто побьет человека старше на двадцать лет, чем он сам, и более, то прежде всего свидетель этого происшествия, если он не ровесник и не моложе дерущихся, должен их разнять, иначе он прослывет по закону дурным гражданином. Если же он ровесник тому, кого бьют, или еще моложе его, он должен прийти к нему на помощь как к своему брату, отцу или вообще обиженному старшему родственнику. Кроме того, как было указано, осмелившийся бить старшего подпадает под обвинение в оскорблении действием.
c
Если он будет уличен, его приговаривают к тюремному заключению не меньше чем на год. Если же судьи назначат больший срок, пусть этот назначенный ему срок войдет в силу. Если чужеземец или метек побьет человека, на двадцать или более лет старшего, чем он сам, тот же самый закон точно так же призывает всех вступиться за пострадавшего. Проигравший судебное дело, раз он чужеземец, а не местный житель, подвергается в наказание двухлетнему тюремному заключению; если же метек не послушался законов, то он заключается в тюрьму на три года,
d
коль скоро суд не назначит ему большего срока. Свидетель такого происшествия, не пришедший, однако, на помощь, как это предписывает закон, подвергается пене в размере одной мины, если он принадлежит к высшему классу, в пятьдесят драхм – если он принадлежит ко второму классу, тридцати – если к третьему, двадцати – если к четвертому. Суд над такими людьми состоит из стратегов, таксиархов, филархов и гиппархов. По‑видимому, одни из законов устанавливаются ради людей порядочных с целью научить их, каким образом надо общаться друг с другом, чтобы жить в мире;
e
другие же законы даются для людей, не получивших воспитания и обладающих неподатливой природой, которую ничем нельзя смягчить, – даются с той целью, чтобы люди эти не предались окончательно пороку. Именно такие люди и заставляют нас высказать то, что будет сказано. Законодатель дает им законы только вынужденно и предпочел бы, чтобы законы эти никогда не применялись.
Если кто осмелится применить насилие и оскорбить отца, мать или их родителей, не убоявшись ни гнева вышних богов, ни возмездия, ожидающего, как считается, человека в Аиде;
881
если такой человек, словно зная все то, чего он вовсе не знает, презирает древние, всеми рассказываемые предания и поступает вопреки законам, то, чтобы отвратить такого человека от преступления, нужны крайние меры. Смерть не будет еще такой крайней мерой; скорее уж муки, которые существуют, как говорят, в Аиде, и даже еще что‑нибудь горшее. Однако даже учения, возвещающие высшую истину[2132]
, не производят никакого впечатления на подобные души и не отвращают их от преступления. Ведь иначе не существовало бы ни матереубийц, ни дерзкого и нечестивого нанесения побоев другим своим старшим родичам.
b
В этих случаях наказание, еще при жизни постигающее подобных людей за такие поступки, ничем, насколько это возможно, не должно уступать наказанию в Аиде.
Теперь надо сказать так: если кто, не будучи охвачен безумием, осмелится бить своего отца или мать или их родителей, то прежде всего любой встречный должен прийти тем на помощь, как и в указанных раньше случаях. Метек или чужеземец, оказавший такую помощь, получает право занимать почетные места во время состязаний. Лица же, не оказавшие помощи, навсегда изгоняются из страны.
c
Неметек, оказавший помощь, получает похвалу; не оказавший ее подвергается порицанию. Раб, оказавший помощь, становится свободным; не оказавшего такой помощи раба агораномы наказывают сотней ударов плетью, если преступление произошло на рыночной площади; если же оно совершилось вне площади, где‑нибудь в городе, то дело астиномов наказать того, кто здесь живет. В случае если это происходит где‑то в деревне, наказание осуществляют начальники агрономов.
d
Каждый встречный местный житель – мужчина ли, мальчик или женщина – обязан давать отпор такому человеку, считая его нечестивым. Не давший отпора навлекает на себя по закону проклятие Зевса, покровителя родственных связей и отцовских прав[2133]
. Кто будет уличен в жестоком обращении с родителями, тот прежде всего навсегда изгоняется из города в другие места страны и не допускается ни к каким святилищам. Когда он туда явится, агрономы наказывают его побоями и любым другим способом по своему усмотрению. Если же он вернется назад, наказанием ему будет смертная казнь. Кто из числа свободнорожденных людей станет пить или есть вместе с таким человеком
e
или иным каким‑нибудь образом вступит с ним в общение, или даже, встретив его наедине, добровольно к нему прикоснется, тот не должен входить в святилище, посещать рыночную площадь и вообще город, пока не очистится, так как он должен считать, что соприкоснулся с пагубной судьбой. Если он не послушается закона и вопреки ему осквернит святилище и город, должностное лицо, заметившее это и не привлекшее его к суду, берет на себя ответственность за нарушение своих обязанностей и, конечно, достойно наказания.
882
Если раб побьет свободнорожденного человека, все равно гражданина или чужеземца, первый встречный должен прийти тому на помощь, иначе он заплатит указанную нами раньше пеню согласно своему имущественному цензу. Случившиеся там люди вместе с потерпевшим должны связать его и передать этому потерпевшему.
b
Тот же, получив своего обидчика, может, заковав его в колодки, бичевать его, сколько ему угодно, лишь бы только не причинить этим ущерба господину раба; затем он передает его господину, и пусть тот владеет им по закону. А закон таков: если кто, будучи рабом, побьет свободнорожденною человека без приказания на то должностных лиц, то хозяин, получив своего раба от пострадавшего, держит его в оковах и освобождает не раньше,
c
чем раб убедит пострадавшего в том, что он достоин жить на свободе. Все эти законы равным образом касаются взаимоотношений женщин, отношений женщин с мужчинами и отношений мужчин с женщинами.
Перевод А. Н. Егунова.
В кн.: Платон. Законы. М.: «Мысль», 1999
КHИГА X
884
Афинянин.
После рассмотрения вопроса об оскорблениях действием дадим примерно такое узаконение, одинаковое для насилия любого рода: никто не должен ни похищать ничего из чужого имущества, ни пользоваться чем бы то ни было из того, что принадлежит соседям, без разрешения на то со стороны владельца. В самом деле, в зависимости от этого возникли, происходят и будут происходить все вышеуказанные бедствия. Из прочих зол величайшим является распущенность и дерзость молодежи, в особенности велико зло, если это проявляется по отношению к государственным святыням или святыням, общим для членов филы и других подобных объединений.
885
Вторыми по степени важности являются оскорбления, наносимые частным святыням и могилам. На третьем месте стоит дерзость в отношении к родителям; когда такая дерзость проявляется[2134]
, ее следует отличать от вышеупомянутых оскорблений действием. Четвертый род дерзости – когда человек, небрежно относясь к должностным лицам, похищает их вещи или пользуется чем‑то им принадлежащим без их на то разрешения. На пятом месте можно поставить нарушение гражданских прав любого гражданина, это влечет за собой вызов в суд. Для каждого из этих случаев должен быть издан во имя общего блага закон.
b
Мы уже разобрали вкратце вопрос о наказании за святотатство, если оно проявляется в насильственном и тайном похищении священных предметов. Но законам о каре, которую должен понести человек, словом или делом оскорбляющий богов, надо предпослать наставление. А наставление это будет таким: никто из тех, кто, согласно с законами, верит в существование богов, никогда намеренно не совершит нечестивого дела и не выскажет беззаконного слова. Человек может это сделать в одном из трех случаев: либо, повторяю, если он не верит в существование богов, либо (второй случай) хотя и верит в их бытие, но отрицает их вмешательство в людские дела[2135]
, либо, наконец (третий случай), если человек полагает, будто богов легко склонить в свою пользу и умилостивить жертвами и молитвами.
c
Клиний.
Как же нам поступить с такими людьми и что о них сказать?
Афинянин.
Прежде выслушаем, дорогой мой, их самих. Я угадываю, чту они станут шутливо говорить в сознании своего превосходства над нами.
Клиний.
Что же именно?
Афинянин.
Поддразнивая нас, они, возможно, скажут следующее: «Афинский чужеземец, ты, лакедемонянин, и ты, кносец, вы говорите правду. В самом деле, некоторые из нас совершенно не признают богов, а другие признают их такими, как вы говорите.
d
Мы считаем справедливым, чтобы вы, прежде чем грозить нам суровыми карами, попробовали сперва – как вы это сочли нужным сделать с законами – убедить и наставить нас в том, что боги существуют и что они слишком благи, чтобы их можно было вопреки справедливости преклонить и прельстить какими‑нибудь дарами. Ведь ныне мы слышим именно такое мнение или подобное ему от лучших и самых признанных поэтов, ораторов, прорицателей, жрецов и бесчисленного множества других людей. Поэтому большинство из нас заботится не о том, чтобы не совершать несправедливости, но лишь старается изо всех сил загладить уже совершенные.
e
Мы считаем справедливым, чтобы законодатели, объявившие себя кроткими, а не свирепыми, применили сначала по отношению к нам убеждение. Если вы будете говорить о существовании богов даже немногим лучше, чем говорят остальные, все же это будет лучше в отношении к истине. И может статься, мы легко дадим себя убедить. Однако попытайтесь, если мы не говорим чего‑то несообразного, ответить на наш призыв».
Клиний.
Но, чужеземец, не кажется ли тебе, что довольно легко доказать правоту тех, кто утверждает, что боги существуют?
886
Афинянин.
Каким образом?
Клиний.
Да прежде всего доказывают это Земля, Солнце, звезды, вся вообще Вселенная, весь этот прекрасный распорядок времен, подразделение на годы и месяцы. Затем – все греки и варвары признают существование богов[2136]
.
Афинянин.
Боюсь я, мой милый, негодных людей (не скажу никогда, будто я их стыжусь), как бы они не отнеслись к нам с презрением. Ведь вы не знаете, чем они отличаются, вы полагаете, что души их преданы нечестивой жизни только из‑за своей необузданности в удовольствиях и страстях.
b
Клиний.
Что же еще, чужеземец, может служить причиной?
Афинянин.
А то, чего вы, живущие в других условиях[2137]
, пожалуй, не знаете: это остается от вас скрытым.
Клиний.
О чем это ты сейчас говоришь?
Афинянин.
О некоем весьма тяжком невежестве, кажущемся величайшей разумностью.
Клиний.
Как понять твои слова?
Афинянин.
У нас, афинян, есть сказания о богах, закрепленные письменно – частью в стихах, частью в простом изложении. У вас их нет благодаря, насколько я могу судить, хорошему государственному строю.
c
Древнейшие из сказаний повествуют о происхождении первой природы неба и всех остальных вещей. Вслед за тем сказания переходят к происхождению богов и повествуют о взаимоотношении богов после их возникновения[2138]
. Впрочем, если в известном смысле эти сказания плохо влияют на слушателей, в этом трудно их укорять ввиду их глубокой древности. Я по крайней мере никогда не похвалил бы их, говоря, что они полезны и способствуют попечению о родителях и их почитанию или что в них рассказывается полностью правдивая быль[2139]
. Однако довольно о древних сказаниях.
d
Распростимся с ними, и пусть они повествуются лишь постольку, поскольку они любезны богам. Но зато пусть подвергнутся нашему порицанию сочинения нового поколения мудрецов, поскольку они являются причиной зол. Вот что влекут за собой сочинения подобных людей: мы с тобой, приводя доказательства существования богов, говорим об одном и том же – о Солнце, Луне, звездах, Земле – как о богах, о чем‑то божественном. Люди же, переубежденные этими мудрецами, станут возражать: все это – только земля или камни и, следовательно, лишено способности заботиться о делах человеческих[2140]
. Приукрасив словами это мнение, они делают его весьма убедительным.
e
Клиний.
Ты натолкнулся, чужеземец, на трудный довод, даже если бы он был только один. Но таких доводов множество, поэтому дело становится теперь еще труднее.
Афинянин.
Что делать! Однако как же нам ответить и как поступить? Станем ли мы защищаться, точно нас кто‑то обвиняет перед нечестивыми людьми, снующими вокруг законодательства и утверждающими, будто мы совершаем нечто необычайное, устанавливая законы в убеждении, что боги существуют?
887
Или мы распростимся с этими людьми и обратимся снова к законам, чтобы наше вступление не получилось длиннее самих законов? Ведь изложение нашего учения вовсе не будет кратким, если мы людям, стремящимся к нечестию, станем, с одной стороны, спокойно доказывать то, о чем, по их мнению, следует в этом случае говорить, а с другой стороны, станем наводить на них страх и возбуждать в них отвращение ко всему тому, что его заслуживает, и лишь после всего этого станем законодательствовать!
b
Клиний.
Но, чужеземец, мы часто в течение короткого времени высказывали ту мысль, что в настоящей беседе вовсе не надо предпочитать краткость речи ее пространности. Ведь, как говорится, никто за нами не гонится. Было бы смешно, да и плохо, если бы оказалось, что мы выбрали вместо наилучшего то, что покороче. А ведь очень важно, чтобы наше утверждение того, что боги существуют, что они благи и несравненно больше, чем люди, почитают правосудие, приобрело во всяком случае некую убедительность.
c
Это было бы у нас чуть ли не самым лучшим и прекрасным вступлением в защиту всех вообще законов. Итак, совсем не проявляя нетерпения и торопливости и ничего не упуская по мере сил, разберем как следует этот важный вопрос, применив всю силу убеждения, какой мы располагаем.
Афинянин.
Произнесенное сейчас тобой слово побуждает, кажется мне, к молитве – столько живого участия ты проявил! Нечего медлить долее! Да и в самом деле: кто без волнения сможет утверждать бытие богов? Не выносить и ненавидеть людей, которые были и поныне являются причиной этих наших речей, неизбежно.
d
Люди эти не верят сказаниям, слышанным ими с детства, когда они питались еще молоком кормилиц и матерей, рассказывавших им эти предания и для забавы, и всерьез, как если бы они пели им зачаровывающие песни. Они слышали эти предания в молитвах при жертвоприношениях. Они видели соответствующие зрелища, весьма приятные как для глаз, так и для слуха молодых людей. Они видели, как их родители с величайшим тщанием относились к принесению жертв, обращаясь за самих себя и за своих детей с молитвами и просьбами к божествам и этим показывая свое глубокое убеждение в бытии богов.
e
Они знают понаслышке, да и видят сами, что эллины и все варвары как при различных несчастьях, так и при полном благополучии преклоняют колени и повергаются ниц при восходе и закате Солнца и Луны, показывая этим не только полную свою уверенность в бытии богов, но и то, что у них на этот счет даже не возникает сомнения. Однако ко всему этому люди эти относятся с презрением без какого‑либо основания, что признаёт всякий, у кого есть хоть немного разума, и вынуждают нас сейчас говорить то, что мы говорим.
888
Сможет ли тут кто‑нибудь быть кротким в увещеваниях, если приходится, уча о богах, начинать с доказательства их бытия! Однако отважимся на это! Ибо не подобает, чтобы одни из нас неистовствовали из‑за ненасытной страсти к удовольствиям, а другие – в негодовании на подобного рода людей. Итак, хладнокровно обратимся с наставлением к людям со столь испорченным образом мыслей. Станем говорить кротко, подавив свой гнев, словно мы действительно беседуем с одним из них. «Дитя, ты еще молод. С течением времени тебе придется изменить многие из твоих теперешних взглядов на противоположные.
b
Поэтому отложи до того времени свое суждение о столь важных предметах. Самое же главное, о чем ты сейчас вовсе не думаешь, – это чтобы человек имел правильное представление о богах, от этого зависит, счастлив или несчастлив он в жизни. Не будет ложью, если я тебе сделаю сперва по этому поводу одно важное замечание: не ты один и не только твои друзья впервые возымели подобное мнение о богах; всегда встречается большее или меньшее число людей, одержимых этой болезнью. Я был знаком со многими из них, и вот что я сказал бы тебе:
c
никто из тех, кто в юности держался мнения, будто боги не существуют, никогда не сохранил до старости подобного образа мыслей. Две же остальные напасти остаются – правда, не у большинства людей, а лишь у некоторых: это, во‑первых, мнение, будто боги, хотя и существуют, не пекутся о человеческих делах; во‑вторых, будто боги хотя и пекутся о людях, однако их легко можно склонить в свою пользу жертвоприношениями и молитвами. Если ты мне поверишь, тебе станет ясным, насколько возможно, этот взгляд на богов; ты отложишь подробное рассмотрение вопроса, обстоит ли дело так или иначе,
d
и станешь выспрашивать у других людей, особенно же у законодателя. А тем временем не отваживайся ни на какое нечестие в отношении богов. Тому же, кто издает для тебя законы, надо сейчас попытаться еще раз наставить тебя относительно истинного положения вещей».
Клиний.
Все сказанное тобой до сих пор, чужеземец, превосходно.
Афинянин.
Совершенно верно, Мегилл и Клиний, но незаметно для самих себя мы натолкнулись на странное учение.
Клиний.
О каком учении ты говоришь?
e
Афинянин.
О том, которое большинство людей считает самым мудрым из всех.
Клиний.
Выразись яснее.
Афинянин.
Некоторые учат, что все вещи, возникающие, возникшие и те, что должны возникнуть, обязаны своим возникновением частью природе, частью искусству, а частью случаю[2141]
.
Клиний.
Что ж, разве это неправильно?
889
Афинянин.
Конечно, естественно, чтобы учение мудрых людей[2142]
было правильным. Последуем же за ними и посмотрим, к какому образу мыслей приходят такие люди.
Клиний.
Отлично.
Афинянин.
Они говорят, что, по‑видимому, величайшие и прекраснейшие из вещей произведены природой и случаем, а менее важные – искусством. Искусство получает из рук природы великие и первичные ее творения уже в готовом виде, оно обрабатывает и ваяет лишь то, что менее важно, – это все мы и называем его произведениями[2143]
.
Клиний.
Что ты разумеешь?
b
Афинянин.
Выражусь еще яснее: огонь, вода, земля и воздух – все это, как утверждают, существует благодаря природе и случаю; искусство здесь ни при чем. В свою очередь из этих [первоначал], совершенно неодушевленных, возникают тела – Земля, Солнце, Луна и звезды. Каждое из этих [первоначал] носилось по воле присущей ему случайной силы, и там, где они сталкивались, они прилаживались друг к другу благодаря некоему сродству: теплое к холодному, сухое к влажному, мягкое к твердому[2144]
.
c
Словом, все необходимо и согласно судьбе смешалось путем слияния противоположных [первоначал]: так‑то вот, утверждают они, и произошло все небо в целом и все то. что на нем, а также все животные и растения. Отсюда будто бы пошла и смена времен года, а вовсе не благодаря уму или какому‑нибудь божеству либо искусству: они учат, повторяю, будто все это произошло благодаря природе и случаю[2145]
. Искусство же возникло из всего этого позднее; оно смертно само и возникло из смертного позднее,
d
в качестве некой забавы, не слишком причастной истине, неких сродных всему этому смертному призраков, какие порождают обычно живопись, мусическое искусство и другие искусства, сотрудничающие с ними. Стало быть, из искусств только те порождают что‑либо серьезное, которые применяют свою силу сообща с природой, таковы, например, врачевание, земледелие и гимнастика. Ну а в государственном управлении, утверждают эти люди, разве лишь незначительная какая‑то часть причастна природе, большая же часть – искусству. Стало быть, и всякое законодательство обусловлено будто бы не природой, но искусством, вот почему его положения и далеки от истины[2146]
.
e
Клиний.
Как ты говоришь?
Афинянин.
О богах, мой милый, подобного рода люди утверждают прежде всего следующее: боги существуют не по природе, а в силу искусства и некоторых законов, причем в различных местах они различны сообразно с тем, какими каждый народ условился их считать при возникновении своего законодательства[2147]
. Точно так же и прекрасно по природе – одно, а по закону – другое; справедливого же вовсе нет по природе[2148]
. Законодатели пребывают относительно него в разногласии и постоянно вносят здесь все новые и новые изменения. Эти изменчивые постановления законодателей, каждое в свой черед, являются господствующими для своего времени,
890
причем возникают они благодаря искусству и определенным законам, а не по природе[2149]
. Вот все это‑то, друзья мои, и говорят мудрые люди, поэты ли они или простые повествователи, молодым людям, утверждая, что высшая справедливость – это когда кто‑то силой одержит верх. Отсюда у молодых людей возникают нечестивые взгляды, будто нет таких богов, признавать которых предписывает закон[2150]
. Из‑за этого же происходят и смуты, так как каждый увлекает других к сообразному с природой образу жизни, а такая жизнь будто бы поистине заключается в том, чтобы жить, одерживая верх над другими людьми, а не находиться в подчинении у других, согласно законам.
b
Клиний.
Какое учение изложил ты, чужеземец! Сколько здесь пагубного для молодых людей как в общегосударственной жизни, так и в частной, семейной!
Афинянин.
Ты говоришь правду, Клиний. Что же, по твоему мнению, должен сделать законодатель? Ведь такое положение вещей сложилось уже давно. Должен ли он стать посреди города и только и делать, что грозить всем людям подряд: мол, если даже они не признают существования богов и не будут считать богов именно такими, какими их признает закон
c
(то же самое и относительно прекрасного, справедливого и вообще всего самого важного, того, что направляет к добродетели или к пороку), все равно надо следовать письменным указаниям законодателя как в мыслях, так и в действиях. А кто выкажет себя непослушным законам, тех, мол, он присудит: одного – к смертной казни, другого – к побоям и тюрьме, третьего – к лишению гражданских прав, прочих же накажет лишением имущества в пользу казны и изгнанием? Или же надо одновременно с установлением для людей законов по возможности смягчить свою речь с помощью убеждения?
d
Клиний.
Разумеется, чужеземец, если представляется случай, хотя бы и незначительный, убедить людей в подобных вещах, то любой хоть чего‑то стоящий законодатель вовсе не должен считать себе это в тягость, но, наоборот, как говорится, должен возвысить голос, чтобы словом своим послужить древнему закону и доказать существование богов, а также всего того, что ты только что разобрал. Он должен прийти на помощь самому закону и искусству и показать, что оба они – творения природы или не ниже природы хотя бы потому, что являются порождениями ума, согласно тому, как мне кажется, здравому положению, которое ты сейчас присел и с которым я согласен.
е
Афинянин.
О, неутомимый Клиний! Как? Легко ли следовать за положениями, предназначенными для толпы, да к тему же еще бесконечно длинными!
Клиний.
Что поделать, чужеземец! Если мы терпеливо выдержали наши собственные пространные рассуждения об опьянении и о мусичесчом искусстве, неужели же мы не выдержим их, когда речь пойдет о богах и других подобных предметах? Несомненно, это окажется величайшей помощью для законодательства, сопряженного с разумом.
891
Дело в том, что записанные относительно законов наставления будут стоять непоколебимо и в любое время послужат доказательством. Поэтому не надо бояться, если усвоить их вначале будет затруднительно: кто непонятлив, тот сможет часто возвращаться к их рассмотрению. И не надо бояться их пространности – лишь бы они были полезны. Поэтому ни у кого нет основания не оказать по мере сил поддержки этим положениям. К тому же мне это представлялось бы просто нечестивым.
Мегилл.
Чужеземец, мне кажется, Клиний говорит отлично.
b
Афинянин.
Да, очень хорошо, Мегилл; и надо поступить именно так, как он говорит. Ведь если бы подобные учения не были распространены, так сказать, среди всех людей, то не было бы и нужды защищать учение о бытии богов. Но теперь это необходимо. И кому же более всего, как не законодателю, подобает прийти на помощь высочайшим законам, извращаемым дурными людьми?
Мегилл.
Некому.
Афинянин.
Но повтори мне еще раз, Клиний, ведь ты должен быть участником этих рассуждений,
c
приверженцы упомянутых учений, как кажется, смотрят на огонь, воду, землю и воздух как на первоначала всех вещей, и именно это‑то они и называют природой. Душу же они выводят позднее из этих первоначал. Впрочем, вероятно, это не только так кажется, но и на самом деле подобный взгляд утверждается этим учением.
Клиний.
Да, безусловно.
Афинянин.
Так вот мы и нашли, клянусь Зевсом, как бы источник бессмысленного мнения людей, когда‑либо бравшихся за исследования о природе. Рассмотри и внимательно разбери все это учение!
d
Было бы очень важно, если бы оказалось, что зачинатели этих нечестивых учений совсем не безукоризненно, но, наоборот, ошибочно ведут рассуждение. А мне кажется, что это обстоит именно так.
Клиний.
Хорошо сказано, но попытайся разъяснить, в чем их ошибка.
Афинянин.
По‑видимому, нам придется начать с менее обычных рассуждений.
Клиний.
Но это не причина для колебаний, чужеземец. Я понимаю, что ты думаешь, будто, коснувшись этого, мы выйдем за пределы законодательства.
e
Но так как нет другого способа заставить людей согласиться с представлением о богах, даваемым ныне законом, то надо, друг мой, испробовать и этот путь.
Афинянин.
В таком случае я скажу, вероятно, необычное слово, а именно: учения, под влиянием которых развивается душа нечестивого человека, объявляют то, что служит причиной возникновения и гибели всех вещей, не первичным, а возникшим позднее; то же, что на самом деле возникло позднее, они объявляют первичным. Отсюда и проистекают их заблуждения относительно истинной сущности богов.
892
Клиний.
Я пока не понимаю.
Афинянин.
Что такое душа, мой друг, это, кажется, неведомо почти никому – какова она, какое значение она имеет, каковы прочие ее свойства, в особенности же каково ее возникновение, ведь она – нечто первичное, возникшее прежде всех тел, и потому она более чего бы то ни было властна над всякого рода изменениями и переустройствами тел. Раз дело обстоит так, не правда ли, необходимо, чтобы то, что сродно душе, возникло прежде того, что принадлежит телу, так как душа старше тела[2151]
?
b
Клиний.
Конечно, это необходимо.
Афинянин.
Следовательно, мнение, забота, ум, искусство и закон существовали раньше жесткого, мягкого, тяжелого и легкого. Рано возникли и великие первые творения, и свершения искусства, так как они существуют среди первоначал; а то, что существует по природе, и сама природа – впрочем, это название неправильно применяют – возникло позднее из искусства и разума и им подвластно.
c
Клиний.
А в чем состоит неправильность?
Афинянин.
Людям этим угодно называть природой возникновение первоначал. Но если обнаружится, что первоначало и есть душа, а не огонь и не воздух, ибо душа первична, то, пожалуй, всего правильнее будет сказать, что именно душа по преимуществу существует от природы. Вот как обстоит дело – если только кто докажет, что душа старше тела, – и никак не иначе.
Клиний.
Ты совершенно прав.
Афинянин.
Итак, не приступить ли нам далее к самому доказательству?
d
Клиний.
Конечно.
Афинянин.
Нам надо всячески остеречься, как бы это лукавое учение, подобающее лишь молодым людям, не переубедило нас, стариков, и не поставило бы нас в смешное положение, ускользнув из наших рук; как бы не показалось, что мы промахнулись даже в малом, хотя метили в большое. Видите ли, если бы нам всем втроем надо было преодолеть стремительное течение реки, то я как самый младший и опытный в переправах через потоки сказал бы, что сперва следует попробовать переправиться мне одному, самому по себе, оставив вас в безопасном месте на берегу,
e
и посмотреть, возможна ли здесь переправа также и для вас, людей более пожилых, или как вообще обстоит дело. Если переправа оказалась бы возможной, я позвал бы вас и помог бы вам своей опытностью при переправе; если же для вас она невозможна, опасности подвергся бы я один. Такая предосторожность показалась бы уместной. Так и теперь: предстоящее рассуждение еще более стремительно, и переправа через него, пожалуй, почти невозможна при ваших силах. Как бы у вас, людей непривычных к ответам,
893
не закружилась голова и не потемнело в глазах при виде такого стремительного потока вопросов. Чтобы не случилось такой некрасивой, неподобающей неприятности, мне кажется, я и теперь должен поступить именно так: вы будете в безопасности слушать, а я сначала буду сам себе задавать вопросы, а затем опять‑таки сам на них отвечать. Таким образом проведем мы все это исследование, пока не наступит ясность относительно души и не будет доказано, что душа первичнее тела.
Клиний.
Твое предложение, чужеземец, прекрасно, выполни же его.
b
Афинянин.
Отлично. Но если когда нам и было необходимо призвать на помощь бога, то это в особенности сейчас. Итак, с всевозможным рвением призовем тех, бытие которых мы должны доказать! Словно обвязавшись этим надежным канатом, пустимся в открытое море нашего рассуждения! Если меня станут изобличать следующими вопросами, то всего надежнее, кажется мне, отвечать следующим образом. Когда кто‑нибудь спросит:
– Чужеземец, разве все стоит на месте и ничего не движется? Или как раз наоборот? Или часть вещей движется, а часть пребывает в покое?
Я отвечу:
c
– Да, часть вещей движется, а часть пребывает в покое.
– Конечно, стоящие предметы стоят, а движущиеся движутся в каком‑нибудь пространстве?
– Разумеется.
– При этом часть вещей движется в каком‑нибудь одном месте, а другая часть – во многих местах?
– Говоря о движении на одном месте, – ответим мы, – ты разумеешь те вещи, у которых покоится центр, например, когда вращается окружность колеса, о самом колесе говорят, что оно стоит.
– Да.
– Мы понимаем, что при таком вращении одно и то же движение, вращая одновременно и самую большую, и самую малую окружность, распределяется соответственно величине этих кругов,
d
так что оно то уменьшается, то увеличивается соразмерно им. Поэтому‑то такое движение и служит источником всевозможных удивительных [явлений]: оно одновременно сообщает большим и малым кругам согласованные между собой медленность и скорость вращения, между тем как иной счел бы это невозможным.
– Ты совершенно прав.
– Под предметами же, движущимися во многих местах, ты, мне кажется, разумеешь такие, которые путем перемещения постоянно меняют свое место на новое и то обретают одно основание,
e
или средоточие, то благодаря тому, что перекатываются, – многие. Между всеми этими вещами происходят столкновения, при этом несущиеся предметы раскалываются о стоящие; если же встречаются между собой предметы, несущиеся с двух противоположных сторон навстречу друг другу, они сливаются воедино, образуя нечто среднее между прежними двумя.
– Я согласен, что это бывает так, как ты говоришь.
– При такого рода объединении предметы увеличиваются, а при раскалывании погибают, это бывает, когда устанавливается определенное состояние вещей;
894
если же оно не устанавливается, вещи погибают в силу обеих этих причин. А при каком состоянии происходит возникновение всех вещей? Ясно, что это бывает тогда, когда первоначало, приняв приращение, переходит ко второй ступени, а от нее – к ближайшей следующей; дойдя до этой третьей, оно становится ощутимым для тех, кто способен ощущать. Так вот, путем таких переходов и перемещений и возникает все; это уже есть подлинное бытие, поскольку оно устойчиво; при переходе же в другое состояние оно полностью погибает.
b
Не правда ли, друзья мои, мы назвали все виды движения, допускающие перечисление, за исключением двух?
Клиний.
Каких же?
Афинянин.
Чуть ли не тех, мой друг, ради которых мы и предприняли все это исследование.
Клиний.
Скажи яснее.
Афинянин.
Не ради ли души предприняли мы его?
Клиний.
Разумеется.
Афинянин.
Так вот, одним из этих видов движений пусть будет такое, которое может приводить в движение другие предметы, а само себя – никогда. Другим же, опять‑таки отдельным среди всех видом движения, будет такое, которое всегда может приводить в движение и себя, и другие предметы – при слиянии и расщеплении, приращении и уменьшении, возникновении и уничтожении.
c
Клиний.
Пусть будет так.
Афинянин.
То движение, что постоянно движет другие предметы и само изменяется под влиянием их, не назовем ли мы девятым видом движения? А движение, которое движет и само себя, и другие предметы и согласуется с любыми действиями и состояниями, подлинно именуют изменением и движением всего существующего; это движение мы обозначим, пожалуй, как десятый вид.
Клиний.
Безусловно.
d
Афинянин.
Из этих десяти видов движения какое всего правильнее было бы счесть самым могущественным и особенно действенным?
Клиний.
Необходимо признать, что движение, способное двигать само себя, неизмеримо выше других; все остальные виды движения стоят на втором месте.
Афинянин.
Хорошо. Следовательно, нам придется сделать одно или два изменения в том, что сейчас было не вполне правильно сказано.
Клиний.
О каких изменениях ты говоришь?
Афинянин.
Пожалуй, мы не вполне правильно назвали этот вид десятым.
Клиний.
В каком смысле неправильно?
Афинянин.
Согласно нашему рассуждению, этот вид движения является первым как по своему происхождению, так и по мощи;
e
а тот вид, который только что нескладно был назван девятым, будет после него вторым[2152]
.
Клиний.
Что ты имеешь в виду?
Афинянин.
Вот что: если один предмет у нас производит изменение в другом, а тот, другой, в свою очередь всегда производит изменение в третьем, то найдется ли среди подобных предметов такой, который впервые произвел это изменение? И может ли предмет, движимый иным предметом, стать первым из предметов, вызывающих изменения? Ведь это невозможно. Зато когда предмет движет сам себя и изменяет другой предмет, а этот другой – третий и так далее,
895
то есть когда движение сообщается бесчисленному количеству предметов, то найдется ли какое‑нибудь иное начало движения всех этих предметов, кроме изменения этого движущего самого себя предмета?
Клиний.
Ты совершенно прав. С этим надо согласиться.
Афинянин.
Зададим себе еще такой вопрос и сами же на него ответим: если бы все вещи тотчас же после своего возникновения остались неподвижными, как это осмеливается утверждать большинство людей, какое движение из перечисленных выше должно было бы необходимо возникнуть среди них первым?
b
Разумеется, то, что движет само себя[2153]
. В самом деле: до того времени оно не могло подвергнуться изменению под влиянием другого [предмета], потому что в вещах тогда вовсе не было перемен. Следовательно, первоначало всех видов движений, первым зародившееся среди стоящих вещей и движимых, есть, по нашему признанию, самодвижущееся, наиболее древнее и сильное из всех изменений; а ту вещь, что изменяется под влиянием другой и затем приводит в движение другие вещи, мы признаем вторичной.
Клиний.
Сущая правда.
с
Афинянин.
Раз мы в нашем рассуждении дошли до этого места, ответим вот на что…
Клиний.
Да?
Афинянин.
Если бы мы увидели зарождение этого первоначала в земляной, водной или огнеобразной среде[2154]
– все равно, в чистом ли виде будет эта среда или в смешанном, – как бы мы назвали подобное состояние?
Клиний.
Ты меня спрашиваешь, назовем ли мы это жизнью, раз оно само себя движет?
Афинянин.
Да.
Клиний.
Конечно, жизнью – чем же иным?
Афинянин.
Что же, когда мы в чем‑либо замечаем душу, не должно ли согласиться, что это – то же самое, то есть жизнь?
Клиний.
Конечно.
d
Афинянин.
Запомни же это, ради самого Зевса! Не допустишь ли ты также, что о каждой вещи мы можем мыслить трояко?
Клиний.
Что ты имеешь в виду?
Афинянин.
Во‑первых, сущность вещи, во‑вторых, определение этой сущности, в‑третьих, ее название. И относительно всего бытия могут быть заданы два вопроса.
Клиний.
Какие?
Афинянин.
Можно предложить название какой‑либо вещи, а спросить относительно ее определения или же, наоборот, предложить ее определение, а спросить относительно имени. Не правда ли, о чем‑то подобном хотим мы и теперь сказать?
Клиний.
О чем же именно?
e
Афинянин.
О двучленности всех вещей, а также и числа. Применительно к числу это получает название «четное». Определение же этого названия: «число, делящееся на две равные части».
Клиний.
Да.
Афинянин.
Вот на это‑то я и хочу указать. Не правда ли, мы обозначаем одно и то же как в том случае, когда у нас спрашивают определение, а мы даем название, так и тогда, когда у нас спрашивают название, а мы даем определение? Ведь мы обозначаем одну и ту же вещь с помощью названия «четный» и посредством определения «число, делящееся на две части».
Клиний.
Без сомнения.
896
Афинянин.
Каково же определение того, чему имя «душа»? Разве существует другое какое‑либо определение, кроме только что данного: «душа – это движение, способное двигать само себя»[2155]
?
Клиний.
Как, ты утверждаешь, что «способное двигать само себя» есть определение той самой сущности, которую все мы называем душой?
Афинянин.
Да, утверждаю. А если это так, станем ли мы считать, будто требуется еще что‑нибудь для полного доказательства того, что душа есть то же самое, что первое возникновение и движение вещей существующих, бывших и будущих, а равным образом и всего того, что этому противоположно,
b
– коль скоро выяснилось, что она – причина изменения и всяческого движения всех вещей?
Клиний.
Нет. Вполне доказано, что душа старше всех вещей, коль скоро она возникла как начало движения.
Афинянин.
Не правда ли, движение какого‑либо предмета, вызванное другим предметом и никогда и ни в чем не проявляющееся как движение само по себе, вторично? И какими бы незначительными числами ни измеряли мы продолжительность этого движения, все же оно останется изменением на самом деле неодушевленного тела.
Клиний.
Верно.
Афинянин.
Значит, мы выразились бы правильно, вполне основательно, всего более согласно с истиной и наиболее совершенно,
c
если бы сказали, что душа возникла у нас раньше тела, тело же – позже и потому оно вторично, так что властвует душа, а тело по своей природе должно находиться у нее в подчинении.
Клиний.
Да, это вполне соответствует истине.
Афинянин.
Вспомним же то, о чем мы согласились раньше: если окажется, что душа старше тела, то и все относящееся к душе будет старше всего относящегося к телу.
Клиний.
Конечно.
Афинянин.
Стало быть, нравственные свойства, желания, умозаключения, истинные мнения, заботы и память
d
возникли раньше, чем длина тел, их ширина, толщина и сила, – коль скоро душа возникла раньше тела.
Клиний.
Это необходимо так.
Афинянин.
Но после этого не нужно ли будет согласиться, что душа – причина блага и зла, прекрасного и постыдного, справедливого и несправедливого и всех других противоположностей, если только мы решим считать ее причиной всего?
Клиний.
Как же иначе?
Афинянин.
Не следует ли признать, что душа, правящая всем и во всем обитающая, что многообразно движется, управляет также и небом?
e
Клиний.
Конечно.
Афинянин.
Но одна ли [душа] или многие? Я отвечу за вас: многие. Ибо мы никак не можем предположить менее двух – одной благодетельной и другой, способной совершать противоположное тому, что совершает первая.
Клиний.
Ты очень верно сказал.
Афинянин.
Прекрасно. Итак, душа правит всем, что есть на небе, на земле и на море, с помощью своих собственных движений, названия которым следующие:
897
желание, усмотрение, забота, совет, правильное и ложное мнение, радость и страдание, отвага и страх, любовь и ненависть. Правит она и с помощью всех родственных этим и первоначальных движений, которые в свою очередь вызывают вторичные движения тел и ведут все к росту либо к уничтожению, к слиянию либо к расщеплению и к сопровождающему все это теплу и холоду, тяжести и легкости, жесткости и мягкости, белизне или черному цвету, к кислоте или сладости.
b
Пользуясь всем этим, душа, восприняв к тому же поистине вечно божественный ум, пестует все и ведет к истине и блаженству. Встретившись же и сойдясь с неразумием, она ведет все в противоположном направлении.
Что же, постановим ли мы, что все это так, или будем пока пребывать в сомнении, не обстоит ли это как‑то иначе?
Клиний.
Никоим образом.
Афинянин.
Итак, какой род души признаем мы господствующим над небом, землей и всем круговращением: разумный ли и исполненный добродетели или же не обладающий ни тем ни другим? Желаете ли вы, чтобы мы так ответили на этот вопрос…
c
Клиний.
Как именно?
Афинянин.
Чудак, скажем мы, ведь если путь перемещения неба, со всем на нем существующим, имеет природу, подобную движению, кругообращению и умозаключениям Ума, если то и другое протекает родственным образом, значит, очевидно, дулжно признать, что о космосе в его целом печется лучший род души и ведет его по наилучшему пути.
Клиний.
Правильно.
d
Афинянин.
Если же [космос] движется неистово и нестройно, то надо признать, что это – дело злой души[2156]
.
Клиний.
И это верно.
Афинянин.
Какую же природу имеет движение Ума? Вот на этот вопрос, друзья мои, уже трудно разумно ответить. Поэтому справедливо будет, если я помогу вам в этом.
Клиний.
Ты прав.
Афинянин.
Подобно тому как те, кто среди бела дня смотрит прямо на Солнце, чувствуют себя так, словно кругом ночь, и мы не скажем, будто можем когда‑либо увидеть Ум смертными очами и достаточно его познать.
e
Безопаснее мы усмотрим это, если станем взирать на образ того, о чем нас спрашивают.
Клиний.
Что ты разумеешь?
Афинянин.
В качестве такого образа возьмем из десяти перечисленных нами видов движений то, к которому всего более приближается Ум. Я напоминаю вам этот вид и затем вместе с вами отвечу.
Клиний.
Так будет всего лучше.
Афинянин.
Мы помним, между прочим, как мы установили раньше, что часть предметов движется, другая же часть пребывает в покое.
Клиний.
Да.
898
Афинянин.
В свою очередь часть движущихся предметов движется на одном месте, другая же часть носится по многим местам.
Клиний.
Так.
Афинянин.
То из двух этих видов движений, которое совершается на одном месте, по необходимости всегда происходит вокруг какого‑то центра, как некое подражание волчку. Оно‑то, насколько это только возможно, во всех отношениях подобно и всего более близко к кругообращению Ума.
Клиний.
Что ты имеешь в виду?
Афинянин.
Надеюсь, мы не покажемся плохими творцами словесных образов, если скажем, что оба, и разум, и совершающееся на одном месте движение,
b
движутся наподобие выточенного волчка тождественным образом, на одном и том же месте, вокруг одного и того же [центра], постоянно сохраняя по отношению к одному и тому же одинаковый порядок и строй?
Клиний.
Ты сказал очень правильно.
Афинянин.
Точно так же разве не было бы сродни всяческому неразумию движение, никогда не совершающееся тождественным образом, в одном и том же месте, вокруг одного и того же, – движение без определенного отношения к одному и тому же [центру], происходящее в беспорядке, без всякой последовательности?
Клиний.
Сущая правда, это было бы сродни неразумию.
c
Афинянин.
Теперь уже очень легко с точностью сказать, что раз душа производит у нас круговращение всего, то по необходимости надо признать, что попечение о круговом вращении неба и упорядочивание его принадлежит благой душе. Или же злой?
Клиний.
Чужеземец, из сказанного сейчас вытекает, что нечестиво даже было бы утверждать иное. Нет, такое круговращение – дело души, обладающей всяческой добродетелью, одна ли есть такая душа или, быть может, их несколько.
Афинянин.
Ты прекрасно понял мою мысль.
d
Клиний.
Обрати же еще внимание на следующее.
Клиний.
А именно?
Афинянин.
Если душа вращает все, то, очевидно, она же вращает и каждое в отдельности – Солнце, Луну и другие звезды.
Клиний.
Как же иначе?
Афинянин.
Рассудим о чем‑то одном из этого; наше рассуждение окажется приложимым и ко всем остальным звездам.
Клиний.
Что же мы возьмем?
Афинянин.
Всякий человек видит тело Солнца, душу же его никто не видит. Равным образом никто вообще не видит души тел одушевленных существ – ни живых, ни мертвых.
e
Существует полная возможность считать, что род этот по своей природе совершенно не может быть воспринят никакими нашими телесными ощущениями и что он лишь умопостигаем. Примем же, с помощью одного только ума и размышления, следующее положение…
Клиний.
Какое?
Афинянин.
Коль скоро душа вращает Солнце, то мы вряд ли ошибемся, если предположим, что она делает одно из трех…
Клиний.
Что ты имеешь в виду?
Афинянин.
Либо она, находясь внутри этого кажущегося круглым тела, вызывает любые его движения, подобно тому как и наша душа всячески нами движет[2157]
.
899
Либо, по учению некоторых, приобретя себе откуда‑то извне огненное или какое‑то воздушное тело, она насильно теснит тело телом, либо, наконец, она сама лишена ела, но обладает зато какими‑то иными удивительными возможностями и таким образом правит Солнцем.
Клиний.
Да, несомненно, душа руководит всем одним из этих трех способов.
Афинянин.
Эту душу, все равно, провозит ли она Солнце в колеснице, давая всем свет, или же воздействует на него извне, либо действует каким‑то другим образом, всякий человек должен почитать выше Солнца и признавать богом. Не правда ли?
b
Клиний.
Да, по крайней мере всякий, кто не дошел до последних пределов неразумия.
Афинянин.
Относительно же всех звезд, Луны, лет, месяцев, времен года какое иное рассуждение можем мы привести, как не подобное этому, а именно: ввиду того что душа или души оказались причиной всего этого и к тому же они обладают всеми нравственными совершенствами, мы признаём их божествами, все равно, пребывают ли они, как живые существа, в телах или еще где‑то и другим способом управляют небом. Найдется ли человек, который, согласившись с этим, стал бы отрицать, что «все полно богов»[2158]
?
с
Клиний.
Не найдется никого, чужеземец, столь превратно мыслящего.
Афинянин.
Закончим же, Мегилл и Клиний, это наше рассуждение, указав границы тому, кто раньше отрицал богов.
Клиний.
Какие именно?
Афинянин.
Ему придется доказать нам, что мы неправильно сочли душу возникшей прежде всего, а также и опровергнуть все то, что мы высказали вслед за этим. Или же, если он не в силах сказать что‑либо лучшее, чем то, что было сказано нами,
d
пусть послушает нас и впредь живет, признавая богов. Итак, посмотрим, достаточно ли мы доказали бытие богов тем, кто их отрицает, или же нам чего‑то недостает?
Клиний.
Более чем достаточно, чужеземец.
Афинянин.
Итак, закончим на этом наше рассуждение. Нам следует перейти к увещанию того, кто признает бытие богов, но отрицает их промысл над людскими делами[2159]
.
«Дорогой мой, – скажем мы ему, – то, что ты признаешь богов, – это, быть может, благодаря некоему сродству между твоей и божественной природой ведет тебя к их почитанию и признанию их бытия. Однако тебя приводит к нечестию частная и общественная участь злых и несправедливых людей.
e
Эта участь поистине далека от счастья; между тем она, хоть и неправильно, считается, по общепринятому мнению, в высшей степени счастливой; ее вопреки должному прославляют в песнопениях и во всевозможных речах. Или, может быть, тебя приводит в смущение зрелище того, как нечестивые люди доживают до глубокой старости и достигают предела своей жизни, оставляя детей своих окруженными величайшими почестями?
900
Может быть, ты видел все это, знал понаслышке или же, наконец, сам случайно был очевидцем многочисленных страшных и нечестивых поступков, с помощью которых многие люди низкого звания достигали величайших почестей и даже тирании? Ясно, что, не желая из‑за своего сродства с богами бросать им упрек, будто они виновники всего этого, ты под влиянием какого‑то
b
недомыслия дошел до нынешнего своего состояния и не находишь в себе сил негодовать на богов; ты признаёшь их существование, но думаешь, что они свысока и с небрежением относятся к делам человеческим. И вот, чтобы в нынешнем твоем воззрении не перевесило нечестие и ты не дошел бы до еще более болезненного состояния, мы, если только можно найти в себе силы загладить с помощью речей – словно очистительной жертвы – растущее нечестие, попытаемся, соединив дальнейшее рассуждение с тем, которое мы проделали от начала до конца, обращаясь к тому, кто совершенно не признает бытия богов,
c
воспользоваться им сейчас».
Ты же, Клиний, и ты, Мегилл, отвечайте, как и раньше, за этого молодого человека. А если внезапно появится какое‑то препятствие в рассуждении, то я замещу вас и переведу через реку.
Клиний.
Ты прав. Поступай именно так, а мы тоже по мере сил будем делать, как ты говоришь.
Афинянин.
Доказать, что боги пекутся о малом не меньше, а даже больше, чем о великом, – это, пожалуй, будет совсем нетрудно.
d
Ведь наш противник присутствовал здесь и выслушал только что сказанное, а именно что боги всеблаги и, значит, им в высшей степени свойственно иметь попечение обо всем.
Клиний.
Конечно, он слышал это.
Афинянин.
Далее, исследуем все вместе, о какой добродетели говорили мы, когда согласились, что боги всеблаги. Не правда ли, мы признаем, что рассудительность и обладание умом относятся к добродетели, а все противоположное – к пороку?
Клиний.
Признаем.
e
Афинянин.
Что же еще? Мужество не принадлежит ли к добродетели, а трусость – к пороку?
Клиний.
Конечно.
Афинянин.
Не назовем ли мы первое прекрасным, а второе – безобразным?
Клиний.
Несомненно.
Афинянин.
И не скажем ли мы, что одному мы причастны – тому, что дурно; о богах же мы скажем, что они непричастны этому ни в малой, ни в большой степени?
Клиний.
Всякий согласится, что это так.
Афинянин.
В чем же дело? Небрежение, праздность и негу поместим ли мы в число добродетелей души? Или как, по‑твоему?
Клиний.
Возможно ли это?
Афинянин.
Значит, ты отнесешь все это к тому, что добродетели противоположно?
Клиний.
Да.
901
Афинянин.
А то, что противоположно этому, – опять‑таки к противоположному?
Клиний.
Да, к противоположному.
Афинянин.
Дальше. Не правда ли, всякий, кто празден, изнежен и нерадив, кто, по выражению поэта, в высшей степени похож на «трутней, лишенных жала»[2160]
, и в самом деле таков?
Клиний.
Это сравнение очень верно.
Афинянин.
Итак, не следует говорить, будто бог обладает нравственными свойствами, которые ему самому ненавистны. Если кто‑либо попытается высказывать что‑то подобное, этого нельзя допускать.
Клиний.
Конечно, нет. Как можно!
b
Афинянин.
На каком основании стали бы мы хвалить, – не впадая притом в грубейшую ошибку, – того, кому более других подобает действовать и заботиться, а его разум печется о великом, малым же небрежет? Рассмотрим это следующим образом: не правда ли, тот, кто это делает, бог ли он или человек, должен так поступать по двум причинам?
Клиний.
По каким же?
Афинянин.
Либо он полагает, что для целого не будет никакой разницы, если малое находится в небрежении, либо, если он считает, что разница есть,
c
он не заботится о малом по нерадивости и изнеженности. Или, может быть, есть какие‑то другие причины небрежения? Ведь если действительно невозможно иметь попечение сразу обо всем, то это уже не будет небрежением со стороны того, кто не печется о малом или великом; я говорю о том случае, когда бог или какое‑либо низшее существо по своим силам оказывается не в состоянии о чем‑то заботиться.
Клиний.
Но это невозможно.
Афинянин.
Ныне пусть отвечают нам троим оба ваших противника: они согласны признать бытие богов,
d
но один утверждает, что богов можно склонить в свою пользу, другой же, – что они небрегут малым. Прежде всего признайте оба, что боги знают, видят и слышат все и от них не может укрыться ничто из того, что доступно ощущению и познанию. Допускаете ли вы, что это так, или не допускаете?
Клиний.
Да, это так.
Афинянин.
Что же дальше? Признаёте ли вы, что боги могут делать все, что только доступно смертным или бессмертным?
Клиний.
Как же не согласиться и с этим?
e
Афинянин.
Итак, мы все пятеро согласились, что боги благи и даже всеблаги.
Клиний.
Безусловно.
Афинянин.
Но если они таковы, каковыми мы их признали, то уже невозможно, не правда ли, считать, что они делают что‑либо нерадиво и неохотно? Ведь праздность в нас есть порождение трусости, а нерадивость – праздности и неги.
Клиний.
Ты совершенно прав.
Афинянин.
Никто из богов не бывает небрежен по нерадивости и праздности, ибо трусость им совсем не присуща.
Клиний.
Вполне правильно.
902
Афинянин.
Значит, если боги небрегут малым и незначительным во Вселенной, остается считать, что они поступают так в сознании, что вообще не дулжно иметь о таких вещах попечение. В противном случае им остается как раз обратное, то есть отсутствие [всякого] понимания?
Клиний.
Да, не иначе.
Афинянин.
Итак, не предположить ли нам, о достойнейший и превосходнейший наш противник, что ты утверждаешь одно из двух: либо что боги находятся в неведении и вследствие этого не заботятся об исполнении своего долга, либо же что они сознают свой долг, но не исполняют его наподобие самых презренных людей, которые, как говорится,
b
знают, что действуют не лучшим образом, однако под влиянием удовольствий или страданий как надо не делают.
Клиний.
Как же иначе?
Афинянин.
Не правда ли, человеческие дела причастны одушевленной природе и равным образом человек есть самое благочестивое из всех живых существ?
Клиний.
Это очевидно.
Афинянин.
Мы признаём, что все смертные существа, равно как и все небо, – это достояние богов.
Клиний.
Конечно.
c
Афинянин.
Пусть же теперь кто угодно утверждает, будто вещи эти слишком малы или слишком велики для богов. И в том и в другом случае нашим всеблагим и заботливым господам не следовало бы нами пренебрегать. Но рассмотрим к тому же еще вот что…
Клиний.
А именно?
Афинянин.
Ощущение и способность действовать. Не правда ли, они от природы противоположны друг другу в смысле легкости и трудности?
Клиний.
Что ты разумеешь?
Афинянин.
Видеть или слышать малое труднее, чем большое. Наоборот, для всякого нести малое и незначительное, управлять им, заботиться о нем легче, чем о большом и весомом.
d
Клиний.
Гораздо легче.
Афинянин.
Если врачу, желающему и умеющему лечить, будет поручен весь организм в целом, а он станет заботиться только о значительном, незначительными же частностями пренебрежет, то в хорошем ли состоянии окажется организм?
Клиний.
Конечно, нет.
Афинянин.
Точно так же ни у кормчих, ни у военачальников, ни у домохозяев, ни у каких бы то ни было государственных деятелей, вообще ни у кого из подобного рода людей не окажется ничего великого или многого,
e
если они пренебрегут малым и незначительным. Ибо, как говорят каменщики, большие камни не ложатся хорошо без малых.
Клиний.
Без сомнения.
Афинянин.
Не будем же считать, будто бог стоит ниже смертных мастеров, которые, чем они лучше, тем более тщательно и совершенно, с помощью одного только искусства, выполняют и малые, и большие свойственные им работы[2161]
. Неужели же бог, существо мудрейшее, желая и имея возможность заботиться о малом, вовсе о нем не печется наподобие человека праздного или труса, падающего духом при виде трудностей, – между тем как именно о малых вещах заботиться легче, – а печется лишь о вещах великих?
903
Клиний.
Мы никоим образом не допустим такого мнения о богах, чужеземец. Ибо подобный образ мыслей был бы во всех отношениях нечестив и не соответствовал бы истине.
Афинянин.
Мне кажется, что любителю упрекать богов в небрежении мы теперь вполне доказали его неправоту.
Клиний.
Да.
Афинянин.
Мы принудили его нашими доказательствами признать, что он не прав.
b
Однако мне кажется, что он нуждается еще кое в каких зачаровывающих сказаниях.
Клиний.
В каких же, мой друг?
Афинянин.
Мы станем убеждать юношу следующими доводами: «Тот, кто заботится обо всем, устроил все, имея в виду спасение и добродетель целого, причем по возможности каждая часть испытывает или совершает то, что ей надлежит. Над каждой из этих частей, вплоть до наименьших, поставлен правитель, ведающий мельчайшими проявлениями всех состояний и действий, все это направлено к определенной конечной цели.
c
Одной из таких частиц являешься и ты, пусть чрезвычайно малой, жалкий человек, и ты влечешься, постоянно имея перед глазами целое. Ты и не замечаешь, что все, что возникло, возникает ради всего в целом, с тем чтобы осуществилось присущее жизни целого блаженное бытие, и бытие это возникает не ради тебя, а, наоборот, ты ради него. Ведь любой врач, любой искусный ремесленник все делает ради целого, направляя все к общему благу, а не создает целое ради части.
d
Ты же досадуешь, не зная, каким образом то, что для тебя, в силу всеобщего становления оказывается наилучшим, согласуется с целым и с тобой самим. Затем, так как душа соединяется то с одним телом, то с другим и испытывает всевозможные перемены как сама по себе, так и под влиянием других душ, то правителю этому, подобно игроку в шашки, не остается ничего другого, как перемещать характер, ставший лучшим, на лучшее место, а ставший худшим – на худшее, размещая их согласно тому, что им подобает, так, чтобы каждому достался соответствующий удел».
e
Клиний.
Что ты имеешь в виду?
Афинянин.
Мне кажется, я говорил так для того, чтобы ясна была легкость, с которой боги обо всем пекутся. Ведь если бы кто стал все преобразовывать и творить, постоянно взирая на целое, например сотворил бы из огня одушевленную[2162]
воду, из одного многое или из многого одно, 904 то путем первого, второго и третьего возникновения получилось бы бесконечное множество перемен и переустройств. В этом и состоит удивительная легкость этого дела для того, кто заботится обо всем.
Клиний.
Что ты разумеешь?
Афинянин.
Вот что: верховный правитель видел, что все наши дела одухотворены и что в них много добродетели, но много и порока; видел он также, что то, что раз возникло, то есть душа и тело, уже не погибает, хотя они и не вечны, как боги, существующие согласно закону
b
(ведь если бы душа или тело погибли, то не было бы возникновения живых существ), и что все, что есть в душе доброго, от природы всегда полезно, а злое всегда вредно. Обратив внимание на все это, он придумал такое место для каждой из частей, чтобы во Вселенной как можно вернее, легче и лучше побеждала бы добродетель, а порок бы был побежден. Для всего этого он придумал, какое место должно занимать все возникающее.
c
Что касается качества возникающего, то он предоставил это воле каждого из нас, ибо каждый из нас большей частью становится таким, а не иным сообразно с предметом своих желаний и качеством своей души.
Клиний.
Это естественно.
Афинянин.
Итак, все, что причастно душе, изменяется, так как заключает в самом себе причину изменения; при этом все перемещается согласно закону и распорядку судьбы. То, что меньше изменяет свой нрав, движется по плоской поверхности; то же, что изменяется больше, и притом в сторону несправедливости, падает в бездну
d
и попадает в те места, о которых говорят, что они находятся внизу, и которые называют Аидом и тому подобными именами. Люди их сильно боятся, они им мерещатся и при жизни, и после отрешения души от тела. Если же душа, по своей ли собственной воле или под сильным чужим влиянием, изменяется больше в сторону добродетели, то, слившись с божественной добродетелью, она становится особенно добродетельной и переносится на новое, лучшее и совершенно святое место.
e
В противном же случае – изменившись в сторону зла – она переносит свою жизнь туда, куда подобает. Вот каково правосудье богов, на Олимпе живущих[2163]
.
А тебе, молодой человек, кажется, что боги о тебе не пекутся. Если ты станешь хуже, то отправишься к дурным душам, если же лучше, то к лучшим. Вообще и при жизни, и после смерти каждый испытывает и делает то, что ему свойственно.
905
Ни ты, ни кто‑либо другой, если ему не повезет, не сможет похвалиться, будто стоит выше этого правосудия богов. Того правосудия, которое установили верховные учредители, дулжно особенно остерегаться. Ибо оно никогда не оставит тебя в покое: так ли ты мал, что можешь погрузиться в глубины земли, или так высок, что в состоянии подняться до неба, – все равно ты понесешь назначенное богами наказание – здесь ли, на земле,
b
будучи ли перенесен в Аид или в еще более лютое место[2164]
. То же самое относится и к тем, кто на твоих глазах путем нечестивых или вообще дурных поступков из людей незначительных стали великими или из людей несчастных – счастливыми. И ты еще думал, будто в их поступках, как в зеркале, можно усмотреть общую небрежность богов! Ты не знал, что и у этих людей есть доля в участи Вселенной.
c
Как можешь ты, мужественнейший из людей, думать, что тебе не следует этого знать? Кто не понимает этой причастности, тот никогда не найдет образца для своей жизни и не будет в силах отдать себе отчет в том, от чего зависит счастливая или несчастная доля. Если вот Клиний и весь наш совет старейшин убедили тебя в том, чего ты сам не знал, когда говорил о богах, то это сам бог чудесным образом пришел тебе на помощь. Если же ты нуждаешься еще в каком‑нибудь доказательстве, то выслушай, что мы станем говорить третьему нашему противнику,
d
коль скоро у тебя есть хоть какой‑то ум. Я сказал бы, что мы не так уж плохо доказали бытие богов и их заботу о людях. Но мы не можем также ни с кем согласиться и всячески будем оспаривать мнение, будто боги принимают дары и что люди неправедные могут их умилостивить.
Клиний.
Прекрасно сказано. Сделаем же так, как ты говоришь.
Афинянин.
Ради самих богов давай рассмотрим, каким способом их можно умилостивить, если только это вообще вероятно.
e
Кто они и каковы они? Те, кто действительно управляет всем небом, неизбежно становятся ведь его правителями?
Клиний.
Конечно, так.
Афинянин.
Но кому из правителей они подобны или кто подобен им? Ведь мы можем сравнивать меньшее с большим. Не подобны ли им возничие, управляющие соревнующимися колесницами, или кормчие судов? Возможно, что они сходны с военачальниками. Их можно было бы также сравнить с врачами, которые оберегают тело, опасаясь сопротивления со стороны болезней;
906
или с земледельцами, со страхом поджидающими обычно неблагоприятных для произрастания злаков времен года; или же с пастухами, пасущими стада. Так как мы согласились сами с собой, что небо полно многих благ, но также – впрочем, не в большом количестве – и зол, то, утверждаем мы, между ними происходит нескончаемая борьба, требующая чрезвычайной бдительности. Наши союзники – это боги, а равным образом и даймоны, мы же в свою очередь – достояние тех и других. Нас губит несправедливость и дерзость, соединенная с неразумием,
b
спасает же справедливость и рассудительность вместе с разумностью. Эти добродетели живут в душевных свойствах богов, а в нас живет лишь малая их часть, как это всякий с очевидностью может усмотреть вот из чего: ясно, что некоторые звероподобные души, которые живут на земле и которым присуща неправедная корысть, обращаются к душам стражей – сторожевые ли это псы, пастухи или даже самые высокие владыки – и убеждают их посредством льстивых слов
c
или каких‑либо обетов и заклинаний, как это широко утверждают дурные люди, позволить им быть корыстолюбивыми среди людей и не подвергаться в то же время ничему тяжкому. Мы же утверждаем, что только что упомянутое преступление – корыстолюбие, когда речь идет о телах из плоти, именуется болезнью, когда о временах года – мором, когда же о государствах и гражданских делах, имя это меняет свой облик и звучит как «несправедливость».
Клиний.
Совершенно верно.
d
Афинянин.
Тот, кто говорит, будто боги всегда готовы простить несправедливых людей и тех, кто творит несправедливые поступки, лишь бы кто‑то из них уделил им часть своей неправедной добычи, необходимо должен утверждать следующее: если бы волки уделяли малую часть своих хищений собакам, те, будучи укрощены дарами, позволили бы расхитить все стадо. Разве не таково рассуждение тех, кто утверждает, что богов можно умилостивить?
Клиний.
Да, именно таково.
Афинянин.
Но кто из людей не вызвал бы смеха, сравнивая богов с кем‑то из только что упомянутых стражей?
e
Например, с кормчими, которые, будучи подкуплены «возлиянием вина и дымом курений»[2165]
, губят и корабль, и корабельщиков?
Клиний.
Такое сравнение невозможно.
Афинянин.
Или, например, с возничими на состязаниях, которые, будучи подкуплены дарами, предоставили бы победу другим упряжкам?
Клиний.
Странное сравнение ты бы придумал для своего рассуждения!
Афинянин.
Богов нельзя сравнить ни с военачальниками, ни с врачами, ни с земледельцами, ни с пастухами, ни тем паче с собаками, которых заворожили волки…
907
Клиний.
Прекрати злоречье – как это можно!
Афинянин.
Но все боги – не суть ли они величайшие из стражей и не охраняют ли они самое великое?
Клиний.
Бесспорно.
Афинянин.
Поставим ли мы тех, кто охраняет прекраснейшие вещи и всех превосходит бдительностью в отношении добродетели, ниже собак или обычных людей, которые никогда не изменят справедливости ради даров, нечестиво предлагаемых неправедными людьми?
b
Клиний.
Никоим образом. Подобная речь неприемлема, и того, кто держится такого мнения, можно по всей справедливости счесть чуть ли не самым скверным и нечестивым из всех нечестивых людей.
Афинянин.
Можем ли мы сказать, что теперь полностью доказаны выдвинутые раньше три положения, а именно: бытие богов, их промысл и полнейшая их неумолимость в отношении несправедливого?
Клиний.
Как же иначе? Мы согласны с этими доказательствами.
Афинянин.
Возможно, они были высказаны слишком резко из‑за склонности дурных людей к спорам.
c
Этот спор, дорогой Клиний, был поднят ради того, чтобы дурные люди ни в коем случае не подумали, будто, победив в доказательствах, они могут делать все, что хотят, согласно тому, чту они думают о богах. Поэтому в наших речах появилось почти юношеское рвение. Если мы хоть отчасти принесли пользу и убедили подобного рода людей возненавидеть самих себя и возлюбить противоположный образ мыслей, то наше вступление к законам о нечестии сделано удачно.
d
Клиний.
По крайней мере можно на это надеяться. Если же и нет, то все равно подобный род рассуждения нельзя поставить в упрек законодателю.
Афинянин.
Вслед за вступлением мы можем выставить требование, правильно истолковывающее законы и повелевающее нечестивым людям переменить свой образ жизни на благочестивый. Для ослушников же пусть будет следующий закон о нечестии:
e
если кто‑либо скажет или сделает что‑либо нечестивое, любой присутствующий должен этому воспротивиться и донести об этом должностным лицам, а из этих те, кто первый узнает об этом, должны, согласно с законами, привести виновных в суд, назначенный для разбора такого рода дел. Если же какое‑нибудь должностное лицо, будучи извещено, не сделает этого, всякий желающий заступиться за законы может привлечь это лицо к суду. Если кто окажется виновным, суд должен назначить соответствующее наказание за каждый отдельный проступок нечестивых людей.
908
Каждый виновный должен быть заключен в тюрьму, которых в государстве будет три: одна – на площади, общая для большинства задержанных, предназначенная для охраны личной безопасности большинства; другая тюрьма – невдалеке от места заседаний Ночного собрания – будет называться софронистерием[2166]
; третья же – посреди страны, в каком‑нибудь пустынном и совершенно диком месте – получит имя, которое будет выражать возмездие. Так как люди становятся нечестивыми по трем упомянутым нами причинам
b
и каждая такая причина создает два рода нечестивцев, то всего получилось бы шесть различных родов людей, заблуждающихся по поводу богов. Все они должны подвергнуться различным и неравным наказаниям. Ибо те, кто совершенно отрицает бытие богов, но от природы обладает справедливым характером, ненавидят дурных людей и из‑за глубокого отвращения к несправедливости не склонны к совершению несправедливых поступков, избегают людей несправедливых, а справедливых любят.
c
Другой же род – это те, у кого к мнению, будто Вселенная лишена богов, добавляется невоздержанность в удовольствиях и страданиях, хотя они и обладают сильной памятью и прекрасной восприимчивостью к наукам. Общая болезнь тех и других та, что они не признают богов; но первые творят меньше зла на пагубу остальных людей, чем вторые. Они в своих речах преисполнены дерзости в отношении богов, жертвоприношений, клятв и смеются также надо всем остальным;
d
быть может, они и других людей сделали бы такими же, если бы их не настигало вовремя правосудие. Вторые держатся того же мнения, что и первые, слывут за людей одаренных, но исполненных коварства и злокозненных. Из этого рода людей выходят многие прорицатели, люди, занимающиеся всевозможной ворожбой, а иногда и тираны, демагоги, военачальники, основатели частных таинств, а также и изощренные так называемые софисты. Разновидностей подобного рода людей много,
e
но особого законоположения достойны две из них: те, кто принадлежит к одной из них, а именно лицемеры, заслуживают смертной казни, и не одной и даже не двух, а сразу многих; люди же второй разновидности нуждаются в увещании и тюремном заключении.
Точно так же и взгляд, отрицающий промысл богов, порождает два рода людей; людей, придерживающихся мнения, будто богов можно умолить, тоже два рода. Ввиду существующей между ними разницы судья, опираясь на закон, должен присудить тех, кто впал в нечестие по неразумию, а не по злому побуждению и нраву, к заключению в софронистерий не меньше чем на пять лет.
909
В течение этого времени никто из граждан не должен иметь к ним доступа, кроме участников Ночного собрания, которые будут его увещевать и беседовать с ним ради спасения его души. Когда же истечет срок заключения, тот из них, кто покажет себя рассудительным, пусть получит свободу и живет вместе с другими рассудительными людьми. В противном же случае, то есть если он снова заслужит подобное наказание, его следует покарать смертью. Тем же, которые, кроме того что не признают богов и их промысла
b
или считают их умолимыми, вдобавок еще уподобляются животным и, презирая людей, обольщают некоторых из них при жизни, уверяя, будто могут вызывать души умерших, или, обещая склонить богов посредством жертвоприношений, молитв, заклинаний и колдовства, пытаются ради денег в корне развратить как отдельных лиц, так и целые семьи и государства, – им, оказавшимся виновными в чем‑либо подобном, пусть суд назначит наказание в виде заключения в тюрьму, находящуюся посреди страны.
c
Никто из свободных никогда не должен приходить к подобному человеку. Назначенную ему стражами законов пищу он должен получать от рабов. В случае смерти тело его выбрасывается непогребенным за пределы страны. Если же кто‑нибудь из свободных людей погребет его, то любой желающий может привлечь его к суду за нечестие. Если он оставит после себя детей, полезных государству,
d
то пусть попечители о сиротах позаботятся о них как о настоящих сиротах – и притом не хуже, чем об остальных, – начиная с того дня, как их отец был осужден.
Кроме всего этого надо учредить еще один общий закон, который, запрещая богослужения, не предусмотренные законом, заставил бы многих совершать на деле и на словах меньше проступков по отношению к богам и стать более разумными. Попросту говоря, вот какой закон должен касаться всех: пусть никто не сооружает святилищ в частных домах. Если же у кого явится намерение принести жертву, пусть он идет в общественные храмы и там приносит ее, вручив свое приношение жрецам или жрицам,
e
которые заботятся о чистоте жертв. К их молитвам пусть он присоединит свои, а также и всякий желающий пусть помолится вместе с ним. Так должно быть по следующим причинам. Учреждать святилища и богослужения нелегко; правильно это можно делать только по зрелом размышлении. Между тем повсюду у многих – особенно у женщин, у больных людей, у тех, кто подвергается опасности или каким‑либо лишениям, а также и в противоположных случаях, когда на чью‑либо долю выпадает какое‑нибудь благополучие, – есть обычай посвящать то, что у них в это время есть под рукой, богам, даймонам и детям богов;
910
при этом они дают обеты принести жертвы или соорудить святилища. Точно так же те, кто в страхе просыпался от явленных во сне знамений, вспоминая многочисленные видения, сооружает каждому из увиденных призраков алтари или святилища в качестве средства для своего спасения; они наполняют этими святилищами все дома и поселки, сооружая их и на чистых местах и где придется. Ради всего этого и надо поступать сообразно только что указанному закону,
b
а кроме того, и из‑за людей нечестивых, чтобы они не совершали этого тайно, то есть не сооружали бы незаметно святилищ и алтарей в частных домах и, полагая, будто богов можно умилостивить жертвами и молитвами, не дошли бы до крайних пределов несправедливости, ведь таким образом они навлекут осуждение богов как на себя, так и на тех, кто лучше их, но допускает, чтобы они все это делали, да и все государство по справедливости подвергнется участи нечестивых людей. Законодателя же бог не станет порицать. Поэтому пусть будет такой закон: не следует иметь в частных домах святилищ богов. Если же обнаружится, что кто‑либо их имеет
c
или тайно почитает другие святилища, а не общественные, то в случае, если виновный – мужчина ли он или женщина – не совершил никаких серьезных и нечестивых проступков, пусть тот, кто это заметил, известит стражей законов, а те пусть распорядятся перенести частное святилище в общественное место, ослушника же пусть наказывают, пока он этого не сделает. Если же обнаружится, что кто‑либо совершил какой‑нибудь нечестивый поступок не по‑детски, но так, как свойственно взрослым людям, – все равно, воздвиг ли он святилище в частном доме или же приносил в общественном храме жертвы каким‑то богам, –
d
то, поскольку он не был чист при совершении жертвоприношения, его следует приговорить к смерти. Стражи законов, обсудив, детское ли это нечестие или нет, и препроводив виновного в суд, должны привести в исполнение установленное за это нечестие наказание.
Перевод А. Н. Егунова.
В кн.: Платон. Законы. М.: «Мысль», 1999
КHИГА XI
913
Афинянин.
После этого нам следовало бы внести надлежащий порядок в деловые взаимоотношения людей. Основное правило здесь простое: пусть никто по мере возможности не касается моего имущества и не нарушает моей собственности, даже самым незначительным образом, раз нет на то всякий раз моего особого разрешения. И я буду точно так же относиться к чужой собственности, пока я в здравом уме.
Поговорим прежде всего о сокровищах, которые кто‑либо откладывает или припрятывает для себя или своих близких. Если этот человек не принадлежит к моим предкам, я никогда не стал бы молить богов о том, чтобы мне найти такой клад;
b
а если бы нашел, я не тронул бы его. С другой стороны, я не стал бы сообщать об этом так называемым прорицателям, которые так или иначе посоветовали бы мне изъять из земли этот вверенный ей залог. Дело в том, что при таком изъятии я не так много выиграю в имущественном отношении: гораздо больше я выиграю в смысле душевной добродетели и справедливости, если воздержусь от такого изъятия. Я стяжаю себе одно имущество вместо другого, лучшее в лучшей области – справедливость в душе, а не богатство в деньгах. Пусть то, что прекрасно сказано применительно ко многим случаям, – а именно что не следует касаться неприкосновенного, – будет применено и к данному случаю.
c
К тому же надо верить и мифам, в которых говорится, что все это не приносит пользы потомству. Но если встретится человек, не заботящийся о потомстве, и он, не обратив внимания на законодателя, присвоит себе вещь, отложенную не им самим и не кем‑то из его предков, притом без разрешения на то со стороны отложившего, то он нарушит не только самый прекрасный и простой из законов, но также и законоположение весьма достойного мужа, сказавшего: «Не бери себе то, что не ты положил»[2167]
.
d
Если человек пренебрежет обоими законодателями и присвоит себе вещь, не им самим положенную, к тому же не какую‑нибудь малость, но, как это бывает, очень большие ценности, что он должен претерпеть? Что касается кары богов, то это ведомо только богу. Но первый, кто заметит этого человека, должен донести об этом астиномам, если это произойдет в городе, агораномам – если это случится где‑либо на городском рынке,
914
наконец, агрономам и их начальникам, если это произойдет где‑либо в другом месте страны. Когда об этом будет заявлено, пусть государство обратится в Дельфы, и что решит бог относительно денег и лица, их присвоившего, то пусть и исполнит государство, помогая прорицаниям бога. В случае такого доноса свободнорожденный человек стяжает славу за свою добродетель, в обратном же случае прослывет порочным. Коль скоро донесет раб, государство имеет основание дать ему свободу, выплатив соответствующую сумму его хозяину; если же раб не донесет, он будет наказан смертью.
b
Вслед за этим установим следующее узаконение, одинаково касающееся как крупных, так и мелких вещей. Если кто нарочно или нечаянно потеряет что‑то ему принадлежащее, пусть тот, кто найдет этот предмет, оставит его лежать, считая, что божество дорог охраняет вещи, которые закон ему посвятил[2168]
. Если же вопреки этому какой‑либо ослушник поднимет эту вещь и унесет к себе домой, то в случае, если это сделает раб и предмет малоценен, пусть первый встречный, не моложе тридцати лет, накажет его многочисленными ударами.
c
Если же это сделает кто‑нибудь из свободнорожденных людей, то, кроме того, что он прослывет человеком, недостойным этого звания и стоящим вне законов, пусть он выплатит владельцу сумму, в десять раз превышающую стоимость взятого предмета.
Если кто станет обвинять другого человека в том, что у него находится бульшая или меньшая часть его имущества, и обвиненный признает, что у него действительно это имущество есть, но скажет, что оно вовсе не принадлежит обвинителю, пусть обвинитель, если только его законная собственность записана у правителей, вызовет обвиняемого пред лицо властей, а тот пусть явится. Когда дело будет оглашено и по рассмотрении записей выяснится, кому из них принадлежит спорная вещь,
d
пусть владелец вступит в свои права и удалится. Если же окажется, что вещь принадлежит кому‑то третьему, здесь не присутствующему, пусть тот из двух, кто представит надежного поручителя в том, что он отдаст спорную вещь по принадлежности, возьмет ее себе. Если же спорная вещь окажется не занесенной в списки правителей, пусть она находится у трех старших из правителей до судебного разбирательства. Если спорная вещь – домашнее животное,
e
пусть сторона, выигравшая судебное дело, заплатит правителям за его содержание. Правители же произведут судебное разбирательство в течение трех дней.
Любой человек, находящийся в здравом уме, может задержать своего беглого раба и делать с ним что угодно, лишь бы это не нарушало благочестия. Можно также задержать беглого раба своих родственников или друзей ради сохранности их имущества. Если же в тот момент, когда кого‑то задерживают как раба, кто‑то возвратит ему свободу, пусть тот, кто его задержал, его отпустит, человек же, возвративший рабу свободу, пусть представит трех достойных поручителей, только таким образом может он дать свободу рабу, никак не иначе.
915
Если же кто‑нибудь вопреки этому отпустит на волю раба, он будет повинен в насилии и, если будет уличен, должен выплатить пострадавшей стороне сумму вдвое бульшую, чем обозначенный истцами убыток. Можно задерживать также и вольноотпущенников, если кто из них недостаточно или совсем не заботится об отпустивших их на свободу. Забота же эта заключается вот в чем: вольноотпущенник должен три раза в месяц навещать очаг человека, отпустившего его на волю, предлагая ему свои услуги для исполнения всего, что только справедливо и вместе с тем возможно. Точно так же и вступать в брак он должен лишь с согласия бывшего своего господина. Равным образом вольноотпущеннику не разрешается стать богаче отпустившего его господина,
b
излишек пусть будет собственностью господина. Вольноотпущенник не должен оставаться в государстве более двадцати лет; по прошествии этого времени пусть он, подобно остальным чужеземцам, удалится, захватив с собой все свое имущество, если только не получит разрешения на дальнейшее пребывание от правителей и от того, кто его отпустил. Если же имущество вольноотпущенника или кого‑либо из остальных чужеземцев возрастет до такой степени, что превысит имущественный ценз граждан третьего класса, то в течение тридцати дней, начиная с того дня, как случилось превышение, он должен удалиться, взяв то, что ему принадлежит.
c
Правители не должны соглашаться ни на какие его просьбы о разрешении ему дальнейшего пребывания в стране. Ослушники пусть подвергнутся суду и, в случае признания виновности, пусть будут наказаны смертью; имущество их будет отобрано в пользу государства. Подобные дела должны подлежать суду фил, если только обе стороны не освободятся еще до того от взаимных обвинений при посредстве суда соседей или выбранных для этого судей.
Если кто‑либо заявит притязание на какое‑нибудь домашнее животное или на другую какую‑нибудь якобы принадлежащую ему вещь,
d
пусть владелец приведет его к человеку, который ему эту вещь продал, подарил или передал каким‑либо другим правомочным способом, – конечно, если человек этот достоин доверия и справедлив. Если человек этот гражданин или метек из числа живущих в государстве, пусть владелец сделает это в течение тридцати дней; если же речь идет о вещи, переданной чужеземцем, то дело надо закончить в течение пяти месяцев, из которых на средний приходится поворот солнца от лета к зиме.
Всякий взаимный обмен, производимый путем купли и продажи, должен происходить на месте, особо отведенном для каждого вида обмена на городской площади. Стоимость должна быть выплачена непременно тут же;
e
всякая купля и продажа в кредит запрещается. Если какой‑то обмен происходит другим способом или в другом месте и продавец предоставляет кредит покупателю, они могут это делать, но пусть знают, что по закону не принимаются никакие обращения в суд со стороны людей, не выполнивших только что указанного требования.
То же самое относится к товариществам, основанным на паях: желающие могут их устраивать среди друзей, но если возникнет какое‑либо разногласие по поводу взносов, то надо знать, что никто и никоим образом не может начать судебного дела об этом.
916
Тот, кто продает на сумму не менее пятидесяти драхм, обязан переждать в городе десять дней; покупатель должен знать местожительство продавца ввиду бывающих в подобных случаях жалоб и на случай законного возвращения покупки. Возврат будет законным либо незаконным по следующим признакам. Если кто продает раба чахоточного, страдающего каменной болезнью, затрудненным мочеиспусканием или больного так называемой священной болезнью[2169]
или каким‑то другим, скрытым от большинства, тяжким и трудноизлечимым телесным либо душевным недугом, то, коль скоро покупатель – врач или учитель гимнастики, возврата быть не может;
b
равным образом и в том случае, если продавец заранее предупредил об этом покупателя. Если же покупатель обычный человек, а продавец, наоборот, сведущ в болезнях, покупку можно возвратить в течение шести месяцев. Исключением является священная болезнь; в этом случае возврат производится в течение одного года. Дело подлежит разбирательству выбранных сообща обеими сторонами врачей. Виновный должен уплатить двойную стоимость покупки.
c
Если и покупатель, и продавец – обычные люди, возврат и судебное разбирательство должны совершаться так же, как в только что указанном случае, но виновный должен просто выплатить стоимость покупки. Если же проданный раб – убийца и покупатель и продавец оба знали это обстоятельство, то при такой продаже возврата не может быть. Если же об этом заранее не знал покупатель, то, лишь только он это узнает, он может вернуть раба. Дело должно подлежать суждению пяти младших стражей законов. Если будет признано, что продавец знал это обстоятельство,
d
он должен произвести очищение дома покупателя согласно постановлению истолкователей и выплатить ему тройную стоимость раба.
При обмене денег на деньги или на что‑либо другое – живность ли то или нет, – согласно закону, ни с той, ни с другой стороны нельзя ничего подделывать. Относительно возможного здесь зла желательно также дать вступление, как мы это делали для других законов. Всякий человек должен считать вещами одного порядка любую подделку, ложь и обман; между тем большинство обычно высказывает совершенно превратный взгляд,
e
будто иной раз – и даже нередко – все это вполне допустимо, если только совершается кстати; при этом остается неустановленным и неопределенным, когда же именно и где это бывает кстати. Большинство людей из‑за такого взгляда и сами во многом терпят ущерб, и причиняют его другим. Законодателю непозволительно оставить это неустановленным: всегда следует ясно определять тут более или менее широкие границы. Поэтому и мы сейчас это определим.
Кто не желает стать в высшей степени ненавистным богам, пусть ни словом, ни делом не допускает никакой лжи, обмана или подделки, призывая в свидетели род богов, а ведь бывает, что кто‑то клянется ложными клятвами, ничуть не заботясь о богах.
917
Далее идет тот, кто лжет в присутствии людей, стоящих выше его самого. Лучшие люди выше худших, старики вообще выше юношей, поэтому и родители выше детей, мужчины выше женщин и детей, правители выше подвластных. Ко всем этим людям остальные должны относиться с почтением, – как тогда, когда они вообще отправляют какие‑нибудь должности, так в особенности – должности государственные, что и составляет исходный пункт нынешней нашей беседы. Всякий продающий на рынке что‑либо поддельное лжет и обманывает;
b
призывая в свидетели богов, он клятвами нарушает законы и предостережения агораномов, не стыдясь людей и не почитая богов. Прекрасен вообще обычай – не осквернять пустыми призывами имена богов, раз находишься в таком отношении к богам в смысле чистоты и непорочности, в каком нередко бывает большинство из нас[2170]
. Кого все это не убеждает, вот закон: торгующий чем‑либо на рынке никогда не должен назначать двух цен своему товару, а только одну‑единственную. Если он по этой цене не найдет покупателя,
c
он вправе унести свой товар с рынка, но в один и тот же день он не должен расценивать свой товар то дороже, то дешевле. И пусть не будет расхваливания и клятв по поводу любой продающейся вещи. Ослушника же первый встречный горожанин, достигший тридцати лет, имеет право бить безнаказанно, карая его за его клятвы. Кто пренебрежет этим своим правом, тот будет подвергнут хуле за измену законам. Если кто окажется не в силах послушаться наших нынешних слов и станет продавать что‑либо поддельное,
d
то первый узнавший об этом человек пусть изобличит его, если только может, пред правителями. Раб или метек в этом случае получает в свою собственность подделанный товар. Свободнорожденный человек, если он не изобличает подделку, объявляется дурным гражданином, ибо в этом случае он выходит из повиновения богам; если же он ее изобличает, он должен посвятить подделанный товар богам – покровителям рыночной площади.
Продавец, уличенный в подделке, кроме того, что лишается своего подделанного товара, будет еще наказан на рыночной площади столькими ударами бича, сколько драхм он требует за свой товар,
e
причем глашатай огласит, за что он подвергается этому наказанию. Агораномы и стражи законов, справляясь относительно каждого отдельного случая подделки и злостного обмана у людей, сведущих в этом, должны письменно определить, что надлежит делать продавцу и чего не надлежит. Стелу, на которой начертаны эти законы, они должны поставить перед агораномием[2171]
, так, чтобы все люди, имеющие дела на рынке, ясно их видели.
918
Относительно астиномов достаточно сказано выше. Если, однако, покажется, что нужны какие‑то добавления, пусть астиномы, опять‑таки сообща со стражами законов, запишут то, что кажется пропущенным, на стеле, поставленной в астиномии[2172]
и содержащей как основные, так и дополнительные узаконения, касающиеся их должности.
За подделкой непосредственно следует занятие мелкой торговлей. Мы сначала дадим совет относительно всего этого занятия в целом и приведем разумные доводы, а уже после этого установим закон.
b
Всякая мелкая торговля по своей природе вовсе не направлена ко вреду государства, – совсем напротив. Разве не благодетель любой человек, приводящий к соразмерности и единообразию любую разнообразную и несоразмерную собственность? Надо признать, что это происходит благодаря свойству денег; равным образом этому способствуют купцы, наемные работники, содержатели гостиниц и представители других занятий, из которых одни более, другие менее благовидны.
c
Все это может помочь удовлетворению наших нужд и привести к единообразию нашу собственность. В чем же причина того, что занятие это не признано ни прекрасным, ни благовидным? Почему оно на дурном счету? Рассмотрим это, чтобы хоть отчасти, если уже не в целом, исправить положение с помощью закона. Дело это, по‑видимому, нелегкое и требует немалой добродетели.
Клиний.
Что ты разумеешь?
d
Афинянин.
Дорогой Клиний, лишь небольшая часть исключительных по своей природе людей, получивших превосходное воспитание, может держать себя в надлежащих границах, когда сталкивается с какими‑нибудь нуждами и вожделениями. Люди эти могут остаться трезвыми, когда представляется возможность добыть много денег, могут предпочесть умеренное многому. Огромное большинство людей поступает как раз наоборот: их желания неумеренны, и, хотя возможно извлекать умеренную прибыль, они предпочитают быть ненасытными. Вот почему находятся на плохом счету и признаются чрезвычайно постыдными занятия мелкого торговца, крупного купца и содержателя гостиницы. Но если бы кто‑нибудь (чего да не случится и никогда не будет!) принудил – это смешно сказать, однако все‑таки пусть это будет сказано – людей, во всех отношениях наилучших,
e
заняться некоторое время корчмарством, мелкой торговлей или вообще чем‑либо подобным или если бы женщинам суждена была необходимость принять участие в этих занятиях, мы узнали бы, как все эти занятия хороши и желательны. И если бы они не подвергались извращению, но совершались на разумных основаниях, то пользовались бы почетом, каким пользуются матери или кормилицы. Но в наши дни содержатели гостиниц ради мелкой торговли строят свои жилища в пустынных местах, где скрещивается много дальних дорог;
919
здесь они дают желанный приют нуждающимся в нем путникам, доставляют им теплый и безмятежный кров, если те бывают гонимы сильными зимними бурями, или отдых в прохладе, если их гонит со двора зной. Но после содержатель гостиницы вовсе не считает, что он принял своих друзей и оделил их дружескими подарками; нет, он относится к ним как к попавшимся в плен врагам и отпускает их на волю лишь за огромный неправедный и грязный выкуп.
b
Вот такие‑то бесчинства во всех этих делах и являются причиной того, что подобные занятия правильно бывают на плохом счету, хотя они должны были бы помогать людям в затруднительных положениях. Так вот и для этого, как всегда, законодателю надо приготовить лекарство.
Впрочем, давно уже правильно сказано, что трудно сражаться сразу с двумя, да вдобавок еще противоположными бедами, как это бывает при болезнях и во многих других случаях. И теперь нам предстоит сражаться с двумя противниками: бедностью и богатством. Богатство развратило душу людей роскошью,
c
бедность их вскормила страданием и довела до бесстыдства. Как же помочь этой болезни в разумном государстве? Во‑первых, по мере сил надо пользоваться как можно меньшим числом торговцев; во‑вторых, это занятие надо предоставить тем людям, чья испорченность не причинила бы великого вреда государству; в‑третьих, надо изобрести средство для тех, кто занимается этим делом, избавляющее их от легкого перехода к бесстыдству и низости.
d
После этих предварительных соображений установим, в добрый час, следующий закон: среди магнетов, поселение которых во имя преуспеяния снова устраивает бог, пусть ни один землевладелец из тех, что входят в состав пяти тысяч сорока очагов, не становится по доброй воле или против воли ни мелким торговцем, ни крупным купцом; пусть никто не оказывает каких‑либо услуг частным лицам, занимающим иное, чем он сам, общественное положение;
e
исключение составляют отец, мать, их родственники по восходящей линии, все вообще старшие, если они свободнорожденные люди и живут действительно так, как это таким людям свойственно. Впрочем, нелегко точно разграничить законом то, что свойственно свободнорожденным людям, и то, что им несвойственно. Судить об этом будут люди, получившие почетные дары за свою добродетель, причем они будут основываться на своей склонности или на своем отвращении. Если же кто, прибегнув к какой‑либо уловке, станет заниматься несвойственной свободнорожденным людям торговлей, пусть всякий желающий возбудит против него обвинение в своего рода бесстыдстве перед лицами, признанными выдающимися в смысле добродетели. Если окажется, что этот человек действительно запятнал отцовский очаг недостойным занятием, то путем годичного заключения его принуждают от этого занятия отказаться.
920
В случае повторения проступка ему грозят два года заключения. Вообще при каждом его заключении время удваивается по сравнению с предшествующим.
А вот и второй закон: тому, кто собирается торговать, надо быть метеком или чужеземцем. Далее идет третий закон: в лице торговца мы должны в нашем государстве иметь возможно лучшего жителя или по крайней мере возможно менее плохого. Поэтому стражам законов надо рассудить, что они охраняют не только тех людей, которых легко оберечь от нарушений законов и испорченности, ведь такие люди и без того хорошо подготовлены как своим происхождением, так и воспитанием.
b
Нет, скорее надо охранять не их, а тех, кто занимается такими делами, которые имеют сильную склонность к тому, чтобы делать людей плохими. В этом отношении торговля очень разнообразна – она включает в себя много подобных занятий. Мы примем в расчет только те ее виды, которые будут признаны крайне необходимыми для государства. С этой целью придется опять‑таки стражам законов собраться вместе с лицами, опытными в каждом отдельном виде торговли, –
c
подобно тому как мы раньше предписали это относительно подделки товаров, сродной таким занятиям. На этом собрании надо будет рассмотреть, какого рода приход и расход обусловливают торговцу соразмерную прибыль; надо письменно закрепить соотношение расхода и прихода, а за соблюдением этих правил будут следить частью агораномы, частью астиномы, а частью агрономы. Примерно такая постановка торговли принесла бы пользу всем гражданам и по возможности меньше вредила бы тем, кто ею занимается в государствах.
d
Если кто при заключении договора не выполнит его условий (договоры, запрещаемые законами или постановлением народного собрания, исключаются), или каким‑нибудь несправедливым насилием будет принужден заключить договор, или если кто, несмотря на свою добрую волю выполнить условия договора, встретит к этому непредвиденные препятствия, судебное разбирательство этого и всех остальных случаев невыполнения договора будет происходить в судах фил, коль скоро дело не могло быть раньше разрешено судом посредников или соседей.
Сословие ремесленников находится под покровительством Гефеста и Афины[2173]
, ведь ремесленники своим общим трудом дают нам возможность жить.
e
Под покровительством Ареса и опять‑таки Афины находятся люди, которые своим оборонительным искусством сохраняют изделия ремесленников[2174]
; стало быть, сословие воинов по справедливости посвящено этим богам. То и другое сословия постоянно пекутся о стране и о народе: одни заведуют военными состязаниями, другие за плату производят изделия и орудия. Последним не пристало допускать обман в своем труде, пусть они посовестятся богов, своих прародителей.
921
Если же кто из ремесленников злостно не выполнит в указанный срок своего заказа; если он ничуть не посовестится при этом дарующего ему жизнь бога, считая, что тот, в силу своей близости к нему, его простит; если он ничего не узрит своим умом, – то прежде всего его постигнет божий суд. Во‑вторых, пусть будет установлен следующий закон: стоимость изделий он должен заплатить обманутому им заказчику и снова выполнить в указанный срок заказ, но даром. Принимающему заказ закон дает такой же совет, какой он давал продавцу:
b
не пытаться повышать цену, но просто оценивать работу по ее действительной стоимости. Дело в том, что ремесленник знает действительную стоимость своей работы; следовательно, в государствах свободнорожденных людей ремесленнику никогда не следует хитростью уловлять несведущего человека; нет, его ремесло – дело ясное и чуждое по своей природе обмана. Если же кто обижен, он может начать судебное дело против обидчика.
c
Если заказчик не выплатит ремесленнику суммы, правильно причитающейся ему по договору, заключенному согласно законам, то есть если он нанесет бесчестье градодержцу Зевсу и Афине[2175]
, причастным устроению государств, – иными словами, если он, возлюбив ничтожную выгоду, нарушит великую связь, то пусть вместе с богами на помощь единству, связующему государство, придет закон: пусть будет взыскана плата в двойном размере с заказчика, если он не уплатил в установленный срок платы ремесленнику, а между тем уже получил от него готовый заказ. В нашем государстве все остальное имущество не приносит процентов, если дано кем‑то взаймы, но в данном случае заказчик, если истечет год со времени получения им выполненного заказа, должен уплатить и наросшие проценты,
d
а именно с каждой драхмы ежемесячно шестую ее часть, то есть один обол. Судебное разбирательство по этим делам будет происходить в судах фил.
Раз уж мы вообще упомянули о мастерах, то справедливо будет коснуться мимоходом и тех из них, что заняты военным трудом, который доставляет спасение государству: это военачальники и все те, кто искусен в военном деле. Так вот и для них есть закон, словно и они своего рода ремесленники, как вышеупомянутые: кто из них, предприняв полезное для всего государства дело – все равно, по своей ли доброй воле или по предписанию, –
e
исполнит его прекрасно, тому государство воздаст по справедливости почести, которые служат наградой военным людям, да и закон неустанно будет его восхвалять. Если же этот человек заранее взял на себя исполнение какого‑нибудь прекрасного деяния на войне, но его не осуществил, он подвергается порицанию. Итак, пусть будет установлен этот закон, смешанный у нас с похвалой за такого рода деяния. Закон этот не навязывает, но советует большинству граждан оказывать почет –
922
правда, пока не самый высокий – тем добрым людям, которые оказываются спасителями всего государства благодаря ли своему мужеству или своей военной изобретательности. Однако величайший почетный дар надо уделить прежде всего тем людям, которые сумели с особенным почетом отнестись к предписаниям хороших законодателей.
Мы изложили почти все важнейшие деловые отношения, в которые вступают между собой люди. Остается вопрос относительно положения сирот и попечения о них со стороны опекунов.
b
Это и придется так или иначе разобрать вслед за тем, что было изложено раньше. Здесь надо начать с завещаний, составлять которые склонны люди, близкие к смерти, и с тех случайностей, которые иногда совершенно не дают возможности такое завещание сделать. Я говорю, Клиний, что здесь необходимо установить порядок, так как я вижу затруднительную и тяжкую сторону этого дела. Действительно, невозможно оставить это неупорядоченным. Если позволить, чтобы всякое завещание попросту считалось действительным независимо от того, в каком состоянии находился при его составлении человек, близкий к концу своей жизни,
c
то все завещания имели бы различный вид, в них вкрались бы противоречия законам, обычаям тех, кто жив, да и выраженным ранее мыслям самого завещателя, которых он держался до тех пор, пока не собрался написать завещание. Дело в том, что большинство из нас, когда видит, что смерть близка, впадает в неразумие и расслабленность.
Клиний.
Как ты это понимаешь, чужеземец?
Афинянин.
Трудно, Клиний, иметь дело с человеком, близким к смерти: он полон мыслей ужасных и несносных для законодателя.
Клиний.
А именно?
d
Афинянин.
Он желает сам распорядиться всеми своими делами и потому обычно гневается.
Клиний.
А что он говорит?
Афинянин.
«О боги, какой ужас! – говорит он. – Свое собственное имущество я не вправе отказать или не отказать тому, кому хочу: одному больше, другому меньше, сообразно с тем, насколько плохо или хорошо относились ко мне люди, ведь я достаточно все это испытал и обнаружил во время болезней, в старости и при разных других обстоятельствах».
Клиний.
Разве тебе не кажется, чужеземец, что он прав?
e
Афинянин.
Мне кажется, Клиний, что древние законодатели были слишком снисходительны, да и законодательствовали‑то они, обращая внимание лишь на малую часть человеческих дел.
Клиний.
Как так?
Афинянин.
Да, друг мой, они побоялись этих слов, и установленный ими закон позволяет попросту распоряжаться своим имуществом, как каждый пожелает.
923
Ну, а мы с тобой как‑то иначе, более складно ответим тем из граждан твоего государства, которые готовятся к смерти.
«Друзья, – скажем мы им, – сегодня вы здесь, а завтра вас здесь не будет. Вам нелегко разобраться сейчас в вашем имущественном положении, да и в самих себе (как советует Пифийская надпись[2176]
). И вот я как законодатель устанавливаю: вы не принадлежите самим себе и это имущество не принадлежит вам. Оно – собственность всего вашего рода, как его предшествовавших, так и последующих поколений;
b
более того, весь ваш род и имущество – это собственность государства. Раз это так, я по доброй воле не допущу, чтобы кто‑нибудь подкрался к вам, когда вас обуревают болезни или старость, и убедил вас сделать завещание в противоречии с наилучшей целью. Нет, я установлю законы, приняв в расчет все то, что наиболее полезно всему государству и всему роду в целом. Этой цели я справедливо подчиню интересы каждого отдельного гражданина. А вы благосклонно и внимательно следуйте тем путем, который свойствен человеческой природе. Нашей же задачей будет позаботиться о прочих ваших делах, что мы и сделаем по мере возможности с величайшей тщательностью, ничего не упуская из виду».
c
Вот каковы, Клиний, предварительные наставления, обращенные к еще живым гражданам и к тем, кто уже близок к кончине. Закон же будет следующий.
Если у кого есть дети, то при составлении завещания и распределении своего имущества следует назначить, по своему усмотрению, первым наследником надела того из сыновей, кого завещатель сочтет достойным. Что касается остальных детей, то, если другой гражданин согласен усыновить кого‑нибудь из сыновей, пусть это также будет записано в завещании.
d
Если же у завещателя останется еще один сын, не приписанный ни к какому наделу, и если есть надежда отправить его, согласно закону, в колонию, то отцу дозволяется наделить его, чем он хочет, из остального имущества, за исключением наследственного надела и всего относящегося к этому наделу инвентаря. Если сыновей несколько, пусть отец разделит между ними на какие ему угодно части все то, что не входит в состав надела. Однако нельзя отказывать своего имущества тому сыну, который обзавелся своим домом. Так же точно нельзя отказывать своего имущества и дочери, если она обручена со своим будущим супругом; если же она не обручена, то можно.
e
Если после того, как завещание уже будет составлено, у кого‑нибудь из сыновей или дочерей окажется в стране земельный надел, то пусть они откажутся от причитающейся им по завещанию части имущества в пользу главного наследника завещателя. Если у завещателя есть только дочери и нет потомства мужского пола, пусть он откажет свой надел одному из зятьев, по своему выбору, и обозначит его в завещании как своего сына и наследника. Если у кого умрет сын, собственный или приемный, до достижения того возраста, когда его можно считать мужчиной,
924
пусть завещатель упомянет в завещании об этом несчастье и обозначит, кого следует считать его вторым сыном с лучшими надеждами на судьбу. Если завещатель совершенно бездетен и хочет кого‑то одарить, то пусть он изымет десятую часть из своего благоприобретенного имущества и раздаст ее в дар кому хочет; все остальное он должен передать тому, кто им усыновлен, чтобы, согласно с намерением закона, безупречно приобрести себе в нем благодарного сына. Если чьи‑то дети нуждаются в опекунах, то по смерти завещателя, назначившего детям известное число определенных опекунов по своему желанию (причем эти намеченные им лица добровольно соглашаются быть опекунами его детей),
b
его выбор должен быть признан, согласно завещанию, имеющим законную силу. Если кто умрет, совершенно не оставив завещания, или упустит указать избранных им опекунов, то опекунами становятся ближайшие родственники с отцовской и материнской стороны: двое со стороны отца и двое со стороны матери. К ним надо добавить еще одного опекуна из числа друзей покойного. Этих лиц стражи законов поставят опекунами над нуждающимися в опеке сиротами.
c
Всеми делами об опеке и о сиротах постоянно ведают пятнадцать самых престарелых стражей законов. Соответственно своему старшинству они подразделяются на группы, по три человека в каждой. Трое назначаются на первый год, на другой год – следующие трое и так далее, пока не будет пройден полный круг всех пяти групп; насколько возможно, эти последовательности не следует никогда прерывать.
Если кто умрет, вовсе не оставив завещания и оставив детей, еще нуждающихся в опеке, те же самые законы помогут разобраться в их затруднительном положении.
d
Если кого постигнет неожиданный несчастный случай, причем останется потомство женского пола, пусть он извинит законодателя, если тот из трех обязанностей отца выполнит только две, а именно выдаст дочерей замуж за лиц, связанных свойством с данным родом, и позаботится о сохранении за ними надела. Что же касается третьей обязанности их отца, – ведь он стал бы подыскивать подходящего для себя сына, а для своей дочери – жениха, учитывая характер и свойства всех граждан, –
e
это законодатель оставляет в стороне, так как ему невозможно произвести подобное рассмотрение. Поэтому пусть будет установлен по мере возможности следующий закон для подобных случаев. Если кто умрет без завещания, оставив по себе дочерей, то дочь и надел покойного пусть возьмет себе единокровный или единоутробный брат умершего, коль скоро он не имеет надела. Если нет брата, пусть точно так же возьмет дочь умершего сын его брата, если только он и дочь покойного подходят друг другу по возрасту. Если же нет никого, кроме сына сестры покойного, пусть и он поступит таким же образом. На четвертом месте стоит брат отца покойного, на пятом – сын этого брата, на шестом – сын сестры отца покойного. Иными словами, если останется женское потомство, всегда надо продолжать род, основываясь на кровной близости,
925
то есть начинать надо с братьев и племянников по мужской линии этого рода и уж потом переходить к женской линии. Вопрос о сообразности или несообразности времени вступления в брак будет решать судья, осматривая лиц мужского пола в нагом виде, а лиц женского пола – обнаженными до пояса. Если у членов семьи так мало родственников, что нет даже ни внучатных племянников, ни сыновей деда, тогда дочь покойного пусть выберет, вместе с опекунами, кого‑либо из остальных граждан себе в женихи, по своей склонности, если и жених имеет к ней склонность: этот гражданин станет наследником покойного и супругом его дочери.
b
В самом государстве нередко может встретиться много разных затруднений при выборе таких лиц. Так вот, если дочь, затрудняясь произвести выбор из местных граждан, обращает свои взоры на человека, отправленного в колонию, и ей по сердцу, чтобы именно этот человек стал наследником ее отца, то такой человек вступит во владение наделом согласно законному порядку, если он находится с ней в родстве:
c
если же между ними такого родства нет, да и среди граждан, живущих в государстве, у нее тоже нет родных, то он вправе жениться на ней, согласно выбору опекунов и самой дочери покойного, вернуться на родину и получить надел ее отца, раз тот не оставил завещания.
Если же скончается, не оставив завещания, человек совершенно бездетный, то есть не имеющий ни дочерей, ни сыновей, то во всем остальном поступают согласно указанному раньше закону; в опустевший же его дом пусть войдут женщина и мужчина из его рода, на правах законных супругов, и надел пусть поступит к ним во владение.
d
Здесь на первом месте стоит сестра покойного, на втором – дочь его брата, на третьем – дитя сестры, на четвертом – сестра отца покойного, на пятом – дитя брата отца покойного, на шестом – дитя сестры его отца. Они будут жить вместе с ближайшими родственниками согласно правилам, установленным ранее данными нами законами. Не скроем тягостной стороны таких законов: тяжело это предписание, чтобы члены рода покойного женились на своей родственнице. По‑видимому, здесь упускается из виду, что среди людей подобные требования встретят тысячи препятствий;
e
им не захотят повиноваться, скорее соглашаясь подвергнуться чему угодно, чем вступить в брак против воли, в особенности с лицами больными или увечными телесно или духовно. Возможно, некоторым покажется, будто законодатель совсем не взвесил этого. Но это предположение неверно. Итак, в защиту законодателя и тех людей, кому он дает законы, надо предпослать, пожалуй, некое общее вступление и обратиться к подвластным с просьбой извинить законодателя, если он в своих заботах об общем благе не всегда вместе с тем сможет устранить личные несчастья, случающиеся с каждым из граждан.
926
С другой стороны, надо извинить и тех людей, которым законодатель дает законы, если иной раз они не смогут выполнить его предписания, ведь он дает их, не зная наперед многих обстоятельств.
Клиний.
Как же, чужеземец, было бы всего сообразнее поступить, раз встречаются такие трудности?
Афинянин.
Необходимо, Клиний, избрать посредников между этими законами и теми людьми, для которых они даны.
Клиний.
Что ты разумеешь?
b
Афинянин.
Иногда бывает, что племянник, сын богатого отца, не хочет добровольно взять замуж дочь своего дяди: он изнежен и рассчитывает на лучший брак. Бывает также, что он вынужден ослушаться законодателя, коль скоро от него требуют смириться с большим несчастьем, заставляя жениться на сумасшедшей родственнице или на такой, которая обладает иными телесными либо душевными недостатками, так что с ней и жизнь становится не в жизнь. Пусть наши соображения по этому поводу будут выражены в виде такого закона:
c
если кто жалуется на существующие законы о завещаниях по поводу брака или по какому‑нибудь иному поводу, если кто утверждает, что сам законодатель, будь он здесь и будь он жив, никогда в этом случае не принудил бы к такому деянию, то есть к женитьбе или выходу замуж, а между тем действующие законы к этому принуждают, то кто‑нибудь из членов семьи или из опекунов может возразить на это, что законодатель назначил пятнадцать стражей законов посредниками и отцами для сирот обоего пола.
d
К этим‑то стражам законов и надо обращаться для разбора любого сомнительного вопроса, и их решение подлежит исполнению. Если кто найдет, что тем самым придается слишком большое значение стражам законов, пусть он передаст дело на суд отобранных для этой цели судей, дабы они разобрали сомнительные стороны вопроса. Кто проиграет дело, тот подвергается порицанию и поношению со стороны законодателя; для человека с умом это более тяжкое наказание, чем большая денежная пеня.
e
А теперь поговорим как бы о вторичном рождении сирот. Ведь о вскармливании и воспитании после первого их рождения была речь раньше. После вторичного их рождения, когда они лишились родителей, следует подумать, каким образом сделать для них сиротскую долю как можно менее жалкой и несчастной. Прежде всего, говорим мы, закон дает им вместо родителей стражей законов в качестве не худших отцов. К тому же мы предпишем этим стражам постоянно заботиться о сиротах как о членах своей семьи. К ним и к опекунам мы обращаемся с подобающим случаю предупреждением относительно взращивания сирот.
927
Мне кажется, мы кстати упомянули в предшествующей речи о том, что души покойных сохраняют и после кончины какую‑то способность заботиться о делах человеческих. Все это верно, но требует длинного рассуждения. Здесь надо верить многочисленным и очень древним преданиям. С другой стороны, надо верить и законодателям, – коль скоро они не совсем выжили из ума, – что дело обстоит именно так.
b
Если дело обстоит так по самой природе, то стражи законов и опекуны должны прежде всего страшиться вышних богов, которые видят одиночество сирот, затем надо страшиться душ почивших, природе которых свойственна особая заботливость о своих потомках. Души эти благосклонны к тем, кто их почитает, к тем же, кто их не чтит, неблагосклонны. К тому же надо страшиться душ живых людей, достигших старости и величайшего почета, ведь где процветает государство с благими законами, там потомки нежно относятся к этим людям, украшая этой нежностью свою жизнь. Люди эти чутко прислушиваются к сиротам, зорко смотрят за ними
c
и благосклонны к тем, кто справедливо к ним относится. Зато особенно негодуют они на тех, кто грубо обходится с сиротами, ведь их они считают самым священным и ценным залогом. Правителю‑опекуну следует над всем этим поразмыслить, если только он не совсем лишен этой способности, и соблюдать осторожность в вопросах взращивания и воспитания сирот, оказывая по мере сил всевозможные благодеяния, этим он как бы делает взнос в свою пользу и в пользу своих детей. Кто будет послушен речи, предпосланной закону, и не совершит ничего грубого по отношению к сиротам, тому не придется быть свидетелем гнева законодателя.
d
Зато ослушник, допустивший несправедливость по отношению к сироте, оставшемуся без отца и матери, возместит весь понесенный сиротой убыток в двойном размере по сравнению с тем, что он должен был бы возместить, если бы обидел ребенка, у которого живы отец и мать.
Что касается остальных законов об опекунах и сиротах и о присмотре должностных лиц за опекунами, то у них есть образец для взращивания свободнорожденных детей: это те приемы, которые они применяют, взращивая своих собственных детей и заботясь о своих имущественных делах.
e
Здесь имеются соответствующим образом составленные законы. Если бы не это, то был бы некоторый смысл установить какие‑то законы об опекунстве, имеющие много своеобразных особенностей, с тем чтобы они внесли разнообразие в уклад жизни сирот в сравнении с несиротами. Но ведь теперь у нас положение сирот во всех этих отношениях не очень отличается от положения детей, имеющих родителей, и лишь в смысле почета и бесчестия, а также заботы положение детей, имеющих родителей, совершенно несравнимо с положением сирот.
928
Именно поэтому закон и отнесся особо ревностно к положениям, касающимся сирот, и прибег к увещаниям и угрозам. Очень уместно было бы еще и следующее указание: тот, кто поставлен опекуном над девочкой или мальчиком, и тот из стражей законов, кто присматривает за опекуном, должны любить ребенка, которому выпало на долю сиротство, не меньше, чем своих собственных детей. И об имуществе воспитанника они должны заботиться не хуже, чем об имуществе членов своей семьи.
b
Желательно даже, чтобы они более ревностно заботились об имуществе воспитанника, чем о своем собственном. Всякий опекун должен действовать, руководствуясь только этим законом о сиротах. Если же кто из упомянутых станет действовать здесь иначе, вопреки этому закону, то опекуна наказывает должностное лицо, а само должностное лицо может быть опекуном привлечено к суду отобранных для этой цели судей и наказано пеней, вдвое большей по сравнению с определенным судом ущербом. Если членам семьи либо кому‑нибудь из граждан покажется, что опекун небрежен или причиняет вред опекаемому, его привлекают к этому же самому суду. Причиненный ущерб он возмещает вчетверо,
c
причем половина этой суммы поступает в собственность ребенка, а другая – в пользу того, кто возбудил судебное дело. Достигнув зрелости, сирота может, если считает, что его плохо опекали, в течение пяти лет после истечения срока опеки привлечь своих опекунов к суду. Если кто‑нибудь из опекунов будет в этом уличен, суд решает, какому наказанию его подвергнуть. Если же кто‑либо из должностных лиц будет уличен в том, что своим небрежением повредил сироте,
d
суд решает, что ему надлежит выплатить ребенку. Если же кроме этого это лицо изобличено в несправедливости, то сверх пени его отстраняют от должности стража законов. Общее собрание граждан назначает взамен него другого стража законов для государства и всей страны.
Несогласия отцов со своими детьми и детей с родителями происходят в бульших размерах, чем подобает. При этом отцы считают, что законодатель должен был бы установить такой закон: отцу разрешается, если он пожелает, оповестить всех с помощью глашатая, что он отрекается от сына,
e
так что, согласно закону, он уже не будет считаться его сыном. Сыновья со своей стороны ожидают, что им будет позволено обвинить отца в безумии, когда он окажется разбит болезнью или старостью. Так действительно обычно бывает там, где нравы людей никуда не годны. Когда же беда бывает только наполовину, – например, когда отец не плох, а сын плох или наоборот, – тогда не случается таких несчастий и нет такой огромной вражды. В государствах с иным строем сын, от которого публично отрекся отец, не обязательно выбывает из страны. Но при нашем государственном строе, когда будут действовать эти законы, сыну, таким образом лишившемуся отца, неизбежно придется выселиться в другую страну.
929
Дело в том, что у нас нельзя прибавить к пяти тысячам сорока семьям ни одной лишней семьи. Поэтому не только отец, но и весь род должен отречься от такого человека, раз он по праву заслужил эту участь. Здесь следует поступать согласно такому закону: кого охватила – все равно, справедливо ли или нет, – несчастная страсть освободиться от родственных уз с тем, кого он породил и взрастил, тому не разрешается осуществить это сразу и попросту;
b
нет, сначала пусть он соберет свою родню, вплоть до двоюродных братьев и сестер, а равным образом и родню своего сына со стороны матери. Пусть он перед ними выскажет свои обвинения и покажет, что сын действительно заслуживает, чтобы от него публично отреклись все члены рода. И сыну пусть будет предоставлено слово, притом наравне с отцом, чтобы он мог показать, что вовсе не заслуживает подобного отношения. Если отцу удастся убедить родственников и он получит за себя более половины их голосов (причем не считаются голоса отца, матери и обвиняемого,
c
из остальных же родственников могут голосовать лишь достигшие зрелости женщины и мужчины), то, при соблюдении этих правил, отцу разрешается публично отречься от своего сына, но никак не иначе.
Нет закона, который бы запрещал усыновить того, от кого отреклась родня, если кто из граждан пожелает это сделать. Дело в том, что характер молодых людей обычно подвергается многим переменам в продолжение жизни.
d
Если в течение десяти лет никто не пожелает усыновить того, от кого отреклись родные, то попечители о потомстве, предназначенном для выселения в колонию, должны позаботиться о таких людях, чтобы они должным образом приняли участие в этом выселении.
Если кто, под влиянием какой‑нибудь болезни, старости, тяжелого нрава или всего, вместе взятого, станет сильно отличаться от большинства людей своим неразумием, причем для остальных это будет незаметно и лишь члены его семьи, живущие с ним вместе, сумеют это заметить, или если он владеет всеми своими способностями, но разоряет свою семью, а сын стесняется и медлит возбудить против него в суде обвинение в слабоумии,
e
то на этот случай устанавливается закон: прежде всего сын должен обратиться к самым престарелым из стражей законов и изложить им несчастье своего отца. Они же, достаточно рассмотрев это дело, дадут ему совет, надо ли возбуждать такое обвинение или нет[2177]
; если они посоветуют это сделать, они одновременно становятся и свидетелями против обвиняемого, и вместе с тем членами суда. Человек, признанный слабоумным, становится на все будущее время неправомочным распоряжаться своей собственностью, даже в мелочах, и остальную свою жизнь проводит на положении ребенка.
930
Если муж и жена совсем не подходят друг другу из‑за несчастных особенностей своего характера, то такими делами всегда должны ведать десять стражей законов среднего возраста, а также десять женщин из числа тех, что ведают браками. Если супруги могут примириться, их примирение будет иметь законную силу. Если же душевные бури их захлестывают, надо по возможности отыскать для каждого из них более подходящих супругов. Конечно, такие супруги не отличаются кротким нравом. Вот и нужно попробовать соединить с каждым из них характер более глубокий и кроткий. Если супруги находятся в разногласии между собой и к тому же бездетны или у них мало детей, то к новому супружеству следует прибегнуть и ради детей.
b
Если же количество детей достаточно, то развод и новое заключение брака следует произвести ради спокойной старости друг подле друга и взаимных забот.
Если жена скончается, оставив детей женского и мужского пола, то закон не принуждает, но советует, чтобы отец растил оставшихся детей, не вводя в свой дом мачехи. Если детей нет, необходимо вступить в новый брак, пока не народится достаточное количество детей для семьи и для государства.
c
Если же муж умрет, оставив достаточное количество детей, то мать пусть продолжает жить в доме умершего мужа и растить детей. Если же она окажется слишком молодой для того, чтобы без вреда для здоровья оставаться незамужней, то ее близкие должны переговорить с женщинами, заботящимися о брачных делах, и исполнить то, что будет решено ими и этими женщинами. Если у молодой жены нет детей, то она должна вступить в новый брак ради детей. Один мальчик и одна девочка считаются по закону уже достаточным количеством детей.
d
Если нет сомнений, от каких родителей ребенок появился на свет, но нужно еще решить, кому из них надо отдать ребенка, то при связи рабыни с рабом, свободнорожденным человеком или вольноотпущенником ребенок в любом из этих случаев признается принадлежащим хозяину рабыни. Если же свободнорожденная женщина сойдется с рабом, ребенок принадлежит хозяину раба. Если ребенок родится от собственной рабыни или от собственного раба, причем это будет совершенно явным, то ребенка, прижитого свободнорожденной женщиной от раба, пусть женщины отошлют в другую страну вместе с его отцом;
e
ребенка же свободнорожденного человека, прижитого от рабыни, пусть стражи законов отправят в другую страну с его матерью.
Пренебрегать родителями никому не посоветует ни бог, ни какой бы то ни было человек, обладающий разумом. Надо усвоить, что это предварительное слово относительно почитания богов направлено к верному пониманию вопроса о почитании или непочитании родителей. Древние законы относительно богов у всех народов двояки. Мы почитаем тех богов, которых видим воочию;
931
других богов мы чтим в изображениях, воздвигая им статуи, причем считаем, что этим своим почитанием неодушевленных изображений мы снискиваем благорасположение и милость богов одушевленных. Так вот, у кого в доме есть драгоценный клад в виде отца, матери или их обремененных старостью родителей, тот не должен думать, будто у него может появиться более значительная святыня: нет, родители в его доме составляют святыню его очага, если хозяин дома должным образом оказывает им почтение.
b
Клиний.
А в чем же состоит эта правильность?
Афинянин.
Об этом я сейчас и скажу, потому что, друзья мои, подобные вещи стоит послушать.
Клиний.
Только бы ты говорил!
Афинянин.
Мы утверждаем, что Эдип, покрытый бесчестьем, взмолился о той участи для своих детей, которая их и постигла: значит, правильно говорят все, что он был услышан богами[2178]
. Разгневанный Аминтор проклял своего сына Феникса, Тесей – Ипполита[2179]
. Можно было бы привести бесчисленное множество таких примеров,
c
из которых явствует, что боги внимают мольбам родителей, обращенным против детей[2180]
. Действительно, проклятие родителя своим детям справедливо, как никакое иное. Раз бог внимает покрытому бесчестьем отцу или матери в их молитвах, направленных против детей, то неужели же не естественно, если отец, чрезвычайно обрадованный почтением со стороны своих детей, станет в своих молитвах неустанно желать им всякого добра и боги также внемлют этой молитве и уделят нам это благо?
d
В противном случае боги не были бы справедливыми подателями всяческих благ, что, как мы утверждаем, всего менее подобает богам.
Клиний.
Разумеется.
Афинянин.
Так поразмыслим же над тем, что мы сказали немного ранее: у нас не может быть никакой святыни, более ценной пред лицом богов, чем отец или дед, согбенные старостью; такое же значение имеет и мать. Если человек их почитает, бог радуется; иначе он не внял бы их мольбам.
e
Чудесная это у нас святыня – наши предки, в особенности по сравнению с неодушевленными статуями. Одушевленные святыни присоединяют свои молитвы к нашим, если мы оказываем им почтение, и не присоединяют свои молитвы к нашим, если их не почитают; статуи же не делают ни того ни другого. Стало быть, человеку действительно надо прибегать к отцу, к деду и другим подобным им лицам, раз у него есть такие самые значительные из всех святынь, для обретения участи, любезной богам.
Клиний.
Прекрасно сказано!
Афинянин.
Всякий человек, имеющий разум, страшится родительских молитв и чтит их, так как знает, что у многих они много раз исполнялись. Коль скоро это природой устроено именно так,
932
то для хороших людей находка – престарелые предки, достигшие крайних пределов жизни, а их ранний уход из жизни – потеря; для людей же дурных такие предки очень и очень страшны. Поэтому пусть теперь все, поверив нашим словам, оказывают всевозможный почет своим родителям. Если же кто будет глух к мыслям, выраженным в подобных вступлениях, то на этот случай правильно было бы установить следующий закон: если кто в нашем государстве пренебрежет своим долгом по отношению к родителям и не станет поощрять и исполнять все их желания скорее, чем желания своих сыновей, всех своих детей
b
и даже чем свои собственные, пусть пострадавший известит, сам или через посланного, трех самых престарелых стражей законов, а также трех женщин – попечительниц браков. Они уж позаботятся и накажут обидчиков побоями и тюрьмой, если те молоды: это касается мужчин до тридцати лет,
c
а женщин же можно подвергать тем же наказаниям, если они еще на десять лет старше. Коль скоро люди, перешедшие за этот возраст, не оставят небрежности в отношении к родителям, но станут причинять им зло, они привлекаются к суду самых престарелых граждан числом сто один человек. Суд этот решит, какому наказанию должен подвергнуться виновный; при этом не запрещаются никакие взыскания и пени из тех, которым только можно подвергнуть человека.
d
Если же терпящие зло родители не в силах известить стражей законов, пусть всякий узнавший об этом гражданин из числа свободнорожденных людей их уведомит. В противном случае он будет признан плохим гражданином, и всякий желающий может привлечь его к суду за вредный образ действия. Если донесет об этом раб, он получает свободу. Если раб этот принадлежит обидчику или обиженному, власти просто отпускают его на волю; если же он принадлежит кому‑то другому из граждан, государственная казна выплачивает его стоимость владельцу. Пусть правители позаботятся, чтобы никто не обидел его, мстя за донос.
e
Что касается вреда, причиняемого друг другу людьми с помощью разных снадобий, то мы уже разобрали вопрос о смертоносных ядах. Но остался еще совсем не разобранным вопрос о разных других способах наносить вред при помощи напитков, яств, мазей, если человек добровольно и с заранее обдуманным намерением к ним прибегает. Дело в том, что есть два вида отрав, применяемых человеческим родом; это‑то обстоятельство и мешает внести здесь ясность. Тот вид, о котором мы только что высказались с полной определенностью, заключается в нанесении естественного вреда одному телу с помощью другого.
933
Второй вид – нанесение вреда с помощью ворожбы, заклинаний и так называемых магических узлов – убеждает людей, отваживающихся таким путем наносить вред, в том, что они действительно в состоянии это сделать, а других – в том, что они более всего понесли вреда именно от людей, умеющих пускать в ход чары. Трудно узнать, что именно происходит в подобных случаях; впрочем, даже если кто и узнает, трудно убедить в этом других. Не стоит и пытаться воздействовать на души людей,
b
подозревающих друг друга в подобных вещах. Если они увидят где‑нибудь у дверей, на перекрестках или у могильных памятников своих родителей вылепленные из воска изображения, не стоит советовать им не обращать на это внимания, ведь у них такие неясные представления обо всем этом[2181]
!
Разделим на две части закон об отраве и ворожбе соответственно с тем, к какому виду ворожбы или отравы человек прибегает. Прежде всего надо просить, увещевать и советовать не делать этого
c
и не устрашать большинство робких, словно дети, людей. С другой стороны, не следует заставлять законодателя и судью врачевать подобные людские страхи, ведь пытающийся отравлять не знает, чту именно он делает с телом, раз он несведущ в врачевании; то же самое касается и ворожбы, раз человек не является прорицателем и гадальщиком.
d
Закон же об отравлении и ворожбе будет выражен так: если кто применяет отраву не с целью причинить смерть человеку или его домочадцам, но с целью нанести какой‑то вред или даже смерть его стадам или роям пчел, то, если отравитель врач и будет уличен судом в отравлении, он будет наказан смертью. Если же это обычный человек, суд решит, какому наказанию или штрафу его подвергнуть. Если окажется, что человек из‑за своих магических узлов, заговоров и заклинаний уподобился тому,
e
кто наносит другому вред, пусть он умрет, если он прорицатель или гадальщик. Если же он чужд искусства прорицания и все‑таки будет уличен в ворожбе, пусть его постигнет та же участь, что и отравителя из числа обычных людей; пусть суд решит, какому наказанию его следует подвергнуть.
Что касается вреда, наносимого друг другу воровством или насилием, то, чем больше вред, тем больше и возмещение убытков в пользу пострадавшего, а чем меньше вред, тем меньше и наказание. Говоря в целом, наказание должно возместить причиненный ущерб. За каждое злодеяние надо расплачиваться последующим возмездием, ради вразумления.
934
Возмездие будет легче, если злодеяние совершено по неразумию, когда преступник молод и поддался чьему‑либо внушению, а также в других подобных случаях. Тяжелее оно будет, если преступление совершено по собственному неразумию, из‑за невоздержанности в удовольствиях и страданиях, из страха и робости, из‑за страстей, зависти и неисцелимого гнева. Такого человека правосудие постигнет не за совершенное деяние – ведь совершившееся никогда уже не сможет стать несовершившимся, – но ради того,
b
чтобы в будущем он либо полностью возненавидел несправедливость, – а также чтобы возненавидели ее все те, кто видел суд над ним, – либо хотя бы частично избавился от подобного несчастья. Ради всего этого законы должны, имея в виду такие вещи, прицеливаться, как хороший стрелок, чтобы определить размер наказания за каждый проступок в отдельности и присудить преступника к тому, чего он заслуживает. Судья занимается тем же самым и должен помогать законодателю, когда закон предоставляет суду решить, чему подвергнуть подсудимого или что с него взыскать. А законодатель, точно живописец,
c
должен сделать набросок деяний, следующих за его записанным словом. Это и надо, Мегилл и Клиний, нам теперь сделать, причем как можно лучше и совершеннее. Нам надо наметить те наказания, которые должны следовать за воровством и всевозможным насилием, чтобы боги и дети богов разрешили нам издавать законы.
Сумасшедшие не должны показываться в городе. Их близкие пусть охраняют их в своем доме как умеют. В противном случае они должны будут уплатить пеню:
d
принадлежащий к высшему классу – сто драхм, если он оставляет без присмотра раба или свободнорожденного; принадлежащий ко второму классу – четыре пятых мины; третий класс – три четверти мины; четвертый – две трети. С ума сходят многие и по‑разному: одни, о которых мы и говорим, – из‑за болезней; бывает это из‑за дурной природы духа и дурного воспитания; иные при возникновении незначительной неприязни сильно возвышают голос
e
и начинают поносить и ругать других. Ничего подобного ни в коем случае не должно происходить в благоустроенном государстве.
Относительно злословия пусть будет один закон для всех, а именно следующий: пусть никто никого не злословит. Если же, беседуя, люди расходятся во мнениях, то надо их понять и наставить – как противника, так и всех присутствующих, – всячески воздерживаясь от злословия. Дело в том, что из взаимных поношений вырастает женская привычка обзывать друг друга позорными именами;
935
таким образом, из пустяка, из легковесных сначала слов вырастает действительная ненависть и самая тяжкая вражда. Спорщик с удовольствием отдается неприятному чувству гнева. Своей злобе он дает плохую пищу: снова становится дикой та часть его души, которая была некогда укрощена воспитанием. Озверев, он живет в раздражении, зато он пожал горькую радость гнева. Опять‑таки при спорах все привыкают переступать границы
b
и подымать на смех своего противника. А кто к этому привык, тот либо вовсе утрачивает серьезность характера, либо во многом теряет возвышенный склад ума. Поэтому в священных местах никто не должен никогда произносить ничего подобного; точно так же и при общенародных жертвоприношениях, на состязаниях, на торговой площади, в суде или общих собраниях. Правитель, ведающий этими делами, пусть невозбранно карает каждого провинившегося. Иначе он не может претендовать на отличия,
c
ибо он не заботится о законах и не исполняет предписаний законодателя. Если кто‑нибудь станет браниться в других местах, хотя бы даже обороняясь, и не удержится от злых слов, пусть на защиту закона выступит любой, кто старше годами, и ударами – другим злом – изгонит тех, что так склонны к гневу. В противном случае он подвергнется установленному наказанию.
d
Мы сейчас сказали, что человек не может не искать повода поднять на смех своего противника, когда тот его поносит, но мы порицаем это тогда, когда насмешка сопровождается гневом. Но как же так? Ведь и сочинители комедий стремятся подымать людей на смех. Допустим ли мы их выступления в тех случаях, когда они без гнева высмеивают в комедиях граждан? Не разграничить ли нам здесь две стороны: забаву и ее противоположность? Например, в виде забавы всякому будет дозволено говорить о любом человеке смешные вещи, однако без гнева;
e
тому же, кто высмеивает с неприязнью и гневом, это не будет разрешено, как мы только что и сказали. Вопрос этот никак нельзя оставить в стороне: надо определить законом, кому разрешается осмеяние, а кому нет. Комическому, ямбическому или мелическому поэту вовсе не разрешается ни на словах, ни с помощью жестов, все равно, делается ли это с гневом или без гнева, высмеивать кого‑либо из граждан. Ослушника устроители состязаний изгоняют из страны в тот же день.
935
В противном случае они должны будут заплатить три мины, посвящаемые тому богу, в честь кого происходило состязание. Что же касается тех лиц, которые могут, как мы сказали раньше, делать это друг по отношению к другу, то им такое высмеивание разрешается, однако лишь в том случае, если оно совершается без гнева, как забава. Всерьез и с гневом это не разрешается. Различать это поручается попечителю всего в целом воспитания молодежи: чту он одобрит, то человек, сочинивший шутку, может использовать публично; а что он отвергнет, того этот человек не должен никому показывать и не должен дать застигнуть себя на том,
b
что он научил этому другого, раба ли или свободнорожденного. В противном случае он будет признан плохим гражданином и ослушником законов.
Сострадание вызывает не просто тот, кто голоден или испытывает другую подобную нужду, но тот, кто рассудителен, обладает какой‑нибудь добродетелью или ее частью и при этом все же попал в беду. Поэтому было бы удивительно, если бы человек с такими качествами оказался в полном пренебрежении и дошел бы до крайней нищеты (причем все равно, раб это или свободнорожденный) в стране с приличным государственным устройством. Законодателю надо установить примерно такой незыблемый закон:
c
нищих совсем не будет в нашем государстве; если кто попытается нищенствовать, снискивая себе пропитание нескончаемыми просьбами, того агораномы прогонят с торговой площади, астиномы – из города, из остальной же части страны его вышлют за пределы государства агрономы, чтобы страна совершенно очистилась от подобных лиц.
Если раб или рабыня причинят какой‑либо вред чужому имуществу – по своей неопытности или из‑за какого‑нибудь иного вида безрассудства,
d
причем без всякой вины самого пострадавшего, – то хозяин нанесшего вред раба должен либо полностью возместить причиненный ущерб, либо передать пострадавшему самого раба, сделавшего это. Если же хозяин, которому предъявлено обвинение, станет утверждать, что оно предъявлено ему для того, чтобы отнять у него раба, и что это вообще уловка со стороны нанесшего вред раба и пострадавшего лица, пусть он привлечет к суду того, кто заявил о злостно нанесенном ему вреде. Если он выиграет дело, то получит двойную стоимость раба по оценке суда;
e
если проиграет, то должен возместить причиненный ущерб, а также передать пострадавшему и раба. Равным образом надо возместить ущерб, причиненный соседу чьим‑то вьючным животным, лошадью, собакой или другими домашними животными.
Если кто не хочет добровольно явиться свидетелем в суд, его вызывает тот, кому нужен свидетель. После вызова он должен явиться в суд; если он знает что‑нибудь по делу и может дать свидетельские показания, пусть будет свидетелем;
937
если же он заявит, что ничего не знает, то должен поклясться тремя богами – Зевсом, Аполлоном и Фемидой[2182]
, что он действительно ничего не знает; тогда он отпускается из суда. Если же кто вызван для дачи показаний, но не явился по вызову, то он ответствен по закону за причиненный ущерб. А если кто‑нибудь выставляет в качестве свидетеля кого‑то из судей, то судья после дачи показаний уже не имеет права голоса в этом деле. Свободнорожденной женщине разрешается быть свидетельницей, выступать в качестве защитницы (если ей уже минуло сорок лет) и вести судебное дело, если у нее нет мужа. При жизни мужа ей разрешается выступать только как свидетельнице. Рабу, рабыне и ребенку разрешается быть свидетелями
b
и выступать в качестве защитников лишь по делам об убийстве, если только они представят достойного поручителя в том, что не уклонятся от суда, коль скоро свидетельство их будет признано ложным. Каждая из тяжущихся сторон может, до окончательного решения суда, обвинить в ложных показаниях и всех свидетелей в целом, и их часть. Обвинения эти хранятся у должностных лиц за печатями той и другой стороны и доставляются, когда идет разбор ложности свидетельских показаний. Если кто будет дважды уличен в лжесвидетельстве,
c
закон далее уже не привлекает его для дачи свидетельских показаний; если же трижды – он впредь вообще лишается права давать свидетельские показания. Если же пойманный трижды в лжесвидетельстве осмелится выступать со свидетельскими показаниями, пусть на него донесет правителям всякий желающий. Правители предадут его суду, и, если он окажется виновным, он будет наказан смертью. Если судом будет установлена ложность показаний тех свидетелей, которые обеспечили победу лицу, выигравшему судебное дело, причем таких лжесвидетелей окажется бульшая половина,
d
судебное дело, выигранное при подобных условиях, признается недействительным и спорным и производится его пересмотр, все равно, будет ли выноситься решение при тех же условиях или нет, но в чью бы пользу оно ни было принято, пусть так и будет, и этим заканчивается предшествующее дело.
Хотя есть много прекрасного в жизни человеческой, но к очень многим вещам как бы пристали язвы, которые пятнают и марают их красоту. Да вот хотя бы правосудие – какое это прекрасное дело среди людей!
e
Оно смягчило все человеческие отношения. Но раз оно так прекрасно, как не быть прекрасной также и защите? Однако, несмотря на это, некая злостная клевета затмевает прекрасное имя искусства, утверждая прежде всего, что существует некая уловка в судебных делах, состоящая в том, что судишься ли сам или защищаешь в суде другого, можно выиграть дело независимо от того, прав ли человек или нет:
938
мол, если хорошо заплатишь, то и получишь в дар как это искусство, так и основанные на нем речи. Следовательно, нам в нашем государстве – и это будет самое лучшее – надо особенно следить за тем, чтобы не допускать такого рода искусства или, вернее, уловки, приобретаемой долгим опытом. Либо надо, чтобы оно послушалось просьб законодателя и не высказывалось бы против правды; либо, что еще лучше, пусть отправляется в другую страну. Послушных закон обходит молчанием, для ослушников же он гласит так:
b
если окажется, что человек пытается отвратить души судей в сторону, противоположную справедливости, и растягивает судебное дело либо неуместно выступает с защитой, всякий желающий может обвинить его в злоупотреблении судом или в злонамеренной защите. Тогда дело решается в суде отобранных для этой цели судей. Если обвиненный будет уличен, суд выясняет, что побудило его к такому поступку: корыстолюбие или честолюбие? Если окажется, что честолюбие, то суд определяет, на какой срок виновный лишается права предъявлять иск или выступать как защитник;
c
если же его побудило корыстолюбие, то чужеземец должен покинуть страну и никогда больше не возвращаться, иначе он будет наказан смертью; гражданин же должен быть казнен за свое корыстолюбие, которое он ценил превыше всего. Смертная казнь назначается и в том случае, если кто‑нибудь будет признан вторично действовавшим под влиянием честолюбия.
Перевод А. Н. Егунова.
В кн.: Платон. Законы. М.: «Мысль», 1999
КHИГА XII
941
Если кто самозванно выступит в чужом государстве в качестве государственного посла либо глашатая или если какой‑нибудь посол известит не о том, что ему было поручено, а также неверно передаст ответы, полученные от друзей или неприятелей, – иными словами, если человек явно злоупотребит своим званием посла или глашатая, против него надо возбудить судебное дело, так как он вопреки законам нечестиво нарушил поручения и наставления Гермеса и Зевса. В случае признания его виновным надо определить ему то или иное наказание либо пеню.
b
Кража чужой собственности – поступок неблагородный, а грабеж – бессовестное дело. Никто из сынов Зевса не прибегал, для собственного удовольствия, ни к тому, ни к другому ни путем обмана, ни путем насилия. Стало быть, никто не должен дать себя убедить и обмануть ни поэтам, ни другим сочинителям басен, утверждающим, будто можно пренебрегать этими вещами[2183]
: нельзя, совершая кражу или насилие, считать, что в этих поступках нет ничего позорного, на том основании, что так поступают и сами боги. Это далеко от истины и неправдоподобно. Нет, кто поступает так беззаконно, тот не бог и не сын бога.
c
Здесь законодателю подобает иметь больше сведений, чем всем поэтам, вместе взятым. Итак, кто послушен нашему учению, тот благоденствует, и пусть благоденствует он всегда! Ослушнику же пусть противостоит примерно следующий закон: того, кто украдет что‑нибудь из общегосударственного достояния, будет ли это большая вещь или маленькая, – того в обоих случаях постигнет одинаковое наказание. Дело в том, что при мелкой краже побуждение то же самое,
d
только сил у вора меньше. Человек, похитивший что‑то крупное, отложенное не им самим, совершает в высшей степени несправедливый поступок. Итак, закон требует в том и в другом случае одинакового наказания независимо от размеров кражи. При этом имеется в виду, что в одних случаях преступник еще может, пожалуй, исправиться, в других же он неисправим. Если, таким образом, при судебном разбирательстве уличат в краже общегосударственного достояния какого‑нибудь чужеземца или раба, он, естественно, еще может исправиться:
942
пусть суд решит, какому наказанию его надо подвергнуть или какую пеню он должен уплатить. Зато гражданина, воспитывавшегося должным образом, надо, пожалуй, как неисправимого покарать смертью, если он будет уличен в насильственном расхищении отечества; при этом безразлично, захватят ли его на месте преступления или нет.
Что касается военных походов, то здесь надо многое обсудить, да и законов придется дать немало. Самое главное здесь следующее: никто никогда не должен оставаться без начальника – ни мужчины, ни женщины. Ни в серьезных занятиях, ни в играх никто не должен приучать себя действовать по собственному усмотрению:
b
нет, всегда – и на войне и в мирное время – надо жить с постоянной оглядкой на начальника и следовать его указаниям. Даже в самых незначительных мелочах надо ими руководствоваться, например по первому его приказанию останавливаться на месте, идти вперед, приступать к упражнениям, умываться, питаться и пробуждаться ночью для несения охраны и для исполнения поручений. Даже в самых опасных обстоятельствах нельзя преследовать врага или отступать иначе как по разъяснению начальников.
c
Словом, пусть человеческая душа приобретет навык совершенно не уметь делать что‑либо отдельно от других людей и даже не понимать, как это возможно. Пусть жизнь всех людей всегда будет возможно более сплоченной и общей. Ибо нет и никогда не будет ничего лучшего, более полезного и искусного в деле достижения удачи и победы на войне. Упражняться в этом надо с самых ранних лет, причем и в мирное время. Надо начальствовать над другими и самому быть у них под началом. А безначалие должно быть изъято из жизни всех людей
d
и даже животных, подвластных людям[2184]
. Надо заниматься всеми видами хоровых плясок, поскольку это приводит к военным отличиям. Ради той же цели надо развивать подвижность и ловкость, воздержанность в пище и в питье, выносливость в зимнюю стужу и во время летнего зноя, умение спать на жестком ложе. Самое же главное – не следует портить силу головы и ног, облекая их лишними покровами,
e
ведь этим губят данные нам природой головные уборы и подметки. Поддержание этих крайних частей в здоровом состоянии имеет весьма важное значение для всего тела, плохое же их состояние очень вредно: ноги служат всякому телу главными исполнителями, голова же – самым главным начальником, так как природа именно в ней сосредоточила основные ощущения.
943
Для слуха молодого человека полезна такая похвала воинской жизни, а также следующие законы: кто будет зачислен по спискам или назначен в какой‑нибудь отряд, тот должен выступить в поход. Если же кто уклонится от этого по злостной небрежности, без разрешения на то военачальников, то, когда войско вернется из похода, его надо привлечь к суду военных должностных лиц за уклонение от воинской службы. Все участники похода принимают участие в суде по категориям:
b
отдельно – суд гоплитов, отдельно – суд всадников и отдельно – суды представителей каждого другого рода войска, причем провинившихся гоплитов надо привлекать к суду гоплитов, провинившихся всадников – к суду всадников и так далее. Признанный виновным навсегда исключается из состязаний в доблести, не может привлекать к суду другого по обвинению в уклонении от военной службы, не может выступать обвинителем в подобных делах. Кроме того, суд назначит ему дополнительно какое‑нибудь наказание или денежную пеню. После того как будет закончено судебное разбирательство по вопросу об уклонении от военной службы, начальники каждого рода войск снова созывают собрание,
c
на котором всякий желающий принимает участие в присуждении знаков отличия своим товарищам по оружию. При этом нельзя ссылаться на предшествовавшую войну, приводить ее в подтверждение своего права и подкреплять это свидетельскими показаниями: надо основываться только на походе, совершенном в последний раз. Победным отличием для каждого будет служить венок из листьев оливы. Его можно посвятить, по своему выбору, богам – покровителям войны с надписью, свидетельствующей, за какое отличие был на всю жизнь присужден этот венок. То же самое можно сделать и с наградой, полученной за второе и третье места.
d
Если кто отправится в поход и до истечения срока вернется домой, между тем как правители еще не дали распоряжения о возвращении, то против него возбуждается обвинение в дезертирстве и дело это решается теми же судьями, что ведают делами об уклонении от военной службы. Для признанных виновными назначаются те же наказания, что и в первом случае. При назначении любого наказания (δίκην) любому человеку каждый должен по возможности остерегаться назначить его незаслуженно – ни умышленно, ни невольно.
e
Ибо Правда (Δίκη) справедливо слывет теперь, да и раньше слыла девственной дочерью Совестливости, а ложь, естественно, ненавистна как Совестливости, так и Правде[2185]
. Следовательно, и в остальных вопросах надо остерегаться нарушения правосудия, особенно же так следует поступать при разборе дел о потере оружия на войне, чтобы не ошибиться и не счесть достойным порицания позором настоятельную необходимость, ведь тогда наказание недостойно будет присуждено человеку, его не заслуживающему. Правда, здесь очень нелегко разграничить то и другое;
944
однако закон так или иначе должен попытаться произвести это разграничение в отдельных случаях. Привлечем на помощь мифы и приведем примеры: если бы Патрокл, принесенный к шатру без оружия, пришел в себя, как это бывало с воинами бесчисленное множество раз, случившимся тогда подлым людям можно было бы упрекнуть сына Менетия в том, что он бросил оружие, поскольку то исконное вооружение Пелея, которое, как говорит поэт, боги даровали в приданое Фетиде, когда она вступила с ним в брак, оказалось у Гектора[2186]
. Затем можно упомянуть всех тех, кто потерял свое оружие
b
при падении с кручи, на море или в местах, подверженных бурям, когда на воинов вдруг изливаются обильные потоки воды. Словом, есть бесчисленное множество подобных случаев, приводя которые можно извинить себя, отговориться и прикрасить свою беду, которая так легко дает пищу клевете. Поэтому по мере сил надо отграничить случаи действительно тягостного несчастья от им противоположных. Впрочем, некоторое разграничение заключено уже чуть ли не в самом словоупотреблении при выражении порицания: дело в том, что во многих случаях правильно было бы говорить не о «бросившем свой щит», но лишь о «потерявшем свое оружие».
c
Ведь не в одинаковом положении бывает «бросивший свой щит», когда щит у него был отнят насильно или когда он сам его кинул; здесь огромная разница по существу.
Поэтому закон пусть гласит так: если кого захватят враги, он же не обратит против них своего оружия, не даст отпора, а добровольно уступит или бросит свое оружие, то есть предпочтет сохранить свою позорную жизнь, а не снискать себе прекрасную и блаженную мужественную кончину, то при подобной «потере оружия» он подлежит обвинению как бросивший его;
d
в указанном же раньше случае пусть судья прекратит разбирательство[2187]
. Надо всегда карать человека дурного, чтобы его исправить, но не надо карать несчастного: это ни к чему не ведет. Однако какое наказание может оказаться полезным для человека, который получил оружие для защиты, а вместо того, напротив, его кинул? Ведь невозможно придать человеку противоположные качества, как это, согласно мифу, некогда совершил бог, превративший фессалийскую женщину в мужчину – Кенея[2188]
. Для человека, бросившего свой щит, всего более подобало бы обратное превращение,
e
то есть из мужчины в женщину, это и было бы наказанием. Но поскольку он очень близок к этому из‑за своего чрезмерного жизнелюбия, то для того, чтобы остальную свою жизнь он не подвергался опасностям, но жил как можно дольше, покрытый позором, пусть будет издан следующий закон: муж, уличенный в позорной утрате воинского оружия, не будет использован никаким стратегом и никаким иным военачальником как воин
945
и не будет зачислен ни в какой военный отряд; в противном случае, то есть коль скоро такого негодного человека кто‑нибудь зачислит в отряд, пусть евфин[2189]
оштрафует виновного на тысячу драхм, если он принадлежит к самому высшему классу, на пять мин – если ко второму, на три мины – если к третьему и на одну мину – если к четвертому. Что же касается человека, изобличенного в трусости, то, кроме того что из‑за своей природы он будет избавлен от опасностей, которым подвергаются мужественные люди, он должен уплатить пеню в размере тысячи драхм, если принадлежит к высшему классу, пяти мин – если ко второму, трех мин – если к третьему
b
и одну мину – если к четвертому: одним словом, наказание такое же, как для виновного в зачислении.
Чем следовало бы нам руководствоваться при назначении евфинов? Ведь одни из должностных лиц у нас назначаются по жребию сроком на год, другие – на большее количество лет путем косвенных выборов. Можно ли быть удовлетворительным евфином для таких должностных лиц? Ведь не исключено, что кто‑то из них, изнемогая под бременем своей должности, выскажет или сделает что‑либо неправое или у него не хватит сил для достойного отправления своей должности. Вовсе не легко найти правителя над правителями,
c
притом еще выделяющегося своей добродетелью. Однако надо все‑таки попытаться найти таких божественных евфинов: этого требует дело. В государственном устройстве имеется немало приспособлений, оберегающих его от распада, все равно как канаты и скрепы на корабле или сухожилия у какого‑нибудь живого существа. Хотя называются они по‑разному, суть у всех них едина. Одно из таких приспособлений, благодаря которому государство сохраняется, без которого же распадается и гибнет, состоит в следующем:
d
всякая страна и государство благоденствуют и процветают, если евфины в них лучше, чем подотчетные им должностные лица, и если там господствует безупречная справедливость. Если же дело с подотчетностью должностных лиц обстоит иначе, если нарушена справедливость, связующая воедино все органы государственного управления, тогда власть разлагается, в отправлении должностей наступает разноголосица, не преследуется общая цель, а это ведет к уничтожению государственного единства,
e
наполняет государство междоусобицами и ведет его к скорой гибели. Поэтому‑то евфины и должны особенно отличаться всяческой добродетелью.
Учредим назначение евфинов следующим образом: ежегодно после поворота солнца от лета к зиме все государство собирается на священном участке, посвященном Гелиосу и Аполлону[2190]
. Там пред лицом бога пусть каждый назовет того,
946
кого он считает во всех отношениях наилучшим, за исключением самого себя, – причем названный должен быть не моложе пятидесяти лет. Всего таких лиц надо избрать три. [Порядок избрания следующий]: из числа предложенных лиц, получивших наибольшее число голосов, следует отобрать не менее половины, если общее их число четное. Если же оно нечетное, то надо изъять одного, именно того, кто получил за себя всего менее голосов, а из оставшихся отвергнуть большинством голосов половину. Если же некоторые получат равное число голосов и общее количество таких лиц превысит половину,
b
надо излишек отвергнуть, начиная с самых младших, а остальных поставить на голосование еще раз, пока трое из них не получат неравного числа голосов. Если же у всех троих или у двух из них получится равное число голосов, то надо обратиться к благой судьбе и жребию и с его помощью определить, кто одержал верх, кто стоит вторым и кто третьим, после чего увенчать их масличным венком, воздать им всем почести и провозгласить во всеуслышание: «Государству магнетов снова, с божьей помощью, удалось спастись: оно представило Гелиосу из своей среды троих наилучших мужей. Их оно, согласно древнему закону, и посвящает как лучшую свою часть Аполлону и Гелиосу на все то время, пока не истечет срок их избрания».
c
Эти лица назначат на первый год двенадцать евфинов, которые и останутся в должности, пока им не исполнится семидесяти пяти лет[2191]
. На будущее же время надо ежегодно назначать еще троих евфинов. Они поделят все государственные должности на двенадцать частей и подвергнут их всевозможным пригодным для свободнорожденных людей испытаниям. Пока евфины отправляют свою должность,
d
они будут жить на священном участке Аполлона и Гелиоса, где они и были избраны. Отчасти каждый в отдельности, отчасти же сообща друг с другом они подвергнут рассмотрению деятельность всех должностных лиц и доложат об этом государству, поместив на площади свои записи относительно каждой государственной должности с указанием, чему дулжно подвергнуть, по мнению евфинов, то или иное должностное лицо или какую на него следует наложить пеню. Если какое‑нибудь должностное лицо усомнится в справедливости этого суждения, оно может привлечь евфинов к суду отобранных для этой цели судей и, если докажет неправильность отчетов,
e
может обвинить самих евфинов. Если же вина должностного лица будет доказана и ему будет назначена евфинами смертная казнь, пусть это лицо будет попросту казнено, коль скоро невозможно умереть дважды; другие же наказания, которые можно удвоить, пусть назначаются в двойном размере.
Однако надо выслушать, какова будет подотчетность самих евфинов и каким образом она будет осуществляться. При жизни евфинов им будут оказываться знаки почета со стороны всего государства.
947
Так, им будут предоставлены первые места на всех всенародных праздничных собраниях; затем при общеэллинских жертвоприношениях и театральных представлениях или при каких‑либо других общих священнодействиях именно из их среды посылают лиц, возглавляющих феорию[2192]
. Только они одни из граждан имеют право быть украшенными лавровым венком. Все они будут жрецами Аполлона и Гелиоса, а один из них ежегодно будет избираться верховным жрецом на год. Имя верховного жреца будет ежегодно отмечаться,
b
так что это послужит мерой для исчисления времени до тех пор, пока существует государство. Для скончавшихся евфинов назначаются похороны – выставление тела, вынос его и погребение, – отличные от похорон прочих граждан: покойник будет облачен во все белое; не будет ни плача, ни рыданий; хоры из пятнадцати девушек и другой, из юношей, стоя вокруг ложа, будут поочередно возносить песенную хвалу вроде гимна скончавшемуся жрецу,
c
прославляя его таким образом целый день. На другое утро ложе с покойником отнесут к гробнице сто юношей из числа посещающих гимнасии, по выбору родственников покойника. Впереди пойдут неженатые молодые люди, все в воинском облачении, затем – всадники на конях, гоплиты во всеоружии и точно так же все остальные. Отроки, тесно обступая самый перед ложа, будут петь отечественный гимн.
d
За ложем последуют девы, а также женщины, уже не могущие быть матерями. Далее последуют жрецы и жрицы, которые могут участвовать в этом не оскверняющем их погребении, тогда как при всех остальных погребениях они исключаются; впрочем, участие жрецов и здесь допускается только в том случае, если на это даст свое согласие Пифия[2193]
. Склеп для евфинов будет устроен под землей, в виде вытянутого в длину свода, из камней пористых, но как можно более прочных; там, друг подле друга, будут стоять каменные ложа,
e
куда и надо возложить того, кто стал причастен блаженству[2194]
. Кругом следует насыпать холм, обсадив его со всех – кроме одной – сторон древесной рощей. Одну сторону надо оставить, чтобы склеп с этой стороны мог быть расширен в будущем, когда понадобится больше места для почивших. В честь евфинов будут учреждены ежегодные мусические, гимнастические и конные состязания.
Таковы почести, воздаваемые тем, чьи отчеты будут признаны безупречными. Если же кто из них, пользуясь тем, что он избран в евфины, начнет проявлять свою человеческую природу и после избрания окажется порочным, то, согласно закону, каждый желающий может возбудить против него дело.
948
Само судопроизводство пусть происходит следующим образом: прежде всего в состав такого суда входят стражи законов, затем – все, кто ранее состоял евфинами, и, наконец, специально отобранные судьи. Обвинитель предъявляет следующее обвинение: такой‑то недостоин знаков отличия и своей государственной должности. Если обвиняемый будет признан виновным, он лишается этой должности, погребения и остальных оказываемых ему почестей; если же истец не получит в свою пользу пятой части голосов,
b
он должен заплатить двенадцать мин, коль скоро он принадлежит к высшему классу, восемь мин – если ко второму, шесть – если к третьему и две – если к четвертому.
Достоин восхищения так называемый Радамантов способ[2195]
разрешения тяжб. Радамант заметил, что тогдашние люди твердо верили в существование богов; это было естественно, так как в то время большинство принадлежало к числу потомков богов, одним из которых был, по преданию, и сам Радамант. Вот он и решил, что суд нельзя поручать никому из людей, но только богам; поэтому судебные решения выносились у него просто и быстро. Судьям, сомневающимся в каком‑нибудь деле, обвиняемый давал клятвенное заверение
c
относительно вызывающего сомнение вопроса[2196]
; этим дело и кончалось, быстро и нерушимо. Но в наше время, как мы говорили, часть людей вовсе не признает богов, другие полагают, что боги о нас не пекутся, а мнение огромного большинства, состоящего из наихудших людей, таково: боги, получив незначительные жертвы и выслушав льстивые моления, содействуют крупным хищениям и в большинстве случаев помогают освободиться от больших наказаний. Поэтому Радамантов способ правосудия уже не подходит для нынешних людей:
d
раз у них изменились представления о богах, следует изменить и законы.
Разумно установленные законы должны устранить из судопроизводства клятвенные заверения обеих тяжущихся сторон. При подаче любого обвинения надо лишь письменно изложить свою жалобу, не сопровождая ее клятвами. Точно так же и ответчик должен письменно изложить свои оправдания и, не подтверждая их клятвой, передать правителям. Ужасно сознавать, что при обилии судебных дел в государстве
e
чуть ли не половина тех граждан, которые легко общаются друг с другом во время совместных трапез, в разных сообществах и частным образом, – клятвопреступники. Поэтому пусть будет установлен такой закон: судья, собирающийся судить, должен принести клятву. Должен это делать и тот, кто путем снятия с жертвенника табличек для голосования
949
и клятвенного провозглашения имен назначает должностных лиц для всего государства. Кроме того, это входит в обязанности судьи хороводных и вообще всех мусических состязаний, а также руководителей и распорядителей гимнастических и конных состязаний. Одним словом, это разрешается делать во всех тех случаях, когда, по мнению людей, клятва не может принести выгоды. Зато в случаях, когда какое‑нибудь отрицание, скрепленное клятвой, может явно принести большую выгоду, тяжущиеся стороны должны разрешать свои дела судебным порядком, без клятв.
b
Вообще председатели судов не должны никому позволять подтверждать клятвой убедительность своих слов, проклинать самих себя и свой род, прибегать к некрасивым мольбам и к женским воплям: нет, надо поучительно и внятно, сохраняя благопристойность речи, доказывать свою правоту и так вести дело до конца. В противном случае председательствующие должны все время возвращать оратора, как отклоняющегося от предмета своей речи, назад к ее существу. Впрочем, двум чужеземцам разрешается, если им угодно, как это принято и теперь,
c
спокойно обмениваться друг с другом клятвами, ведь они не живут до старости в нашем государстве и большей частью не свивают себе здесь гнезда; следовательно, они не могут дурно повлиять на живущих рядом с ними хозяев страны. Что касается [их] взаимных исков, то здесь порядок будет один и тот же для всех.
Когда свободнорожденный человек оказывается ослушником распоряжений государства, однако проступок его не заслуживает ни побоев, ни тюремного заключения, ни смертной казни (это касается хороводов во время некоторых шествий, процессий и других общих праздников и торжеств –
d
одним словом, всего того, что совершается либо ради мирных жертвоприношений, либо для взносов на военные надобности), то здесь на первый раз наказание еще не является неотвратимым. С ослушников же возьмут залог те, кому государство и вместе с тем закон предпишут произвести взыскание. Если кто будет упорствовать, несмотря на то что имущество его взято в залог, то это заложенное имущество поступает в продажу, а вырученные деньги поступают в государственную казну. Если необходимо еще большее наказание, то каждое должностное лицо налагает на ослушников соответствующие наказания и направляет дело в суд, с тем чтобы упорствующие в конце концов выполнили то, что им предписано.
e
Государству, которое не ведет ни внутренней торговли (разве лишь земледельческими продуктами), ни внешней, необходимо взвесить, как поступать при отбытии граждан за пределы страны и при допущении в нее приезжих чужеземцев. Здесь прежде всего должен дать свой совет законодатель, пытаясь по мере сил действовать убеждением.
950
Сношения государств с другими государствами обычно ведут к смешению нравов, так как чужеземцы внушают местным жителям различные новшества. Это принесло бы величайший вред гражданам, обладающим благодаря правильным законам хорошим государственным устройством. Между тем для большинства государств, коль скоро там вовсе нет правильных законов, безразлично это смешение при приеме у себя чужеземцев и при отправлении ватаг своих граждан в другие государства – стоит лишь только человеку пожелать, и он может отправляться куда и когда угодно, все равно, молод ли он или стар. С другой стороны, не принимать у себя иноземцев и самим не ездить в чужие страны совершенно недопустимо.
b
Вдобавок это показалось бы остальным людям грубой и суровой мерой: они сочли бы это за проявление тяжелого нрава и самоуправства и прозвали бы это суровым словом «изгнание чужеземцев» (ξενηλασίας).
Нельзя относиться безразлично к мнению о нас остальных: считают ли они нас хорошими или нет. Дело в том, что большинство людей не в такой же мере лишено способности разбираться в других людях – худы те или хороши, – в какой оно лишено добродетели. Даже плохие люди обладают некой чудесной сметливостью, имеющей божественное происхождение, так что многие из них, даже самые худшие,
c
прекрасно различают в своих отзывах и в своем мнении людей хороших и дурных. Поэтому хорошо было бы требовать от большинства государств, чтобы они дорожили своей доброй славой в глазах большинства. Впрочем, самое правильное и самое главное – это действительно быть хорошим и таким образом снискать своей жизнью добрую славу; иным путем этого нельзя добиться, коль скоро человек стремится к совершенству. В особенности следовало бы нашему основываемому на Крите государству снискать себе у остальных людей самую прекрасную и высокую славу добродетели.
d
Можно, очевидно, надеяться, что спустя короткое время Солнце и остальные боги узрят среди благоустроенных государств и стран и наше государство, коль скоро оно будет иметь разумные законы.
Итак, относительно путешествий в чужие края и страны и допущения к себе чужеземцев надо поступать следующим образом. Прежде всего, кто не достиг сорока лет, тому вовсе не разрешается путешествовать куда бы то ни было. Затем вообще не разрешается никому путешествовать по частным надобностям, а только по общегосударственным: речь идет о глашатаях, послах и феорах[2197]
.
e
При этом нельзя причислить к государственным выездам переходы границ во время войны или походов. В Пифийский храм Аполлона, в Олимпию к Зевсу, в Немею и на Истм надо для участия в жертвоприношениях и состязаниях в честь этих богов[2198]
посылать людей по мере сил в самом большом количестве, самых прекрасных и достойных, то есть таких, которые могут стяжать добрую славу своему государству как в этих мирных и священных видах общения,
951
так и в том, что соответствует его военной доблести. Вернувшись на родину, эти люди укажут молодым, что законы, определяющие государственный строй иных государств, уступают нашим. Других феоров посылают в чужие земли по своему усмотрению стражи законов. Если кто из граждан пожелает в течение большего срока наблюдать жизнь других людей, никакой закон им в этом не может препятствовать.
b
Ведь государство, из‑за своей необщительности не ознакомившееся на опыте с хорошими и дурными людьми, никогда не сможет быть достаточно кротким и совершенным. Да и законы невозможно соблюдать, если они будут восприняты не сознательно, а лишь в силу привычки. Среди прочих постоянно выделяются люди с божественным нравом, вполне достойные общения. Правда, их немного, и в государствах с благими законами они встречаются не чаще, чем там, где законы плохи. Человек, живущий в государстве с благими законами, должен постоянно, странствуя по морю и по суше, разыскивать следы таких людей, кто не испорчен,
c
дабы с их помощью укрепить хорошие стороны узаконений, а упущения исправить. Без таких поисков государство не может быть вполне устойчивым, как и тогда, когда поиск выполняется плохо.
Клиний.
Но как осуществить то и другое?
Афинянин.
Вот как: прежде всего такой феор должен у нас уже переступить за пятьдесят лет и, кроме того, быть из числа людей, снискавших себе добрую славу, – как вообще, так и на войне, –
d
чтобы предстать перед остальными государствами образцовым стражем законов. Кто уже переступил за шестьдесят лет, тот не может быть феором. В пределах этого десятилетия феор может производить наблюдения столько лет, сколько он хочет. По возвращении на родину он должен предстать пред собранием лиц, надзирающих за законами. Собрание это состоит из молодых и престарелых людей и собирается ежедневно, обязательно на заре, до восхода солнца. В него прежде всего входят жрецы, получившие знаки отличия, затем десять стражей законов, всегда старейших;
e
далее, в нем участвуют вновь назначенный попечитель всего в целом воспитания и лица, уже освобожденные от этой должности. При этом каждый член собрания участвует в нем не только сам по себе, но и вводит в него по своему выбору молодого человека между тридцатью и сорока годами.
952
Эти люди постоянно собираются вместе и обсуждают законы как своего государства, так и чужие, если они узнают, что в чужих краях законы отличаются от местных и что в науках там достигнуто что‑то такое, что принесет пользу и просветит тех, кто их изучает (ведь не изучившие их как бы бродят впотьмах, и все касающееся законов представляется им неясным). И все, что из этого будет старейшими членами собрания введено в нашем государстве, то младшие обязаны ревностно изучить. Если кто‑нибудь из приглашенных младших членов окажется недостойным приглашения, то все собрание в целом выносит порицание лицу, его пригласившему.
b
Зато молодых людей, снискавших себе добрую славу, охраняет весь остальной город; все граждане с почтением взирают на них и особенно их берегут. За хорошее поведение их чтят выше, чем остальных, но зато и сильнее бесчестят, если они совершают поступки, худшие, чем поступки большинства людей.
Тот, кто наблюдал законы чужеземцев, сразу по возвращении должен отправиться в это собрание. Он сообщает всем его членам свои соображения или слышанные им от других лиц разъяснения относительно законодательства, образования и воспитания.
c
Если окажется, что он возвратился ничуть не худшим, чем был ранее, хотя и не стал лучше, ему выражают одобрение по крайней мере за его большое усердие. Если же он стал значительно лучше, ему еще при жизни воздают хвалу, а по смерти собрание оказывает ему надлежащие почести. Однако если окажется, что он вернулся испорченным, вообразив себя мудрецом, его не допускают общаться ни с молодыми, ни со старыми. Коль скоро он будет послушен правителям, пусть себе живет как частное лицо;
d
в противном случае он карается смертью, особенно если суд уличит его в том, что он вводит суетные новшества в дело воспитания и в законы. Если же никто из должностных лиц не заключит в тюрьму заслужившего это наказание человека, то при присуждении отличий должностным лицам будет вынесено порицание.
Вот каким условиям должен удовлетворять тот, кому позволен выезд за пределы страны. Теперь надо подумать о прибывающих чужеземцах. Есть четыре рода чужеземцев, заслуживающих упоминания.
e
Первый род совершает путешествия большей частью летом, точно это перелетные птицы. Большинство таких людей действительно словно перелетают море: они занимаются торговлей ради обогащения и слетаются в другие государства, пользуясь благоприятным временем года. Их должны принимать специально назначенные для этого должностные лица – на рынках, в гаванях и общественных зданиях, расположенных вне города, но близ него –
953
из осторожности, как бы кто‑нибудь из таких чужеземцев не ввел каких‑нибудь новшеств. Они по справедливости воздадут им должное, но как можно реже будут к ним обращаться – только по необходимости.
Второй род чужеземцев состоит из охотников посмотреть и послушать что можно из произведений Муз. Для всех таких людей должны быть приготовлены пристанища у святилищ, где они и встретят полное гостеприимство. Жрецы и храмовые служители должны заботиться о таких гостях, ухаживать за ними, пока те, пробыв здесь соответствующее время, не уедут,
b
чтобы они не причинили никакого вреда и не потерпели его во время своего пребывания, но увидели и услышали все то, ради чего приехали. Если кем‑то из них или кому‑нибудь из них будет нанесена обида, судить здесь будут жрецы, – во всех делах, не превышающих пятидесяти драхм. Если у них возникает тяжба по большему делу, судебное разбирательство производят агораномы.
Третий род чужеземцев – приезжающих из другого государства по его поручениям – надо принимать от имени государства. Их должны принимать только стратеги, гиппархи и таксиархи; заботиться об их приеме надо совместно с пританами каждому, у кого остановится такой чужеземный гость.
c
Чужеземцы четвертого разряда могут приезжать разве лишь изредка. Это те, что прибывают к нам из чужих краев также для наблюдения. Прежде всего такой чужеземец должен иметь не менее пятидесяти лет. Кроме того, он должен стремиться увидеть у нас что‑нибудь лучшее, нежели в остальных государствах, что‑нибудь отличающееся своей красотой и указать на что‑то подобное своему государству.
d
Такой человек и без приглашения должен быть вхож в дома богатых мудрецов, раз он и сам таков. Пусть он прямо направится в дом попечителя воспитания в уверенности встретить там полное гостеприимство, достойное подобного гостя, или же в дом человека, одержавшего победу на состязании в добродетели. Общаясь с ними, он и сам их наставит, и от них получит наставления, и отправится обратно, дружественно почтенный дарами и надлежащими почестями.
Вот руководствуясь какими законами надо принимать всех чужеземцев и чужеземок из иных стран
e
и посылать в эти страны своих граждан. Мы почтим Зевса Гостеприимного тем, что не отлучим чужеземцев от нашего стола и жертвоприношений, как поступают теперь питомцы Нила, и не оскорбим их грубыми распоряжениями.
При поручительстве, если кто дает таковое, надо подробно перечислить все пункты, оговорив их письменно, в присутствии не менее трех свидетелей, если дело идет о сумме не выше тысячи драхм; если же сумма выше, то нужно не менее пяти свидетелей.
954
При покупке какой‑нибудь вещи посредник выступает в качестве поручителя. Если она неправильно поступает в продажу или вообще не подлежит продаже, то и посредник, и продавец подлежат суду.
Если кто хочет произвести у кого‑нибудь обыск, он может это сделать, войдя в дом этого человека нагим или в коротком неподпоясанном хитоне и предварительно принеся установленную законом клятву, что он действительно надеется найти здесь свою вещь. Подозреваемый в утайке вещи должен предоставить для обыска свой дом и все в нем находящееся – как то, что запечатано, так и то, что лежит без печати. Если кто не даст произвести обыска желающему это сделать,
b
пусть последний привлечет его к суду, оценив стоимость разыскиваемой вещи. Если подозреваемый будет уличен, он должен возместить ущерб в двойном размере. Если хозяин дома находится в отсутствии, обитатели дома имеют право предоставить с целью розыска все незапечатанные вещи; тот же, кто обыскивает, может приложить свою печать к запечатанным вещам и приставить кого хочет к ним на пять дней стражем. Если же хозяин будет отсутствовать большее время, обыск надо производить вместе с астиномами,
c
вскрывая запечатанные вещи и снова точно так же их запечатывая при астиномах и обитателях этого дома.
Что касается вещей, принадлежность которых спорна, то законом будет установлен срок, после которого у обладателя уже нельзя оспаривать эту вещь. Относительно земельных участков и жилищ не может возникнуть спора в нашем государстве. Зато если кто владеет чем‑нибудь иным и явно обнаруживает, что он пользуется этой вещью – в городе, на рынке и в святилищах, причем никто этого не оспаривает, между тем как хозяин вещи заявляет, что он все это время ее разыскивал, хотя ее обладатель вовсе не скрывался, – иными словами,
d
если целый год один человек обладал вещью, а другой ее разыскивал, то по прошествии года никто не вправе заявлять свои притязания на эту вещь. Если же обладатель не пользовался ею в городе и на рынке, но явно пользовался ею в деревне, причем не встретился с ее хозяином в течение пяти лет, то по прошествии пяти лет хозяину уже нельзя заявлять свои притязания. Если кто пользовался вещью в городе, но лишь у себя дома, то срок давности устанавливается трехлетний;
e
если же кто пользовался такой вещью втайне в деревне, – десятилетний; для такого же случая, но в чужих краях срока давности нет, если хозяин где‑нибудь эту вещь отыщет.
Если кто насильственно воспрепятствует своему противнику или его свидетелям явиться в суд, то в случае, если подвергся насилию раб – все равно, собственный или чужой, – судебное решение совершенно теряет силу. Если насилию подвергся свободнорожденный человек,
955
то, кроме того что решение теряет свою силу, виновник заключается в тюрьму на год, и любой желающий может возбудить против него обвинение в порабощении. Если кто насильно воспрепятствует своему сопернику явиться на состязание в гимнастическом или мусическом искусстве или в любом ином виде состязаний, пусть любой человек уведомит распорядителей состязаний, а те должны будут предоставить свободный доступ на состязания всякому желающему. Если они не смогут этого сделать и если победит на состязании тот, кто воспрепятствовал явиться своим противникам, то награду за победу надо вручить пострадавшему
b
и записать его имя как победителя в тех святилищах, в каких он сам пожелает. Насильнику же запрещается делать какое‑либо приношение в храм и помещать там надпись о таком состязании; его можно привлечь по обвинению в нанесенном ущербе, все равно, будет ли он побежден на состязании или же сам победит.
Если кто сознательно укрывает украденную вещь, он подлежит наказанию наравне с вором. Укрывательство изгнанника карается смертью. Пусть каждый человек считает своим другом или врагом того же, кого таковым считает и государство.
c
Если кто по частному почину заключит с кем‑нибудь мир или пойдет на кого‑то войной без общегосударственного решения, то и ему наказанием будет смерть. Если какая‑нибудь часть государства заключит с кем‑нибудь мир или пойдет на кого‑либо войной, то виновных в этом стратеги привлекут к суду и в случае изобличения им грозит смертная казнь.
Тот, кто служит своей родине, не должен принимать за свою службу дары. Здесь не может быть никаких предлогов, никаких, даже всеми одобряемых, причин и разговоров, будто во имя хорошей цели можно принимать дары, а во имя плохой – нет.
d
Ведь в этом трудно разобраться и, даже разобравшись, нелегко с собой совладать. Всего вернее слушаться закона, повиноваться ему и не оказывать никаких услуг за дары. Ослушник подвергается смертной казни, лишь только он будет изобличен на суде.
Что касается денежных взносов в общегосударственную казну, то есть многие причины, по которым каждый должен оценивать свое имущество. Члены фил должны в письменной форме сообщать агрономам относительно ежегодного прироста их имущества, чтобы, поскольку существует два вида взносов, казна могла воспользоваться тем из них, который ей желателен в данном году, –
e
либо частью всего подвергшегося оценке имущества, либо частью приносимого им ежегодного дохода. Расходы на совместные трапезы при этом исключаются.
Человек умеренный должен делать богам умеренные приношения. Земля и домашний очаг каждого посвящены всем богам. Итак, пусть никто не посвящает богам вторично того, что и так уже им посвящено. В других государствах возбуждают зависть золото и серебро в частных домах и в святилищах.
956
Слоновая кость – этот остаток тела, лишившегося души, – неподходящее приношение; а железо и медь – это орудия войны. Поэтому пусть всякий желающий посвящает в общенародные храмы деревянные изделия из цельного дерева, по своему выбору, а также изделия из камня. Посвящаемые ткани по своему размеру должны быть не больше таких, над которыми работала одна женщина в течение месяца. Белый цвет подобает богам и вообще хорош, в том числе и для тканей. Окрашенных тканей нельзя посвящать; их надо применять только для воинских украшений.
b
Самые божественные дары – птицы и изображения, которые один художник может выполнить в течение дня. При остальных приношениях сообразуются с этими же правилами.
На сколько частей подразделяется государство, каковы должны быть эти части и какими будут законы по поводу главных видов деловых отношений людей, – обо всем этом уже было сказано. Но необходимо еще сказать о судопроизводстве.
c
Первый вид суда составляют судьи, сообща выбранные ответчиком и истцом; таким судьям больше подходит имя посредников. Второй вид судов состоит из членов поселков и фил соответственно двенадцатичастному делению страны. Если дело не получает разрешения в первом суде, то прибегают к этим судьям, коль скоро желают добиться большего наказания. Если ответчик вторично проиграет дело, он должен дополнительно уплатить пятую часть стоимости вчиненного ему иска. Если же кто‑либо, будучи недоволен и этими судьями, желает в третий раз пересмотреть дело,
d
то он может передать его в суд особо отобранных для этого судей. Если он снова проиграет дело, он оплачивает в полуторном размере предъявленный ему иск. Если истец, проиграв свое дело в первом суде, не успокоится, но обратится ко второму суду, то в случае выигрыша дела он получает дополнительно пятую часть; в случае же проигрыша ответчик оплачивает такую же часть иска. Если тяжущиеся, не удовлетворенные предшествующими судами, обратятся к третьему суду, то в случае проигрыша ответчик, как было указано, оплачивает иск в полуторном размере, а истец – в половинном.
e
Что касается избрания судей по жребию и пополнения состава суда, назначения помощников каждому из судей, сроков, в которые должны решаться дела, способа подачи голосов, отсрочек и других подобных вещей, свойственных судопроизводству, а также что касается первого и повторного вчинения иска, необходимых судебных прений и так далее, – обо всем этом мы говорили ранее. Впрочем, по пословице, не мешает и дважды, и трижды повторить прекрасное.
957
Если престарелый законодатель пропустит какие‑то мелкие узаконения и это легко заметить, пусть это восполнит молодой законодатель.
Суды по делам частных лиц было бы целесообразно устроить таким образом, как было сказано. Что же касается судов по делам общественным и таких, к которым должны обращаться должностные лица, чтобы надлежащим образом выполнять свою службу, то относительно всего этого во многих государствах встречается немало хороших законоположений, составленных подходящими для этого дела людьми. Заимствовать оттуда то, что подходит к учреждаемому теперь государству, должны стражи законов,
b
которые проверят эти законоположения на опыте, обсудят их и будут подвергать исправлениям до тех пор, пока каждое из них не станет вполне удовлетворительным. Тогда все считается законченным, незыблемость этих законоположений скрепляется печатью и ими пользуются в течение всей жизни.
Что касается молчания судей, их благоречия, то о том, что противоположно этому, – одним словом, обо всем, что отличается от обычаев, нередко слывущих в прочих государствах справедливыми, благими и прекрасными, кое‑что уже было сказано,
c
а кое‑что придется еще сказать под конец нашей беседы. Кто намеревается быть справедливым судьей, тот должен считаться со всем этим, понимать в этом толк и иметь при себе письменное изложение всего этого. Ведь из всех наук более всего совершенствует человека, ими занимающегося, наука о законах; по крайней мере так должно быть, если правильны ее положения, ведь не напрасно божественный и чудесный закон (νόμος) получил бы у нас название, близкое к слову «ум» (νόος). И все остальные сочинения, похвалы или порицания чему‑либо,
d
изложенные в стихах либо обычным образом, иной раз записанные, а иной раз просто возникающие при каждодневных общениях, когда из страсти к спорам одни что‑либо подвергают сомнению, а другие из‑за уступчивости, подчас суетной, с ними соглашаются, – для всего этого великолепным пробным камнем являются сочинения законодателя. Хороший судья должен впитать в себя эти сочинения как средство, предохраняющее от прочих учений, и совершенствовать как самого себя, так и свое государство с целью уготовить хорошим людям сохранение справедливости и ее развитие,
e
а людям дурным – искоренение невежества, распущенности, трусости, короче говоря, всевозможной несправедливости, насколько это в его силах и насколько поддаются исцелению превратные мнения порочных людей.
958
Для душ же тех людей, которым суждено иметь такие мнения, только смерть может быть исцелением. Потому‑то мы вправе часто это повторять – судьи и их руководители, приводящие такой приговор в исполнение, достойны похвалы со стороны всего государства.
После того как ежегодные судебные дела будут разрешены, исполнение судебных приговоров будет совершаться по следующим законам: власть, творящая суд, пусть отдаст все имущество приговоренного, за исключением самого необходимого, тому, кто выиграл дело, сразу после голосования;
b
результат каждого из голосований провозглашает глашатай в присутствии судей. Если после месяцев, назначенных для судопроизводства, пройдет еще один месяц и проигравший дело не произведет полюбовного расчета с выигравшим его, творящая суд власть, защищая права выигравшего дело, передает ему имущество проигравшего. Если проигравшему дело неоткуда взять денег или их недостает – не менее одной драхмы, – то он может не ранее судиться с кем‑нибудь другим, как уплатив тому, кто выиграл дело, весь свой долг.
c
В то же время все остальные вправе судиться с ним. Если осужденный станет чинить препятствия осудившей его власти, то лица, несправедливо встретившие здесь препятствия, пусть привлекут его к суду стражей законов. Если кто будет уличен в таком преступлении, его карают смертью, так как он губит законы и все государство.
Человек рождается, получает воспитание, порождает детей, воспитывает их, вступает должным образом в деловые отношения,
d
подвергается наказаниям, если он кого‑то обидел, налагает наказания на других людей – словом, живет согласно законам. Затем неизбежно, по воле судьбы, он стареет и, естественно, наступает его кончина. Относительно скончавшегося – мужчина ли то или женщина – правомочны дать указания истолкователи, толкующие обычаи, которые надлежит исполнять в честь подземных и здешних богов.
Нельзя устраивать гробниц на возделываемой земле; нельзя там воздвигать никаких – ни больших, ни малых – памятников.
e
Хоронить тела покойных надо там, где почва по своим природным свойствам только для этого и годится; делать это надо, не причиняя никаких неудобств живым. Земля – наша мать, она охотно доставляет людям пропитание. Поэтому пусть никто – ни живой, ни покойный – не лишает этого нас, живых. Нельзя насыпать могильный холм выше, чем это могут сделать пять человек в течение пяти дней. Каменные могильные плиты надо делать такой величины, чтобы там уместилась похвала жизни покойного, выраженная не более чем в четырех героических стихах[2199]
.
959
Выставлять тело внутри дома надо не дольше того срока, в течение которого становится ясным, что покойный действительно умер, а это, по нашим человеческим расчетам, будет, пожалуй, трехдневный срок; по истечении его и надо устроить вынос тела к месту погребения. Надо верить законодателю как вообще, так и в том, что душа совершенно отлична от тела и что даже в этой жизни каждого из нас поддерживает не что иное, как душа, тело же следует за каждым из нас как ее видимое проявление.
b
Поэтому прекрасно говорят о мертвых, что тело их есть лишь образ, сущность же каждого из нас бессмертна: она именуется душой, которая отходит к иным богам, чтобы отчитаться там перед ними; как гласит дедовский закон, для человека хорошего этот отчет не страшен, а для дурного очень страшен и никакой серьезной помощи после смерти он ожидать не может. При жизни человеку должны помогать все его близкие, чтобы он был как можно справедливее и жил благочестиво,
c
а по смерти не оказался бы провинившимся в тяжких проступках и не подвергся бы наказанию в той жизни, которая наступит после этой. Коль скоро дело обстоит таким образом, не следует особенно тратиться в ущерб своему хозяйству и считать, что в этой груде плоти погребаешь своего близкого; нет, надо считать, что твой сын, брат, вообще тот, о ком в особенности тоскуют при погребении, закончил, исполнил свою земную участь и отошел от нас; теперь будет хорошим поступком ограничиться умеренными издержками
d
на этот бездушный жертвенник подземных богов. Надлежащую меру всего лучше угадает законодатель. Пусть будет такой закон: издержки на все погребение человека высшего класса не должны превышать пяти мин, для человека второго класса – трех мин, для человека третьего класса – двух и одной мины – для человека четвертого класса. Это были бы достаточно умеренные издержки. Стражам законов придется выполнять много иных задач, заботиться о многом:
e
они должны думать прежде всего о детях, а также о взрослых – вообще заботиться о живых людях любого возраста; однако при кончине каждого гражданина должен присутствовать один из этих стражей – тот, кого выберут в попечители домочадцы скончавшегося. Ему поставят в заслугу, если все нужное для покойника будет исполнено хорошо и умеренно, если же нехорошо, это послужит ему в порицание. Выставление тела и все остальное пусть совершается согласно закону. Однако государственный закон должен сделать следующую уступку:
960
было бы неблаговидно предписывать или запрещать оплакивание покойников[2200]
, зато надо запретить испускать вопли и стенания за пределами дома. Надо не дозволять нести мертвое тело открыто по улицам, и при этом уличном шествии не должно быть места стенаниям. Надо, чтобы еще до наступления дня шествие вышло за черту города. Пусть именно таковы будут обычаи. Повинующийся свободен от наказания; ослушавшийся же одного из стражей законов наказывается ими всеми:
b
они сообща устанавливают ему наказание. Что касается особых видов погребения покойных или даже лишения их погребения, то все дела об отцеубийцах, святотатцах и им подобных были разобраны нами раньше и законы для них уже установлены. Таким образом, наше законодательство, пожалуй, окончено.
Впрочем, всякое дело заканчивается не тем, чтобы что‑нибудь выполнить, приобрести, учредить: нет, вполне законченным надо считать то дело,
c
которое выполняется лишь тогда, когда найдены средства, способствующие сохранению того, что появилось на свет, иначе целому чего‑то недостает.
Клиний.
Ты прекрасно сказал, чужеземец, но разъясни, к чему именно из только что сказанного относятся твои слова?
Афинянин.
Клиний, многое, что было у наших предков, прекрасно прославлено, и, пожалуй, не меньше другого имена Мойр.
Клиний.
Какие именно?
Афинянин.
Первое из них – Лахесис, второе – Клото, третье – Атропос, хранительница жребиев. Эти имена уподоблены закрепляемой пряже, которая уже не раскручивается.
d
Такое свойство должно не только дать государству и его строю телесное здоровье и сохранность, но и поселить благозаконие в душах, а еще более – дать сохранность самим законам. Мне кажется, что нашим законам явно недостает именно этого. Каким образом законы приобретут, согласно с их природой, эту способность оставаться неколебимыми?
Клиний.
Ты упомянул о чем‑то очень существенном, если только вообще возможно найти средство придать чему бы то ни было это свойство.
e
Афинянин.
Однако, как я сейчас ясно увидел, это действительно возможно.
Клиний.
Так давайте неотступно отыскивать это средство, пока не найдем его для изложенных нами законов. Ведь было бы смешно понапрасну трудиться над чем‑нибудь и не достичь ничего прочного.
Афинянин.
Твой совет правилен, во мне ты найдешь человека таких же взглядов.
Клиний.
Хорошо. В чем же, по‑твоему, состояло бы спасение для государства и наших законов? Каким образом это могло бы осуществиться?
961
Афинянин.
Разве мы не сказали, что в нашем государстве должно быть собрание, устроенное так: десятеро самых престарелых стражей законов и все те, кто имеет отличия, должны постоянно собираться вместе? Кроме того, люди, путешествовавшие с целью разыскать, нет ли где чего‑нибудь подходящего для охраны законов, и вернувшиеся на родину, после того как они подвергнутся испытанию со стороны вышеуказанных лиц, могут быть достойными участниками этого собрания. Сверх того, каждый из них должен привести с собой одного молодого человека, однако достигшего уже тридцати лет:
b
обсудив сначала, достоин ли он этого по своей природе и воспитанию, его вводят в среду остальных, и, если все согласны, он становится участником собрания. В противном случае для остальных граждан и особенно для самогу отвергнутого должно остаться тайной состоявшееся решение. Это собрание будет собираться рано утром, пока каждый всего более свободен от своих личных и от государственных дел. Таковы были наши прежние указания.
c
Клиний.
Да, именно таковы.
Афинянин.
Возвращаясь опять к этому собранию, я сказал бы вот что: я утверждаю, что, если им воспользоваться как якорем для всего государства, оно спасло бы все то, что нам желательно, так как в нем сосредоточено все полезное.
Клиний.
Как так?
Афинянин.
Сейчас представляется удобный случай дать надлежащие разъяснения, я должен сделать это с особым усердием.
Клиний.
Прекрасно сказано! Осуществи же свой замысел!
d
Афинянин.
Надо принять во внимание, Клиний, что у всякой вещи есть то, что ее сохраняет; так, в живом существе самое главное – это душа и голова.
Клиний.
Что ты разумеешь?
Афинянин.
Хорошие голова и душа спасают все живое.
Клиний.
Как?
Афинянин.
Душе кроме всего прочего присущ ум, а голове – зрение и слух. Короче говоря, ум, слитый воедино с прекраснейшими ощущениями, с полным правом можно было бы назвать спасением всякого существа.
Клиний.
Да, видимо, это так.
e
Афинянин.
Очевидно. Но на что направлен ум, смешанный с ощущениями, когда он, например, спасает суда во время бури или при ясной погоде? Не правда ли, кормчий, ведущий корабль, и моряки – это все равно что единство ощущений с ведущим их умом, благодаря чему они спасаются сами и спасают корабль со всем, что на нем есть?
Клиний.
Несомненно.
Афинянин.
Вовсе нет нужды в многочисленных примерах. Обратим внимание хотя бы только на ратное дело и на ту цель, которую ставят себе военачальники, а также любые служители врачебного искусства, чтобы достичь спасения.
962
Не правда ли, у военачальников целью будет победа и одоление врага, а у врачей и их служителей – доставление телу здоровья?
Клиний.
Как же иначе?
Афинянин.
Но если бы врач не знал того состояния тела, которое мы обозначили сейчас как здоровье, или если бы военачальник не знал, чту такое победа и так далее, разве возможно было бы им проявить здесь свой ум?
Клиний.
Нет, невозможно.
Афинянин.
А как же обстоит дело с государством? Если бы кто обнаружил незнание той цели, к которой должен стремиться государственный муж,
b
разве можно было бы, во‑первых, признать его по праву правителем, а затем – разве мог бы он спасти то, цель чего ему совсем неизвестна?
Клиний.
Конечно, нет.
Афинянин.
Вот и теперь, как видно, если только мы намерены завершить устройство поселения в нашей стране, у нас должно быть нечто такое, что само по себе ведало бы прежде всего цель этого поселения, как у нас это обычно ведомо государственному мужу. Далее, надо знать, каким образом следует приняться за дело, что именно в самих законах, а затем и в людях может пригодиться, а чту не может.
c
Если государство не будет всего этого иметь, не будет ничего удивительного, коль скоро, лишенное ума и ощущений, оно в каждом деле станет отдаваться на волю случая.
Клиний.
Ты прав.
Афинянин.
Так вот, в какой части или в каком обиходе нашего государства существует такой достаточно способный к охране орган? На что можем мы указать?
Клиний.
Это еще не совсем ясно, чужеземец. Насколько можно догадаться, кажется мне, твои слова клонятся к тому собранию, которое, как ты только что сказал, должно собираться ночью.
d
Афинянин.
Твое замечание совершенно верно.
Клиний.
Это собрание, как показывает наше нынешнее рассуждение, должно обладать всевозможной добродетелью. Самое же главное состоит в том, чтобы не блуждать, преследуя разные цели, но иметь в виду что‑нибудь одно и все стрелы метать всегда в этом направлении.
Клиний.
Разумеется.
Афинянин.
Теперь мы поймем, что нет ничего удивительного в блуждании государственных узаконений, раз в каждом государстве цели законодательства разные. Неудивительно также, что большей частью определяют справедливое положение вещей следующим образом:
e
в одних государствах считают справедливой власть нескольких лиц независимо от того, лучше или хуже они остальных людей; в других – возможность обогащаться независимо от того, становятся ли при этом люди рабами других или нет; в третьих все стремление направлено к свободной жизни; законодательство четвертых имеет две цели: самим быть свободными и владычествовать над другими государствами. Наконец, есть государства, считающие себя самыми мудрыми, однако они сразу преследуют все эти цели и не могут указать той главной и единой цели, на которую должно быть направлено все остальное.
963
Клиний.
Следовательно, чужеземец, правильно наше давнее утверждение: мы сказали, что все наши законы должны всегда иметь в виду единую цель. И мы совершенно правильно согласились, что цель эта – добродетель.
Афинянин.
Да.
Клиний.
Но мы различали четыре вида добродетели.
Афинянин.
Конечно.
Клиний.
Всеми ими руководит ум; ему должно подчиняться все остальное, в том числе и эти три вида добродетели.
Афинянин.
Ты прекрасно следил за нашими рассуждениями, Клиний, поступай так и впредь. Мы указали ту единую цель, которую должен иметь в виду ум –
b
ум кормчего, врача или военачальника. Сейчас мы исследуем ум государственного мужа. Хорошо было бы обратиться к нему, как к человеку, с таким вопросом: «О удивительный, какова же твоя цель? Что такое это единственное, что ясно смог указать врачебный ум? И неужели же ты не можешь этого сделать, хотя ты с полным правом мог бы сказать, что выделяешься среди всего разумного?» Мегилл и Клиний, не можете ли вы, произведя должное различение, ответить мне вместо него, какова эта цель? Ведь я часто давал вам подобные определения в других случаях.
c
Клиний.
Нет, чужеземец, это невозможно.
Афинянин.
Но по крайней мере можете ли вы сказать, что надо ревностно стремиться к отысканию этой цели, и указать, в чем ее надо искать?
Клиний.
Что ты имеешь в виду?
Афинянин.
Например, если, согласно нашему утверждению, существует четыре вида добродетели, то ясно, что каждый из них необходимо признать единым, хотя всех и четыре.
Клиний.
Разумеется.
Афинянин.
Однако все это, вместе взятое, мы также считаем единым. Ведь и мужество мы признаём добродетелью, и разумность, и остальные два вида, причем считаем, что это все по существу не множественно, но составляет определенное единство, а именно добродетель.
d
Клиний.
Безусловно.
Афинянин.
Совсем нетрудно указать, чем различаются между собой эти две добродетели – мужество и разумность, почему они получили особые наименования и так далее. Но не так легко понять, почему то и другое, а также прочие добродетели нарекли едино.
Клиний.
Что ты разумеешь?
Афинянин.
Вовсе не трудно разъяснить то, о чем я говорю. Давайте разделимся с вами так: одни будут спрашивать, другие – отвечать.
Клиний.
Опять‑таки что ты хочешь этим сказать?
e
Афинянин.
Спроси меня, почему, признав единство добродетели, мы снова отдельно обозначаем эти два ее вида – мужество и разумность. Я тебе укажу причину: первый вид касается страха, и ему причастны даже звери – это мужество; можно его заметить и в характере совсем маленьких детей. Ведь мужество сообщается душе и без участия разума, просто как природное свойство. С другой стороны, душа без разума не может быть разумной и обладать умом, этого не было, нет и никогда не будет, ибо это иное свойство.
Клиний.
Ты прав.
964
Афинянин.
Чем различаются эти два вида добродетели и почему их именно два, ты понял из моих слов. В чем же состоит их единство и тождество, это уже твой черед мне указать. Представь, что ты должен ответить, почему эти четыре вида составляют единство; спроси же у меня, почему их четыре, раз ты показал, что это – одно? Затем рассмотрим, можно ли человеку, обладающему достаточными знаниями о чем‑то имеющем имя, а также определение, знать только одно это имя, определения же не знать? Или же позорно для человека, хоть что‑то собой представляющего, не знать всего этого о предметах, выдающихся своими размерами и красотой?
b
Клиний.
По‑видимому, позорно.
Афинянин.
Для законодателя, для стража законов, для всякого, кто хочет отличиться добродетелью и за победу в ней получает почетные награды, нет ничего важнее того, о чем мы сейчас ведем речь, – мужества, рассудительности, справедливости и разумности[2201]
.
Клиний.
Несомненно.
Афинянин.
Разве не должны наставлять в этом того, кто нуждается в знании и понимании, истолкователи, учители, законодатели и охранители всех людей?
c
Разве не должны они наказывать и порицать того, кто ошибается? Наконец, разве не должны они всячески разъяснять значение, которое имеют порок и добродетель, и этим выделяться из среды остальных людей? Неужели же лучше этих людей, победивших во всех видах добродетели, окажется любой явившийся в государство поэт или любой человек, выдающий себя за воспитателя юношества? Далее, не будет удивительным, если государство, где стражи недостаточно владеют словом и плохо умеют действовать,
d
хотя и достаточно знают о добродетели, испытает, будучи лишено охраны, то, что терпит большинство нынешних государств.
Клиний.
Конечно, это не будет удивительным.
Афинянин.
Итак, следует ли нам осуществить то, о чем у нас сейчас идет речь? Каким образом надо подготовить стражей, чтобы они и в своих речах, и на деле тщательнее берегли добродетель, чем большинство граждан? Каким способом наше государство уподобится голове и ощущениям разумных людей, имея у себя такую охрану?
Клиний.
Как это, чужеземец? Можем ли мы сравнивать наше государство с такими вещами?
e
Афинянин.
Ясно, что само государство представляет собой некое вместилище: отборные и самые одаренные молодые люди из стражей занимают его вершину; обладая душевной зоркостью, они озирают кругом все государство; эти молодые стражи передают свои ощущения памяти, когда сообщают старшим все то, что делается в государстве. Старцы, которых мы сравнили с разумом,
965
так как они по преимуществу размышляют о многих значительных вещах, дают свои советы, пользуются услугами молодых людей и их советами, и таким образом те и другие сообща действительно спасают все государство в целом. Скажем ли мы, что это именно так должно быть устроено или как‑то иначе? Неужели мы не будем делать различия между теми, кто имеет эти знания, кто на них воспитан и ими вскормлен[2202]
, и теми, кто их не имеет?
Клиний.
Нет, удивительный ты человек, это невозможно.
b
Афинянин.
Следовательно, надо стремиться к более основательному образованию, чем раньше.
Клиний.
Быть может.
Афинянин.
Но то образование, которого мы сейчас слегка коснулись, не есть ли именно такое, в каком мы нуждаемся?
Клиний.
Разумеется, да.
Афинянин.
Разве мы не сказали, что в каждом деле выдающийся демиург и страж должен не только быть в силах наблюдать за многим, но должен еще стремиться к какой‑то единой цели, знать ее и сознательно направлять к ней все, что он охватывает своим взором?
Клиний.
Это верно.
c
Афинянин.
Разве есть более точный способ созерцания, чем когда человек в состоянии отнести к одной идее множество непохожих вещей?
Клиний.
Возможно, ты прав.
Афинянин.
Не возможно, а действительно прав, мой друг: никто из людей не располагает более ясным методом.
Клиний.
Доверяю тебе, чужеземец, и уступаю. Продолжим же нашу беседу в этом направлении.
Афинянин.
Итак, по‑видимому, надо принудить стражей нашего божественного государства прежде всего научиться тщательно различать то, что состоит из четырех частей,
d
на самом же деле составляет единство и тождество: оно включает в себя, как мы говорили, мужество, рассудительность, справедливость и разумность и заслуженно носит единое имя добродетели. Если угодно, друзья мои, будем теперь делать особый упор на это положение и не оставим его рассмотрение, пока не разъясним в достаточной мере, что же представляет собой цель, к которой надо стремиться: одно ли это что‑то, или совокупность [многого], или то и другое одновременно – одним словом, что это такое по своей природе. Если это от нас ускользнет, можно ли ожидать, что вопрос о добродетели будет решен у нас удовлетворительно?
e
Ведь мы не в состоянии будем выяснить, множественна ли добродетель, существуют ли четыре ее вида или она едина? Если мы послушаемся своего собственного совета, мы любыми средствами постараемся внедрить эти знания в нашем государстве; если же вы решите, что это вообще нужно оставить, то так и следует поступить.
Клиний.
Чужеземец, клянусь богом, покровителем чужеземцев, это нельзя оставить ни в коем случае! Нам кажется, ты был вполне прав. Но как придумать средство для осуществления этого?
966
Афинянин.
Пока еще не будем говорить о средствах. Прежде всего нам надо самим прийти к согласию и прочно установить, следует ли нам вообще это делать или не следует.
Клиний.
Конечно, следует, если только это возможно.
Афинянин.
Что же дальше? Мыслим ли мы точно так же о прекрасном и о благом? Дулжно ли учить наших стражей, что то и другое множественно, или они должны считать каждое из этого единым? Вообще каково это?
Клиний.
Пожалуй, естественно и необходимо считать все это единым.
b
Афинянин.
И что же? Достаточно ли только так мыслить или надо еще уметь доказать с помощью рассуждения?
Клиний.
Конечно, следует это доказать. Иное подобало бы разве лишь рабу.
Афинянин.
Дальше. Разве не то же самое скажем мы о любой заслуживающей внимания вещи? Кто хочет стать настоящим стражем законов, тот должен действительно знать об этом истину и быть в состоянии словесно ее излагать и подкреплять соответствующими делами, различая то, что прекрасно по своей природе и что нет.
Клиний.
Как же иначе?
c
Афинянин.
Но разве не одна из самых прекрасных вещей – это [понятие] о богах, которое мы усердно разобрали, а именно о том, что они существуют, и явное обладание великой силой такого познания – насколько это возможно для человека. Большинство же граждан можно извинить, если они только следуют слову закона. Зато тем, кто собирается стать стражами, нельзя доверять этой должности, пока они тщательно не укрепят своей веры в существование богов.
d
Никогда не следует избирать в стражи законов и включать в число граждан, испытанных своею добродетелью, человека не божественного и не потрудившегося на этом поприще.
Клиний.
Твое требование – отрешить людей, неспособных к познанию и бездеятельных, от прекрасного – справедливо.
Афинянин.
Итак, мы знаем, что относительно богов есть два убедительных довода, которые мы уже разобрали[2203]
.
Клиний.
Какие это доводы?
Афинянин.
Один касается, как мы указывали, души и гласит, что она самая старшая и божественная из всех вещей,
e
движение которых, соединившись со становлением, создало вечную сущность. Другой довод касается всеобщего движения: в нем наблюдается стройный порядок, так как над светилами и прочими телами господствует все упорядочивающий ум. Не существует такого безбожного человека, который, рассмотрев все это основательно и без предубежденности, не вынес бы впечатления, прямо противоположного тому, какое выносит большинство людей.
967
Ведь они думают, будто те, кто занимается наукой о звездах и другими необходимыми примыкающими к ней науками, становятся безбожниками, так как замечают, что все происходящее, возможно, совершается по необходимости, а не в силу разумной воли, направленной к осуществлению блага.
Клиний.
А как это обстоит на самом деле?
Афинянин.
Я уже сказал, что в наше время понимание этих вещей прямо противоположно тому, которое существовало, когда мыслители считали все это неодушевленным. Впрочем, и тогда уже преисполнялись удивлением и подозревали здесь то,
b
что теперь действительно установлено людьми, тщательно этим занимавшимися, ведь уже тогда предполагали, что при неодушевленности тел, не обладающих умом, не могли бы быть выполнены столь удивительно точно все расчеты. Некоторые даже отваживались уже тогда выставлять рискованное положение, что ум привел в стройный порядок все то, что находится на небе[2204]
. Но те же самые люди снова допустили ошибку в понимании природы души и того, что она старше тел.
c
Считая, напротив, ее моложе, они снова, так сказать, повернули все вспять, особенно же самих себя. Все то, что проносилось по небу у них на глазах, показалось им наполненными камнями, землей и многими иными неодушевленными телами, на которые разделились первоначала космоса. Это‑то и вызвало тогда появление безбожия и отвращение к такого рода занятиям. Сюда добавилось также поношение: поэты стали сравнивать философов с собаками‑пустолайками и твердить другие бессмыслицы[2205]
. А сейчас, как было сказано, все обстоит наоборот.
d
Клиний.
Как именно?
Афинянин.
Никто из смертных не может стать твердым в благочестии, если не усвоит двух только что указанных положений. Первое – что душа старше всего, что получило в удел рождение; она бессмертна и правит всеми телами[2206]
; второе – что в звездных телах, как мы не раз говорили, пребывает ум всего существующего.
c
Следует усвоить предваряющие эти положения необходимые знания, чтобы заметить их общность с мусическими искусствами и воспользоваться ими для нравственного усовершенствования в согласии с законами и чтобы быть в состоянии отдать себе разумный отчет во всем том, что разумно.
968
А кто не в состоянии в дополнение к гражданским добродетелям приобрести эти знания, тот едва ли когда‑нибудь будет удовлетворительным правителем всего государства: он будет только слугою другим правителям. Теперь, Клиний и Мегилл, нам нужно посмотреть, следует ли ко всем указанным раньше и разобранным нами законам добавить еще такой: следует установить, согласно закону, охранный [орган] для спасения государства – Ночное собрание должностных лиц, приобщившихся к указанному образованию. Так ли мы поступим?
b
Клиний.
Как же, мой друг, нам этого не добавить, если это хоть сколько‑нибудь возможно.
Афинянин.
Так вот, мы все и поведем упорную борьбу за это. Я тоже охотно буду вашим помощником в этом деле. Кроме себя я, может быть, найду и других помощников благодаря моей большой опытности в этом деле и настойчивому его исследованию.
Клиний.
Да, чужеземец, надо всячески стараться идти по этому пути, раз чуть ли не сам бог ведет нас по нему. Теперь надо указать и исследовать, какой образ действий здесь был бы правильным.
c
Афинянин.
Для этих вещей, Мегилл и Клиний, невозможно устанавливать законы, пока все это еще не устроено. Лишь потом надо будет установить законом полномочия членов собрания. Но и предварительное наставление сопряжено с необходимостью подробных бесед, если приняться за дело как следует.
Клиний.
Как это понимать?
d
Афинянин.
Прежде всего надо составить перечень лиц, пригодных для такой охранительной службы по своему возрасту, по силе своих знаний, нравственным качествам и привычкам. После этого нелегкой задачей будет найти, что же именно надо изучать; нелегко также стать учеником того, кто это нашел. Вдобавок есть еще определенный срок, предназначенный для усвоения. Устанавливать все это письменно было бы напрасно. Ведь даже самим обучающимся неясно, какое требуется время для изучения,
e
пока каждый в глубине души не приобрел знаний по данному предмету. Если сказать, что никакие сокровенные знания недоступны, то это будет неправильно, ибо они недоступны в том смысле, что им нельзя предпослать предварительных разъяснений.
Клиний.
Но раз это так, чужеземец, как же нам поступить?
Афинянин.
Согласно поговорке, друзья мои, истина лежит посередине. Если бы мы захотели рискнуть всем государственным строем, то нам надо было бы поступить так, как говорят игроки в кости: либо выбросить трижды шесть, либо три единицы[2207]
.
969
Я хочу рискнуть вместе с вами в том отношении, что я поясню и растолкую мои взгляды на образование и воспитание, снова затронутые в этой беседе. Да, риск здесь большой, и кому‑нибудь другому он был бы не по плечу. Но тебе, Клиний, я советую приняться за это дело. Ведь ты либо стяжаешь величайшую славу за правильное устройство государства магнетов (а быть может, оно по воле божьей получит другое имя),
b
либо неизбежно покажешься чрезвычайно мужественным всем последующим людям. Если же, дорогие мои друзья, это божественное собрание будет у нас создано, то ему надо вручить государство. Об этом, так сказать, нет спора между нынешними законодателями. Действительно, только тогда вполне, можно сказать, наяву осуществится то, чего мы коснулись в нашей предшествующей беседе как бы во сне, слив воедино образ главы и ума. Пусть члены этого собрания будут у нас тщательно подобраны и надлежащим образом воспитаны.
c
Получив такое воспитание, они поселятся на акрополе, возвышающемся над всей страной, и будут совершенными стражами по охране добродетели, каких мы не видывали в прежней жизни.
Мегилл.
Друг мой Клиний, приняв во внимание все только что сказанное, нам надо либо оставить мысль об устроении государства, либо не отпускать этого чужеземца, но всевозможными просьбами и средствами заставить его принять в этом устроении участие.
d
Клиний.
Ты совершенно прав, Мегилл; я так и сделаю, а ты мне помоги.
Перевод А. Н. Егунова.
В кн.: Платон. Законы. М.: «Мысль», 1999
XXXI. ПОСЛЕЗАКОНИЕ
Клиний, Афинянин, Мегилл
[Рассуждение о высшей мудрости]
973
Клиний.
Ну вот, чужеземец, мы и сошлись, как было условлено, все втроем – я, ты и наш Мегилл, – чтобы рассмотреть, как нам исследовать вопрос о разумности. Если поразмыслить, то исследование этого вопроса всего лучше может направить человека по пути разума (в той степени, в какой это вообще для него возможно). В самом деле, можно признать, что
b
мы разобрались во всем остальном, касающемся установления законов; но вот что всего важнее отыскать и сказать, а именно, чему должен обучиться смертный человек, чтобы стать мудрым, этого мы и не нашли и не высказали. Давайте попробуем сейчас не упустить этого. Дело в том, что иначе мы, пожалуй, не закончим то, ради чего все мы двинулись в путь, надеясь выяснить всё от начала до конца.
Афинянин.
Хорошо ты говоришь, дорогой Клиний. Но думается мне, тебе предстоит услышать странную речь. Впрочем, с другой стороны, она и не так странна.
c
Многие люди, причем с большим жизненным опытом, держатся того взгляда, что человеческий род никогда не будет счастливым и блаженным. Следуй за мной и посмотри, не покажется ли тебе, однако, что я, как и они, оказываюсь здесь прав. Я также отрицаю возможность для людей, за исключением немногих, стать счастливыми и блаженными[2208]
. Но я ограничиваю это пределами нашей жизни. У человека есть прекрасная надежда, что после смерти он достигнет всего того, ради чего он при жизни стремился жить по мере сил как можно лучше,
d
дабы, окончив жизнь, достигнуть подобного конца. Говоря это, я не высказываю ничего мудреного; нет, так или иначе все мы – и эллины, и варвары – признаем это; каждому живому существу с самого начала тяжко появиться на свет. Прежде всего тяжело быть причастным утробному состоянию, затем идет само рождение, далее – взращивание и воспитание; всё это, как мы признаём, сопряжено с тысячью тягот.
974
Жизнь наша краткотечна, даже если не принимать в расчет каких‑то особых бедствий, но лишь такие, что выпадают на долю каждого в скромных размерах. Краткотечность эта позволяет человеку свободно вздохнуть только, как кажется, в середине его жизни. А быстро подступающая старость заставляет каждого, кто только не преисполнен детских чаяний, отказаться от желания вновь возвратиться к жизни, ведь человек принимает в расчет прожитую им жизнь. На что я здесь могу сослаться? На то, что такова уж сама природа обсуждаемого сейчас вопроса.
b
Мы выясняем, каким образом мы можем стать мудрыми, словно каждый человек имеет эту возможность. Между тем мудрость убегает от нас, когда мы приближаемся к разумности так называемых искусств, ученых занятий и других тому подобных вещей, относимых нами к знаниям, тогда как ничто из этого не заслуживает такого обозначения, раз вся мудрость этих занятий обращена на человеческие дела. А ведь душа человека твердо уверена в этой мудрости и заявляет, что по своей природе она каким‑то образом может ее обрести. Однако она не очень‑то может найти,
c
в чем состоит эта мудрость, когда она появляется и каким образом приходит. Не правда ли, именно на такое состояние человеческой души очень походит наше теперешнее затруднение в вопросе о мудрости и все это наше исследование? Возникающие здесь у каждого человека трудности превосходят все ожидания; по крайней мере так бывает у тех среди нас, кто оказывается в состоянии разумно и складно исследовать как самих себя, так и других людей с помощью всевозможных способов рассуждения. Согласимся ли мы, что это действительно так? Или нет?
Клиний.
d
Согласимся, однако все же мы надеемся, чужеземец, что со временем с твоей помощью составим себе наиболее истинное мнение об этом.
Афинянин.
Итак, нам надо прежде всего разобрать все остальные так называемые знания, которые отнюдь не делают мудрым человека, их усвоившего и ими обладающего. Покончив с ними, мы попробуем для сравнения изложить – а после изложения и усвоить – те знания, что нам необходимы.
e
Таким образом, прежде всего рассмотрим начатки знаний, в высшей степени необходимые смертному племени, так что, пожалуй, они поистине первые. Однако человек, овладевший ими, даже если он когда‑то, вначале, и казался мудрым, теперь уже вовсе не покажется таковым, а
975
эти его знания скорее навлекут на него упрек. Давайте укажем, в чем эти начатки знаний состоят и почему чуть ли не всякий, кто стремится к тому, чтобы быть признанным человеком самых высоких достоинств, избегает этих знаний путем достижения разумности и упражнения в ней. Первое из этих знаний – то, которое, как говорит предание, с одной стороны, совершенно отучило нас от свойственного всем живым существам взаимного пожирания, а с другой – приучило нас к обычной пище. Да не прогневаются на нас за это прежние поколения! Впрочем, они относятся к нам благосклонно,
b
ибо мы приветствуем тех из них, кто впервые установил то, о чем мы говорим[2209]
. Хотя производство ячменной крупы и пшеничной муки и питание ими великолепно, все же это никогда не сможет сделать человека вполне мудрым. Дело в том, что самое название «производство» указывает лишь на трудность получения самих предметов. Примерно то же самое относится и к любым видам земледелия. Ведь оказывается, что все мы беремся за обработку земли не благодаря искусству, но просто так, по самой природе, и в этом нам помогает бог. Кроме того, строительство домов и всякого рода зодчество, а
c
также изготовление разной утвари, кузнечное дело, выделка орудий для плотничьего ремесла, для лепки, плетения и тому подобных занятий полезны народу, но нельзя сказать, чтобы все это имело отношение к добродетели. Точно так же любого рода охота, ставшая столь разнообразной и искусной, все же не дает величия, соединенного с мудростью. Равным образом и искусство прорицания и все в целом искусство истолкователей. Дело в том, что эти искусства знают только то, чего они касаются, причем вовсе не задаются вопросом, истинно это или нет. До сих пор мы рассматривали добычу предметов первой необходимости с помощью искусства;
d
при этом выяснилось, что во всех без исключения случаях занятие это не делает человека мудрым. Нам остается рассмотреть теперь забаву, большей частью состоящую в подражании и во всех отношениях несерьезную. Люди пользуются подражанием как с помощью многих орудий, так и путем не очень‑то изящных телесных движений. Далее, они создают повествовательные и разного рода стихотворные подражания, а также те, матерью которых является живопись, а ведь ее произведения бывают чрезвычайно разнообразны в зависимости от того, каким она пользуется материалом – сырым или сухим. И хотя бы человек занимался любым этим мастерством с величайшей тщательностью, все равно подражательное искусство никого не сделает мудрым.
e
Правда, все эти творения в конце концов могли бы оказать огромную помощь неисчислимому количеству людей, В этом отношении величайшее и самое полезное искусство то, которое носит имя военного и военачальнического; его распространенность снискала ему наибольшую славу. Но зато оно всего более нуждается в счастливом стечении обстоятельств, да и по своей природе большим обязано мужеству, нежели мудрости.
976
Искусство, именуемое врачебным, приносит пользу всем живым существам, когда их природа страдает от холода или жары, если они наступают несвоевременно, или от чего‑нибудь подобного; однако и здесь ничто не служит приобретению наиболее истинной мудрости: дело в том, что врачебное искусство лишено надлежащей меры и полно смутных предположений. Также мы должны будем признать, что кормчие, а вместе с ними и моряки в известном смысле оказывают нам помощь, но никто не уверит нас, будто хоть один из них – человек мудрый. Ведь никто из них не ведает причин гневного напора ветра
b
или его ласкового дуновения; между тем такое знание было бы весьма любезно всему искусству кораблевождения. Точно так же обстоит дело с людьми, которые, по их утверждению, помогают нам силой своего красноречия вести судебные дела. Путем развития памяти и постоянного упражнения они все свое внимание обращают на нравы, но они очень далеки от понимания подлинной справедливости.
Кроме мнимой мудрости остается еще одна странная способность, которую большинство назвало бы скорее природным свойством, чем мудростью. Она состоит в быстрой сообразительности, в легком усваивании, в обширной и твердой памяти, схватывающей то, что полезно человеку.
c
Благодаря этому человек сразу поступает так, как подсказывают обстоятельства. Все эти способности одни люди считают природным свойством, другие – мудростью, третьи – природной сметкой. Однако ни един разумный человек никогда не захочет признать действительно мудрым того, кто ими обладает. [Высшая мудрость – это наука о числе]
Так вот, надо обнаружить такое какое‑то знание, обладание которым делало бы человека действительно, а не только по видимости мудрым. Посмотрим, что это за знание. Мы беремся во всяком случае за трудное исследование,
d
раз мы хотим найти помимо вышеуказанных знаний такое, которое в действительности и на достаточном основании следовало бы признать мудростью, – знание, обладатель которого будет не глупым ремесленным исполнителем, но мудрым и добрым гражданином; правитель ли он в своем государстве или подвластный – все равно он будет справедлив и добропорядочен.
Сперва рассмотрим знание, с выходом которого из человеческого обихода и выключением его из ряда других ныне существующих знаний человек превратился бы в самое бессмысленное и безрассудное существо. Знание это не очень трудно заметить.
e
В самом деле, если сравнить, так сказать, одно знание с другим, таким оказывается только то знание, которое дало всему смертному роду число. Я думаю, что его нам дал для нашего спасения скорее бог, чем какой‑то случай. Надо сказать, какого бога я имею в виду. На первый взгляд он покажется странным, на деле же он вовсе не таков. В самом деле, как не считать его виновником всех вообще благ, в том числе величайшего из них – разумности!
977
Так кого же из богов славлю я, Мегилл и Клиний? Пожалуй, это – Небо, и всего справедливее почитать его и преимущественно к нему обращаться с молитвами; так поступают и все прочие божественные существа и боги. Все мы согласились бы, что Небо стало для нас виновником и всех других благ. Мы действительно утверждаем, что оно дало нам число, да и в будущем даст, если кто захочет последовать его указанию.
b
В самом деле, кто обратится к правильному его созерцанию – Космосом ли, Олимпом или Небом ему угодно будет его называть (и пусть называет!), – тот узрит, как это Небо, расцвечивая себя и вращая содержащиеся в нем звезды, вызывает смену времен года и доставляет всем питание. Итак, мы будем утверждать, что Небо дает нам и прочую разумность вместе с числом вообще, да и все остальные блага. Самым же главным будет, если человек, получив от него в дар числа, разберется в его круговращении в целом[2210]
. Однако вернемся немного назад в нашем рассуждении и вспомним, как правильно мы заметили,
c
что никогда не стали бы разумными, если бы исключили число из человеческой природы. Дело в том, что душа живого существа, лишенного разума, вряд ли сможет овладеть всей добродетелью в совокупности. Ведь существу, не знакомому с тем, что такое «два», «три», «нечет» или «чет», совершенно неведомо число как таковое, а потому такое существо вряд ли сможет дать себе отчет в том, что приобретено только путем ощущений и памяти. Правда, это ничуть не препятствует тому, чтобы иметь
d
прочие добродетели – мужество и рассудительность; но тот, кто не умеет правильно считать, никогда не станет мудрым. А у кого нет мудрости, этой самой значительной части добродетели, тот не может стать вполне благим, а значит, и блаженным. Поэтому необходимо класть в основу всего число. Для разъяснения этой необходимости потребовалось бы рассуждение более пространное, нежели все сказанное до сих пор. Впрочем, и теперь будет правильным сказать, что из всех остальных так называемых искусств, разобранных нами, – допустим, что все это действительно искусства, – не осталось бы ни единого, но все они совершенно исчезли бы, если бы вдруг исчезло искусство арифметики.
e
Бросив взгляд на искусства, кто‑нибудь может, пожалуй, предположить, что род человеческий нуждается в числе ради незначительных целей. Правда, важно уже и это. Если же кто примет во внимание божественность и бренность становления, в силу чего в нем можно распознать и священное начало, и действительно сущее число, то окажется, что далеко не всякий может познать все в совокупности число – настолько велико для нас его значение, вызываемое его соприсутствием в нас[2211]
.
978
Ясно ведь, что и во всем мусическом искусстве надо исчислять движения и звуки, но самое главное то, что число – виновник всех благ. Что число не вызывает ничего дурного, это легко распознать, как это вскоре и будет сделано. Ведь чуть ли не любое нечеткое, беспорядочное, безобразное, неритмичное и нескладное движение и вообще все, что причастно чему‑нибудь дурному, лишено какого бы то ни было числа.
b
Именно так должен мыслить об этом тот, кто собирается блаженно окончить свои дни. Точно так же никто, не познав [числа], никогда не сможет обрести истинного мнения о справедливом, прекрасном, благом и других подобных вещах и расчислить это для самого себя и для того, чтобы убедить другого.
Давайте рассмотрим, как мы выучились считать. Скажите: откуда у нас появилось понятие единицы, двойки?
c
Почему только мы одни из всех живых существ по своей природе можем иметь такое понятие? Ведь у многих иных живых существ природа не приспособлена к этому, так что они не могут от своих отцов научиться считать. А нам впервые привил бог понимание того, что нам показывают, а затем он показал нам [число] и показывает до сих пор. Если сравнивать одно с другим, то можно ли созерцать нечто более прекрасное, нежели день? Далее человек переходит к другой части – к ночи;
d
здесь пред ним совсем иное. Происходит беспрестанная смена многих ночей и дней; Небо совершает это беспрестанно, научая людей единице и двойке, так что, наконец, и самый неспособный человек оказывается в состоянии усвоить счет. Созерцая это, каждый из нас может получить понятие о числах «три», «четыре» и о множественности. Одно [из небесных тел] – Луну бог сделал такой, что она кажется то большей, то меньшей, постоянно являя день иным,
e
вплоть до пятнадцатого дня и ночи. Таково круговращение Луны, если кому угодно полный кругооборот считать единицей. Короче говоря, даже самое непонятливое существо усвоит это, если только оно принадлежит к тем, кому бог дал природу, способную к усвоению. До этих пределов любое живое существо в состоянии хорошо считать, наблюдая все единичное само по себе.
979
Зато, думается мне, бог с более высокой целью сделал так, чтобы человек всякий раз отдавал себе отчет во взаимных соотношениях чисел. Здесь, как мы сказали, он заставил Луну то прибывать, то идти на убыль. Он составил из месяцев год, и всякий человек начал, в добрый час, сравнивать путем наблюдения любое число с другим. Благодаря всему этому у нас наливаются плоды, утучняется земля, так что все живые существа получают пропитание, если ветры и дожди бывают умеренны, а не чрезмерны.
b
Если же, напротив, дело идет к худшему, то здесь приходится винить не божественную природу, а человеческую, которая несправедливо распределяет свои жизненные блага.
Когда мы производили наше исследование законов, мы, можно сказать, установили, что во всем остальном людям легко распознать самое для них наилучшее, так что всякий человек вполне способен понять и осуществить сказанное, если только он знает, что для него действительно полезно и что вредно. Мы решили и до сих пор держимся того мнения, что
c
все прочие навыки не очень трудно приобрести, но зато чрезвычайно трудно решить, каким образом люди могут стать хорошими. Опять‑таки, как мы указываем, приобретение всего остального хорошего возможно и нетрудно: всякий понимает, в каком размере следует – или не следует – обладать имуществом, какими телесными свойствами и какими благими душевными качествами надо отличаться. Любой человек согласится с другим, что душа должна быть справедливой, рассудительной, мужественной, а также и мудрой, но какова эта мудрость – здесь, как мы только что разобрали,
d
большинство людей совершенно расходится друг с другом во взглядах. А теперь кроме всех указанных ранее видов мудрости мы нашли еще одну, и притом не какую‑нибудь ничтожную: человек кажется мудрым, когда усваивает то, что мы разобрали. Но действительно ли мудр и благ человек, знающий в этом деле толк, вот в чем надо дать себе отчет.
Клиний.
Естественно, чужеземец, что о столь важных вещах ты попытаешься сказать что‑то важное.
e
Афинянин.
Да, Клиний, во всяком случае немаловажное. Но еще большую трудность представляет то, что это во всех отношениях истинно.
Клиний.
Разумеется, чужеземец. Однако не откажи изложить свой взгляд.
Афинянин.
Хорошо, а вы оба не откажите выслушать.
Клиний.
Очень охотно, я отвечаю тебе от лица нас обоих. [Ступени числового познания мира (космоса)]
980
Афинянин.
Прекрасно. Итак, по‑видимому, прежде всего надо коснуться вопроса, можем ли мы обозначить одним именем то, что мы понимаем под мудростью. Если сделать это для нас очень трудно, то возникает другой вопрос: каковы виды мудрости и сколькими из них надо овладеть человеку, чтобы он был, согласно нашему мнению, мудрым?
Клиний.
Говори же.
b
Афинянин.
Далее, законодателю для уподобления не зазорно будет установить нечто более прекрасное и достойное богов, нежели сказанное о них ранее, указать, как ему – в виде прекрасной забавы – проводить свою жизнь, почитая богов и старясь в песнопениях и блаженстве.
Клиний.
Прекрасны твои слова, чужеземец! Пусть это будет венцом твоих законов! Да проведешь ты чистую жизнь, услаждая богов, и да получишь в удел наилучшую и наипрекраснейшую кончину!
c
Афинянин.
Так как же мы скажем, Клиний? Решить ли нам, что песнопениями мы отлично почитаем богов, и потому с молитвой приступить к самым прекрасным о них высказываниям? Так или нет? Клиний. Да, именно так. Доверившись богам, мой друг, помолись и выскажи приходящие тебе на ум прекрасные мысли о богах и богинях!
Афинянин.
Пусть будет так, лишь бы только нами руководил бог! Помолись и ты вместе со мной!
Клиний.
А теперь говори!
Афинянин.
Итак, поскольку мои предшественники, видимо, плохо изложили происхождение богов и живых существ, мне прежде всего придется изложить это лучше в соответствии с нашим прежним рассуждением[2212]
.
d
Мне придется повторить то доказательство, с которым я пытался обратиться к нечестивцам, утверждая, что боги существуют и пекутся обо всем – как о малом, так и о великом, а также, что они непреклонны во всех делах, касающихся справедливости. Помнишь ли ты это, Клиний? Ведь вы делали и записи для памяти[2213]
. Да, высказанное тогда было вполне истинным. Самым главным из этого было то, что любая душа старше любого тела. Помните ли вы это? Действительно, так ли оно на самом деле? Разве не убедительно, что то, что лучше, – древнее
e
и более богоподобно в противоположность худшему[2214]
, которое моложе и менее почтенно? Ведь повсюду тот, кто правит, старше подвластного и руководитель во всех отношениях старше руководимого. Итак, признаем, что душа старше тела[2215]
.
981
Раз это так, то, пожалуй, вполне убедительно, что первоначало у нас старше первого порождения. Установим же, что начало начал более благообразно и что мы вступили на правильный путь, ведущий к высочайшим вершинам мудрости, коснувшись происхождения богов.
Клиний.
Пусть по мере сил это будет так.
Афинянин.
Скажи, разве не будет согласным с природой и вполне истинным утверждение, что живое существо возникает тогда, когда сочетание души и тела порождает единую форму?
Клиний.
Верно.
b
Афинянин.
Такое существо можно по всей справедливости называть живым.
Клиний.
Да.
Афинянин.
Надо сказать, что, согласно весьма правдоподобному мнению, есть пять видов объемных тел, из которых всего прекраснее и лучше создавать формы; весь же остальной род тел имеет лишь одну форму. Нет ничего бестелесного и вовсе не имеющего окраски, из чего могло бы возникнуть нечто иное, за исключением действительно божественного рода души.
c
Одному ему подобает лепить и создавать формы, телу же, как мы и говорим, подобает только поддаваться лепке, рождаться и становиться видимым. Роду души подобает (повторим снова – ведь это стоит сказать не раз) быть незримым и умопостигаемым, причастным памяти и умению учитывать чередование четного и нечетного.
Итак, есть пять тел. Здесь надо назвать, во‑первых, огонь, во‑вторых – воду, в‑третьих – воздух, в‑четвертых – землю, в‑пятых – эфир. Смотря по главенству того или иного тела, получается много разных живых существ. Для каждого отдельного случая это надо понимать так: прежде всего установим единый земной род;
d
это – все люди, все многоногие и безногие животные, все, что способно передвигаться или пребывает на месте, будучи прикреплено корнями. Единство здесь надо мыслить так: все эти существа состоят из разных родов, но большая часть каждого из них состоит из земли и из твердой природы[2216]
. В качестве другого рода живых существ следует установить тот, что также рождается и может быть видим. В нем всего больше огня, хотя есть также земля, воздух и незначительные доли всех остальных тел; поэтому надо признать, что из этого разряда возникают разнообразные и видимые живые существа[2217]
.
e
Надо опять‑таки думать, что таков род живых существ на небе: весь божественный род звезд – им уделено прекраснейшее тело и блаженнейшая и наилучшая душа. Им следует приписать одну из двух возможных участей: каждое из них может быть либо неуничтожимым, бессмертным и в силу необходимости во всех отношениях божественным, либо может иметь долгую жизнь, достаточную для своего существования, так что оно вовсе не нуждается в ее продлении.
982
Прежде всего разберемся в только что сказанном. Мы утверждаем, что существует два рода живых существ. Затем мы опять‑таки утверждаем, что оба этих рода видимы. Первый, как это может показаться, состоит из огня, весь целиком, второй – из земли. Земной род движется в беспорядке, а огненный – в полном порядке. Тот род, что движется в беспорядке, надо считать лишенным разума; таково большинство окружающих нас животных.
b
Движение же, совершающееся на небе в строгом порядке, обнаруживает разумность. Достаточным доказательством разумности существования служат самотождественное движение, действие и состояния. Наличие здесь души, наделенной умом, является необходимостью, превосходящей все прочие необходимости. Ведь она законодательствует как правительница, а не как подвластная.
c
Неизменное же, – когда душа, по совету наивысшего ума, избирает себе наилучшее, – становится, согласно тому же уму, совершенством: даже адамант[2218]
не крепче этого совершенства и не более неизменен. Три Мойры[2219]
на самом деле поддерживают этот порядок и наблюдают, чтобы то, что приобретено по наилучшему совету [ума], было совершенным у каждого из богов. Людям же доказательством того, что звезды и все их движения обладают умом, надо считать постоянную, длящуюся непостижимо долго, предписанную издревле тождественность их действий.
d
Звезды не меняют своего направления, не движутся то вверх, то вниз, не делают то одного, то другого, не блуждают и не изменяют своих круговращений. Между тем именно это многих из нас привело к обратному заключению, – будто звезды не имеют души, раз их действия тождественны и единообразны. За этими безумцами последовала толпа и предположила, что человеческий род обладает разумом и жизнью, коль скоро он находится в движении, род же богов не обладает разумом, раз он всегда одинаково перемещается.
e
Однако человеку было дано подняться до лучшего, более прекрасного и отрадного взгляда и понять, что признаком разума следует считать как раз то постоянное самотождественное действие, совершающееся вследствие одних и тех же причин. Именно такова природа звезд, столь прекрасных на вид: движение их и хороводы прекраснее и величественнее всех хороводов[2220]
; они совершают то, что надлежит всем живым существам.
983
Впрочем, в подкрепление справедливости наших слов об одушевленности звезд, подумаем прежде всего об их величине. Ведь в действительности они вовсе не так малы, как это кажется; напротив, размер каждой из них огромен. Этому стоит верить, так как это достаточно доказано. Безошибочно можно мыслить Солнце, все в целом, гораздо большим, чем вся в целом Земля. Да и все движущиеся звезды обладают удивительной величиной. Так вот и рассудим, каким образом можно было бы заставить столь великую массу совершать кругообразное движение всегда в одно и то же время, как это совершается и посейчас? Какая природа могла бы это сделать?
b
Я утверждаю, что виновником здесь может быть только бог, иначе это невозможно. Ведь и одушевленными звезды стали лишь при посредстве бога, как мы это выяснили. Раз бог в состоянии это совершить, то для него совсем уж легко было создать сначала любое живое тело, любую массу, затем заставить это двигаться в том направлении, какое он признает наилучшим. Короче говоря, молвим теперь единое истинное слово обо всем этом: невозможно, чтобы Земля, небо, все звезды и тяжелые небесные тела
c
столь точно совершали свой годичный, месячный и дневной путь и чтобы все существующее существовало для всех нас столь благим, если всему этому не присуща душа, рожденная для каждого из этих тел.
Сколь бы ни был ничтожен человек, ему надлежит высказывать ясные воззрения, а не болтать вздор. Между тем он не скажет ничего ясного, если назовет причиной всего этого стремительное движение тел, или их природу, или что‑нибудь другое подобное. Но надо вполне разобраться в том, что мы сказали.
d
Имеет ли наше рассуждение смысл или вовсе лишено его, когда мы прежде всего утверждаем, что есть два рода сущностей: душа и тело? То и другое имеет много разновидностей, которые все несходны между собой; нет ничего иного, третьего, что было бы общим этим двум сущностям. Душа отличается от тела: она обладает разумом, а тело – как мы установили – не обладает; она правит, тело подчиняется; она – причина всего, тело же не бывает причиной какого‑либо состояния.
e
Стало быть, какая нелепость, какое безрассудство утверждать, будто небесные явления имеют какую‑нибудь другую причину, а не представляют собой порождения души и тела! Итак, если мы должны победить существующие воззрения на все это учение и убедительно показать божественность всех этих явлений, то из двух возможностей следует выбрать одну: либо надо с полным правом прославлять небесные тела как богов, либо допустить, что они стали образами богов, своего рода изваяниями, созданными самими богами, – ведь это дело не каких‑либо несмышленых и недалеких существ.
984
Как сказано, нам надо установить одну какую‑нибудь из этих возможностей: коль скоро это будет установлено, небесным телам следует оказывать больший почет, чем другого рода божественным изваяниям. Ведь никогда не найдется более прекрасных и более общих для всего человечества изваяний, воздвигнутых в столь великолепных местах и отличающихся чистотой, величавостью и вообще жизненностью, именно таковы небесные тела.
b
Итак, мы приступаем теперь к вопросу о богах следующим образом. Мы заметили два рода видимых нами живых существ: один из них мы признали бессмертным, другой, то есть весь земной род, оказался смертным. Далее надо попытаться высказаться о трех средних родах (всего их пять), находящихся между указанными двумя. Они всего более ясны на основании обычных представлений.
c
После огня мы поместим эфир и установим, что душа образует из него живые существа, обладающие теми же свойствами, что и остальные роды, но составленные большей частью из своей собственной природы и лишь в небольшой части – для связи – из остальных родов. После эфира душа образует другой род живых существ, из воздуха, и третий род, из воды. Произведя все это, душа, естественно, наполнила небо живыми существами. Она использовала каждый род в соответствии с его возможностями, причем все они стали причастны жизни. Образовав второй, третий, четвертый и пятый род живых существ – причем начала она с рождения видимых богов, – душа закончила свое дело нами, людьми.
d
Что касается богов – например, Зевса, Геры и всех остальных, – то их можно распределить согласно тому же закону, лишь бы прочно было усвоено это учение[2221]
. Но первыми – зримыми, величайшими и почтеннейшими из богов, зорко все обозревающими, – надо признать звезды и все то, что мы воспринимаем вслед за ними[2222]
. Непосредственно после них, ступенью ниже, надо поместить даймонов – воздушное племя, занимающее третье, среднее место.
e
Даймоны – истолкователи; их надо усердно почитать молитвами за их благие вещания[2223]
. Оба этих рода живых существ, тот, что из эфира, а также тот, что из воздуха, совершенно прозрачны; даже их близкое присутствие для нас неявно. Оба они причастны удивительной разумности, так как это племя понятливое и памятливое.
985
Мы сказали бы, что они знают все наши мысли и чудесным образом приветствуют тех из нас, кто прекрасен и благ, а очень дурных людей ненавидят как уже причастных страданию. Между тем бог, достигший совершенства в своей божественной участи, находится за пределами удовольствия и страдания и во всем причастен лишь разумности и познанию.
b
Коль скоро небо наполнено живыми существами, эти даймоны служат всем посредниками – вышним богам и друг другу, – легко носясь по земле и по всему свету. Пятый род, рожденный из воды, правильно можно было бы уподобить полубогам. Они иногда зримы, иногда же скрываются, делаясь неразличимыми, что для слабого зрения представляется чудом[2224]
.
c
Эти пять родов живых существ действительно существуют, в чем пришлось убедиться некоторым из нас либо во сне, в сновидении, либо слыша слова откровения и прорицания, когда бываешь здоров или болен или когда приходишь к концу жизни. Представления эти разделяются как частными людьми, так и государством. Вот почему сооружено да и впредь будет сооружаться множество святилищ многим божествам. Законодатель, хоть чуть‑чуть обладающий умом, никогда не отважится производить здесь нововведения и не допустит, чтобы его государство поддерживало новые, еще неясные культы.
d
Он не станет препятствовать жертвоприношениям, установленным отеческими обычаями, так как он ровно ничего не понимает в этих делах, ведь смертной природе невозможно все это знать. Но что касается действительно видимых нами богов, то не заставляет ли то же самое учение признать чрезвычайно дурными тех людей, которые не отваживаются признаться и обнаружить то, что они уклоняются от обрядового служения и другим богам и не воздают им подобающих почестей? [Астрономия как опора и источник благочестия]
e
А теперь случается так, как если бы кто из нас, заметив Солнце или Луну, взирающих на всех людей, ничего не сообщил бы об этом, хотя мог бы это сделать[2225]
, и светила эти оказались бы лишенными почитания. Если бы он не проявил никакого желания, насколько это от него зависит, учредить в честь этих божеств на почетном месте празднества и жертвоприношения и назначить сроки, а также выделить для этого времена бульших и меньших годов[2226]
, разве не заслужил бы он по праву названия дурного человека, вредного и для самого себя, и для другого, кто это сознает?
986
Клиний.
Конечно, заслужил бы, чужеземец. Это был бы в высшей степени дурной человек.
Афинянин.
Так вот, дорогой Клиний, знай, что именно в таком положении нахожусь сейчас я.
Клиний.
Что это ты говоришь?!
Афинянин.
Узнайте, что на всем небе есть восемь сил, братски родственных между собой. Я их созерцал.
b
Однако в этом нет ничего мудреного: это легко заметит и всякий другой. Из этих сил одна – это сила Солнца, другая – Луны, третья – звезд, о которых мы упомянули немного ранее. Остается еще пять.
Обо всех звездах и о тех силах, что заложены в них, – все равно, сами ли они движутся или совершают свой путь на колесницах, – всякий из нас будет мыслить только таким образом: одни из них – боги, другие – нет; одни связаны между собой родством, другие же таковы, что о них и молвить никому из нас не дозволено. Лучше скажем, что все они, по нашему утверждению, братья и участь их – братская.
c
Воздадим им почет, однако не так, что одному посвятим целый год, другому – месяц, а третьему не отведем совсем никакой доли и времени, в которое они проходят свой кругооборот, ведь все они содействуют зримому мировому порядку, установленному разумом, наиболее божественным из всего. Человек блаженный сперва поражен этим порядком, затем начинает его любить и стремится усвоить его, насколько это возможно для смертной природы, полагая, что таким образом он всего лучше и благополучнее проведет свою жизнь и по смерти придет в места, подобающие добродетели.
d
Такой человек на самом деле примет истинное посвящение, овладеет единой разумностью, коль скоро и сам он един, и все остальное время станет созерцать прекраснейшие [явления], какие только доступны зрению.
А теперь нам остается указать, сколько этих [богов] и каковы они. Ведь мы ни в коем случае не окажемся лжецами; на этом‑то по крайней мере я твердо настаиваю. Я опять‑таки утверждаю, что таких [богов] восемь. О трех из них мы уже говорили[2227]
; остаются еще пять. Четвертый вид перемещения и круговращения, а также пятый по своей скорости почти равны круговращению Солнца: во всяком случае они не медленнее и не быстрее его.
e
Вообще всякий достаточно разумный человек должен признать, что существует три [кругооборота]. Мы считаем таковыми [кругооборот] Солнца, Утренней звезды и еще третьего [светила], назвать которое нельзя, так как имя его неведомо. Причина этого та, что первый заметивший его был варваром.
987
Дело в том, что древний обычай воспитал первых людей, обративших на это внимание, под воздействием красоты летнего времени, которым так богаты Египет и Сирия. Люди там постоянно видят все звезды, так сказать, ясно, потому что в этой части света никогда не бывает облачности и влажности. Отсюда сведения эти распространились по всему миру, в том числе они дошли и до нас, причем подкрепленные не прекращающимся многие тысячелетия наблюдением. Поэтому надо смело включить это в законы. В самом деле, не считать ценным то, что божественно и ценно[2228]
, – это явное неразумие.
b
Надо, однако, указать причину, по которой отсутствуют некоторые названия. Впрочем, [светила] заимствовали свои имена у богов: так, Утренняя звезда, она же и Вечерняя, пожалуй, не без основания носит имя Афродиты, что вполне в духе сирийского законодателя. А то светило, что совершает свой путь вместе с Солнцем, почти наравне с ним, получило имя Гермеса. Есть еще три кругооборота, совершающихся слева направо вместе с [кругооборотами] Луны и Солнца. Надо указать еще на один [кругооборот], именно на восьмой; его скорее всего можно было бы признать космосом. Он совершается в направлении, противоположном пути перечисленных сейчас светил, и не ведет за собой все остальные, как могло бы показаться людям, мало во всем этом сведущим. Однако необходимо высказать то, о чем у нас имеется достаточно сведений. Мы так и поступим.
c
Ибо действительно сущая мудрость каким‑то образом обнаруживается перед человеком, хотя бы немного причастным правильному, божественному пониманию. Остаются три звезды; из них одна отличается от прочих своею медлительностью, и некоторые дают ей имя Кроноса; следующую за ней в смысле медленности движения надо назвать именем Зевса; наконец, третью – именем Ареса: она одна из всех них имеет красноватый оттенок. Коль скоро кто‑нибудь укажет на эти светила, нет уже никакого труда их заметить; но лишь только это будет усвоено, следует мыслить об этом именно так, как мы указали[2229]
.
d
Всякий эллин должен поразмыслить над тем, что местность, занимаемая нами, эллинами, чуть ли не лучше всех остальных по своим прекрасным свойствам. Здесь надо отметить то ее преимущество, что она занимает среднее место между странами с суровой зимой и странами с жарким климатом.
e
Раз природа тех мест, как мы сказали, превосходит нашу родину летней жарой, естественно, что нам позже были переданы сведения об этих богах мира. Однако мы должны признать, что эллины доводят до совершенства все то, что они получают от варваров.
988
С этим надо считаться также и при обсуждении того, что мы сейчас исследуем. Хотя и трудно отыскать здесь бесспорную истину, однако у нас есть большая светлая надежда, что эллины прекраснее и по существу справедливее позаботятся обо всех этих богах, почитание которых, по преданию, перешло к нам от варваров. Эллины могут применить здесь свою образованность, дельфийские прорицания и весь культ богов, основанный на законах. И пусть никто из эллинов не пугается мысли, будто не следует заниматься божественными делами, раз мы смертны;
b
нет, надо думать как раз обратное, а именно: божественное не лишено разума, оно знает человеческую природу и ведает, что под влиянием его наставлений она последует за ним и усвоит то, чему оно учит. А что божество наставляет нас – например, учит числу, счету, – это ему, конечно, ведомо. Всех неразумнее был бы тот, кто этого не знает. Ведь, как говорится, он действительно не знал бы в этом случае самого себя, сердился бы на того, кто в силах усвоить эти знания, не радовался бы, без зависти, успехам того, кто благодаря богу стал благим.
c
Есть много прекрасных доводов в пользу того, что в ту пору, когда у людей зародились первые представления о богах, – как они произошли, какими стали и какие деяния совершали, – все эти воззрения были бы не по вкусу и не по сердцу людям рассудительным. То же самое относится к воззрениям следующих поколений, утверждавших наибольшую древность огня, воды и всех прочих тел и относивших к позднейшему времени чудо души, а также считавших главным и самым почтенным то движение, которое тело получает само по себе путем нагревания, охлаждения и тому подобного, и отрицавших важность того движения, которое сообщает телу и самой себе душа.
d
А теперь, коль скоро мы утверждаем, что душа, стоит ей оказаться в теле, движет (в этом нет ничего удивительного!) и перемещает как его, так и самое себя, уже не остается никаких доводов против того, что душа в состоянии перемещать любую тяжесть. Вот почему мы и теперь считаем душу причиной всего, в том числе и всех благ, а все дурное – иным по своим свойствам. Ничего удивительного нет в том, что душа – причина всякого рода перемещения и движения;
e
перемещение и движение в сторону блага есть свойство совершенной души, а в противоположную сторону – свойство души противоположной. Впрочем, благо должно всегда брать верх над тем, что ему противоположно.
Все это мы высказали согласно справедливости, мстящей за нечестие[2230]
. Что же касается предмета нашего исследования, то мы должны верить в то, что следует считать мудрым человека благого.
989
Что касается этой мудрости, которую мы давно уже отыскиваем, то давайте посмотрим, мыслима ли она в том обучении или искусстве, при недостатке которого мы были бы невеждами в вопросах справедливости, а значит, и невеждами вообще. Мне кажется, что мыслима, и сейчас я об этом скажу. Дело в том, что я повсюду искал причину, сделавшую для меня это ясным, и я попытаюсь вам ее изложить. Состоит она в том, что самое главное в добродетели осуществляется нами нехорошо, что, как я вполне уверен, вытекает из только что сказанного.
b
В самом деле, никто никогда нас не уверит, что есть область добродетели, более важная для смертного племени, чем благочестие. Следует сказать, что оно не появилось даже у наилучших натур из‑за величайшего невежества. А наилучшие натуры – это те, что встречаются чрезвычайно редко; зато, если они встретятся, они очень полезны. Дело в том, что душа, в умеренной степени наделенная медлительностью и противоположной ей природой, была бы обходительна, восхищалась бы мужеством, была бы послушна рассудку
c
и, что самое главное, при этих своих природных свойствах была бы понятлива, памятлива и могла бы спокойно радоваться своей любознательности. Правда, подобные натуры не очень легко появляются на свет, но коль скоро они встречаются, то, получив должное образование, они могут удерживать в надлежащих пределах натуры худшие и более многочисленные с помощью разумности своего поведения и отдельных указаний насчет богов – как и когда надо совершать жертвоприношения и очищения пред богами и людьми. Они далеки от всякого рода наружной рисовки, но поистине чтят добродетель.
d
А это самое главное для любого государства. Вот мы и утверждаем, что такие натуры по своей природе наиболее значительны и способны к наилучшему усвоению тех знаний, которые им преподают. Между тем преподавать невозможно без божественного руководства. Стало быть, если кто принимается за обучение не так, то лучше ничего и не усваивать. Впрочем, из тех же слов вытекает необходимость для подобных натур все это усвоить; мне же необходимо определить, что это за наилучшие натуры.
e
Давайте попробуем основательно разобраться в свойствах указанного предмета и в способах его усвоения. Я по мере моих сил буду указывать, а тот, кто может, пусть выслушает, каким образом усваивается благочестие. Пожалуй, придется услышать нечто не совсем обычное.
990
Ведь мы сказали бы, что наука, о которой идет речь, – чего никогда не предположил бы человек, не сведущий в этом деле, – называется астрономией. Вам неведомо, что величайшим мудрецом по необходимости должен быть именно истинный астроном, – не тот, кто занимается астрономией по Гесиоду и ему подобным, ограничивающимся наблюдением над заходом и восходом светил, но тот, истинный астроном, который из восьми кругооборотов наблюдает преимущественно семь,
b
при которых каждое светило совершает свой круговой путь так, что это нелегко смог бы усмотреть любой человек, непричастный свойствам чудесной природы[2231]
. Мы укажем, согласно нашему утверждению, надлежащий способ и путь усвоения. Прежде всего пусть будет сказано следующее.
Луна очень быстро совершает свой кругооборот и проходит свои фазы начиная с полнолуния. Затем надо поразмыслить о Солнце, которое совершает повороты в течение всего круговращения, и о его спутниках. Чтобы не повторять все время одного и того же обо всех этих светилах,
c
скажем, что путь остальных светил, указанных нами ранее, понять нелегко. Чтобы подготовить натуры, способные усвоить эти знания, следует предварительно многому их научить и с детского и отроческого возраста приучить к настойчивому труду. Следовательно, должны существовать науки. Главная и первая из них – это наука о самих числах, но не о тех, что имеют предметное выражение, а вообще о зарождении [понятий] «чет» и «нечет» и о том значении, которое они имеют по отношению к природе вещей.
d
Кто это усвоил, тот может перейти к тому, что носит весьма смешное имя геометрии[2232]
. На самом деле ясно, что это наука о том, как выразить на плоскости числа, по природе своей неподобные. Кто умеет соображать, тому ясно, что речь идет здесь прямо‑таки о божественном, а не человеческом чуде. Вслед за этой наукой идет еще одна, ей подобная; люди, ею занимающиеся, назвали ее стереометрией. Наука эта изучает тела, имеющие три измерения и либо подобные друг другу по своей объемной природе, либо неподобные, приводимые к подобию с помощью искусства.
e
Но что действительно удивительно и божественно для вдумчивого мыслителя, так это присущее всей природе удвоение числовых значений и обратное ему отношение, что наблюдается во всех видах и родах [вещей].
991
Первый вид удвоения – это отношение единицы к двойке: в результате получается вдвое большее числовое значение. При переходе к трехмерным осязаемым телам происходит опять‑таки удвоение, причем здесь от единицы восходят к восьми[2233]
. Второй вид удвоения занимает среднее место между двумя крайними членами, будучи больше меньшего крайнего члена и меньше большего; второй средний член находится в таком же отношении к крайним членам, превосходя величиною один из них и уступая другому. Так, среди чисел, находящихся между шестью и двенадцатью, есть два числа:
b
первое из них образовано прибавлением половины числа шесть, второе – прибавлением трети того же числа[2234]
. Значение этих чисел, занимающих среднее место между двумя крайними членами, научило людей согласованности и соразмерности ради ритмических игр и гармонии и даровало это блаженному хороводу Муз.
Так вот, пусть именно в таком порядке совершается усвоение этих наук. Завершением их должно служить рассмотрение божественного происхождения и прекраснейшей и божественной природы зримых вещей.
c
Бог дал созерцать ее людям, но без только что разобранных наук никто этого не может, хотя бы кто и похвалялся тем, что он легко все схватывает. Вдобавок при любом общении надо путем вопросов сравнивать единичное с видовым, изобличая каждый раз того, кто плохо ответил. Это действительно во всех отношениях наилучший и самый первый у людей способ исследования; прочие же способы недостоверны: несмотря на свою привлекательность, с ними одна морока.
d
Далее, нам надо познать точность времени, а именно, с какой точностью совершаются все небесные кругообращения, чтобы поверить, что истинно слово, утверждающее старшинство души над телом и вместе с тем ее более божественную сущность, а также чтобы считать прекрасным и достаточно обоснованным утверждение, что все полно богов и что мы никогда не испытываем небрежного отношения со стороны высших сил из‑за их забывчивости и нерадивости.
Обо всем этом надо мыслить так: правильное понимание этих вещей в определенном смысле очень полезно для человека; в противном же случае лучше постоянно призывать бога.
e
Вот в каком отношении – это надо указать – все это полезно: всякая геометрическая фигура, любое сочетание чисел или гармоническое единство имеют сходство с кругообращением звезд; следовательно, единичное для того, кто надлежащим образом его усвоил, разъясняет и все остальное[2235]
. Впрочем, как мы говорим, это будет лишь в том случае, если он правильно усваивает, производя свое наблюдение над единичным. Перед вдумчивыми людьми здесь обнаружится естественная связь всех этих вещей.
992
Если же человек как‑то иначе берется за это дело, ему надо, как мы сказали, призвать на помощь удачу. В самом деле, без этих знаний человек с любыми природными задатками не станет блаженным в государствах. Есть только один этот способ, только такое воспитание, только эти науки, – легки ли они или трудны, их надо преодолеть. Не должно пренебрегать богами, раз уж стало ясным касающееся их откровение, ведущее к блаженству[2236]
.
b
Я считаю поистине мудрейшим человека, охватившего таким путем все эти знания. И в шутку, и всерьез я стану настойчиво утверждать, что такой человек, даже восполнив смертью удел своей жизни, на смертном своем одре не будет, как теперь, иметь множества ощущений, но достигнет единого удела, из множественности станет единством, будет счастлив, чрезвычайно мудр и вместе с тем блажен. Все равно, будет ли он жить на материке или на островах, являясь блаженным, он всегда получит в удел такую судьбу.
c
Занимался ли он при жизни государственными делами или своими частными, боги также дадут ему эту участь. Впрочем, и сейчас остается в силе наше первоначальное правдивое утверждение, что людям, за редким исключением, невозможно стать совершенно блаженными и счастливыми: это было правильно нами указано. Но люди божественные, рассудительные и причастные по своей природе всей остальной добродетели,
d
а вдобавок еще овладевшие всем, что имеет отношение к блаженной науке (мы уже указали, в чем это состоит), – такие люди, и только они одни, получают в удел обладание всеми божественными дарами. Итак, людям, именно таким образом потрудившимся (мы сейчас говорим об этом частным порядком, но одновременно устанавливаем это в качестве государственного закона), и следует предоставлять главные государственные должности, лишь только они достигнут преклонного возраста. Все же остальные вслед за ними должны благоговейно относиться ко всем богам и богиням.
e
Мы же, достаточно распознав и проверив членов Ночного собрания, призываем их всех к наилучшему пониманию этой мудрости.
Перевод А. Н. Егунова
В кн.: Платон. Законы. М.: «Мысль», 1999
XXXII. УЧЕБНИК ПЛАТОНОВСКОЙ ФИЛОСОФИИ
I
Перед вами учебное руководство по основам платоновской философии. Философия есть тяга к мудрости, или отрешение и отвращение от тела души, обратившейся к умопостигаемому и истинно сущему; мудрость состоит в познании дел божественных и человеческих.
Имя «философ» происходит от «философии», как «музыкант» – от «музыки». У философа, во‑первых, должна быть природная склонность к наукам, приобщающим и подводящим к знанию умопостигаемого, а не изменчивого и текучего; во‑вторых, он должен любить истину и ни в коем случае не допускать лжи, кроме того, он должен быть как‑то от природы скромным и по натуре спокойным в смысле душевных волнений, поскольку тот, кто предан наукам о сущем и на них направляет свои устремления, не станет гнаться за удовольствиями.
Еще будущему философу нужно обладать независимостью суждения: мелочные соображения всего более враждебны душе будущего созерцателя божества и человека. И он должен быть от природы справедлив. Только когда он правдолюбив, независим и сдержан, ему пойдут впрок способности и память, которые также отличают философа.
Такие природные задатки в сочетании с правильным обучением и соответствующим воспитанием дают образцы совершенной добродетели; но если оставить их без внимания, они становятся причиной величайших зол. По имени соответствующих добродетелей Платон называет их скромностью (sophrosyne), мужеством и справедливостью.
II
Есть два рода жизни: созерцательная и деятельная. Главное в созерцательной жизни – знать истину, а в деятельной – делать то, что велит разум. Жизнь созерцательная хороша сама по себе, а деятельная – поскольку необходима. Что это так, ясно из следующего.
Созерцание есть действие ума, мыслящего умопостигаемое, а деятельность – действие разумной души, происходящее с помощью тела. Считается, что душа, созерцающая божественное и мысли божьи, получает удовольствие, и это ее состояние называется размышлением, которое, можно сказать, ничем не отличается от уподобления божеству. Поэтому созерцание – самое важное и ценное, самое желанное и притягательное, всегда доступное и зависящее от нас самих – одним словом, то, ради чего мы стремимся к поставленной цели. А в деятельности и делах практических, совершаемых с помощью тела, могут встретиться препятствия; поэтому ими следует заниматься только тогда, когда к обычным человеческим заботам ведут предметы, относящиеся к созерцательной жизни.
В самом деле, ревностный обращается к общественным делам, когда замечает, что они идут плохо. Поневоле становится он полководцем, судьей или послом, наилучшей и самой важной деятельностью считая законодательство, устроение государства и воспитание молодых. Итак, философу пристало непрерывное созерцание: его он должен постоянно питать и усиливать, а к жизни деятельной обращаться постольку‑поскольку.
III
Согласно Платону, философ ревностно занимается тремя вещами: он созерцает и знает сущее, творит добро и теоретически рассматривает смысл (logos) речей1
. Знание сущего называется теорией, знание того, как нужно поступать, – практикой, знание смысла речей – диалектикой[2237]
.
Части диалектики: разделение, определение, индукция, силлогизм. Виды силлогизма: доказательство – в случае необходимого умозаключения; [фактический] вывод (epicheirema) – в случае вероятного умозаключения; риторическое умозаключение, или энтимема[2238]
, называемая несовершенным силлогизмом. Кроме того, бывают софизмы; они хотя и не главное для философа, но необходимы.
Один аспект практической философии – воспитание характера, другой – домоправительство, третий – государство и его благо. Первый называется этикой, второй – экономикой, третий – политикой.
Одна часть теоретической философии – теология – имеет дело с неподвижными и первыми причинами, а также с божеством; другая – физика – изучает движение звезд, их обращение и возвращение; математике подлежит то, что рассматривает геометрия и прочие такого рода науки.
Проведя расчленение и разделение видов философии, скажем сначала, как понимает Платон диалектику, и прежде всего – о критерии.
IV
Если есть некая способность суждения, есть и предмет суждения; но тогда должно быть и нечто получающееся от их сочетания, говоря иначе – само суждение. В более специальном смысле критерием называется суждение, в более общем – также и способность суждения. Способность суждения двояка: одно в ней – источник суждения, другое – орудие. Первое – наш ум; второе, орудие, – некий природный орган различения, во‑первых, истины, во‑вторых, лжи; и это – не что иное, как природный разум (logos).
Говоря яснее, судит о впечатлениях философ, различающий предметы; но судит также и различающий истину разум, названный органом различения. Разум двояк: один – совершенно непостижимый и в то же время достоверный; другой – безошибочно знающий предметы; из них первый присущ богу и недоступен для человека, а второй доступен и для человека.
Он также двоякого рода: один относится к умопостигаемому, другой – к чувственному. Разум, относящийся к умопостигаемому, есть наука – это научный разум; а к чувственному относится мнящий разум – это мнение. Научный разум верен и постоянен, поскольку он разумеет верное и постоянное. Вероятностный и мнящий всего лишь правдоподобен, так как он разумеет непостоянное.
Началами знания об умопостигаемом и мнения о чувственном являются мышление и ощущение. Ощущение есть состояние души в теле, свидетельствующее прежде всего об испытанном воздействии; а когда в душе благодаря органам чувств возникает ощутимый отпечаток (т. е. собственно ощущение), который с течением времени не изглаживается, а остается и сохраняется, – это его сохранение называется памятью.
Мнение есть соединение памяти и ощущения. Когда мы впервые ощущаем некий предмет, и от него в нас возникает ощущение, которое запоминается, а затем мы еще раз сталкиваемся с тем же самым предметом, – тогда мы соединяем возникающее на этот раз ощущение с памятью о прежнем и говорим про себя, что это, например, Сократ, конь, огонь и т. д. Вот это соединение памяти о прежнем ощущении с вновь испытанным ощущением и называется мнением. Когда одно согласуется с другим, мнение оказывается истинным, когда они расходятся – ложным. Если кто‑то помнит Сократа и, встретив Платона, думает из‑за какого‑то сходства, что опять встретился с Сократом, а затем, принимая образ Платона за образ Сократа, соединяет его с воспоминанием о Сократе, – возникает ложное мнение. То, в чем возникает память и ощущение, Платон уподобляет восковой табличке. Когда душа составляет мнение на основе ощущения и памяти, а затем, размышляя, смотрит на него как на то, благодаря чему оно возникло, Платон называет это воспроизведением, а иногда – образным представлением. Размышлением он называет разговор души с самой собой, а речью – идущее от нее изустное истечение звуков.
Мышление есть действие ума, созерцающего первично умопостигаемое. Оно двояко: одно – до внедрения души в данное тело, когда душа созерцает умопостигаемое; другое – после внедрения в данное тело. Собственно мышлением называется то, что существует до внедрения души в тело; после внедрения души в тело то, что раньше называлось мышлением, теперь лучше назвать природным понятием, т. е. некоей мыслью, заложенной в душе. Говоря «мышление есть начало знающего разума», мы имеем в виду не это последнее, но мышление души, отделенной от тела, т. е. то, которое, как сказано, раньше называлось мышлением, а теперь называется природным понятием. Это природное понятие Платон называет также простым знанием и крыльями души, а иногда – памятью.
Из простых знаний составлен природный научный разум, наличный от природы. Но поскольку наряду с научным разумом есть разум мнящий и наряду с мышлением ощущение, различают и их объекты: умопостигаемое и чувственное. И поскольку умопостигаемое бывает первичным (идеи) и вторичным (эйдосы в материи, неотделимые от материи), двояко и мышление: одно мыслит первичное, другое – вторичное. А поскольку ощущаемое также бывает первичным – качества (например, белизна) – и вторичным – свойства (например, нечто белого цвета), а также бывают соединения (например, огонь, мед), то и ощущение, относящееся к первичному, будет называться первичным, а ко вторичному – вторичным. О первично умопостигаемом – обобщенно и неподробно – судит мышление не без научного разума, а о вторичном судит научный разум не без мышления. О первично и вторично ощущаемом ощущение судит не без разума, а о соединении – разум не без ощущения.
Умопостигаемый космос есть первично умопостигаемое, а ощущаемый – соединение. Об умопостигаемом космосе судит мышление с осмыслением (logoy), точнее, не без осмысления, а об ощущаемом – мнящий разум не без ощущения. Поскольку созерцание отличается от действия, непосредственный разум неодинаково судит о предмете созерцания и о делах: созерцая, он выясняет истину и ложь, а в делах – подходящее, неподходящее и само дело. Благодаря тому что у нас есть природные понятия красоты и добра, мы, пользуясь разумом и сообразуясь с природными понятиями как с некими мерилами, судим: так обстоит дело или по‑другому.
V
Первым началом диалектики можно считать усмотрение сущности всякой вещи, затем усмотрение ее свойств. Диалектика рассматривает то, чем является всякая вещь, сверху вниз – путем разделения и определения – и снизу вверх – путем анализа; принадлежащие сущности свойства она рассматривает, идя от менее общего – путем индукции и от более общего – путем силлогизма. Поэтому части диалектики суть разделение, определение, анализ, а также индукция и силлогизм.
Разделение есть рассечение рода на виды, целого на части. Так, душу мы рассекаем на осмысливающую и аффицируемую, аффицируемую – на аффективную и вожделеющую. Слово мы разделяем по его значениям; например, одно и то же слово обозначает несколько предметов. Свойства разделяются по принадлежности; например, относительно благ мы говорим, что одни относятся к душе, другие – к телу, а третьи суть внешние блага. Предметы разделяются по свойствам; например, мы говорим, что одни люди – хорошие, другие – плохие, а третьи – ни то ни се.
Применять разделение рода на виды нужно прежде всего при установлении сущности каждой вещи, что невозможно без определения. Определение на основании разделения возникает так: нужно взять род определяемой вещи (например, для человека – животное), затем нужно рассекать его, доходя по смежным различиям вплоть до видов (например, разумное – неразумное, смертное – бессмертное), чтобы при составлении смежных различий с тем родом, которому они принадлежат, получилось определение человека.
Видов анализа три: восхождение от ощущаемого к первично умопостигаемому; восхождение – с помощью демонстраций и примеров – к положениям, непосредственно не усматриваемым; восхождение от посылок к беспредпосылочным началам.
Пример первого вида: от телесной красоты мы переходим к красоте души, от нее – к красоте обычаев, от нее – к красоте законов, затем к великому морю красоты4
, затем – путем такого перехода – получаем остаток: само прекрасное. Второй вид анализа таков. Нужно взять искомое в качестве предположения, рассмотреть, что ему предшествует, показать это, восходя от позднейшего к более раннему и доходя до первого и общепризнанного; затем, начав с него, переходить к искомому путем составления. Например, я исследую, бессмертна ли душа. Предположив это, я исследую, является ли она вечнодвижущейся. Показав это, исследую, самодвижно ли вечнодвижущееся. Показав это, смотрю, является ли самодвижное началом движения, а начало – нерожденным. Последнее общепризнано, а как, нерожденное, оно и не гибнет. Начав с этого очевидного положения, составлю следующее доказательство: если начало не возникает и не гибнет, начало движения самодвижно, а самодвижное – душа, то душа не гибнет, не рождается и бессмертна.
Анализ на основе предположения таков. Исследующий нечто предполагает это в качестве данного, затем смотрит, что вытекает из данного предположения. После этого, если предположение нужно обосновать, сделав другое предположение, он исследует, вытекает ли прежнее положение из данного, и так далее, пока не дойдет до некоего беспредпосылочного начала.
Индукцией называется диалектический метод перехода от подобного к подобному или от частного к общему: индукция более всего способна пробудить природные понятия.
VI
Речи, называемой предложением, – два вида: утверждение и отрицание. Утверждение: «Сократ прогуливается». Отрицание: «Сократ не прогуливается». Отрицать и утверждать можно в целом и отчасти. Частное утверждение: «Некое удовольствие хорошо»; частное отрицание: «Некое удовольствие нехорошо». Общее утверждение: «Всякое безобразие дурно»; общее отрицание: «Ничто безобразное не хорошо».
Предложения бывают утвердительные и предположительные; утвердительные просты, например: «Все справедливое прекрасно»; предположительные показывают совместимость и несовместимость.
Платон применяет силлогизмы при опровержении и объяснении: исследуя, опровергает ложное; обучая, объясняет истинное. Силлогизм есть содержащая некоторые положения речь, в которой из этих положений необходимо вытекает нечто отличное от данного. Одни силлогизмы – категорические, другие – гипотетические, третьи – смешанные из тех и других. В категорических посылки и заключения являются простыми предложениями; в гипотетических – состоят из условных предложений; смешанные сочетают те и другие.
Платон применяет аподиктические силлогизмы в поучительных диалогах, вероятностные – против софистов и неопытных, эристические – против в собственном смысле слова спорщиков, например против Евтидема и Гиппия[2239]
.
Фигур категорического силлогизма – три. Первая: средний термин в одной части является предикатом, в другой – субъектом. Вторая: средний термин в обеих посылках является предикатом. Третья: средний термин в обеих посылках является субъектом. Терминами я называю части предложения, например: «Человек – живое существо»; «человек» – термин, «живое существо» – термин. Платон часто строит вопросы как по первой фигуре, так и по второй и по третьей. По первой в «Алкивиаде» так: справедливое прекрасно, прекрасное хорошо, справедливое – хорошо6
. По второй в «Пармениде» так: то, что лишено частей, не есть прямое или кривое; являющееся фигурой – или прямое, или кривое; следовательно, то, что лишено частей, не является фигурой7
. По третьей в том же диалоге так: являющееся фигурой есть некое качество; являющееся фигурой ограничено; качество – ограничено.
Гипотетические силлогизмы, построенные в виде вопросов, можно найти во многих книжках, особенно в «Пармениде»: если единое лишено частей, у него нет начала, середины и конца, а также границы; если у него нет границы, оно не является фигурой; следовательно, если оно не имеет границы, оно не является фигурой8
. По второй гипотетической фигуре, которую чаще называют третьей, – когда общий термин является следствием – вопрос задается так: если единое лишено частей, оно – ни прямое, ни кривое; если нечто является фигурой, оно – или прямое, или кривое; следовательно, если не имеет частей – не является фигурой9
. Так и третью фигуру (согласно иным – вторую), когда средний термин входит в условие, в «Федоне» он использует в вопросе вот как: если, приобретя знание равного, мы не забыли, мы знаем; если забыли – припоминаем10
.
У него встречаются и смешанные силлогизмы. Утвердительный на основании соответствия таков: если единое – целое и ограниченное, то, обладая началом, серединой и концом, оно причастно фигуре; первое истинно; следовательно, истинно и второе.
С помощью этого примера можно понять, каковы особенности и отрицательных смешанных силлогизмов на основании соответствия. Итак, кто хорошо различает способности души у разных людей и виды речей, соответствующие той или иной душе, а также тонко чувствует, какими речами можно убедить, тот при удачной практике будет хорошим ритором, и его риторику справедливо назвать знанием хорошей речи.
Описание того, как использовать софизм, мы можем найти у Платона, внимательно прочитав «Евтидема», где показано, какие софизмы относятся к словам, какие к предметам и как их разрешать11
.
На десять категорий есть указания в «Пармениде» и в других диалогах, вся этимология подробно изложена в «Кратиле»12
. Его прямо‑таки великолепные и необыкновенные определения и разделения все демонстрируют чрезвычайную диалектическую силу. А смысл «Кратила» таков. Платон исследует, от природы имена или по установлению. По его мнению, правильные имена устанавливаются, но не как попало, а в соответствии с природою вещи, поскольку правильно наименовать – значит дать имя, согласное с природою вещи. Одного какого попало наложения имен для правильности недостаточно, равно как одной природы и простого возгласа; необходимо сочетание того и другого, при котором любое имя налагается в силу его соответствия природе вещи. При случайном наложении у имени, конечно, не будет правильного значения, например если назвать человека лошадью. Кроме того, речь есть определенная последовательность действий; нельзя говорить правильно, говоря как попало, но только так, чтобы речь соответствовала природе предметов. Поскольку одна из функций речи – именовать, а одна из частей речи – имя, то дать правильное или неправильное имя нельзя путем случайного наложения, но только благодаря природному соответствию между именем и вещью. Поэтому тот именедатель лучше других, кто в имени выражает природу вещи: имя не случайный придаток вещи, оно – инструмент, согласованный с ее природой. С его помощью мы объясняем друг другу предметы и различаем их. Поэтому имя есть инструмент обучения и различения сущности каждой вещи, как челнок – инструмент для изготовления ткани.
Правильное употребление имен тоже относится к диалектике. Как челноком пользуется ткач, знающий его свойства, хотя изготовляет его плотник, так и данным именедателем именем умело и кстати пользуется диалектик. Плотник сделает кормило, а хорошо им пользоваться – дело кормчего. А именедатель даже хорошо установить имя может только тогда, когда ему помогает диалектик, знающий природу предмета.
VII
Очерк диалектики закончим на этом. Теперь речь пойдет о теоретической философии. В ней три части: теология, физика и математика. Предмет теологии – первые причины и знание высших начал; предмет физики – изучение природы универсума, человек как живое существо и его место в мире, промысл божий о мировом целом и подчинение ему других богов, отношения между людьми и богами; предмет математики – исследование плоскости и объема, вопросы движения и перемещения.
Сначала рассмотрим основы математики. Математику Платон допускает ради того, что она, по его мнению, изощряет мысль13
, оттачивает душу и позволяет достичь точности в исследовании бытия. Часть математики, посвященная числам, заставляет подходить к сущему не со стороны его случайных особенностей, но отучает нас от приблизительности, неопределенности и недостоверности чувственно воспринимаемого, помогает познать сущность; на войне она применима при решении тактических задач. Также и геометрия весьма способствует познанию блага, если, конечно, подходить к ней не ради практических целей, а для восхождения к вечно сущему, без обращения к возникающему и гибнущему.
Также крайне полезна и стереометрия, поскольку за изучением двухмерных фигур следует изучение трехмерных тел. Полезна и астрономия, четвертая дисциплина, рассматривающая движение звезд по небу и самого неба, создателя ночи и дня, месяцев и лет. А после этого мы известным путем перейдем к поискам создателя универсума, используя эти дисциплины в качестве подспорья и азбуки.
Устремляясь к тождественному слухом, не забудем о музыке: как к астрономии – зрение, так к гармонии относится слух. И как астрономия обращает взор от зримого к незримому и подводит к умопостигаемому бытию, так и восприятие гармоничных звуков позволяет перейти от слышимого к умозрению тождественного. Без прохождения данного курса наук наши попытки рассматривать тождественное будут совершенно бесцельны, бесполезны и бессмысленны. В самом деле, от зримого и слышимого мы должны непосредственно переходить к тому, что может увидеть только размышляющая душа. Так вот, изучение этих дисциплин есть своего рода введение к рассмотрению сущего: в своем стремлении постичь сущее геометрия, арифметика и связанные с ними дисциплины грезят о нем, хотя и не способны увидеть его въяве. Итак, они, как было сказано, совершенно необходимы, но не знают начал и того, что из начал складывается.
Поэтому Платон не называет эти дисциплины науками. А диалектический метод действительно по своей природе восходит от предпосылок геометрии к беспредпосылочным началам. Поэтому он называет диалектику наукой, а указанные дисциплины не называет ни мнением, потому что они более ясные, чем ощущения; ни наукой, потому что они менее отчетливы, чем первично умопостигаемое; но мнение он связывает с телами, науку – с первичными сущностями, а указанные дисциплины – с размышлениями. Что касается веры и уподобления, то веру он относит к ощущаемому [факту], а уподобление – к отображениям и образам [фактов]. Поскольку диалектика сильнее дисциплин и имеет дело с божественным и постоянным, она стоит выше дисциплин. как бы их увенчивая или охраняя.
VIII
После этого следует сказать о началах и о теологических учениях, начав сверху, с первоначал; от них перейти к рассмотрению того, как возник космос, а закончить возникновением и природой человека. Прежде всего скажем о материи[2240]
.
Платон называет ее «принимающей любые оттиски» (ecmageion) и восприемницей, кормилицей, матерью и пространством, а кроме того – подлежащим, осязаемым неощущаемо и постигаемым путем незаконного умозаключения15
. Ей свойственно вмещать всякое рождение, а имя «кормилицы» она носит потому, что допускает и воспринимает все виды, причем сама остается лишенной формы, качества и вида, хотя и создает в себе их слепки и отпечатки, будучи как бы «принимающей любые оттиски», принимающей от них очертания, а своих очертаний и качеств не имеющая. Не может принимать разнообразные отпечатки и формы то, что само не лишено тех качеств и видов, которые предстоит принять. По этой причине составители благовонных притираний используют масло, не имеющее своего запаха; и ваятель, собираясь лепить из воска или глины, размягчает их и лишает очертаний, чтобы они могли принять нужные формы.
Поэтому и всеприемлющая материя, чтобы полностью вместить виды, должна быть субстратом, совершенно их лишенным, не имеющим – ради восприятия видов – ни качества, ни вида. Как таковая, она не может быть ни телом, ни бестелесным, но – телом в возможности, в том смысле, в каком медь называется статуей в возможности, раз с принятием вида она будет статуей.
IX
Помимо материи Платон в качестве начал признает образец, т. е. идеи, и бога – отца и причину всего[2241]
. Идея у бога есть его мышление[2242]
, для нас она – первое умопостигаемое, в материи – мера, для чувственного космоса – образец, в себе – сущность. Вообще все возникающее по замыслу должно возникать в соответствии с чем‑либо: до него (как в случае возникновения чего‑то одного от другого, например от меня – моего отражения) должен существовать образец. И хотя не для всего есть внешний образец, любой ремесленник всегда придерживается образца в себе самом, а его форму воспроизводит в материи.
Идея определяется как вечный образец для естественного (cata physin) существующего, поскольку, по мнению большинства платоников, нет идей для создаваемого искусственно, например для щита или лиры; для того, что нарушает естественный порядок, например для лихорадки или холеры; для отдельного, например для Сократа и Платона, а также для ничтожного, например для грязи или сора, и для относительного, например для большего или меньшего. Все это потому, что идеи суть вечные и самодовлеющие акты божественного мышления.
В существовании идей можно убедиться и так. Ум ли, бог или вообще нечто мыслящее[2243]
, – оно должно иметь мысли, причем мысли вечные и неизменные; а раз так – существуют идеи. В самом деле, раз материя по своему собственному смыслу лишена меры, она должна столкнуться с чем‑то иным, лучшим, нематериальным, с мерами; но первое – верно; следовательно, верно и второе. А раз так, значит, идеи суть некие бестелесные меры. Кроме того, если этот космос таков не самопроизвольно, т. е. если он возник не только «из чего», но и «от кого», более того – «в уподобление чему», значит, то, в уподобление чему он возник, есть ли иное, нежели идея? Итак, идеи должны существовать.
Кроме того, если ум отличается от правильного мнения, то умопостигаемое отлично от мнимого; если это так, то умопостигаемые сущности – иные, чем мнимые, и должно существовать первично умопостигаемое и первично мнимое; если это так, значит, существуют идеи; но ум действительно отличается от правильного мнения, следовательно, идеи должны существовать.
X
Теперь нужно сказать о третьем начале, которое Платон считает почти что невыразимым. Мы можем подойти к нему так. Если есть умопостигаемое и оно не есть ощущаемое и не причастно ощущаемому, но причастно первично умопостигаемому, – первично умопостигаемое должно быть простым, как и первично ощущаемое. Первое – верно; следовательно, верно и второе. Поскольку люди полны чувственных впечатлений, они, даже решив мыслить умопостигаемое, представляют нечто ощущаемое; мысленно приписывая умопостигаемому величину, очертания, цвет, они не могут мыслить его в его чистоте, тогда как боги, будучи свободны от ощущений, мыслят его чисто и вне смешения.
Поскольку ум лучше души и, как ум, актуально мыслящий все совокупно и вечно, он лучше ума в возможности и прекраснее его, будучи его причиной и тем, что выше всего остального, – он и будет первым богом, причиной того, что вечно действует ум целокупного неба.
Как первый ум[2244]
он самый прекрасный, и предмет его мысли тоже самый прекрасный, но не более прекрасный, чем он сам: он вечно мыслит себя самого и свои мысли, и это его действие есть идея. Как первый бог он вечен, невыразим, самодовлеющ (т. е. ни в чем не нуждается), вечносовершенен (т. е. совершенен всегда), всесовершенен (т. е. совершенен во всех отношениях); он есть божество, бытие, истина, соразмерность, благо. Я говорю так не для того, чтобы разделить все это, но чтобы во всем этом мыслить его единым. Он благ, потому что он благодетельствует всему, насколько каждому посильно вместить его, и он – причина всякого блага. Он прекрасен, потому что его очертания естественно совершенны и соразмерны. Он истина, потому что он – начало всякой истины, как солнце – начало всякого света. И он отец, потому что он – причина всего и упорядочивает небесный ум и мировую душу, уподобляя их себе и своим помыслам. По своей воле он все наполнил собою, пробудив мировую душу и обратив ее к себе как к причине ее ума, который, будучи упорядочен отцом, упорядочивает всю внутрикосмическую природу.
Он невыразим и, как сказано, постижим только для ума, поскольку он – не род, не вид, не различие. Нельзя говорить о его свойствах: он – не зло (говорить так – неблагочестиво), не благо (таковым оно может стать по причастию чему‑либо, а именно благу как таковому), не различие (это не входит в понятие о нем), не качество (он не обретал качества и не становился совершенным под влиянием некоего качества), не бескачественное (он не лишен качеств следующего за ним); он не часть чего‑либо, но и не целое, имеющее части; он ничему не тождествен, но и ни от чего не отличен: у него нет такого свойства, которое могло бы отделять его от чего‑либо; он не движется и не движет.
Путем такого рода отвлечения возникает первоначальное мысленное представление (noesis) о нем: так точку мы мыслим путем отвлечения от чувственно воспринимаемого, представляя плоскость, затем линию и, наконец, точку. Во‑вторых, его можно представить себе мысленно путем аналогии примерно так: как солнце соотносится со зрящим и зримым, само не будучи зрением, а только позволяя одному видеть, а другому быть видимым, так и первый ум соотносится с мышлением, доступным душе и мыслимым ею: он не есть само ее мышление, а только уделяет ей мыслительную способность и мыслимость – мыслимому, освещая доступную этой сфере истину.
В‑третьих, можно мысленно представить его так: пусть некая душа созерцает прекрасное в телах, потом переходит к прекрасному в душе, потом – к прекрасному в обычаях и законах, потом – к великому морю красоты, после чего пусть мыслит благо само по себе и желанное и вожделенное, наподобие света, явленного и просиявшего для восходящей так души, который по преизбытку его достоинства пусть она мысленно представит и богом.
У него нет частей в силу отсутствия предшествующего ему: часть и «то, из чего» прежде того, что из частей составляется, например плоскость прежде объемного тела, а линия прежде плоскости; поскольку у него нет частей, он неподвижен – и в смысле пространственного перемещения, и в смысле изменения. В самом деле, если он станет меняться, то или благодаря самому себе, или благодаря иному; и если благодаря иному, то последнее будет сильнее его; а если благодаря самому себе, он может измениться к худшему или к лучшему; однако и то и другое нелепо. Из всего этого ясно, что он бестелесен; это же можно показать и иначе. Если бы бог был телом, он состоял бы из материи и вида, раз всякое тело есть некое сочетание материи и соединенного с нею вида, уподобляемого идеям и причастного им неким невыразимым способом. Но нелепо богу быть составленным из материи и вида, поскольку в таком случае он не будет ни простым, ни первоначальным; поэтому бог бестелесен.
И еще. Если бог – тело, значит, он материален, т. е. он вода, или земля, или воздух, или что‑нибудь в таком роде; но все такое не первоначально. Кроме того, если он будет материален, он окажется после материи. Поскольку все это нелепо, нужно признать, что он бестелесен. Будь он телом, он был бы подвержен уничтожению, возникновению и переменам; но все это нелепо по отношению к нему.
XI
Таким же образом можно показать и то, что качества бестелесны. Всякое тело есть субстрат, но качество – не субстрат, а свойство; следовательно, качество – не тело. Всякое свойство принадлежит некоему субстрату, но тело не принадлежит субстрату; следовательно, качество – не тело. Кроме того, одно качество противоположно другому, а тело телу – нет; одно тело своей телесностью ничем не отличается от другого: оно отличается качеством, но не телесностью, клянусь Зевсом; поэтому качества – не тела. И в высшей степени верно, что материя бескачественна, а качества нематериальны; но если качество нематериально, значит, оно бестелесно. Будь качества телами, в одном и том же месте оказывалось бы по два и по три тела, что верх нелепости. И если качества бестелесны, начало, их создавшее, также бестелесно.
Кроме того, бестелесными будут и действующие начала, поскольку тела подвержены воздействиям и текучи, никогда не бывают теми же самыми и в одном и том же состоянии, не постоянны и не устойчивы, так что даже там, где кажется, будто они проявляют какую‑то активность, гораздо раньше обнаруживается их подверженность воздействиям. И как есть чисто страдательное, так же необходимо быть и в подлинном смысле деятельному; и мы найдем, что оно есть именно бестелесное.
Таково рассуждение о началах, или то, что называют теологией. Теперь перейдем к разделу, именуемому физикой, начав так.
XII
Поскольку для существующего от природы единичного чувственно воспринимаемого идеи суть определенные образцы, они же должны быть знаниями и определениями этого: за всеми людьми мыслится один человек, за всеми конями – один конь и вообще за всеми живыми существами – нерожденное и негибнущее живое существо. Как одна печать может давать множество отпечатков, так от одного человека возникает тысяча отображений. Поскольку идея есть изначальная причина того, что каждое таково, какова она сама, необходимо, чтобы и космос, это прекраснейшее сооружение, был создан богом с оглядкой на некую идею космоса как на образец для данного космоса, как бы срисованного с нее; и демиург создал его в уподобление ей по своему предивному промыслу и решению, а приступил к созиданию мира, потому что был благ20
.
Он создавал его из всей материи, которая до появления неба двигалась беспорядочно и нескладно и которую он из беспорядка привел в наилучший порядок, придав красоту частям с помощью подобающих чисел и очертаний и отделив огонь и землю от воздуха и воды21
; это их состояние и теперь, а до разделения, имея следы и приметы свойств элементов, они беспорядочно и неумеренно сотрясали материю и сами были сотрясаемы в ней. Итак, он породил мир22
, взявши каждый из элементов целиком, т. е. весь огонь и землю, воду и воздух, не упустив ни одной их части или свойства. Он решил, что возникшее должно прежде всего иметь вид тела и вообще быть осязаемым и зримым23
; а так как без огня и земли не может быть ничего зримого и осязаемого, естественным было решение создать его из земли и огня. Также нужна была некая скрепа, которая, находясь посредине, соединяла бы обе крайности, – некая божественная скрепа пропорции24
, делающая единым себя самое и скрепляемое ею. При этом, поскольку космос был не плоским, а шарообразным, ему едва ли хватило бы одного среднего члена, так что для слаженности понадобилось два средних члена. Поэтому между огнем и землей были по типу пропорции помещены воздух и вода. Именно, как огонь относится к воздуху, так воздух к воде, вода к земле, и наоборот.
Ничего не оставив вне этого, он создал космос однородным и численно уподобленным идее, которая одна, а кроме того – не знающим недугов и нестареющим25
, поскольку ничто губительное к нему не присоединяется. Он самодовлеющ и ни в чем извне не нуждается. Ему сообщены очертания шара, поскольку шар наиболее приятен на вид, вместителен и подвижен26
. Поскольку он не нуждался ни в зрении, ни в слухе, ни в чем ином такого рода, он не стал прилаживать ему эти органы и, лишив его всех прочих видов движения, придал ему только движение по кругу, свойственное уму и размышлению27
.
XIII
Космос состоит из двух составляющих: тела и души. Поскольку тело видимо и осязаемо, а душа невидима и неосязаема, свойства и состояния того и другого оказываются различными. Тело космоса возникло из огня и земли, воды и воздуха. Этим четырем – не буквам, клянусь Зевсом, а слогам – космический демиург придал очертания пирамиды, куба, октаэдра, икосаэдра и всем вместе – додекаэдра28
. И когда материя принимала форму пирамиды – возникал огонь, поскольку эта фигура самая остроугольная, состоящая из мельчайших треугольников29
, и значит самая тонкая. С формой октаэдра материя принимала качества воздуха; став икосаэдром, получала качества воды; а фигура куба создавала землю, самую плотную и устойчивую. Фигурой додекаэдра он воспользовался для целокупности.
Из всего этого первичнее всего плоскость, поскольку плоскость предшествует объему. Из всех плоских фигур первичны два прекраснейших треугольника – прямоугольные: неравнобедренный и равнобедренный. Один угол неравнобедренного прямой, другой – две трети прямого, третий – одна треть.
Первый треугольник, т. е. неравнобедренный, становится элементом пирамиды, октаэдра и икосаэдра: пирамида состоит из четырех равносторонних треугольников, каждый из которых делится на шесть названных неравнобедренных треугольников; октаэдр – из восьми, каждый из которых также делится на шесть неравнобедренных; икосаэдр – из двадцати. Другой треугольник, т. е. равнобедренный, входит в состав куба: четыре равнобедренных треугольника, соединившись, составляют квадрат, а из шести таких квадратов состоит куб. Форма додекаэдра была использована для целокупности30
, поскольку на небе мы видим двенадцать знаков зодиака, составляющих зодиакальный круг, и каждый из них делится на тридцать частей; так и додекаэдр состоит из двадцати пятиугольников, разделяемых на пять треугольников, в каждом из которых шесть треугольников; поэтому всего мы находим в додекаэдре триста шестьдесят треугольников, т. е. столько же, сколько частей в зодиаке.
Когда материя получила от бога их отпечатки, она сначала стала двигаться, как и прежде, беспорядочно, а затем была приведена богом в порядок, и все было с помощью пропорции связано одно с другим. Но, будучи разделено в пространстве, все это не стоит на месте, а непрерывно сотрясается и сотрясает материю, потому что теснимые вращением космоса элементы сталкиваются и тончайшее, сбиваясь одно с другим, несется в места, занимаемые более плотным. Поэтому не остается пустоты, лишенной тел, а остающаяся неравномерность продолжает вызывать сотрясение: так телами сотрясается материя и тела – ею.
XIV
Изложив строение тел, Платон рассматривает вопрос о душе, исходя из проявляющихся в ней потенций.
Поскольку о каждом из существующих предметов мы судим благодаря душе, Платон и поместил в ней начала всего существующего, чтобы, рассматривая каждый предмет всякий раз с помощью родственного и сходного с ним начала души, мы могли поставить в соответствие с предметами ее сущность.
Считая, что есть некая умопостигаемая неделимая сущность, он установил и другой ее вид, претерпевающий разделение в телах, и показал, что душа может мысленно постичь оба вида сущности. Видя, что и в умопостигаемом, как и в делимом, есть тождество и различие, он сложил ее из всего этого. В самом деле, подобным познается подобное, как учат пифагорейцы, а неподобным, по учению физика Гераклита, – неподобное[2245]
.
Когда Платон говорит о возникновении космоса, следует понимать это не в том смысле, будто некогда было время, когда космоса не было, но в том, что космос находится в вечном возникновении и обнаруживает некую исходную причину своего бытия; душу космоса, существующую вечно, бог также не создает, а упорядочивает, и в этом смысле, пожалуй, можно сказать, что создает, поскольку пробуждает и возвращает ее к ней самой и к ее уму как бы из некоего глубокого забытья, или сна, чтобы, взирая на мыслимое умом, она воспринимала виды и формы и устремлялась к его помыслам.
Итак, ясно, что космос – некое мыслящее живое существо[2246]
. Бог хотел сделать его наилучшим, и вот он сделал его одушевленным и мыслящим: одушевленное в целом совершеннее неодушевленного и мыслящее – лишенного мысли, при всем том что ум не может появиться без души. Когда же душа вытянулась от середины до краев, получилось, что она охватывает и покрывает все тело космоса; простираясь по космосу в целом, она благодаря этому сковывает и сдерживает его, причем ее внешние части делают это с большей силой, чем внутренние: внешнее не претерпевает разделения, тогда как внутреннее было рассечено на семь кругов, изначально разделенных двойными и тройными промежутками; область, объемлемая неделимой и неподвижной сферой, соответствует тождественному, а разделенная – иному.
Движение, объемлющее все небо, избегая блуждания, является единообразным и упорядоченным, тогда как внутреннее движение разнородно и изменчиво, поскольку допускает восхождения и закаты. Внешняя сфера движения – вправо, с востока на запад; внутренняя – налево, с запада на восток – навстречу движению неба.
Кроме того, бог сотворил звезды и планеты, причем первые (числом великое множество) – неподвижными ради украшения ночного неба, а другие (числом семь) – ради возникновения числа, времени и чтобы свидетельствовать о существующем. Дело в том, что время он сделал мерой движения космоса в уподобление вечности, которая есть мера неподвижности вечного космоса. Планеты не одинаковы по потенции. Солнце всем управляет, все обнаруживает и являет; Луна по своей потенции считается занимающей второе место; а другие планеты – каждая в соответствии со свойственной ей долей. Луна задает меру месяца, поскольку за это время она завершает свой круговорот и настигает Солнце; а Солнце – меру года: обходя зодиакальный круг, оно отмечает смену времен года. У каждой из других планет свои периоды обращения, которые можно усмотреть не на глаз, но только с помощью науки. В результате всех этих круговоротов число времени полного года исполняется тогда, когда все планеты, вернувшись в ту же самую точку, вновь занимают прежнее положение, так что, если мысленно провести от неподвижной сферы прямую, перпендикулярную к земле, их центры окажутся на ней.
Поскольку в пределах подвижной сферы есть семь сфер, бог, создав из огненной – наиболее ценной – сущности семь видимых тел, прикрепил их к сферам, находящимся на подвижном круге иного. Луну он установил на круге, первом после Земли; Солнце разместил на втором; утреннюю звезду, посвященную Гермесу, – на круге, скорость движения которого совпадает с солнечным, а расположение не совпадает; выше – прочие планеты на соответствующих сферах: непосредственно под неподвижной сферой лежит самая медленная звезда, называемая Кроновой; немного быстрее движется Зевсова звезда, под ней – Аресова33
. Восьмая сила с вершины неба охватывает все прочие. Все эти звезды суть мыслящие живые существа и боги и имеют шарообразную форму.
XV
Есть и другие божественные силы – демоны (которых можно назвать рожденными богами), обитающие в каждой из стихий; одни из них видимые, другие невидимые, они есть в эфире и огне, в воздухе и воде; таким образом, ни одна из частей мира не обделена душой и не лишена живых существ, чья природа превосходит смертную; им подчинена вся подлунная и наземная область.
Ибо бог сам создает все мироздание, богов и демонов, и по его воле все это не подвластно разрушению; а во главе всего прочего стоят его дети, по его приказу и в подражание ему совершающие то, что совершают; от них – предвещания, предзнаменования, вещие сны, пророчества и все прочее, доступное смертным благодаря искусству предсказателей.
Земля лежит посредине мировой целокупности и занимает место вокруг осп, проходящей через все мироздание, и блюдет дни и ночи; после души мира она старшая из внутримировых богов, и нам она предоставляет обильную пищу; вокруг нее вращается мир, хотя и она – одна из звезд, неподвижная в силу уравновешенности благодаря своему срединному положению и равной удаленности от крайних точек.
Стихия, объемлющая все прочие, – эфир; им заполнена сфера неподвижных звезд и сфера планет; ближе к центру – воздух, в центре – земля с водою на ней.
XVI
После того как бог упорядочил все это, остались несозданными еще три рода живых существ, которые должны были стать смертными и обитать в воздухе, воде и на земле; их создание он поручил рожденным от него богам: ведь если бы их создал он сам, они стали бы бессмертными. А те, позаимствовав от первичной материи некоторые части, которые должны быть ей возвращены в определенный срок, создали смертные живые существа.
Но когда у отца всего и у рожденных от него богов возникла мысль о человеческом роде, который ближе всего богам, то души для этого рода на землю послал сам создатель мировой целокупности, причем в числе, равном числу звезд. Возведя их на отведенные для них звезды как на некие колесницы34
, он – как законодатель – возвестил им законы предопределения, чтобы на нем самом не было вины: что им вместе с телом будут прирождены аффекты, свойственные смертным, во‑первых, ощущения, затем удовольствие и печаль, страх и пыл. Только тот, кто властвует над ними и им не подчиняется, будет жить справедливо и вернется на свою звезду; а кто подчинится неправде, тот во втором рождении сменит свою природу на женскую; а если и тогда он не откажется от несправедливости, то в конце концов переродится в животную природу. Прекращает страдания победа над прирожденными аффектами и возвращение к первоначальному состоянию.
XVII
Боги вылепили человека главным образом из земли, огня, воздуха и воды, заняв определенную их часть в долг; они скрепили их невидимыми скрепами и так создали некое единое тело, причем главенствующую часть души они поместили в голове, как бы засеяв ею головной мозг; на лице они поместили органы чувств, несущие соответствующую службу; из гладких и ровных треугольников, использованных при образовании стихий35
, составили костный мозг, который должен был производить семя; кость они сделали из земли, увлажненной мозгом и несколько раз закаленной в воде и огне; жилы – из кости и плоти; а сама плоть была приготовлена на своего рода закваске, соленой и горьковатой.
Мозг они окружили костью, а сами кости скрепили жилами, благодаря которым получились сочленения и суставы; они прикрыли их, как бы облепив плотью, в одних местах более плотной, в других менее, – так, чтобы телу было удобно.
Из того же самого они сплели внутренние органы, желудок и вокруг него – извивы кишок, а сверху, от полости рта, дыхательный канал, ведущий к легким, и горло, ведущее в пищевод. Пища, попадая в живот, размельчается и размягчается с помощью горячего воздуха и после соответствующего изменения распространяется по всему телу; две жилы, идущие вдоль хребта, перекрестно оплетают голову, встречаясь друг с другом, а от головы разделяются на множество нервов.
Создав человека, боги сочетали с его телом душу, господствующую над ним, причем ведущую часть души сознательно поместили в области головы, где начала нервов и жил, а также источники переживаний, могущих привести к умопомешательству; а органы чувств вокруг головы суть как бы стражи ведущего начала. Здесь же помещаются и начала рассуждения, выбора и оценки; несколько ниже они поместили чувственное начало души, а пылкое – в области сердца; вожделеющее начало помещается в нижней части живота и в области вокруг пупка; об этих началах речь пойдет ниже.
XVIII
Установив на лице светоносные глаза, боги заставили их сдерживать заключенный в теле огненный свет, гладкость и плотность которого роднила его, по их мнению, с дневным светом. Этот внутренний свет, чистейший и прозрачнейший, легко изливается через глаза в целом, но особенно легко – через их середину. Сталкиваясь, как подобное с подобным, со светом извне, он создает зрительные ощущения. Поэтому ночью, когда свет исчезает или затемняется, световой поток перестает устремляться к окружающему нас воздуху и, удерживаясь внутри, успокаивает и рассеивает наши внутренние порывы и тем самым вызывает сон; вследствие этого веки во сне смежаются.
При наступлении полного спокойствия приходят кратковременные сны; но если некоторые движения остаются, нас одолевают продолжительные сновидения. Именно так – наяву и во сне – создаются воображаемые представления, а вслед за ними – образы в зеркалах и других прозрачных и гладких предметах, возникающие путем отражения. При этом в зеркале создается впечатление выпуклости, глубины и протяженности, и разные образы здесь получаются из‑за того, что лучи света либо отталкиваются от разных частей, либо соскальзывают с выпуклостей, либо стекаются в углубления; поэтому в одном случае левое представляется правым, в другом – отображается то же самое, в третьем – более далекое оборачивается близким, и наоборот.
XIX
Слух возник ради распознавания звуков; слышание начинается с движения в области головы и кончается в области печени. Звук через уши поражает мозг и кровь и доходит до самой души; высокий звук – от быстрого движения, низкий – от медленного, громкий – от сильного, тихий – от слабого.
Следующая способность – у ноздрей, состоящая в восприятии запахов. Запах есть ощущение, нисходящее от сосудов в ноздрях к околопупочной области. Виды запаха не поддаются именованию, за исключением двух первичных – приятного и неприятного, которые называются благоуханием и зловонием. Всякий запах плотнее воздуха, но тоньше воды; это доказывается тем, что пахучим, понятным образом, называется то, что пребывает в некотором незавершенном, переходном состоянии и сохраняет свойства, общие воздуху и воде, каковы пар и туман; состояние перехода воды в воздух или обратно как раз и доступно чувству обоняния.
Вкус боги создали ради распознания самых различных сочащихся веществ; они протянули от языка до сердца сосуды, которые должны оценивать и судить о вкусовых ощущениях, и, сравнивая и различая воздействие сочащихся веществ, определяют разницу между ними.
Есть семь видов веществ, вызывающих разные вкусовые ощущения: сладкое, кислое, терпкое, едкое, соленое, острое и горькое. Из них сладкое обладает природой, противоположной всем прочим и приятно проникающей во влагу вокруг языка. Из остальных кислое бередит и разъедает, острое горячит и устремляется вверх, горькое хорошо прочищает и даже разрушает, соленое слегка очищает и прочищает; из веществ, сжимающих и закрывающих поры, едкое – более шероховатое, а терпкое – менее.
Осязательную способность боги приспособили для восприятия горячего и холодного, мягкого и твердого, легкого и тяжелого, гладкого и шероховатого, чтобы можно было судить и о такого рода различиях. То, что при прикосновении подается, мы называем податливым, а что не подается – неподатливым; это зависит от основания самих тел: то, у чего большее основание, – устойчиво и основательно, а то, основание чего мало, – податливо, мягко и легко изменяется. Шероховатым можно считать то, что неоднородно и твердо, гладким – однородное и плотное. Ощущения горячего и холодного, как наиболее противоположные, возникают от противоположных причин. Одно, вызывая расщепление острой и быстрой подвижностью частей, вызывает ощущение тепла. Ощущение холода вызывается привхождением более крупного, которое вытесняет более мелкое и маленькое и насильно занимает их место: ведь именно тогда начинается некое сотрясение и дрожь, и при этом в телах возникает ощущение замерзания.
XX
Тяжелое и легкое ни в коем случае не следует определять через понятия верха и низа, так как «верх» и «низ» ничего не означают; в самом деле, поскольку небо в целом шарообразно и совершенно выровнено со своей внешней стороны, не правильно что‑либо одно в нем называть верхом, а другое – низом. Тяжелое есть то, что с трудом можно сдвинуть с места, свойственного ему по природе; легкое – то, что без труда; кроме того, тяжелым является составленное из множества частей, а легким – из немногих.
XXI
Дышим мы так: извне нас облекает большой объем воздуха; этот воздух через рот, ноздри и прочие пути, имеющиеся в теле и усматриваемые разумом, проникает внутрь, а нагревшись, устремляется наружу к такому же воздуху; и сколько его выходит, столько же воздуха извне входит внутрь; так, при непрерывном совершении этого круговорота, получаются вдохи и выдохи.
XXII
Причины болезней многочисленны. Во‑первых, избыток и недостаток элементов, а также переход их в несвойственные им места. Во‑вторых, рождение однородного в обратном порядке, например когда из плоти выделяется кровь, желчь или слизь, – это означает не что иное, как разложение плоти. Именно слизь представляет собой разложение молодой плоти, пот и слезы – своего рода сыворотку слизи. Слизь, выступая наружу, вызывает сыпь и лишаи, а смешавшись внутри с черной кровью, возбуждает так называемую священную болезнь; едкая и соленая слизь есть причина катаров; все воспаления вызываются желчью, и вообще желчь и флегма вызывают тысячи разнообразных недугов. Непрерывная лихорадка возникает от избытка огня, ежедневная – воздуха, трехдневная – воды, четырехдневная – земли.
XXIII
Теперь следует сказать о душе; хотя может показаться, что мы повторяемся, начнем со следующего. Как мы уже показали, боги, созидавшие смертные роды, получили от первого бога бессмертную человеческую душу и прибавили к ней две смертные части. Чтобы божественная и бессмертная часть души не была подавлена ничтожеством смертной части, они поместили ее как бы в крепости человеческого тела и, предназначив ее для управления и господства, уделили ей место в голове, форма которой подобна форме мироздания; остальное тело они предназначили для подчинения ей, прирастив его в качестве носителя, и в разных частях его поместили прочие смертные части души.
Пылкое начало они поместили в сердце, вожделеющее – в средней области, между пупком и диафрагмой, связав его, словно некоего бешеного и дикого зверька. В помощь сердцу они приспособили легкие, сделав их мягкими, бескровными и пористыми наподобие губки ради смягчения ударов закипающего гневом сердца. Печень благодаря имеющейся у нее сладости и горечи пробуждает вожделеющее начало души и укрощает его; кроме того, печень вызывает пророческие сны, поскольку она, будучи гладкой, плотной и лоснящейся, отражает идущую от ума силу. Селезенка помогает печени, очищая ее и придавая ей лоск; она вбирает в себя вредные выделения, возникающие от некоторых болезней печени.
XXIV
Что три части души соответствуют трем ее силам и что части эти занимают свои места в соответствии с определенным замыслом, можно усмотреть из следующего. Во‑первых, то, что от природы разделено, является разным; а чувства и разум разделены от природы, раз одно относится к мышлению, а другое – к страданиям и удовольствиям; кроме того, чувства есть и у животных.
Так как чувства и разум действительно разные от природы, они должны и помещаться отдельно, поскольку в конечном счете они приходят в столкновение друг с другом; но ничто не может прийти в столкновение с самим собой, и противоположное друг другу не может одновременно находиться в одном и том же месте.
На примере Медеи видно, как пыл страстей приходит в столкновение с рассудком; она говорит так:
Я знаю, что злодейство мной задумано,
Но пыл страстей сильнее понимания36
.
И в Лаие, похищающем Хрисиппа, страсть также приходит в столкновение с рассудком; он говорит так:
В том для людей несчастье величайшее,
Что дурно поступают, благо ведая[2247]
.
О том, что разум отличается от чувств, можно судить и на основании того, что разум и чувства воспитываются по‑разному; первый – с помощью обучения, а вторые – с помощью усвоения хороших привычек.
XXV
Бессмертие души Платон доказывает следующим способом38
. Душа привносит жизнь в то, во что входит, поскольку жизнь – ее естественное свойство; то, что приносит жизнь другому, само не может принять смерти, а таковое бессмертно. Если душа бессмертна, она и неуничтожима: она есть бестелесная сущность, неизменная в своем существе, умопостигаемая, невидимая и единовидная; тем самым она несоставная, неразрушимая, недробимая. Тело – полная тому противоположность: воспринимаемое чувствами, видимое, дробимое, составленное из разных видов. Именно поэтому душа, входя благодаря телу в соприкосновение с чувственным миром, теряется, тревожится и словно пьянеет; а в умопостигаемом, оказываясь сама по себе, она укрепляется и успокаивается. Она не может быть подобна тому, что ее тревожит: следовательно, она более сходна с умопостигаемым, которое недробимо и неуничтожимо. Кроме того, душа есть естественное ведущее начало, а таковое подобно богу; поэтому, будучи подобной богу, душа неуничтожима и нетленна.
Непосредственно противоположные начала, причем противоположные не сами по себе, а как свойства, обычно рождаются одно из другого. То, что люди называют жизнью, противоположно мертвому; как смерть есть отделение души от тела, так жизнь есть соединение души, которая, несомненно, существовала прежде, и тела; и если душа будет существовать после смерти и существовала до встречи с телом, то, вероятнее всего, она вечна, поскольку невозможно помыслить ничего способного ее разрушить.
Кроме того, душа должна быть бессмертной, если научение есть припоминание; а к мысли о том, что научение есть припоминание39
, можно прийти на основе того, что научение не может осуществляться иначе, как через припоминание некогда узнанного. В самом деле, если мы составляем общее понятие, исходя из общих свойств отдельных вещей, как можем мы перебрать все отдельные вещи, которых бесконечно много? Или как [постигнем общее] из рассмотрения немногих? Никак, поскольку в этом случае неизбежны ошибки; тому пример – суждение «Только обладающее дыханием есть живое существо». И самое главное, как могли бы существовать понятия? Итак, мы в порядке припоминания мыслим на основе крохотных проблесков, по некоторым отдельным признакам припоминая, о чем давно знаем, но что забыли по воплощении.
Кроме того, душу не разрушает ее собственная порочность, она не может разрушиться от порочности другого и вообще от другого; а раз так, она должна быть бессмертной. Кроме того, самодвижное начало обладает вечным движением, а таковое бессмертно; но душа как раз самодвижна; как самодвижное, она есть начало всякого движения и возникновения, а как начало, она есть нечто нерожденное и негибнущее. Следовательно, такова всякая душа – не только мировая, но и человеческая, поскольку обе они созданы из одной и той же смеси. Платон называет душу самодвижной40
, поскольку ей свойственна жизнь, вечно деятельная в себе самой.
Что бессмертны души разумных существ – это у Платона можно считать твердо установленным; а вот бессмертие душ существ неразумных сомнительно. И по всей вероятности, души неразумных существ, ведомые чистой видимостью и не обладающие ни рассудком, ни способностью суждения, ни доказанными положениями и выводами из них, ни общими разделениями и совершенно лишенные, таким образом, понятия об умопостигаемом и по существу отличные от разумных существ, смертны и тленны.
Из положения о бессмертии душ следует, что они внедряются в тела и срастаются с зародышами, способствуя их созреванию; меняют многие тела – человеческие и другие – или дождавшись прошествия отмеренного им числа лет, или по воле богов, или из‑за невоздержности, или из‑за приверженности к телу; душа и тело в каком‑то смысле приспособлены друг к Другу, как огонь и смола.
И душа богов обладает способностью суждения (которую можно назвать также способностью понимания), побудительной способностью (которую можно именовать воодушевлением) и способностью присвоения. Эти способности имеются и у человеческих душ, но после воплощения они некоторым образом преобразуются: способность присвоения становится вожделением, а побудительная способность – пылким началом.
XXVI
Мнение Платона о роке таково. Все, говорит он, подчиняется року, но не все им предопределено, ибо действие рока подобно закону, который не может сказать, что один совершит одно, с другим случится другое и так далее до бесконечности, поскольку бесконечно число рождающихся и бесконечны обстоятельства, в которых они оказываются; в таком случае не будет места ни для нашей воли, ни для наших представлений о похвальном, порицаемом и тому подобном; но рок говорит, что при выборе такой‑то жизни и по свершении таких‑то поступков для души воспоследует то‑то[2248]
.
Таким образом, душа свободна от принуждения и в ее воле сделать что‑то или не сделать; здесь необходимость отсутствует, но неизбежность последствий поступка определяется роком, например за добровольным поступком «Парис похитит Елену» последует «из‑за Елены эллины начнут войну». Таково же пророчество Аполлона Лаию:
Зачнешь дитя – убьет тебя родившийся42
;
здесь говорится о Лаии и о том, что он может родить дитя, а последствие этого предопределено роком.
Природа возможного помещается где‑то между истиной и ложью; на этой по природе неопределенной возможности и основывается наша свободная воля. Истиной или ложью будет то, что получится после нашего выбора, а возможное отлично от называемого наличным, или действительным43
. Возможное обозначает некую способность к чему‑либо, но не его наличие. Так, можно сказать, что ребенок есть в возможности грамматик, флейтист или плотник, но у него тогда будет в наличии одно или два из этих искусств, когда он обучится и приобретет какой‑либо навык, а в действительности тогда, когда он будет действовать в соответствии с приобретенным навыком. Но возможное не есть что‑либо из этого, а то неопределившееся и зависящее от нашей воли, что становится истинным или ложным в зависимости от того, какая из наших наклонностей возьмет верх.
XXVII
Данная глава посвящена платоновской этике. Он полагает, что драгоценнейшее и величайшее благо нелегко найти, а найдя – трудно объяснить всем. Это он изложил в беседе «О благе» избранным и особенно близким ему ученикам. Что же касается человеческого блага, то внимательному читателю его сочинений ясно, что он считает им науку и созерцание первого блага, которое можно определить как бога и первый ум.
Все то, что считается человеческим благом, заслуживает такого имени в меру его причастности к первому и драгоценнейшему благу, точно так же как сладкое и теплое получают свое имя от первых сладости и теплоты. В нас неким подобием его оказывается ум и способность рассуждения, в силу чего наше благо так хорошо, возвышенно, привлекательно, соразмерно и божественно. Что же касается остальных так называемых благ, каковы для большинства здоровье, красота, сила, богатство и тому подобное, то все это является благом не безусловно, а только в том случае, когда пользование этим неразрывно с добродетелью, без которой это остается всего лишь в разряде вещественном и при дурном употреблении оказывается злом; в таком случае Платон называет все это тленными благами.
Платон не относит к числу доступных человеку благ счастье: последнее доступно божеству, а людям – лишь в виде загробного блаженства. Потому Платон и говорит, что по существу философские души44
преисполнены великим и удивительным и по отрешении от тела они становятся сотрапезниками богов и созерцают луг истины, поскольку уже при жизни им вожделенно знание ее и выше всего они ценят стремление к нему. Благодаря этому они как бы очищают и восстанавливают некое зрение души, потускневшее и ослабленное, которое, однако, следует беречь больше, нежели тысячу телесных очей, и оказываются в состоянии вознестись ко всему разумному.
А неразумные, по мнению Платона, подобны никогда не видевшим ясного света обитателям подземных пещер: они видят некие неясные тени наших тел и думают, будто это – подлинное постижение бытия. И как те, выбравшись из мрака и оказавшись в чистом свете, понятным образом меняют свое мнение о том, что видели раньше, и в первую очередь понимают собственное заблуждение, точно так же и неразумные, перейдя из мрака здешней жизни к истинно божественному и прекрасному, начинают презирать то, чем раньше восхищались, и исполняются неодолимым стремлением созерцать тамошнее, ибо только там прекрасное тождественно с благом и добродетели довольно для счастья. Что благо есть знание первого и что это же – прекрасное, Платон разъясняет во всех своих сочинениях. Сжато это изложено в первой книге «Законов» примерно так: «Есть два рода благ: одни – человеческие, другие – божественные» и т. д.45
Когда некая отдельная вещь, непричастная сущности первого блага, по недоразумению также именуется благом, обладание ею, говорит Платон в «Евтидеме», есть наибольшее зло46
.
Его положение о том, что добродетели благодетельны сами по себе, следует понимать как вывод из его положения о прекрасном как единственном благе: очень подробно и лучше всего он говорит об этом в «Государстве», во всех книгах этого диалога47
. Обладатель того знания, о котором шла речь выше, – великий удачник и счастливец, причем не только в том случае, когда ему за это оказывают почести и награждают, но даже и в том, когда никому из людей это не известно и его преследуют так называемые беды: бесчестье, изгнание, смерть. И тот, кто обладает всем тем, что считается благом, – богатством, властью над великим царством, крепким телесным здоровьем и красотой, но при этом лишен того знания, ни в коем случае не счастливее его.
XXVIII
Из всего этого естественно вытекает положение Платона о том, что целью является посильное уподобление божеству. Он излагает это по‑разному. Иной раз он говорит, что уподобиться божеству – значит быть разумным, справедливым и благочестивым, – так в «Теэтете»48
. Потому и надо стремиться как можно быстрее бежать отсюда туда: бегство и означает посильное уподобление божеству, а уподобление заключается в том. чтобы стать справедливым и благочестивым благодаря размышлению. Он может ограничиться и справедливостью, как в последней книге «Государства»49
; в самом деле, боги не оставят своим попечением того, кто предан стремлению стать справедливым и в меру человеческих сил уподобиться богу, ведя добродетельную жизнь.
В «Федоне» о том, что уподобиться божеству – значит быть рассудительным и справедливым, он говорит примерно так: «А самые счастливые и блаженные, уходящие самой лучшей дорогой, – это те, кто преуспел в добродетели, полезной народу и гражданам; имя ей – рассудительность и справедливость»50
.
Иногда он говорит, что цель – уподобиться божеству, иногда – следовать, например: «Бог, в котором, по древнему учению, начало и конец» и т. д. Иногда – и то и другое, например: «Душа, которая следует божеству и уподобилась ему» и т. д. Но ведь благо есть и начало всякой пользы, и можно сказать, что оно – от бога; а такому началу соответствует цель, состоящая в уподоблении божеству, – я имею в виду, конечно, бога небесного, а не занебесного, клянусь Зевсом, который не обладает добродетелью, поскольку он выше ее. Поэтому правильно будет сказать, что несчастье есть демонская порча, а счастье – расположение демона.
Мы можем достичь богоподобия, если при соответствующих природных задатках приобретем хорошие привычки, будем должным образом наставлены и воспитаны в духе закона и, самое главное, если благодаря разуму и обучению усвоим те знания, которые позволяют удалиться от большинства людских забот и постоянно заниматься умопостигаемыми предметами. Если же нам предстоит посвящение в более высокие науки, то подготовкой и предварительным очищением демона в нас может стать музыка, арифметика, астрономия и геометрия; при этом мы должны следить за нашим телом и заниматься гимнастикой, которая закаляет тела как для войны, так и для мирных занятий.
XXIX
Добродетель есть вещь божественная, представляющая собой совершенное и наилучшее расположение души, благодаря которому человек приобретает благообразие, уравновешенность и основательность в речах и делах, причем как сам по себе, так и с точки зрения других. Различаются следующие добродетели: добродетели разума и те, что противостоят неразумной части души, каковы мужество и воздержность; из них мужество противостоит пылкости, воздержность – вожделению. Поскольку различны разум, пыл и вожделение, различно и их совершенство: совершенство разумной части – рассудительность, пылкой – мужество, вожделеющей – воздержность.
Благоразумие51
есть знание добра и зла, а еще того, что не является ни тем ни другим. Воздержность есть упорядоченность страстей и влечений и умение подчинить их ведущему началу, каковым является разум. Когда мы называем воздержность упорядоченностью и умением подчинять, мы представляем нечто вроде определенной способности, под воздействием которой влечения упорядочиваются и подчиняются естественному ведущему началу, т. е. разуму.
Мужество52
– сохранение представления о долге (dogmatos ennomou) перед лицом опасности и без таковой, т. е. некая способность сохранять представление о долге. Справедливость53
есть некое согласие названных добродетелей друг с другом, способность, благодаря которой три части души примиряются и приходят к согласию, причем каждая занимает место, соответствующее и подобающее ее достоинству. Таким образом, справедливость заключает в себе полноту совершенства трех добродетелей: благоразумия, мужества и воздержности. Правит разум, а остальные части души, соответствующим образом упорядоченные благодаря разуму, подчиняются ему; поэтому правильно положение о том, что добродетели взаимно дополняют друг друга.
В самом деле, мужество, будучи сохранением представления о долге, сохраняет и правильное понятие, поскольку представление о долге есть некое правильное понятие; а правильное понятие возникает от разумности. В свою очередь разумность связана также и с мужеством: ведь она является знанием добра, а никто не может увидеть, где добро, если смотрит, подчиняясь трусости и другим страстям, с нею связанным. Так же не может быть разумным человек разнузданный и вообще тот, кто, побежденный той или иной страстью, совершает нечто вопреки правильному понятию. Платон считает это воздействием незнания и неразумия; вот почему не может быть разумным тот, кто разнуздан и труслив. Итак, совершенные добродетели нераздельны друг с другом.
XXX
Но мы говорим о добродетелях и в другом смысле, называя, например, даровитость или успехи, ведущие к добродетели, тем же именем, что и совершенные добродетели, по сходству с ними. Так мы называем мужественными воинов, а иной раз говорим, что некоторые храбры, хотя и неразумны. Очевидно, что совершенные добродетели не усиливаются и не ослабевают, а вот порочность может быть сильнее и слабее, например этот неразумнее или несправедливее, нежели тот. Но в то же время пороки не взаимосвязаны друг с другом, поскольку одни противоречат другим и не могут сочетаться в одном и том же человеке. Так, дерзость противоречит трусости, мотовство – скупости; кроме того, не может быть человека, одержимого всеми пороками, как не может быть тела, имеющего в себе все телесные недостатки.
Еще следует допускать некое среднее состояние между распущенностью и нравственной строгостью, поскольку не все люди либо безупречно строги, либо распущенны. Таковы те, кто довольствуется определенными успехами в нравственной области. Но ведь и в самом деле нелегко перейти от порока к добродетели: расстояние между этими крайностями велико и преодолеть его трудно.
Из добродетелей одни нужно считать главными, а другие – второстепенными; главные связаны с разумным началом, от которого получают совершенство и остальные, а второстепенные – с чувственными. Эти последние ведут к прекрасному благодаря разуму, а не сами по себе, поскольку сами по себе они разумом не обладают, а получают его благодаря разумности при соответствующем образе жизни и воспитании. И поскольку ни знание, ни искусство не могут образоваться ни в какой другой части души, кроме разумной, оказывается невозможным обучить добродетелям, связанным с чувственностью, поскольку они – не искусства и не знания и не обладают собственным предметом. Поэтому разумность, будучи знанием, определяет, что свойственно каждой добродетели, наподобие кормчего, подсказывающего гребцам то, чего они не видят; и гребцы слушаются его, как и воин слушается полководца.
Порочность может быть большей и меньшей, и преступления неодинаковы, а одни большие, другие меньшие; поэтому правильно, что законодатели назначают за них то большее, то меньшее наказание. И хотя добродетели, конечно, суть нечто предельное в силу своего совершенства и сходства со справедливостью, их с другой точки зрения можно рассматривать как нечто среднее, поскольку если не каждой, то большинству из них соответствуют два порока, один из которых связан с избытком, а другой – с недостатком; например, щедрости противоположны: с одной стороны – мелочность, а с другой – мотовство.
В самом деле, неумеренность страстей возникает тогда, когда либо преступают меру должного, либо не достигают ее. Нельзя считать впечатлительным того, кто без гнева смотрит, как оскорбляют его родителей, и сдержанным того, кто гневается по всяким пустякам, – совсем наоборот. Точно так же следует считать бесчувственным того, кто не скорбит, когда его родители умирают, и угнетенным переживаниями и безмерно страдающим – того, кто готов умереть от скорби; умерен в страстях тот, кто скорбит, но соблюдает меру в переживаниях.
Кто буквально всего и очень сильно боится – труслив; кто ничего не боится – самонадеян; а мужествен тот, кто отважен и осторожен в меру; точно так же обстоит дело и со всем прочим. И поскольку в том, что касается страстей, умеренность – наилучшее, а умеренность есть не что иное, как середина между избытком и недостатком, такого рода добродетели существуют в этой середине потому, что они позволяют нам придерживаться в страстях среднего.
XXXI
Но такова же и добродетель, поскольку она также есть то, что в нашей воле и ничему не подвластно. В самом деле, порядочность не была бы чем‑то похвальным, если бы она возникала от природы или доставалась в удел от бога. Добродетель должна быть чем‑то добровольным, поскольку она возникает в силу некоего горячего, благородного и упорного устремления. А раз добродетель добровольна, значит, порочность невольна. Действительно, кто добровольно выберет величайшее из зол для достойнейшего и драгоценнейшего в себе? Когда кто‑то устремляется к злу, исходно это устремление к злу не как к злу, но как к благу; и когда кто‑то обращается к злу, с тем чтобы приобрести с помощью незначительного зла превосходящее его благо, он находится в совершенном заблуждении, но опять‑таки совершает зло невольно, поскольку невозможно, чтобы кто‑то устремлялся к злу, желая себе зла, а не в надежде на благо или не из страха перед большим злом.
Все несправедливые дела злого человека также оказываются невольными, потому что если несправедливость невольна, то совершение несправедливости должно быть невольным тем в большей степени, что несправедливое действие является большим злом, чем несправедливость, которая не проявляет себя. Но хотя несправедливые поступки и невольны, тех, кто их совершает, следует наказывать, причем неодинаково, поскольку неодинаков причиняемый ими вред; а сама невольность объясняется либо незнанием, либо аффектом, от чего можно избавить вразумлением, воспитанием, образованием и заботой.
Несправедливость – такое зло, что скорее следует избегать самому совершать несправедливые поступки, чем подвергаться несправедливости[2249]
: первое присуще порочному человеку, а второе – всего лишь слабому. Конечно, постыдно и то и другое, но совершать несправедливое настолько же хуже, насколько и позорнее; и преступнику лучше быть наказанным, как больному лучше доверить свое тело искусству врача, поскольку всякое наказание как раз и есть некое врачевание заблудшей души.
XXXII
Поскольку большинство добродетелей так или иначе связаны с аффектами, следует определить, что есть аффект. Аффект есть неразумное движение души, все равно к злу или к благу. Движение называется неразумным, потому что аффекты не суть ни суждения, ни мнения, но движения неразумных частей души: оно возникает в чувствующей части души и есть наша непроизвольная деятельность. Аффекты часто возникают в нас против воли и вызывают противодействие. Иной раз, даже зная, что с нами не происходит ничего печального, радостного или страшного, мы все же находимся под воздействием происходящего; этого мы не испытывали бы, если бы аффекты совпадали с суждениями, поскольку суждение мы можем отвергнуть, поняв относительно его, что так должно или не должно. Аффекты вызывает либо хорошее, либо дурное, поскольку при появлении безразличных предметов аффекта не возникает: все аффекты связаны с появлением хорошего либо дурного. Когда мы замечаем, что нам хорошо сейчас, мы радуемся, а к грядущему благу стремимся; когда же мы замечаем, что нам плохо, мы огорчаемся и боимся грядущего зла.
Есть два простых и основных аффекта: удовольствие и страдание, а остальные лепятся из них. В самом деле, нельзя считать страх и вожделение изначальными и простыми наряду с этими двумя, поскольку тот, кто испытывает страх, не полностью лишен удовольствия: ведь он не сможет пережить несчастье, если перестанет верить, что избавится от зла и наступит облегчение; но вместе с тем он переполнен тревогой и беспокойством и поэтому страдает. А испытывающий вожделение, надеясь обрести вожделенное, чувствует удовольствие, но, поскольку он не полностью уверен и у него нет твердой надежды, грустит.
Если вожделение и страх не изначальны, несомненно, придется согласиться, что ни один из прочих аффектов также не является простым, каковы, например, сожаление, зависть и тому подобные, поскольку в них также можно усмотреть удовольствие и страдание, из которых они как бы смешаны.
Одни из аффектов дикие, другие кроткие; кроткие суть естественные, они необходимы человеку и естественны для него, пока остаются умеренными, так как при неумеренности ведут к извращению. Таковы удовольствие, страдание, пыл, жалость, стыд; естественно удовольствие по поводу соответствующего природе и страдание из‑за несоответствующего; необходим пыл при наказании врагов и отмщении; при любви к людям естественна жалость; необходим стыд, чтобы уклоняться от позорного. Аффекты дикие суть противоестественные, они возникают от испорченности и низости нрава. Таковы насмешливость, злорадство, человеконенавистничество; они могут быть сильнее или слабее, но, каковы бы они ни были, они всегда суть нечто извращенное, и для них нет надлежащей меры.
Об удовольствии и страдании Платон говорит, что аффекты эти вызываются в нас неким изначальным природным движением: страдание и боль рождаются при движении против природы, а удовольствие – при восстановлении природного порядка55
. Он считает, что состояние, соответствующее природе, – среднее между болью и удовольствием; оно не совпадает ни с той, ни с другим, и в нем мы большее время пребываем.
Он учит также о многих видах удовольствия, в частности об удовольствиях тела и души; одни удовольствия смешиваются с тем, что им противоположно, а другие остаются чистыми и несмешанными; одни возникают от воспоминания, а другие – благодаря надежде; одни – позорные – у людей разнузданных и несправедливых, другие – удовольствия людей умеренных – так или иначе причастные к благу, например удовольствие от свершения хороших дел и добродетельной жизни.
Относительно множества низменных удовольствий нет нужды исследовать, могут ли они принадлежать к числу благ как таковых, поскольку они являются преходящими и ничего не стоят, возникают в качестве побочного следствия природных свойств, не имеют в себе ничего существенного и изначального и допускают наряду с собою то, что им противоположно; удовольствие и страдание здесь смешиваются, а этого не происходило бы, если бы одно было благом как таковым, а другое – злом.
XXXIII
Дружбой56
в наивысшем и собственном смысле называется не что иное, как чувство, возникающее от взаимного расположения. Оно появляется в том случае, когда каждый из двоих хочет, чтобы близкий и он сам были равно благополучны. Это равенство сохраняется только в том случае, когда у обоих похожий нрав, поскольку подобное дружественно подобному как соразмерному, тогда как несоразмерные предметы не могут пребывать в согласии ни один с другим, ни с предметами соразмерными.
Есть и иные чувства, которые, не будучи дружбой, тем не менее называются дружескими, неся на себе некий налет добродетели. Таково естественное расположение родителей к детям и родственников друг к другу, так называемое гражданское чувство и товарищество57
, которые, однако, не всегда построены на взаимном расположении.
Вид дружбы представляет собой и любовное чувство. Любовь бывает благородная – в душах взыскательных, низкая – в душах порочных и средняя – в душах людей посредственных. Поскольку душа разумного человека бывает трех разрядов – добрая, негодная и средняя, поэтому и видов любовного влечения – три. Более всего о различии этих трех видов любви можно судить на основании различия их предметов. Низкая любовь направлена только на тело и подчинена чувству удовольствия, поэтому в ней есть нечто скотское; предмет благородной любви – чистая душа, в которой ценится ее расположенность к добродетели; средняя любовь направлена и на тело, и на душу, поскольку ее влечет как тело, так и красота души.
Достойный любви также представляет собой нечто среднее между негодным и благородным, в силу чего воплощением Эроса следует представлять не бога, а. скорее, некоего демона, который, никогда не облекаясь в земное тело, служит как бы перевозчиком от богов к людям и обратно. Поскольку три наиболее общих вида любви были названы выше, любовь к благу следует определить как некое искусство, не связанное с аффектами, относящееся к разумной части души и занятое рассмотрением, которое дает знание того, как обрести предмет, достойный любви, и обладать им. О предмете любви это искусство судит по его устремлениям и порывам – насколько они благородны, направлены на прекрасное, сильны и искренни. Стремящийся к такой любви обретет ее не путем ублажения и превознесения любимца, но, скорее, удерживая его и доказывая, что не следует и дальше вести такую жизнь, какую он ведет теперь. Когда он завоюет предмет любви, он будет общаться с ним, склоняя его к тому, в чем, упражняясь, станет он совершенным; а цель их общения – из влюбленного и любимца стать друзьями.
XXXIV
Платон говорит, что среди государств одни идеальны (anypothetoys) – их он рассмотрел в «Государстве», где сначала описано государство, не ведущее войн, а затем – исполненное воинственным пылом, причем Платон исследует, какое из них лучше и как его можно осуществить[2250]
. Подобно душе, государство также делится на три части: на стражей, воинов и ремесленников59
. Одним он поручает управление и власть, другим – военную защиту в случае необходимости (их следует соотносить с пылким началом, которое находится как бы в союзе с началом разумным), третьи заняты ремеслами и другим производительным трудом. Он считает, что власть должна быть у философов и созерцателей первого блага.
В самом деле, только в таком случае можно устроить все соответствующим образом, поскольку в человеческих делах никогда не избавиться от зол, если философы не станут царями или же – по какому‑то божественному определению – те, кого именуют царями, не станут по‑настоящему философами. Наилучшим и справедливым образом они смогут вести город тогда, когда каждая часть его будет самостоятельна, правители будут заботиться о народе, воины служить им и сражаться за них, а остальные будут послушно им повиноваться.
Платон называет пять видов государственного устройства: при аристократии у власти стоят лучшие, второй вид – тимократия, когда у власти честолюбцы, третий – демократия, затем – олигархия и, наконец, наихудший вид – тирания60
.
Он описывает и другие государства, построенные на определенной реальной основе (ex hypotheseos), из которых одно изображено в «Законах», а другое (в виде указаний, как исправить существующее положение) – в «Письмах»61
. Такие указания он дает и для описанных в «Законах» больных городов62
, которые занимают ограниченное место, населены отборными людьми всякого возраста и – в силу различия их природы и размещения – нуждаются каждый в особенном воспитании, образовании и вооружении: приморские города будут заниматься мореплаванием и вести морские сражения; населяющие равнины, удаленные от моря, приспособятся к битве в пешем строю с более легким вооружением, чем у жителей гор, но с более тяжелым, чем у жителей низин; некоторые из них могли бы завести конницу. В такого рода государстве не идет речи об общности жен.
Гражданская добродетель является одновременно и теоретической и практической; к ней относится умение обеспечить в городе благополучие, счастье, единомыслие и согласие; будучи искусством приказывать, она имеет в подчинении военное, полководческое и судебное искусства, а кроме того, занята рассмотрением тысячи других дел, в частности определением того, вести войну или нет.
XXXV
Из сказанного ясно, каков философ. Софист отличается от него, во‑первых, обычаем, например тем, что обучает юношей за плату63
и больше стремится к тому, чтобы казаться хорошим и добрым человеком, чем быть таким. Во‑вторых, предметом занятий, потому что философ занят тем, что обладает вечно тождественным и неизменным бытием, а софист хлопочет о небытии, удаляясь туда, где мрак не позволяет ничего разглядеть64
. Небытие не есть противоположность бытия, поскольку оно не обладает подлинным бытием, не дано мысли и никак не осуществлено; кто силится сказать о нем и помыслить его, попадает в порочный круг из‑за того, что оно в самом себе содержит противоречие.
Само слово «небытие» не только означает отрицание бытия, но одновременно указывает на различие и каким‑то образом является свойством бытия, ведь, если бы вещи не были причастны небытию, они не отличались бы одна от другой; однако в действительности они суть бытие в такой же мере, в какой и небытие, поскольку то, что не есть нечто [другое], не есть бытие [как таковое].
XXXVI
Сказанного довольно для введения в существо платоновского учения. Что‑то изложено мною систематически, а что‑то – случайно и бессистемно. Тем не менее на основе данного изложения можно рассмотреть и последовательно восстановить все прочие положения платоновской философии.
Перевод Ю. А. Шичалина.
В кн.: Платон. Диалоги. М.: «Мысль», 1986
XXXIII. АНОНИМНЫЕ ПРОЛЕГОМЕНЫ К ПЛАТОНОВСКОЙ ФИЛОСОФИИ

Боговдохновенный Аристотель, приступая к той части своей философии, где он рассуждает о божественном. говорил, что все люди стремятся к знанию, и в доказательство приводил любовь к ощущениям1
: ведь мы любим ощущения, оттого что с их помощью можем что‑то познать. На мой взгляд, так же обстоит дело и с философией Платона: очевидно, что все хотят почерпнуть из нее, как из некоего источника, сколько каждый сочтет для себя необходимым. Говоря «все», я имею в виду тех, кто живет сообразно с природой, а не тех, кто огрубел настолько, что не может, подобно летучим мышам, смотреть на солнечный свет и считает, будто существует только то, что доступно ощущениям, нимало не задумываясь об умопостигаемом.
1
Пожалуй, восхищение философией Платона станет еще больше, если вначале мы расскажем его историю и изложим характер его философии2
.
Так вот, отцом великого Платона был Аристон, сын Аристокла, а матерью – Периктиона, происходившая из рода Солона‑законодателя; ему‑то в подражание и написал Платон «Государство» и «Законы». Сам он получил имя Аристокла в честь деда со стороны отца, но позже его прозвали Платоном: то ли за широкую грудь, то ли за обширный лоб, а вернее всего – за широту и непринужденность слога. Так же ведь и Феофраста называли вначале Тиртамом, а потом переименовали за божественный слог в Феофраста[2251]
.
Божественным был Платон и священными узами связан с Аполлоном. Это подтверждают его собственные слова, а также сны; он говорил4
о себе, будто служит тому же господину, что и лебеди, а со снами дело обстоит так. Учитель его Сократ накануне того дня, когда Платон должен был прийти к нему, увидел во сне, как бескрылый лебедь опустился к нему на колени; потом у лебедя выросли крылья, и он взлетел, издавая звуки громкие и звонкие, пленившие всех, кто слышал его. Это означало, что придет к нему Платон незрелым, но достигнет совершенства и создаст такое замечательное учение, что все будут стремиться его услышать и никто не сможет, да и не станет пытаться ему противоречить. И сам Платон перед смертью видел во сне, будто он превратился в лебедя и, перелетая с дерева на дерево, доставлял множество хлопот птицеловам, которые не могли его поймать. Услыхав про этот сон, Симмий[2252]
, ученик Сократа, сказал, что все будут пытаться понять мысли Платона, но никто не сможет, и каждый станет толковать его по‑своему: один – теологически, другой – физически, третий – еще как‑нибудь. В этом отношении с Платоном случилось то же, что и с Гомером: оба говорят так приятно и складно, что доступны всякому, как бы он за них ни взялся.
А что Платон был служителем Аполлона, показывают не только сны, но и сам образ жизни его, направленный на очищение: ведь это бог очищающий и само имя «Аполлон» означает «отрешенный от многого», так как альфа здесь отрицательная частица.
Кроме того, само время появления Платона на свет указывает на его связь с Аполлоном: он родился в седьмой день Таргелиона, когда делосцы справляют праздник Аполлона[2253]
. А в шестой день этого месяца, когда празднуют день рождения Артемиды, родился Сократ; это указывает на то, что он предшествовал Платону и по времени и по разуму.
Чтобы наш рассказ о жизни Платона получился полным, будем излагать все по порядку.
Все, что возникает, возникает в определенное время и в определенном месте, а потому и Платон, раз уж он родился, должен был родиться в какое‑то время и в каком‑то месте. Так давайте первым делом выясним то и другое, а также все прочие обстоятельства и события, связанные с его рождением.
Итак, родился Платон в восемьдесят восьмую Олимпиаду, в архонтство Аминия, когда Перикл был еще жив и Пелопоннесская война еще только началась; таким образом, он на шесть лет младше Исократа7
. Место его рождения – Эгина, поскольку его отец Аристон послан был в это время на Эгину афинянами в качестве клеруха8
. Вот все о времени и месте его рождения.
Что же до других обстоятельств, то, когда мать еще носила его во чреве, отец его видел сон, запрещавший ему иметь с женой сношения. Это означало, что супруги должны сожительствовать не ради наслаждения, но только ради деторождения и что ребенок должен родиться чистым, не запятнанным сожительством, которое после зачатия было бы постыдным. А после родов мать его, взяв ребенка, отправилась с ним на гору Гиметт, чтобы принести жертвы Аполлону – охранителю стад и нимфам[2254]
. И положила его там, а вернувшись, увидела, что рот его полон меда: это сделали прилетевшие пчелы, чтобы возвестить, что из уст его польются речи «слаще меда», как говорит поэт. Пищу же Платон никогда не употреблял животную, но только растительную.
Когда же он подрос, стал учиться грамоте у Дионисия, которого упоминает в «Письмах», ибо несправедливо было бы, по его словам, не оставить памяти о своем учителе. Гимнастике он обучался у Аристона, да так усердно, что дважды выходил победителем – на Олимпийских и на Немейских играх. Затем он занимался музыкой с Драконтом из школы Мегилла, ученика Да‑мона; об этом Дамоне он упоминает в «Теэтете»10
. Чтением, гимнастикой и музыкой Платон много занимался сам и учеников своих призывал к тому же, ибо знал, что эти предметы способствуют воспитанию трех частей души, и с помощью чтения заострял свой разум, музыкой укрощал страсти, а гимнастикой закалял вожделеющую часть души.
После этих учителей он перешел к сочинителям дифирамбов, желая усвоить особенности их стиля; первое его сочинение, «Федр», написано, несомненно, в форме дифирамба. Учился он и у трагиков, перенимая их высокий слог; учился и у комедиографов, желая почерпнуть для себя пользу из знакомства с их языком. Без сомнения, он овладел и стилем Аристофана, самого выдающегося из комедиографов; что он перенял его слог, видно из его эпиграммы на Аристофана, в которой говорится:
Сами Хариты, искавшие храма нетленного, душу
Аристофана найдя, в ней обрели себе храм11
.
Старался он также перенять мастерство сочинителя шутовских мимов Софрона[2255]
, желая, видимо, усовершенствоваться в искусстве изображения (ten mimeticen): ведь тот, кто пишет диалоги, не обходится без изображения действующих лиц. Учился он и у живописцев, чтобы узнать о многоцветном смешении красок, поэтому‑то в «Тимее»13
так много говорится о красках. Но всем этим занимался он до двадцати лет, а потом стал учеником Сократа и провел в общении с ним десять лет, желая изучить этическую философию. И, увидев превосходство Сократа над всеми остальными, он, говорят, решился предать огню все, что написал прежде, произнеся такие слова:
Выйди сюда, о Гефест, сегодня ты нужен Платону14
.
Сократу он был предан, как никто другой. Когда Сократ был привлечен к суду и попал в тюрьму, Платон поднялся на трибуну и воскликнул: «Хоть я и молод еще, сограждане, я все же поднялся сюда!» Но рассерженные судьи стащили его с трибуны, и, огорченный, он покинул здание суда, не в силах там дольше оставаться.
Когда Платон освоил Сократову этику, причем самого Сократа он во время бесед нередко ставил в тупик, он еще при жизни Сократа написал диалог «Лисид», и диалог этот попал в руки к учителю. Прочитав его, Сократ сказал своим друзьям: «Этот юноша ведет меня как хочет, сколько хочет и к кому хочет».
После обучения у Сократа он отправился к пифагорейцам, желая поучиться у них обозначать вещи с помощью чисел; отсюда так много высказываний об этом в «Тимее»15
. Слушал он также Кратила, последователя Гераклита, и Гермиппа, последователя Парменида, желая постичь учения Гераклита и Парменида[2256]
. В связи с этим он написал два диалога – «Кратил» и «Парменид», где говорит об учениях вышеупомянутых мужей. Узнав, что философия пифагорейцев ведет свое происхождение из Египта, он отправился в Египет и возвратился, изучив там геометрию и жреческое искусство. Затем, поехав в Финикию, он встретил там персов и узнал от них учение Зороастра17
. А оттуда он отправился в Сицилию, намереваясь исследовать кратеры Этны; тогда‑то он и встретился с Дионисием[2257]
.
Вернувшись затем в Афины, он учредил школу рядом с пристанищем Тимона‑человеконенавистника, который не мог ужиться решительно ни с кем – это ясно и из его эпитафий, – но охотно переносил общество Платона. Эпитафии же эти таковы:
Здесь я покоюсь, извергнув свою злосчастную душу.
Кто я такой – не скажу. Пропадите вы пропадом, дурни!19
И вторая:
Мимо стелы иди себе, путник, меня не приветствуй,
И не расспрашивай ты, кто я и кто мой отец20
.
Часть земли, на которой располагалась школа, Платон отделил под священный участок и посвятил его Музам. Его школу посещали не только мужчины, но и женщины: Дексифея из Флиунта и Ласфения из Аркадии[2258]
.
Этот божественный, как мы уже не раз говорили, муж впервые изобрел многие вошедшие потом в употребление имена, вещи и литературный жанр (eidoys syggraphes).
Из имен он ввел «качество», до него этого имени не знали; в «Теэтете» у него Сократ беседует с Феодо‑ром и говорит, что, возможно, слово «качество» покажется ему странным и непривычным22
. Это подтверждает и Аристотель, который говорит в «Категориях»:
«Качеством я называю…»23
; говоря «я называю» Аристотель повторяет, видимо, одним из первых слова самого изобретателя этого имени, ведь если бы оно уже давно было в употреблении, он сказал бы не «я называю», но «называется», ибо так было в обычае и у него самого, и у всех древних. Кроме того, Платон ввел имена «антиподы» и «продолговатое число» (mecoys arithmoy)24
.
Он открыл многие вещи в физике, этике, теологии и в политике. В физике доказал, что магнит не притягивает железа, но воздух толкает железо к магниту25
. В математике он открыл так называемое среднее пропорциональное, о котором мы говорили, разъясняя «Вторую Аналитику» Аристотеля.
А дело было вот как: во время эпидемии чумы послали афиняне в Дельфы вопросить оракула, что им сделать, чтобы чума прекратилась. Бог ответил им: удвоить алтарь и принести на нем жертвы. А так как алтарь этот был кубической формы, они взгромоздили на него еще один такой же куб, думая тем исполнить повеление оракула. Когда же чума после этого не прекратилась, отправились они к Платону и спросили, что же теперь делать. Тот отвечал: «Сердится на вас бог за незнание геометрии» – и объяснил, что следовало подразумевать здесь не простое удвоение, но найти некое среднее пропорциональное и произвести удвоение с его помощью; и как только они это сделали, чума тотчас же кончилась. В этике он тоже ввел кое‑что новое: ведь именно он первым предложил не учить за плату, а это относится к области этики. Известно же, что Пифагор, как и все без исключения его предшественники, продавал свою мудрость за сто золотых драхм, так что был скорее словоторговцем, нежели философом. Поэтому пришлось Платону, чтобы купить «Тимея», заплатить пифагорейцам семь Серебреников; потом в подражание ему он написал свой диалог, отсюда и стали говорить:
Много денег Платон за малую выложил книжку
И, прочитав, принялся тимеософствовать он26
.
Открыл он новое и в политике, а именно ему первому пришло в голову, что <…> должны быть круглыми, поскольку так они будут более вместительны: ведь геометрами доказано, что круг имеет большую площадь, нежели любая другая фигура того же периметра. Открыл он и третий вид государственного устройства – по установлению. И в теологии открыл он много нового, например что идеи существуют как образцы. Нельзя сказать, чтобы до него ничего не знали о существовании идей; только Пифагор считал их действующей причиной, и после Платона Аристотель тоже помещал их в действующей причине; Платон же, как сказано, помещал их в парадигматической причине, так что они запредельны действующей. Потому и говорят, что, когда он открыл идеи, ему показалось, будто у него открылся еще один глаз. Открыл он также, что такое вечность; до него вечностью считали безграничность времени, он же показал, что безграничность времени – это одно, а вечность – совсем другое.
Был он и основоположником нового литературного жанра – диалогического. Если возразят нам, что и до него Зенон и Парменид писали диалоги, то мы ответим, что он пользовался этой формой больше, чем кто бы то ни было.
Прожил Платон 81 год, и это лишний раз доказывает, что он был служителем Аполлона: ведь девять – число Муз, помноженное само на себя, дает 81, а что Музы – служительницы Аполлона, никто, я думаю, отрицать не станет. Да и само число 81 особое: оно называется биквадратным (dynamodynamis) потому, что тройка (первое из чисел, имеющее начало, середину и конец), помноженная сама на себя, дает девятку (ведь трижды три‑девять), а девятка, помноженная сама на себя, дает 81.
События, которые случились после его смерти, тоже свидетельствуют о его божественности. Одна женщина как‑то отправилась вопросить оракула, не следует ли ей поместить стелу Платона рядом со статуями богов, на что бог ответил так:
Если ты почитаешь Платона, который дорогу
К мудрости людям открыл, тебе наградою будет
Милость богов, ибо к сонму бессмертных Платон сопричислен[2259]
.
Был и другой оракул, а именно что родятся два сына: у Аполлона – Асклепий, а у Аристона – Платон; первый будет врачевать тела, а второй – души. И афиняне, празднуя день рождения Платона, поют:
В этот день даровали боги людям Платона28
.
Легко увидеть, насколько он превосходил Пифагора: ведь тот отправился в Персию, чтобы познакомиться с мудростью магов. А ради Платона маги сами явились в Афины, стремясь приобщиться к его философии29
.
2
Теперь, когда мы знаем историю жизни Платона, можно приступить к изложению характера его философии.
И до Платона, и после него существовало множество философских школ; Платон же без труда превзошел их все как учением своим и умом, так и во всех прочих отношениях. А школы до пего существовали такие: во‑первых, поэтическая, которую создали Орфей, Гомер, Мусей и Гесиод; другая школа возникла из ионийского учения, основоположниками ее были Гераклит, Фалес и Анаксагор: существовали также школы Пифагора и Парменида30
.
А после Платона появились стоическая, эпикурейская, перипатетическая школы, а также школа Новой академии. Ее приверженцы отличаются от скептиков тем, что не считают, как эти последние, будто всё существующее одинаково недоступно познанию, но считают, что не одинаково и что есть вещи, склоняющие нашу душу к признанию того, что о них существует известная степень знания.
По сравнению с каждой из этих школ Платон обнаружил свое превосходство.
Научившись у поэтов воспевать порядок всего сущего, Платон превзошел их вот в чем: речь поэтов бездоказательна и, по его собственным словам, неистова и исступленна; его же высказывания всегда обоснованны; кроме того, он превосходил их и благочестивой правильностью своих мифов. Ведь поэты слагали мифы как придется, Платон же говорил, что кто собирается повествовать о боге, должен придерживаться определенных правил, чтобы не ввести читателя в заблуждение, а именно следует знать, что бог благ и ни в коем случае не может быть обвинен во лжи, объясняют ли ее незнанием истины или злым умыслом. Кроме того, всякий бог неизменен и постоянен, ибо не может измениться ни к худшему, ни к лучшему: первого не допускает его природа, к лучшему же измениться он не может потому, что по своей сущности он наилучшее из всего существующего31
. Знание всего этого и придает мифам благочестивую правильность, и об этом следует помнить всем, кто читает мифы, дабы не наносить вреда детям и не заставлять их дожидаться морали, чтобы из нее только узнать смысл мифа (как это бывает в баснях Эзопа); но, напротив, нужно сразу прояснить все, что есть в мифах полезного, ведь если не обратить на это особого внимания учеников и не растолковать как следует, они поймут все превратно.
Итак, поэтов Платон превзошел обоснованностью и благочестием. Но и приверженцев ионийской школы, или физиков, оставил он далеко позади. А следует знать, что те говорили о существовании сопричин, Платон же отделил эти сопричины друг от друга и объяснил, каковы причины, а именно: парадигматическая, действующая и целевая32
. Что же до высказывания Анаксагора, довольно, впрочем, невразумительного и смутного, будто ум является действующей причиной33
, то ведь ум у него не имеет никакого отношения к возникновению и уничтожению, причиной которых он считал воздушные вихри и ветры, по никак не ум. Кроме того, ионийцы считали, что [четыре] стихии – это материя; Платон же показал, что безвидная материя соответствует в грамматике двадцати четырем буквам (stoicheia), бескачественное тело – слогам, а четыре стихии – уже словам, так что их и со слогами нельзя сопоставлять34
.
Таким вот образом возвысился Платон над этими двумя школами: поэтов он превзошел доказательностью, а ионийцев – вдохновением.
У пифагорейцев же он заимствовал обозначение вещей с помощью чисел: именно этим приемом он воспользовался в «Тимее», причем в том, что касается ясности и последовательности, оставил самих пифагорейцев далеко позади. Ведь на примере того же самого «Тимея» видно, насколько яснее и последовательнее раскрывает он [сущность] вещей с помощью чисел.
Превзошел он также и философию Парменида, опровергнув утверждение последнего, будто началом всего сущего является бытие, и показав, что единое – прежде бытия. Ведь если бы началом было бытие, то все сущее стремилось бы к нему, ибо все связано неразрывно со своим началом; мы же, напротив, видим, что некоторые пренебрегают своим существованием ради большего блага; следовательно, не бытие является единственным началом всего, но единое, которое выше бытия.
Итак, почему Платон превосходил всех своих предшественников, ясно из вышесказанного; но он превзошел также и всех последующих философов. Так, он оказался сильнее стоиков[2260]
, полагавших, будто все существующее – это тела, ибо Платон доказал, что есть и некоторые бестелесные сущности, а именно доказал, что душа бестелесна. А если бестелесна душа, то и ангелы, которые выше ее, и ум, предшествующий ангелам, и первопричина, которую Платон называет благом, – все они будут бестелесны.
Превзошел он и эпикурейцев[2261]
, поскольку те считали, будто здешний мир находится вне провидения демиурга, которое управляет лишь небесными телами: ведь, по их словам, демиургу пришлось бы взять на себя слишком много хлопот и труда, если бы его провидение управляло еще и этим миром. Платон же доказал, что и здешний мир подвластен провидению.
Принимая все то, что есть истинного в учениях стоиков и эпикурейцев, Платон сумел в то же время избежать нелепостей и тех и других. Ведь у первых – я имею в виду стоиков – из утверждения, что все существующее телесно, вытекает явная несуразность, будто демиург, если только он управляет здешним миром, будет вынужден применять какие‑то орудия и рычаги, ибо всякое воздействие на тела производится с помощью тех или иных орудий, причем одно тело воздействует на другое. Этого нелепого следствия Платон избежал, доказав наличие бестелесных сущностей. Зато в том, что божественное провидение управляет здешним миром, он был со стоиками согласен, потому что из утверждения эпикурейцев, будто демиург не на все распространяет свое провидение, вытекает та же явная нелепость, которой не допускает Платон: в отличие от них он считает, что демиург не орудует какими‑то рычагами, но что, будучи бестелесным, осуществляет свое провидение без всякого труда и усилия.
Кроме того, имел Платон некоторое преимущество и над перипатетиками[2262]
. Они ведь полагали началом всего ум, а Платон показал, что единое первое и ума, и всего остального. Ведь если бы ум был началом всего сущего, то все было бы наделено умом, ибо все сущее причастно своему началу; мы же видим, что некоторые вещи лишены разума, следовательно, ум не является первоначалом. Кроме того, перипатетики называли ум целевой причиной всего сущего; Платон же доказал, что и действующей и целевой причиной является единое. А что ум не первопричина, это мы можем доказать и другим способом: если бы он ею был, то, поскольку существует множество форм (polla eide), и умов будет много; следовательно, начало в этом случае было бы множеством – опять нелепость, ибо начало должно быть единым.
Превзошел Платон и новых академиков[2263]
, кои отстаивали непознаваемость; он же доказал, что существует нечто доступное научному познанию. Некоторые, правда, причисляют Платона к скептикам и новым академикам, утверждая, будто и он отвергал возможность достоверного знания; к такому заключению они приходят будто бы на основании сказанного им в собственных его сочинениях. По их словам, рассуждая о любом предмете, он выбирает выражения двусмысленные и сомнительные, такие, как «может быть», «вероятно», «похоже на то»; все это будто бы не пристало человеку ученому и выдает незнакомство с точным знанием. Мы же им возразим, что Платон говорит так, пытаясь уточнить определения, в чем не нуждаются скептики: к чему им точность в рассуждении или в определении, если они провозгласили непознаваемым все вообще?
Второй довод у них такой: раз Платон об одном и том же предмете высказывает противоположные суждения, ясно, что он не допускает возможности точного знания. В «Лисиде», мол, он высказывает противоположные суждения о дружбе, в «Хармиде» – о рассудительности, в «Евтифроне» – о благочестии. Мы возразим, что, выдвигая вначале противоположные точки зрения, он в конце концов все же приходил к истине.
В‑третьих, по их мнению, уже из того, что в «Теэтете» Платон отвергает все определения знания и числа, ясно что он отрицал знание: и как, мол, такой человек мог превозносить знание? На это мы ответим, что Платон не уподобляет душу неисписанной дощечке и что, по его мнению, достаточно только снять окутывающие ее покровы, чтобы она пришла в себя и смогла все разглядеть. Знание заложено в ней самой, а видит она плохо лишь из‑за сопряженности с телом и поэтому нуждается в очищении.
Таким образом возражает Платон на все, что было высказано против знания, допуская возможность постижения истины после очищения души.
В‑четвертых, они говорят следующее: если Платон считает, что есть всего два вида познания: один – через ощущения, другой – посредством разума, и затем называет оба вида ошибочными, не признает ли он тем самым невозможность всякого познания? Он ведь утверждает: «Мы ничего не можем слышать или видеть точно, наши чувства обманывают нас»39
. Точно так же и об умопостигаемом говорит он, что «душа наша, связанная с этим злом, с телом, ничего не в силах уразуметь»40
. На это мы возразим вот что: говоря, что ощущения не познают ощущаемого, Платон имеет в виду, что они не могут познать сущность ощущаемого. Ощущения получают некое впечатление от ощущаемого, но сами по себе они не могут знать сущность этого впечатления. Зрение, например, воспринимает белый цвет, но, что такое «белое» само по себе, оно не знает, а узнает лишь с помощью воображения (phantasia); точно так же мнение само по себе не может знать того, что оно узнает лишь с помощью размышления. А говоря, что душа ничего не разумеет, будучи соединена со злом, т. е. с телом, Платон имеет в виду не всех людей, но только тех, кто пребывает в плену у материального, ибо их душа всецело подчинена телу. В другом месте он называет таких людей «спартами», потому что они коренятся в земле, как растения[2264]
. А людей, прошедших через очищение, он именует в другом месте «небожителями», и они‑то наделены разумом42
.
Пятый довод [тех, кто хочет причислить Платона к скептикам,] таков: Платон, заявляют они, сам признается в своем диалоге: «Я ничего не знаю и ничему не учу, я только сомневаюсь»43
. Разве не провозглашает он собственными устами невозможность познать что бы то ни было? На это мы возразим так: говоря «Я ничего не знаю», Платон как бы сравнивает свое собственное знание со знанием богов, а оно ведь совсем иное, нежели наше, ибо мы обладаем лишь Простым знанием, а они – творческим. Кроме того, они познают любую вещь, просто обратившись к ней, а мы – с помощью причин и предпосылок. Что же касается слов «Я ничему не учу», то это значит: «Я никому не навязываю своего учения», ведь, как уже было сказано выше, Платон не уподобляет душу неисписанной дощечке, на которой предстоит начертать все, чего на ней еще нет, – Платон как бы выводит душу на свет и очищает простым напоминанием, подобно тому, кто снимает с глаз застилающую их пелену. Недаром говорит он в Другом месте, что отвечающий на вопросы участвует в выяснении истины наравне с ним самим и что следует предоставить отвечающему говорить так, как ему покажется правильным.
А что «сомнение» есть путь к пониманию – это ясно всякому. К словам же «Я ничего не знаю» Платон прибавляет затем: «Кроме сущей безделицы – задавать вопросы и отвечать на них», имея в виду искусство диалектики, которым владел в совершенстве. Кроме того, в другом месте он говорит, что сведущ в любви и в повивальном искусстве44
. Из этих трех частей он слагает свой гимн божеству в «Федре», именуя его благим, прекрасным и мудрым45
, ибо, как все виды знания пронизаны диалектикой, так все сущее устремлено к благу, почему по аналогии диалектику Платон и сопоставляет с благом, любовь же – с прекрасным, ибо мы любим прекрасное. А повивальное искусство он сопоставляет с мудростью, ибо, подобно тому как задача повитухи состоит в том, чтобы вывести на свет находящееся во чреве дитя, так задача мудреца – в том, чтобы вывести на свет все скрытое в глубине души и помочь ей во время этих родовых мук[2265]
.
Теперь, когда мы ответили на все их аргументы, приведем уже вне связи с ними еще одно подтверждение тому, что подобных взглядов Платон никогда не держался. В самом деле, как мог быть сторонником подобных взглядов тот, кто провозгласил, что ничто не укроется от его метода расчленения? А в «Горгии» у него Сократ, вынудив собеседника ответить на свой вопрос утвердительно, произносит такие слова: «Пока не услышишь этого из собственных уст, не поверишь, сколько бы ни убеждали тебя в том же другие». Как же мы можем считать этого мужа скептиком?
Убедившись, таким образом, что философия Платона имеет преимущество перед всеми остальными и что был он вовсе не скептиком, а догматиком, перейдем теперь к изложению порядка и иерархии сущего, как представлял ее Платон. Согласно ему, все существующее имеет одно начало, а не два, как полагал Эмпедокл, и не бесчисленное множество, как думали эпикурейцы; начало это не есть некое тело, как считали стоики, но бестелесно; а будучи бестелесным, оно не есть жизнь – в противном случае ведь существовало бы только живое – и не является также ни душою, ни умом, ни бытием, поскольку все эти предположения приводят к подобным же нелепым выводам; это начало – единое, которое Платон именует также благом48
. После единого, говорит он, существуют предел и беспредельное, вслед за ними – умопостигаемый космос, затем – боги надкосмические, а после них – боги внутрикосмические. За ними – двенадцать родов ангелов, дальше – человеческие души, а после них – души бессловесных животных. И наконец, растительная душа, за нею – тело, материальное и нематериальное, смертное и бессмертное, за телом – внутриматериальная форма (enylon eidos) и в конце концов материя49
.
3
После того как мы рассмотрели историю жизни Платона и характер его философии, приступим к третьему разделу и поговорим о его сочинениях.
Первым делом постараемся разрешить затруднение, возникающее в связи с тем. что он решил все‑таки записать свое учение. Ведь, как замечают некоторые, сам Платон в «Федре» упрекает пишущих50
. По его собственным словам, мертвая запись ничего не может разъяснить попавшему в затруднение читателю и только повторяет одно и то же, не в силах разрешить возникшее недоумение или ответить на возражение. Так что, заключает он, следует не писать, а оставлять учеников, которые суть живые записи. Именно так ведь и поступали его предшественники: и Сократ, и Пифагор оставили только единомышленников своих, но не сочинения. Вот в чем состоит затруднение, и вот что мы скажем на этот счет: он записал свое учение, решившись, в подражание божеству, допустить малое зло ради великого блага. Ибо, подобно тому как божество одни свои творения сделало невидимыми – сюда относится все бестелесное: ангелы, души и умы[2266]
и все остальное в том же роде, другие же сделало доступными нашему восприятию и видимыми – к ним относятся небесные тела и все, что подвержено возникновению и уничтожению, точно так же и Платон кое‑что записал, а кое‑что оставил неписаным и недоступным восприятию, как бы бестелесным – это то, о чем рассуждал он в беседах со своими учениками. Недаром и Аристотель упоминает о незаписанных беседах Платона52
. Он стремился подражать божеству, чтобы и в этом проявить свою любовь к нему: ведь друзья всегда стараются подражать друг другу.
4
Предыдущий вопрос мы разобрали, и теперь стоит рассмотреть вот какой: почему воспользовался он формой диалога? Однако прежде чем искать причину этого, выясним, что такое диалог. Диалог – это произведение в прозе (logos aney metroy), состоящее из вопросов и ответов разнообразных действующих лиц с изображением подобающего каждому лицу характера. «В прозе» мы добавили потому, что трагедии и комедии пишутся в стихах: они ведь тоже состоят из вопросов и ответов разных лиц с изображением подобающих характеров.
Здесь важно выяснить вот что: почему Платон, осуждавший в другом месте разнообразие – ведь он недвусмысленно порицает игру па флейте за то, что искусство это использует составленный из многих разных частей инструмент со множеством отверстий, и точно так же – искусство игры на кифаре за применение множества различных струн, а комических и трагических поэтов – за разнообразие персонажей53
, – почему же сам он, осуждая все это, пленился подобным видом словесности (syggraphicei ideai), ведь диалог тоже состоит из разнообразных действующих лиц?
Можно ответить на это так: разнообразие персонажей в комедии и в трагедии совсем не такое, как у Платона, ибо в первом случае, каковы бы ни были действующие лица – а выводятся там и дурные и хорошие, – они до конца остаются неизменными; у Платона же, если и возможно это найти – я имею в виду дурных и хороших персонажей, – всегда видно, как изменяются дурные под воздействием хорошего, как учатся они и очищаются и, наконец, отвращаются совершенно от прежней своей погруженной в материальное жизни. Поэтому разнообразие у него совсем иного рода, чем у тех писателей, и, таким образом, он отнюдь не впадает в противоречие с самим собой.
Теперь скажем о причинах, побудивших его обратиться именно к этому жанру. Сделал он это, утверждаем мы, потому, что диалог – это своего рода космос54
. Подобно тому как в диалоге звучат речи разных лиц сообразно с тем, что каждому подобает, так и в космосе есть разные природы, издающие разные звуки, ибо каждая вещь звучит согласно собственной природе. Так что Платон поступил таким образом ради подражания божественному творению, под коим я разумею космос.
Так вот, Kocмoc есть диалог или по вышеуказанной причине, или по следующей: подобно тому как в космосе есть высшие природы и низшие и пребывающая в космосе душа присоединяется то к одним, то к другим, так и в диалоге есть персонажи спрашивающие и отвечающие, опровергающие и опровергаемые, и душа наша, будучи как бы судьею меж ними, склоняется то к тем, то к другим.
Или вот еще: как говорит сам Платон, литературное произведение (logos) подобно живому существу55
; разве не означает это, что прекраснейшее из произведений будет подобно прекраснейшему из живых существ? Самое прекрасное живое существо – это космос, и ему подобен диалог, ибо, как мы уже говорили, диалог – наипрекраснейший из видов словесности.
Четвертая причина такова: поскольку подражание (mimesis) радует нашу душу, а диалог различных персонажей есть не что иное, как подражание, Платон выбрал его, чтобы увлечь нашу душу. А что душа наша радуется подражанию, явствует из того, что все дети любят сказки.
Далее он обратился именно к этому жанру еще и потому, что не хотел передавать нам голые и лишенные наглядных примеров рассуждения, чтобы не говорить просто о дружбе как таковой, но о дружбе между таким‑то и таким‑то человеком и так же о честолюбии не самом по себе, но о честолюбии какого‑то определенного человека. Таким образом, наша душа, глядя, как хвалят или порицают других, вынуждена бывает присоединиться к упрекам или соревноваться с восхваляемым: это похоже на то, как души, увидев в Аиде наказание других за их грехи, сами обретают благоразумие из страха перед подобным наказанием.
Шестая причина состоит в том, что диалог подражает искусству диалектики. Как диалектика возникла из искусства спрашивать и отвечать, так и диалог – из вопросов и ответов действующих лиц. Платон хотел привести читателя к согласию со своими доводами тем же самым путем, каким диалектика заставляет душу родить в муках то, что скрыто в ней, и явить на свет, ибо душа, по Платону, отнюдь не подобна чистой табличке. Как раз поэтому он и воспользовался таким вот литературным способом.
Седьмая причина – чтобы легче нам было сохранить наше внимание, следя за словами разных собеседников; чтобы не задремали мы ненароком, слушая поучения вечно одного и того же, как случилось это с оратором Эсхином[2267]
, оттого что составленная им речь произносилась от начала и до конца одним и тем же лицом. Ибо, произнося свою речь с трибуны, он не беседовал со слушателями, ни разу не задал им вопроса и не заставил, их задавать вопросы себе, так что не только не возбудил слушателей, но и сами судьи погрузились в сон; заметив это, Эсхин, говорят, сказал им: «Надеюсь, вам приснился правильный приговор»57
. Возбудить же слушателей можно, лишь беседуя с ними, задавая им вопросы и отвечая на их собственные; именно так было с Алкивиадом: речи Сократа приводили его в такое волнение, что он сказал однажды: «О Сократ, словно беснующийся корибант, забилось у меня сердце от твоих слов, и я плачу»58
. И если уж так глубоко проникнут слова в одаренного человека, вопьются они в него, подобно разъяренной змее, и уже от них не отделаешься.
Все это разъясняет, почему необходимо было Платону передать свое учение в диалогической форме.
5
В следующей, пятой главе мы выясним, из каких частей состоит каждый диалог Платона. Поскольку мы уже знаем, что диалог – это космос, а космос – это диалог, то, как мы увидим, и составных частей у диалога столько же, сколько и у космоса. Что до целого космоса, то он состоит из материи, формы (eidos), природы, которая вводит форму в материю, души, ума и божества.
В диалоге же материи соответствуют действующие лица, а также время и место, в котором Платон эти диалоги написал. Однако, если действующих лиц во всяком диалоге можно обнаружить без труда, время и место нам удается определить не всегда, как, например, в «Миносе» или «Клитофонте», я это вполне закономерно. Ибо собственно материю диалога составляют именно действующие лица, а не время и место. Подобно тому как для всякого возникновения необходима материя, так как она – одна из [четырех] причин [всего сущего], и если нет материн, то возникающее не возникнет, место же и время являются лишь неизбежно [сопутствующими условиями], точно так же не получится и диалога, если нет действующих лиц, поскольку по определению своему, как мы уже сказали, диалог составляют действующие лица, задающие вопросы и отвечающие. Потому‑то в диалоге действующие лица указаны всегда, а время и место – не всегда.
Эти действующие лица могут обладать либо знанием, либо правильным мнением, либо быть вовсе невеждами. Невежество этих последних может быть в свою очередь либо простым, либо двойным, либо полнейшим незнанием, либо софистическим. Простое невежество – это когда человек не знает чего‑либо и понимает, что не знает. Двойное – если не знает чего‑то и не понимает, что не знает, как сказано об этом в «Федре»: «Не могу я никак, согласно дельфийской надписи, познать самого себя»59
. Полнейшее же незнание – это когда человек чего‑то не знает и понимает, что не знает, но так сильно увлечен противоположными взглядами, что не желает отказаться от собственного незнания. Софистическое же незнание – это когда кто‑нибудь не знает и стремится с помощью более или менее убедительных рассуждений скрыть свое незнание.
Действующие лица в диалоге описаны не всегда точь‑в‑точь как в жизни (совсем не обязательно было Платону описывать мельчайшие подробности, например, того, как Сократ подворачивал при ходьбе ногу), но и не все в них вымышлено (иначе они не получились бы правдивыми). Платон отбирает только те черты, которые помогут ему показать что‑то одно, подобно тому как живописцы отбирают краски для изображения какого‑то одного предмета. Вот и все, что нужно было сказать о действующих лицах.
Что же касается времени, то Платон издавал свои диалоги не когда придется, но по праздникам, в дни всенародных торжеств в честь богов, так что сочинения его возглашались и пелись, подобно гимнам: мы ведь привыкли во время праздников петь гимны. «Тимея», например, он предал гласности во время Бендидий (есть такой праздник Артемиды в Пирее), а «Парменида» – на Панафинеях60
, и точно так же и остальные – каждый на каком‑нибудь празднике. О времени достаточно.
Место же действия в каждом диалоге особое. При жизни Сократа он выбирал сценой Афины, после же его смерти – никогда, полагая, что афиняне не достойны того, чтобы он о них писал. Так, действие «Пира» происходит в доме Агафона[2268]
, «Государства» – в Пирее, «Федра» – в храме Нимф, а «Тимея» – не в каком‑то определенном месте, но вообще в городе – словом, всякий раз в другом месте. Пожалуй, о месте мы сказали достаточно.
Итак, все, о чем мы рассказали, соответствует в диалоге материи; форме (toi eidei) же соответствует стиль (character). Стиль бывает возвышенным, простым или смешанным, причем смешанный стиль бывает результатом слияния или чередования двух первых. Платон использует возвышенный стиль в теологических диалогах, а простой – во всех остальных, так, чтобы слог подражал предмету. Что же до смешанного стиля, то, прежде чем выяснить, в каких случаях использовал он оба его вида, скажем, что они собой представляют. Стиль не слишком возвышенный, или же простой, по обладающий некоторой долей возвышенности, мы называем смешанным в результате слияния. Смешанный же но очереди – это когда часть диалога написана возвышенно, а часть – просто, как, например, в «Горгии» часть диалога, предшествующая мифу, написана просто, сам же миф – возвышенно по указанной уже нами причине: возвышенно выражался он о предметах теологических, просто – о логических. Слитно смешанным же слогом пользуется он, говоря о добродетели, ибо всякая добродетель есть некая середина, а смешанный в результате слияния стиль есть тоже не что иное, как середина.
Аналогом природы является в диалоге способ ведения беседы. Это может быть изложение, или исследование, или же смешанный способ. Изложение – это когда Платон предлагает нам свое мнение без какого‑либо исследования или доказательства; исследование – когда он пытается что‑то найти, а сочетание обоих порождает смешанный способ. Каждый из двух первых видов подразделяется в свою очередь еще на два: изложение может быть теоретическим или политическим, а исследование может быть настоящим спором или упражнением. Теоретическое изложение встречается у Платона там, где речь идет о теологии, а политическое – в «Государстве».
Доказательства в диалоге аналогичны душе, ведь именно она порождает их. Уму же соответствует проблема, вокруг которой как бы по периферии собираются все доказательства. В самом деле, ум подобен проблеме [диалога]: ум ведь не имеет частей и мыслится как бы неким центром, а вокруг него, подобно движущейся вокруг центра орбите, собираются рассуждения; точно так же и рассматриваемая в диалоге проблема является центром, вокруг которого, как бы прицеливаясь в него, кружат доказательства. Богу же в диалоге соответствует благо.
Помимо всего вышесказанного можно и другим способом показать, как составные части диалога соответствуют частям космоса. Всякая вещь возникает при наличии шести причин: материальной, формальной, творческой, целевой, парадигматической, инструментальной. Материальной причине аналогичны действующие лица, время и место диалога, формальной – стиль, творческой – душа, инструментальной – доказательства, парадигматической – проблемы, целевой – благо.
6
В шестом разделе мы должны выяснить, откуда брал Платон названия для своих диалогов. Ответим: названием служило имя действующего лица или предмет диалога. В первом случае эти действующие лица могут поучать, или выслушивать поучения, или просто заниматься каким‑нибудь делом. Поучают, например, Парменид и Тимей, выслушивают поучения Алкивиад и Федр, а Критон занимается своим делом. Если же в названии указан предмет, то это может быть какое‑нибудь действительное событие, как, например, апология, или предмет исследования, как, например, софист, или (…).
7
В седьмой главе мы объясним, чем следует руководствоваться, чтобы разделить диалог на части. Во всяком диалоге есть три элемента: действие и действующие лица, рассуждение и умозаключения и, наконец, [положительное] учение. Не следует при разделении диалога руководствоваться ни развитием действия, ни расстановкой действующих лиц, как делают некоторые, разделяя «Горгия» на три части: речи, обращенные к Горгию, Полу и Калликлу62
. Этим руководствоваться нельзя, так как Платон, рассуждая о предмете и переходя к следующей части рассуждения, очень часто вводит новый оборот действия и новое лицо. Однако и из рассуждения или умозаключений нельзя исходить при разделении диалога на части, как делят некоторые «Алкивиада» на десять силлогизмов, излагаемых в этом диалоге. Делать этого не следует по той же причине: часто об одном и том же предмете высказывает Платон несколько умозаключений, так как в одно не умещается все доказательство. Делить диалог нужно в соответствии с [утверждениями, составляющими положительное] учение.
8
В восьмом разделе мы расскажем о том, каким образом передает Платон беседу участвующих в диалоге лиц. Как мы убедились, он либо непосредственно изображает беседу участников диалога, например Сократа и какого‑нибудь его собеседника, либо передает рассказ тех, кто слышал такую беседу, например когда кто‑нибудь рассуждает у него о вещах, которые сам слышал от Сократа; или изображает тех, кто узнал обо всем от слышавших беседу; или, наконец, показывает тех, кто услышал из вторых рук от этих последних. Более длинного ряда слушателей‑рассказчиков Платон уже не допускает. В этом он, по всей вероятности, опять подражает порядку всего сущего: он тоже не идет дальше третьей ступени. Ведь все сущее бывает или умопостигаемым; или доступным рассудку – это будет не что иное, как подобие умопостигаемых сущностей; или чувственным – это подобие тех сущностей, что постигаются рассудком; или, наконец, подобием чувственных вещей, как, например, произведения живописцев, и более уже нет ничего, что можно было бы рассматривать как четвертую ступень. Таким образом, действующие лица в диалоге соответствуют умопостигаемому; те, кто сами слышали беседу, – рассудочному, ибо они являются как бы отражением собеседников; слышавшие же рассказ из вторых рук аналогичны чувственно воспринимаемому.
9
В девятом разделе нам нужно найти все правила, с помощью которых можно верно определить предмет (scopes) диалога. О том, что дело это полезное и необходимое, свидетельствуют слова самого Платона в «Федре»: «Во всяком деле, юноша, надо для правильного его обсуждения начинать с одного и того же: требуется знать, что же именно подвергается обсуждению, иначе неизбежны сплошные ошибки»[2269]
. После таких его слов как же не стремиться нам узнать, о чем именно рассуждает он в каждом из диалогов? Еще легче будет нам убедиться в полезности такого рода исследования, если мы обратим внимание на двойные заголовки большинства диалогов, ведь почти каждый из них имеет двойное название, как, например, «Федон, или О душе», «Федр, или О красоте» и так далее, так что не ясно, о котором из двух упомянутых в заглавии предметов пойдет речь. Поэтому наши поиски определения предмета всякого диалога будут небесполезны. Это определение можно получить, ответив на десять вопросов: [должен ли предмет диалога быть] единым или множественным? общим или частным? цельным или частичным? приблизительным или точным? возвышенным или низким? согласующимся или нет? может ли быть предметом диалога критика кого‑либо? или страстное увлечение? можно ли подменять предмет методом (еc ton organon)? или искать его в области материального?
На вопрос о единстве и множестве мы ответим, что всякий диалог имеет один предмет, а не много, ибо как же может иметь много предметов диалог того самого Платона, который воспевает божество за то, что оно едино? Кроме того, он сам говорит, что диалог подобен живому существу, ибо он пишет, что всякая речь должна быть составлена, словно живое существо; если же диалог подобен живому существу, а живое существо имеет одну цель – благо (для того‑то ведь оно и создано), то и диалог должен иметь одну цель, а значит, один предмет. Поэтому нельзя согласиться с теми, кто утверждает, будто в «Федоне» рассматриваются три предмета: бессмертие души, смерть как благо и философский образ жизни; утверждающие подобное ошибаются, ибо, как уже сказано выше, предмет должен быть один, а не много.
Более общий и обширный предмет следует предпочесть частному и более узкому. Поэтому не правы те, кто говорят, будто «Софист» – это диалог о софисте; согласиться же нужно с теми, кто говорит, что диалог этот – о не‑сущем, ибо софист есть нечто несуществующее; просто «не‑сущее» – понятие более общее, чем «нечто не‑сущее», так что, будучи более общим и всеобъемлющим, включает в себя и частную тему. Отсюда мы со всей очевидностью можем сделать вывод, что у диалогов не должно быть по два названия; они ведь могут указывать либо на разные предметы, либо на один и тот же, если одно из них – более общее, а другое – частное. Если названия указывают на разные предметы, мы не можем принять их, ибо допустим тем самым наличие многих предметов в одном диалоге и нарушим первое правило. Если же они указывают на один и тот же предмет, то одно из них лишнее, как частное, и следует предпочесть более общее.
Что же касается целого и части, то, конечно, не следует судить о предмете диалога но какой‑то небольшой его части, но только на основании целого. Поэтому мы не согласимся с теми, кто полагает, будто «Федр» посвящен риторике: рассуждения о ней занимают там сравнительно небольшое место, в то время как весь диалог посвящен прекрасному как таковому, и, значит, именно это и следует считать его предметом. Не согласимся мы и с утверждением, будто предметом «Горгия» является рассуждение о том, что лучше: творить несправедливость или претерпевать ее; на этот вопрос Платон отвечает лишь в небольшом отрывке, весь же диалог в целом – об этических основаниях счастья. Точно так же не правы те, кто думают, будто человек является человеком благодаря каким‑то отдельным свойствам: умению видеть, например, или слышать, или чему‑нибудь еще в том же роде. Вовсе не поэтому является он человеком, но потому, что представляет собой нечто среднее между божеством и тварью: он не обладает бессмертием, как божество, и в то же время не смертей, как неразумные животные, но причастен в чем‑то и тем и другим. Потому‑то и не согласны мы с теми, кто определяет предмет диалога на основании его части. Кроме того, если Платон во всем подражает природе, почему бы ему не подражать ей и здесь? Ведь если часть соответствует материи, а целое – форме, форму же создает природа и цель природы в том, чтобы внести форму в материю, то разве не должен был Платон сделать предметом своего диалога то, что является своего рода формой, т. е. целое, а вовсе не часть?
Конкретное определение предмета следует предпочесть отвлеченному и неопределенному. Поэтому мы возразим тем, кто называет предметом «Тимея» учение о природе, поскольку это слишком отвлеченно и неопределенно: ведь и Аристотель оставил учение о природе, да и многие другие тоже. Так что неясно будет, какое именно учение о природе имеется в виду, если мы дадим диалогу такое название. Значит, следует указать более конкретную тему – учение не кого‑нибудь, а Платона о природе – и выяснить, в чем оно состоит, а не говорить об учении о природе вообще.
А что касается достоинства, то более достойный предмет следует предпочесть менее достойному, на основании чего мы и возразим тем, кто считает предметом «Горгия» разоблачение риторики Пола и Горгия64
, ведь предмет этот недостойный и софистический. Целью Платона здесь было скорее показать, что такое истинная риторика, и это предмет гораздо более достойный и прекрасный. А если кто спросит, зачем же понадобились ему тогда Пол и Горгий, зачем выводит он их участниками диалога и опровергает все их утверждения, мы ответим, что точно так же, как цель природы – внести форму в материю, а не устранить бесформенность, но за внесением формы следует и устранение бесформенности, – так и из разъяснения того, что есть истинная риторика, вытекает опровержение риторики Пола и Горгия.
С точки зрения согласованности и несогласованности мы предпочтем такое определение предмета, которое согласуется с тем, что обсуждается в данном диалоге, а не такое, которое не согласуется. Придерживаясь этого правила, мы не примем такого определения предмета «Горгия», как «ум, созерцающий самого себя», ибо это вовсе не согласуется с тем, о чем идет речь в этом диалоге.
Не следует также считать предметом диалога выпады против кого‑либо: не таков был божественный Платон, чтобы заниматься перебранкой. Поэтому мы не согласимся с теми, кто заявляет, будто «Менексен» посвящен критике Фукидида65
и соперничанью с ним. Они утверждают, что надгробная речь написана Платоном единственно с целью превзойти Фукидида, что есть чистейшая ложь.
Может ли быть предметом диалога страсть? Конечно, нет, иначе страсть завладеет читателем, и он окажется во власти материального. Не правы поэтому те, кто полагают, будто предмет «Филеба» – наслаждение: оно‑то как раз и способно совратить душу. Как мог Платон, чья жизнь проходила в постоянном очищении, избрать предметом своего диалога наслаждение? Разумеется, тема у него здесь совсем другая, а именно соотношение шести видов блага.
Не следует подменять предмет методом, ведь предмет – это цель, а не средство для достижения цели. Поэтому не правы считающие предметом «Софиста» метод разделения. Конечно, Платон много говорит о нем в этом диалоге, заявляя, что ни один человек не сможет похвастаться, будто ему удалось укрыться от всесильного метода разделения, который, по его словам, был дарован людям через Прометея66
. Но поскольку этот метод есть орудие доказательства, он играет подчиненную роль по отношению к теме: мы используем его для того, чтобы раскрыть тему, но сам по себе он темой быть не может.
Не следует искать предмет диалога и в области материального, как поступают некоторые, утверждая, что тема «Алкивиада» – честолюбие Алкивиада. Таким образом, они ищут предмет в области материального, а этого делать не следует, ведь мы говорили уже, что действующие лица – это материя диалога. Не должны мы считать, что весь диалог сводится к порицанию честолюбия Алкивиада, еще и потому, что тем самым нарушим и второе правило, выделив частный предмет вместо общего. Скорее должны мы указать общую цель диалога – порицание честолюбия, которое живет в душе каждого человека. Ведь каждый из нас, подобно Алкивиаду, обладает честолюбием, которое нужно направлять на благо, привнося меру и порядок. Впрочем, недостойно предполагать, что божественный Платон снисходил до порицания человеческих страстей, разве что он присоединял между прочим такое порицание к другим речам своим.
Вот этими‑то всеми правилами и нужно руководствоваться при определении предмета того или иного диалога.
10
В десятой главе мы расскажем о порядке расположения диалогов Платона67
. Некоторые высказывали мнение, что их нужно располагать по времени или по тетралогиям, причем по времени двояким образом: по времени жизни либо самого Платона, либо действующих лиц его диалогов.
Если располагают их по времени жизни самого Платона, то первым считают «Федра» на том основании, что там рассматривается вопрос, следует ли записывать свои сочинения или нет; каким же образом Платон, выражающий в «Федре» сомнение, нужно ли вообще писать, мог написать что‑нибудь прежде этого? Другой довод состоит в том, что он пользуется здесь дифирамбическим стилем, как бы не расставшись еще с музой дифирамба. А последними он написал «Законы»; так думают потому, что он оставил их неисправленными и не привел в порядок, не успев, вероятно, закончить их перед смертью. Если же и кажутся они теперь составленными как должно, то это работа Филиппа Опунтского, восприемника Платона.
Если же отсчитывать время по жизни действующих лиц, то первым следует считать «Парменида», где Сократ изображен совсем еще юным и Парменид поучает его; последним – «Теэтета», так как действие здесь происходит после смерти Сократа.
Что же касается расположения по тетралогиям, то некоторые утверждают, будто Платон издавал свои диалоги тетралогиями в подражание трагикам и комикам, состязавшимся в сочинении четырех драм на одну и ту же тему, причем самая последняя обязательно должна была быть веселой. Так вот, тетралогий68
этих насчитывают девять, поскольку всего Платон написал 36 диалогов, по их словам; для того чтобы получилось целое число тетралогий, они объявляют подлинным ошибочно приписываемое Платону «Послезаконие». Неподлинность же его двояко доказал мудрейший Прокл[2270]
; во‑первых, говорит он, каким образом мог Платон, не имевший перед смертью времени окончить «Законы», написать вслед за ними еще и «Послезаконие»? Во‑вторых, он замечает, что в остальных диалогах Платона звезды движутся справа налево, а в этом наоборот – слева направо.
Сторонники тетралогического расположения диалогов считают первой тетралогию: «Евтифрон», «Апология», «Критон», «Федон». Из этих диалогов первым считают «Евтифрона», поскольку там изображен Сократ накануне суда; второй считается «Апология», где идет суд над Сократом; третьим – «Критон», где Сократ уже осужден, и четвертым – «Федон», в котором Сократ умирает. Самым последним произведением Платона они считают «Письма», а первым, как мы уже сказали, – «Евтифрона», потому что и там и тут много рассказывается о частной жизни Сократа: Платон якобы расставил их так не без намерения, желая закончить тем же, с чего начал.
Мы не согласны с мнением, будто Платон подражал трагикам и потому должен был воспользоваться формой тетралогий; он ведь сам порицает трагиков, говоря, что они создают подобия подобий. Что он им не подражал, можно доказать и по‑другому: у них конец тетралогии должен быть веселым и приятным, в то время как диалог «Федон», завершающий первую тетралогию, кончается не весельем, а смертью Сократа. Поэтому неверно утверждение, будто Платон издавал диалоги тетралогиями. Да кроме того, и «Евтифрон», и «Апология», и «Критон», и «Федон» – все написаны на разные темы.
Чтобы правильно определить порядок диалогов, исключим прежде всего из круга нашего рассмотрения неподлинные. Итак, все единодушно признают подложными «Сизифа», «Демодока», «Алкиону», «Эриксия» и «Определения», которые приписываются Спевсиппу[2271]
.
Таким образом, остается 36 диалогов, из которых божественный Прокл считает подложным «Послезаконие» по указанным выше причинам, а также исключает «Государство», поскольку в нем много книг и оно не имеет формы диалога, и «Законы» – на том же основании; исключает он за простоту слога также и «Письма», так что остается всего 32 диалога. Если к ним прибавить 12 книг «Законов» и 10 книг «Государства», получится 54 диалога. Мы не станем перечислять здесь их все по порядку, что было бы ни к чему и выходило бы за рамки краткого изложения; мы расскажем только о том, что сделал божественный Ямвлих: он свел все диалоги к двенадцати, подразделив их на диалоги о природе и диалоги о божественном; в свою очередь эти двенадцать он свел к двум – к «Тимею» и «Пармениду», причем «Тимей» возглавил все диалоги о природе, а «Парменид» – все о божественном71
.
Порядок этих двенадцати диалогов стоит рассмотреть, поскольку их всегда принято читать и изучать. Так вот, первым нужно читать «Алкивиада», так как этот диалог помогает нам узнать самих себя. Ведь необходимо вначале познать себя самих, а потом уж – то, что вне нас; да и как могли бы мы узнавать это, не зная себя? Последним следует разбирать «Филеба», так как в нем идет речь о благе, запредельном всему; поэтому и диалог этот должен занимать особое место и стоять последним. Между этими двумя диалогами следует расположить все остальное следующим образом: поскольку существуют добродетели пяти степеней – природные, нравственные, общественные, очистительные и созерцательные, первым нужно читать «Горгия», где затрагиваются вопросы общественной жизни, а вторым – «Федона», в котором идет речь об очищении, ведь за жизнью общественной идет жизнь очистительная. Затем мы переходим к познанию сущего, которое осуществляется через нравственную добродетель; сущее же мы можем познать через созерцание либо мыслей, либо вещей. Так что четвертым следует читать «Кратила», который учит об именах, а затем «Теэтета», где идет речь о вещах. После этих диалогов переходим к <…> который рассказывает о природе, а затем к «Федру» и «Пиру», так как это диалоги созерцательные и рассуждающие о божественном. И только тогда наконец можно переходить к «Тимею» и «Пармениду».
Вот и все, что необходимо было сказать об этих диалогах; а так как некоторые находят нужным изучать также «Государство» и «Законы», стоит сказать кое‑что и о них. Есть три вида государственного устройства: первый – основанный на исправлении, второй – на установлении, а третий – без каких бы то ни было установлений. Государство основано на исправлении, когда мы стремимся исправить дурные нравы нашей души; на установлении – когда в основу государственного устройства положены определенные законы и нравы; без установления – когда нет никаких установлений, но все – общее, так что мое – это твое, а твое – это мое, и богатство каждого принадлежит одновременно и ему самому, и другим. Государство, основанное на исправлении, Платон разбирает в «Письмах», на установлении – в «Законах», без установлений – в «Государстве».
11
В последнем разделе наших предварительных заметок к диалогам Платона мы рассмотрим, каким способом поучения пользуется Платон.
Так вот, поучает он пятнадцатью способами: и исполненный священного вдохновения, и с помощью доказательства, а также с помощью определения, разделения, анализа, определения признака, метафоры, сравнения, индукции, аналогии, арифметики, исключения, добавления, повествования и этимологии.
Священного вдохновения преисполнен Платон в «Федре», где он одержим нимфами, и в восьмой книге «Государства», где он говорит о Музах, и в «Тимее», где он изображает демиурга, беседующего с небожителями, и в некоторых других диалогах72
.
Доказательством он пользуется в «Федоне», доказывая бессмертие души через самодвижение73
.
К определениям Платон прибегает почти во всех диалогах, и сам давая их, и других побуждая к тому же.
Разделением Платон воспользовался в «Софисте», заявив, как мы уже сказали выше, что ничто не может ускользнуть от метода разделения, который был дарован людям через Прометея.
Анализом, или методом разложения, он воспользовался в «Тимее», разлагая все существующее в природе на воспринимающее начало (восприемницей он называл материю) и форму; в свою очередь форму он разлагал на фигуры, а фигуры – на треугольники; о том же, что получится из разложения треугольников, знает, по его словам, только бог и тот, кто богу любезен74
.
Определением признака он воспользовался в «Алки‑виаде», утверждая, что признаком лжи является разногласие, а признаком истины – согласие: ведь истина не впадает в разногласие и в противоречие с самой собой75
.
Метафорой он пользуется в «Федре», уподобляя нашу душу возничему, а ее силы – коням, причем одного он называет хорошим, а другого – дурным76
.
Сравнением он пользуется в «Государстве», сравнивая город с кораблем, народ – с капитаном, а правителей – с моряками, которые хотят подпоить капитана, чтобы иметь возможность делать все, что им заблагорассудится77
. Метафора отличается от сравнения большей степенью воспроизведения природы того, чье подобие она создает, и подражания ей; сравнение же подражает в меньшей степени. Кроме того, метафора может служить именем самого предмета, а сравнение – нет; например, мы не ошибемся, назвав душу возничим, но кто назовет город кораблем? Причина этого – разная степень уподобления.
Индукцией Платон пользуется в «Алкивиаде», где говорит, что убеждающий одного может убедить также и многих и, наоборот, убеждающий многих может убедить и одного78
. Это доказывается методом индукции: ведь геометр, убеждая одного, может убедить многих и он же, убеждая многих, может убедить, по всей очевидности, и одного.
К аналогии Платон прибегает в «Горгии», показывая, что искусство судьи так же относится к искусству софиста, как врачебное искусство к поварскому: подобно тому как врач, заботясь о благом и полезном, предписывает нужные лекарство и пищу, хотя бы они были очень неприятны, в то время как повар заботится только о приятном, начиняя кушанье разнообразными приправами, – точно так же искусство судьи приносит только пользу и благо, а риторика (которую он называет здесь софистикой) доставляет лишь приятное[2272]
. Эсхин, говорят, взойдя на трибуну, сказал как‑то собравшимся слушателям: «Чего хотите вы? Что сказать вам? Чем угодить вам?»80
А доказал Платон свое утверждение с помощью аналогии, или пропорции: как первое относится ко второму, так третье относится к четвертому.
Арифметикой пользовался Платон в «Филебе», перечисляя шесть видов блага81
.
Методом исключения он пользуется в «Тимее», выслеживая и отыскивая материю путем исключения одной за другой всех форм82
.
Методом же добавления – в «Алкивиаде», где он решил выяснить, что такое человек: тело или душа или то и другое вместе, и доказал, что не тело и не совокупность души и тела, но душа сама по себе; затем он идет дальше и добавляет, что не всякая душа, т. е. не растительная, или неразумная, но лишь разумная; затем еще одно добавление: что человек занимает промежуточное положение между божественным и возникшим. Легко заметить, как по ходу рассуждения он привносил добавления в свое исследование.
Историю он использует в «Законах», рассказывая о событиях от потопа до войны с персами83
.
Этимологию же – в «Теэтете»[2273]
На этом мы закончим предварительные замечания к изучению философии Платона, изложенные нами в одиннадцати разделах:
• первый охватывает жизненный путь философа;
• второй – характер его философии;
• третий повествует о том, почему он стал писать;
• четвертый – почему применял диалогическую форму изложения;
• пятый – из каких частей состоят его диалоги;
• шестой – на каком основании нужно делить его диалоги на части;
• седьмой – как толковать названия диалогов;
• восьмой – каким способом передается содержание, или каково обрамление диалогов;
• девятый – как определить предмет диалога;
• десятый – какова последовательность диалогов;
• последний – какими способами поучения пользовался божественнейший Платон.
Конец введения в философию Платона
Перевод Т. Ю. Бородай и А. А. Пичхадзе.
В кн.: Платон. Диалоги. М.: «Мысль», 1986
XXXIV. ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Вечное
411
то, что существует во все времена: оно было раньше и не погибло ныне.
Бог
бессмертное существо, довлеющее себе в блаженстве: он – вечное бытие, причина рождения природы блага.
Становление
движение к бытию, причастность к бытию, поступательный шаг к тому, чтобы быть.
Солнце
b
небесный огонь, единственное, что может быть видимо одними и теми же [существами] от утренней до вечерней зари; это – звезда, зримая днем, существо вечное, одушевленное, величайшее.
Время
движение Солнца, мера пути.
День
путь Солнца от восхода к закату, свет, противоположный ночи.
Заря
начало дня, первое сияние, исходящее от Солнца.
Полдень
время, в которое тени, отбрасываемые телами, достигают наименьшей длины.
Вечерняя заря
конец дня.
Ночь
тьма, противоположная дню, похищение Солнца.
Судьба
путь от неведомого к неведомому и произвольная причина рокового деяния.
Старость
c
убыль одушевленности, совершающаяся с течением времени.
Дыхание
движение воздуха вокруг Земли.
Воздух
элемент, все движения которого в пространстве естественны.
Небо
тело, охватывающее собой все чувственные вещи, кроме самого высшего воздуха.
Душа
то, что само себя движет, причина жизненного движения существ.
Потенция
самодовлеющая творческая сила.
Зрение
способность различать тела.
Кость
мякоть мозга, уплотненная теплом.
Элемент
то, что объединяет и разъединяет все сложное.
Добродетель
d
наилучшее состояние [души], свойство смертного существа, достойное хвалы само по себе; предрасположенность считать благом то, чем обладаешь; справедливое отношение к законам; состояние, заставляющее крайне серьезно говорить о предмете беседы; состояние, направленное на благочиние.
Разумность
самодовлеющая творческая потенция, направленная к счастью человека; знание добра и зла; состояние, помогающее судить о том, что следует и чего не следует делать.
Справедливость
e
умиротворенность души в самой себе и упорядоченность частей души как друг по отношению к другу, так и в целом; распределительная способность, уделяющая каждому свое по достоинству; способность, благодаря которой тот, кто ею обладает, предпочтительно избирает кажущееся ему справедливым; способность подчиняться в жизни закону; равенство в общежитии; способность повиноваться правильным законам.
Рассудительность
412
(sophrosyne) – воздержность души по отношению к естественно возникающим в ней вожделениям и к наслаждениям; слаженность и уравновешенность души в отношении естественных радостей и печалей; гармоничность души в деле руководства и подчинения; самодовлеющее действие в соответствии с природой; стройность души; логическая связность души в вопросах прекрасного и постыдного; способность, благодаря которой тот, кто ею обладает, с осторожностью избирает что нужно.
Мужество
b
способность души не поддаваться страху; воинская отвага; знание воинского дела; стойкость души перед лицом страха и опасности; смелость, полезная разуму; бесстрашие в ожидании смертного часа; охранительная способность к правильным умозаключениям в опасности; сила, уравновешивающая опасность; сила, укрепляющая в доблести; умиротворенность души в отношении вещей, представляющихся на основе верного рассуждения ужасными и дерзновенными; избавление от смутных представлений относительно опасности; воинская опытность; стойкость в исполнении закона.
Выдержка
(egcrateia) – способность быть терпеливым в печали; следование правильному суждению; неодолимая сила истинного убеждения.
Самодовление
(autarceia) – совершенство в обладании благами; способность, благодаря которой ее обладатели управляют сами собой.
Хладнокровие
умаление справедливости и пользы; умеренность при договоренностях; логическая упорядоченность души в отношении к прекрасному и постыдному.
Терпеливость
c
(carteria) – выносливость в печали во имя прекрасного; выносливость в трудах ради прекрасного.
Отвага
отсутствие ожидания зла; неустрашимость перед лицом наступившего зла.
Беспечалъностъ
способность не впадать в печаль.
Трудолюбие
способность завершить избранное дело; добровольная терпеливость; безупречная способность к труду.
Совестливость
(aidos) – добровольный отказ от дерзости, явно справедливый и направленный к наилучшему; добровольное восприятие наилучшего; стремление избежать справедливого порицания.
Свобода
d
власть над жизнью; независимость во всем; возможность жить по‑своему; щедрость в использовании имущества и владении им.
Бескорыстие
должное отношение к наживе; должное приумножение имущества и владение им.
Кротость
усмирение гневных порывов; симметрия частей души.
Скромность
добровольная уступка тому, что представляется наилучшим; упорядоченность движений тела.
Блаженство
e
(eydaimonia) – благо, составляющееся из всех благ; самодовлеющая способность хорошо жить; совершенная добродетель; самодовлеющая полезность живого существа.
Величие
(megaloprepeia) – чувство собственного достоинства, основанное на особой возвышенности суждения.
Проницательность
одаренность души, благодаря которой ее обладатель точно судит о том, что подобает каждому; острота ума.
Порядочность
искренность нрава, соединенная с правильным образом мыслей; честность характера.
Калокагатия
(calocagathia) – способность избирать наилучшее.
Великодушие
утонченное использование обстоятельств; величие души, соединенное с разумом.
Человеколюбие
удобоуправляемое свойство характера любить человека; способность людей к добрым делам; благожелательное отношение; памятливость, направленная к благодеянию.
Благочестие
413
справедливое отношение к богам; добровольная склонность к служению богам; правильное представление о почитании богов; знание того, как надо почитать богов.
Благо
то, что существует ради него самого.
Свобода от страха
состояние, позволяющее не бояться.
Бесстрастие
состояние неподвластности волнениям.
Миролюбие
спокойствие перед лицом воинственной враждебности.
Легкомыслие
беззаботность души; бесстрастие и негневливость.
Изобретательность
настрой на достижение своей цели.
Дружба
b
единомыслие относительно прекрасного и справедливого; свободный выбор сходной жизни; согласованность мнений относительно свободного выбора и действий; единомыслие относительно образа жизни; доброжелательное общение; соучастие в благих делах и в испытаниях.
Благородство
добродетель возвышенного нрава; восприимчивость души к словам и делам.
Выбор
правильная проверка.
Доброжелательство [выбор]
привязанность человека к человеку.
Родство
родственные отношения.
Единомыслие
одинаковое отношение ко всему существующему; созвучие мыслей и восприятий.
Любовь
(agapesis) – совершенное признание.
Искусство государственного правления
знание прекрасного и полезного; творческое знание справедливости в государстве.
Товарищество
c
привычная дружба, бывающая среди ровесников.
Благомыслие
(eyboylia) – врожденная сила суждения.
Вера
(pistis) – правильное восприятие вещей такими, какими они представляются самому человеку; постоянство нрава.
Правдивость
способность утверждения и отрицания; знание истинного.
Воля
целеустремленность, соединенная с правильным рассуждением; благоразумное стремление согласно природе.
Совет
предшествующее действию другого человека указание относительно того, каким образом следует поступить.
Своевременность
успешное использование момента, удобного для действий или испытаний.
Осторожность
d
избегание зла; забота о безопасности.
Порядок
единообразие в устройстве всех взаимосоотносящихся вещей; соразмерность во взаимоотношениях; причина упорядоченности всех взаимосвязей [в познании].
Внимание
устремленность души к познанию.
Одаренность
быстрота в учении; врожденная доброкачественность; природная добродетель.
Понятливость
одаренность души, помогающая быстрому восприятию.
Закон
решение спорных дел, осуществляемое властью.
Правый суд
решение спора о справедливом и несправедливом.
Законность
e
повиновение правильным законам.
Хорошее настроение
радость по поводу дел благоразумного человека.
Почесть
дарование благ, обретаемых путем доблестных свершений; добрая слава, уготованная добродетелью; форма величия; соблюдение доброй славы.
Усердие
настойчивость в выборе образа действия.
Милость
добровольное благодеяние; плата добром за добро; своевременная услуга.
Единодушие
единство мнений у правителей и подчиненных по поводу того, как надо править и подчиняться.
Государство
общность множества людей, достаточно сильная для процветания; узаконенное сообщество многих людей.
Предусмотрительность
414
готовность к определенным будущим событиям.
Совещание
рассмотрение будущих событий, как они произойдут.
Победоносность
сила, одолевающая в борьбе.
Сообразительность
сила и ясность суждения о мыслимом предмете.
Дар
обмен любезностью.
Благовременье
лучшее время для обретения пользы; время, содействующее благу.
Память
способность души сберегать хранящуюся в ней истину.
Здравомыслие
(ennoia) – стройность мысли.
Мышление
(noesis) – первоначало знания.
Священная чистота
b
воздержание от погрешений в отношении богов; врожденная почтительность в служении богу.
Прорицание
знание, проясняющее дело без доказательства.
Искусство прорицания
умозрительное знание того, что происходит и может произойти со смертным существом.
Мудрость
беспредпосылочное знание; знание вечных вещей; умозрительное знание причины существующего.
Философия
постоянная жажда знания бытия; способность созерцания истины, какова она есть; усердие души, сопряженное с правильным рассуждением.
Знание
c
(episteme) – восприятие души, в отношении которого рассудок (logos) бессилен; способность восприятия какой‑либо вещи или многих вещей, не подвластная рассудку; истинное рассуждение (logos), непоколебимо закрепленное в разуме (dianoia).
Мнение
(doxa) – восприятие, поддающееся воздействию рассудка; стремление разума (logistice phora); мысль (dianoia), впадающая под влиянием рассуждения (logos) то в ложные представления, то в истинные.
Ощущение
(aisthesis) – стремление души; движение ума; сообщение, делаемое телом душе и направленное к пользе людей: из него рождается в душе внеразумная (alogos) познавательная способность, исходящая от тела.
Опытность
(hexis) – навык души, помогающий нам определять качества людей.
Звук
d
истечение из уст, вызванное размышлением.
Речь
(logos) – звук, воспроизводимый в письме и обозначающий каждую существующую вещь; говорение (dialectos), состоящее из имен и глаголов без напевности.
Имя
неделимая часть речи, истолковывающая обозначенное согласно его сущности, а также толкующая все то, что не имеет собственного названия.
Речение
(dialectos) – человеческий голос, воспроизводимый в письме, и некий общий толковательный знак, без напевности.
Слог
воспроизводимый в письме член человеческой речи.
Определение
предложение (logos), состоящее из родового и отличительного признаков.
Свидетельство
e
доказательство того, что неясно.
Доказательство
истинное рассуждение, основанное на умозаключениях; доказательное рассуждение на основе предвидения.
Звуковой элемент
неделимый звук речи; первопричина, в силу которой прочие звуки являются звуками.
Полезное
причина благоденствия; причина блага.
Выгодное
годящееся для блага.
[Прекрасное благо].
Благо
– причина благополучия живых существ; причина всего, что направлено само на себя; то, из чего проистекает все, долженствующее быть избранным.
Мудрое
(sophron) – украшение души.
Законное
упорядоченность закона, способная творить справедливость.
Произвольное
415
то, что вызывает само себя; избираемое само собою под воздействием завершенной мысли (dianoia).
Свободное
повелевающее собой.
Умеренность
середина между избытком и недостатком, коя довлеет себе благодаря искусству.
Мера
середина между избытком и недостатком.
Награда
воздаваемая добродетели почесть, к которой стремятся ради нее самой.
Бессмертие
одушевленное бытие и вечное пребывание.
Благочестивое
почитание божества, ему угодное.
Празднество
время, священное согласно законам.
Человек
существо бескрылое, двуногое, с плоскими ногтями; единственное из существ, восприимчивое к знанию, основанному на рассуждениях (logoi).
Жертвоприношение
b
принесение жертвы богу.
Молитва
обращенная к богам просьба людей о благах или о том, что представляется благом.
Царь
согласно законам, неограниченный властитель; распорядитель государственного устройства.
Правление
забота обо всем.
Власть
опека (epitrope) закона.
Законодатель
творец законов, согласно которым должно управляться государство.
Закон
государственное постановление большинства, не ограниченное определенным временем.
Основоположение
принцип, не требующий доказательств; итог рассуждения.
Постановление
общественное решение, не ограниченное определенным временем.
Государственный муж
c
(politicos) – человек, сведущий в управлении государством.
Город
место обитания множества людей, подчиняющихся общим постановлениям; масса людей, живущих по одному и тому же закону.
Гражданская добродетель
установление правильного государственного устройства.
Воинское искусство
опытность в войне.
Военный союз
сообщество для войны.
Безопасность
предотвращение вреда.
Тиран
правитель, руководящий городом по своему разумению.
Софист
охотник за благородными и богатыми молодыми людьми, состоящий у них на жалованье.
Богатство
d
имущество, достаточное для благополучной жизни; изобилие средств, направленное на укрепление счастья.
Вклад, внесенный на хранение
даяние, основанное на доверии.
Очищение
отделение худшего от лучшего.
Побеждать
одолевать в споре.
Хороший человек
тот, кто способен платить другому добром.
Воздержный
обладающий умеренными страстями.
Владеющий собой
тот, кто с помощью правильного суждения одолевает противоборствующие части души.
Порядочный человек
абсолютно честный; тот, кто обладает собственной добродетелью.
Тревога
e
печальная мысль, не имеющая под собой разумного основания (logos).
Невосприимчивость
медлительность в учении.
Деспотия
справедливая неподотчетная власть.
Пренебрежение к философии
состояние человека, ненавидящего рассуждения.
Страх
душевное потрясение, вызванное ожиданием беды.
Гнев
(thymos) – резкая вспышка без рассуждения (logismos); возмущение порядка неразумной (alogistos) души.
Потрясение
страх из‑за ожидания беды.
Лесть
отношение, направленное на удовольствие, но лишенное высшего блага; общительность, направленная на удовольствие, но преступающая меру.
Злоба
(orge) – побуждение страстной части души к мести.
Дерзость
(hybris) – несправедливость, ведущая к бесчестью.
Невоздержность
416
неудержимое влечение (вопреки правильному суждению) к тому, что мнится приятным.
Вялость
избегание трудов.
Трусость
препятствие для настойчивости.
Первоначало
(arche) – первичная причина бытия.
Клевета
внесение разлада между друзьями с помощью слова.
Благоприятное время
момент, в какой должно испытывать или совершать все, приносящее пользу.
Несправедливость
презрение к законам.
Нужда
недостаток благ.
Стыд
страх перед ожидаемым бесчестьем.
Хвастовство
притязание на благо или блага, которыми не обладаешь.
Погрешность
действие, противоречащее правильному рассуждению.
Зависть
огорчение по поводу благ, имеющихся у друзей в настоящем или бывших у них в прошлом.
Бесстыдство
терпеливость души к бесчестью во имя выгоды.
Наглость
чрезмерная и неположенная отвага перед лицом страхов.
Честолюбие
душевное состояние расточительности, ведущей ко всевозможным неразумным расходам.
Дурные задатки
врожденная порочность нрава и природный изъян; врожденный недуг.
Надежда
ожидание блага.
Неистовство
(mania) – состояние, губительное для здравого восприятия.
Болтливость
неразумная безудержность речи.
Противоположность
наибольшее расхождение, какое случается у однородных вещей в связи с каким‑либо видовым отличием.
Невольное
то, что совершается помимо разума (dianoia).
Обучение
способ попечения о душе.
Воспитание
передача выучки.
Законодательное искусство
умение создать хорошо организованное государство.
Внушение
наставительное слово, основанное на убеждении; речь, произносимая для отвращения от проступка.
Помощь
препятствие для существующего или возможного зла.
Кара
лечение души, совершившей проступок.
Потенция
мощь в деле и слове; способность, обладатель которой могуществен; природная сила.
Спасать
оберегать кого‑либо от вреда.
Перевод С. Я. Шейнман‑Топштейн.
В кн.: Платон. Диалоги. М.: «Мысль», 1986
XXXV. СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
Abel –
Orphica / Rec. E. Abel. Lipsiae, 1885
Beckby –
Anthologie graeca, griechisch und deutsch / Ed. H.Beckby. Bd I–IV. München, 1957–1958
Bergk –
Poetae lyrici graeci / Rec. Th. Bergk. I–III. Lipsiae, 1882–1900
Diehl –
Anthologie lyrica graeca / Ed. E. Diehl. Vol. I–II. Lipsiae, 1925. Fasc. 1, 1954. Fase. 2, 1955. Fasc. 3, 1954
Diels –
Die Fragmente der Vorsokratiker. Griechisch und deutsch / Von H. Diels. 9 Aufl. I–III. Hrsg von W. Kranz. Bd I–III. Berlin, 1959–1960
Dindorfii
– Aelii Aristidis orationis / Rec. G. Dindorfii. Vol. I–VI. Lipsiae, 1829
Diod.
– Diodorii bibliotheca historica / Ed. Vogel‑Fischer. Vol. I–V. Lipsiae, 1888–1906
Edmonds
– Lyra graeca / Ed. J. M. Edmonds. Vol. I. London, 1963
FGH
– Die Fragmente der Griechischen Historiker / Ed. F. Jacoby. T. 1. Leiden, 1957
Hesich.
– Hesichii Alexandrini Lexicon / Ed. M. Schmidt. Ienae, 1867
Hercher
– Aeliani opera / Ed. R. Hercher. Lipsiae, 1864
Hermann
– Platonis dialogi / Ed. C. Hermann. Bd VI. Ed. stereot. Lipsiae, 1921
Kaibel
– Comicorum graecorum fragmenta / Ed. G. Kaibel. Berolini, 1899
Kern
– Orphicorum fragmenta / Coll. O. Kern. Berolini, 1922
Kock
– Comicorum graecorum fragmenta / Ed. Th. Kock. Vol. I–III. Lipsiae, 1880–1888
Kroll
– Procli Diadochi in Platonis rem publicam commentarii / Ed. G. Kroll. Vol. I–II. Leipzig, 1899–1901
L.‑P.
– Poetarum lesbiorum fragmenta / Ed. E. Lobel et D.Page. Oxford, 1955
N. – Sn.
– Tragicorum graecorum fragmenta / Rec. A. Nauck. Suppl. add. B. Snell. Hildesheim, 1964
Р
.‑В
.
– W. Pape's Wörterbuch der griechischen Eigennamen. 3 Aufl. neu bearbeitet von G.ßenseler. Braunschweig, 1911
Quandt
– Orphei hymni / Ed. G. Quandt. Berolini, 1955
Radt
– Tragicorum Graecorum Fragmenta. Vol. 3. Aeschynes / Ed. S. Radt. Göttingen, 1985
Rose
– Hygini fabulae / Ed. H. Rose. Leiden, 1963
Rzach
– Hesiodi carmina / Ed. A. Rzach. Lipsiae, 1913
Snell‑Maehler
– Pindari carmina cum fragmentis / Post B. Snell ed. H. Maehler. Bd I–II. Leipzig, 1975–1987
Suidae
– Suidae lexicon graece et latine / Rec. G. Bernhardy. Halis et Brunsvigae, 1853
SVF
– Stoicorum veterum fragmenta / Ed. Arnim. Vol. I–IV. Lipsiae, 1921–1924
Vogt
– Procli Hymni / Ed. E. Vogt. Wiesbaden, 1957
Walz –
Rhetores graeci / Ed. Ch. Walz. Vol. I–IX. Stuttgart, 1832–1836


[1]
Обвинителями
Сократа были: молодой трагический поэт Мелет – сын Мелета, тоже незначительного трагического поэта, не раз высмеянного знаменитым афинским комедиографом Аристофаном (например, «Лягушки», ст. 1302), Анит – богатый афинский владелец кожевенных мастерских, один из активных демократов и участник освобождения Афин от господства Тридцати тиранов в 401 г. (см.: Ксенофонт.
Греческая история / Пер. С. Лурье. Л., 1935, II 3, 42‑44; см. также: Менексен, прим. 37 и 38), а также оратор Ликон (из‑за жалоб на бедность высмеивался комиками). Формально первым обвинителем был Мелет, но по существу главная роль в обвинении принадлежала влиятельному Аниту, осуждавшему Сократа с позиций узкой консервативной благонадежности и видевшему в Сократе, которого он сближал с софистами, опасного критика старинных идеалов государственной, религиозной и семейной жизни. По свидетельству Диогена Лаэрция (II 38), обвинительную речь для Мелета написал софист Поликрат (см. также прим. 22).
Дело Сократа слушалось в одном из 10 отделений суда присяжных, так называемой гелиеи, включавшей 5000 граждан и 1000 запасных, которые ежегодно избирались по жребию от каждой из 10 фил Аттики. Таким образом, в отделении, разбиравшем дело Сократа, было 500 человек, причем к этому четному количеству присоединяли для голосования еще одного присяжного, так что число гелиастов становилось нечетным. Сократ, называя своих слушателей мужи‑афиняне,
имеет в виду не только судей, но и всех присутствующих, т. е. всех членов афинского Народного собрания, в котором могли принимать участие все граждане мужского пола, достигшие 20 лет.
[2]
У меняльных лавок,
или столов менял, где происходил обмен всевозможных денежных знаков, было в богатом торговом городе одно из самых оживленных мест.
Сократ подчеркивает, что он будет говорить безыскусно, а не по примеру софистических риторов, скрывавших иной раз убогость мысли под тропами и фигурами изысканной речи. Известно (см.: Диоген Лаэрций
II 40), что Сократ отказался от речи, специально написанной для него Лисием (см.: Евтидем, прим. 58).
[3]
Сократ родился в 469 г. до н. э., суд происходит в 399 г.
[4]
Говоря о прежних обвинениях
и обвинителях,
Сократ имеет в виду слухи, в течение многих лет распространявшиеся среди афинских «благонамеренных» граждан, об опасности его философских бесед, подрывавших традиционные авторитеты.
[5]
Здесь слово «мудрый» Сократ иронически понимает как «софист» (см.: Протагор, прим. 13), желая этим сказать, что сами афиняне, толком не разбираясь в его целях и методах, принимали его по своему невежеству за одного из софистов, платных учителей практической житейской мудрости. Здесь также имеется в виду ходячее мнение о натурфилософах, якобы пытавшихся возвести в божественное достоинство закономерности природных явлений, а также о некоторых так называемых метеорософистах, как, например, о Гиппии из Элиды (см. прим. 9) или Протагоре из Абдер (см.: Евтидем, прим. 32), изображавших из себя знатоков астрономии, но в народе слывших шарлатанами.
[6]
Под сочинителем комедий
Сократ подразумевает Аристофана, не понимавшего Сократа и высмеявшего его в комедии «Облака». Насмешки над Сократом находим также в «Птицах» Аристофана, в «Лягушках», в некоторых фрагментах комедиографа Евполида (fr. 352, 361 Kock). Иронические замечания о связях Сократа и Еврипида, тоже жестоко высмеянного Аристофаном, находим во фрагментах Телеклида (fr. 39, 40 Kock) и Каллия (fr. 12 Kock).
[7]
Часто упоминаемый платоновским Сократом бог
– некое божество, близкое к монотеистическому.
[8]
Обвинение Сократа типично для бытовых обвинений, предъявлявшихся обычно софистам, согласно которым они учили ложь выдавать за правду. Недаром Сократ считает, что пародия, созданная на него Аристофаном
в «Облаках», в действительности не имеет к нему никакого отношения.
[9]
Сократ не брал денег
за обучение, что именно делали софисты и что вызывало к ним вражду. См. «Воспоминания…» Ксенофонта: «…кто берет плату за свои беседы, тех он презрительно называл продавцами самих себя в рабство»; «…он ни с кого не требовал платы за свои беседы» (I 2, 5 и 60). Леонтинец Горгий
из Сицилии (483–375; по Виламовицу – Меллендорфу, ок. 500/497 – 391/388) – ученик Эмпедокла, один из главных основателей софистической философии. Во время Пелопоннесской войны, в 427 г., он возглавлял леонтинское посольство в Афины и добился от афинян военной помощи против сиракузян (см. также Лахет, прим. 2). Горгий остался в Афинах и прославился там как ритор. В Дельфах ему была поставлена золотая статуя (см.: Цицерон.
Об ораторе III 32, 129). Горгий является также одним из основателей античной риторики с ее сложной системой тропов и фигур, часть которых так и называется – «горгиевы». Стиль его речей отличался пышностью, вычурностью, особой возвышенностью и в античности именовался горгианским. Горгию посвящен у Платона специальный диалог. См.: Горгий, преамбула, а также: Менон, прим. 12 и 15. Кеосец Продик
(род. ок. 470 г.) – софист, в нравоучениях которого заключен в отличие от других софистических учений большой моральный пафос (см. приписываемую ему Ксенофонтом знаменитую аллегорию о Геракле на распутье – Воспоминания… II 1, 21‑34). Он занимался также философией языка, а именно синонимикой, что характерно для софистов, придававших огромное значение слову (см. также: Протагор, прим. 52). Элидец Гиппий
(род. ок. 460 г.) – тоже один из главных основателей софистической философии. Считался знатоком естественных наук, астрономии, геометрии, музыки, грамматики и т. д. Брал за свои уроки огромные деньги (см.: Гиппий больший 282d; см. также: Гиппий меньший, преамбула и прим. 3). Фрагменты софистов см.: Diels.
Bd II; русск. пер.: Маковельский А. О.
Софисты. Вып. 1 – 2. Баку, 1940–1941.
[10]
Имеется в виду Евен, поэт‑элегик, выступающий здесь как учитель‑софист не очень высокого ранга (см. 20с).
[11]
Каллий, сын Гиппоника,
– богатейший афинянин, тративший большие деньги на обучение у софистов.
[12]
Т.е. приблизительно 125–180 руб. (1 мина
= прибл. от 25 до 30 руб.) – сумма весьма умеренная по сравнению с тем, сколько брали знаменитые софисты.
[13]
Сократ имеет в виду упомянутых выше софистов.
[14]
Т.е. Аполлон, который, по воззрениям древних, в своем святилище в Дельфах вещал устами пророчицы (пифии), одурманенной серными парами, выходившими из расселины скалы. О громадной государственной и политической роли дельфийского оракула см. у Плутарха (De Ε apud Delphos. De defectu oraculorum. De Pythiae oraculis // Plutarchi chaeronensis moralia / Rec. et emend. W. Paton, M. Pohlenz, W. Sieveking. Vol. III. Leipzig, 1972).
[15]
Херефонт
– друг и последователь Сократа, один из активнейших демократов, что имеет в речи Сократа немаловажный смысл: так как Херефонт был изгнан из Афин олигархией наряду с Анитом – обвинителем Сократа, значит, его свидетельство для врагов Сократа имеет объективное значение. Херефонт – действующее лицо диалога «Горгий».
[16]
Об ответе пифии
Херефонту см.: Диоген Лаэрций
II 37. Несколько иначе в античных комментариях (схолиях) к «Облакам» Аристофана (ст. 144): «Софокл мудр, Еврипид мудрее, Сократ же – мудрейший из всех людей» (см.: Scholia graeca in Aristophanem / Ed. Dübner. Parisiis, 1877).
[17]
Брат Херефонта
– Херекрат, с которым Сократ, заметив, что братья ссорятся между собой, вел назидательный разговор о братской любви (Ксенофонт.
Воспоминания… II 3).
[18]
Речь идет о мнимой и подлинной мудрости. Подлинная не стыдится ограниченности знания (ср. знаменитые слова: «Я знаю только то, что ничего не знаю», приписываемые Демокриту. – В 304 Diels), так как человеческое знание – ничто по сравнению с божественным.
[19]
Сократ в обыденных разговорах никогда не призывал в свидетели богов, так как, видимо, считал это неблагочестивым. В «Горгии» (482b) он клянется «собакой, египетским богом». См.: Алкивиад II, преамбула.
[20]
Неосознанной вдохновенности поэтов
у Платона специально посвящен диалог «Ион».
[21]
Сократ сам оценивал свое имущество в 5 мин (см.: Ксенофонт.
Домострой II 3 // Ксенофонт Афинский.
Сократические сочинения). Ср. прим. 12.
[22]
Явная ирония Сократа, так как Мелет
во время правления Тридцати тиранов участвовал в преследовании демократов, например, по свидетельству оратора Андокида (см.: De mysteriis 94 // Andocidis orationes / Ed. Blaß – Fuhr. Lipsiae, 1913), в казни Леонта Саламинского.
[23]
У Диогена Лаэрция (II 40) читаем: «Заявление подал и клятву принес Мелет, сын Мелета из Питфа, против Сократа, сына Софрониска из Алопеки: Сократ повинен и в том, что не чтит богов, которых чтит город, а вводит новые божества, и повинен в том, что развращает юношество; а наказание за то – смерть». Еще Фаворин, ритор и друг Плутарха, во II в. н. э. как будто бы видел это обвинение в афинском храме Великой Матери богов.
[24]
Последующий диалог Сократа с Мелетом представляет собой замечательный образец Сократовой иронии, которой пронизаны вообще все беседы этого мудреца. Своим индуктивным диалектическим методом философского диалога он принуждает собеседника убедиться в несостоятельности его доводов. Об иронии Сократа см. у Платона в «Пире» (216), у Ксенофонта в «Воспоминаниях…» (IV 4, 10), у Аристотеля в «Никомаховой этике» (IV 13, 1127а14‑b30); Лосев А. Ф.
Ирония античная и романтическая // Эстетика и искусство. М., 1966. См. также: Феаг, прим. 8; Менексен, прим. 6.
[25]
Гера
– богиня греческого Олимпа, супруга Зевса, покровительница семьи и брака.
[26]
Члены Совета
– присутствующие на суде «булевты», т. е. члены высшего органа власти в демократических Афинах – Совета (буле) пятисот; в него избирались по жребию по 50 человек от каждой из 10 фил. Каждая фила заседала поочередно в течение около 40 дней. Все участвовавшие в сессии, т. е. в притании, именовались пританами, глава Совета на текущий день – эпистатом. См. также прим. 37.
[27]
Анаксагор из Клазомен
– философ, современник Сократа, друг Перикла, был изгнан из Афин за свои взгляды. Писал, что Солнце – раскаленная глыба, а Луна – тело, подобное Земле (см.: Diels.
Bd II; русск. пер.: Маковельский А.
Досократики. Т. I–III. Казань, 1914–1919; см. также: Он же.
Древнегреческие атомисты. Баку, 1946; Софисты). Против Анаксагора был также возбужден судебный процесс, на котором его обвинили в непочитании богов и было внесено предложение «считать государственными преступниками тех, кто не почитает богов по установленному обычаю или объясняет научным образом небесные явления» (59 А 17 Diels). Анаксагора, как и Сократа, тоже считали софистом (см. также: Горгий, прим. 18).
[28]
Это место понимается двояко. Орхестрой
называлась круглая площадка, на которой исполнял свои партии хор и которая располагалась перед просцениумом, где играли актеры. Вместе с тем Орхестрой
именовалась известная афинская книжная лавка. Дешевые театральные места стоили 2 обола (ок. 4 коп.), а дорогие – 1 драхму
(ок. 36 коп.).
[29]
Гении,
или демоны (δαίμονες) – низшие божества, или духи, в греческой мифологии. В данном случае речь идет о внутреннем голосе Сократа (см. 31d и прим. 34).
[30]
Сын Фетиды,
морской богини, – Ахилл, герой «Илиады» Гомера (см. также: Феаг, прим. 11).
[31]
См. Ил. XVIII 95. Гектор
– сын Приама; Патрокл
– друг Ахилла (см. также прим. 51).
[32]
Сократ участвовал в Пелопоннесской войне (см.: Менексен, прим. 31) – при Потидее
(432 г.), Делии
(424 г.) и Амфиполе
(422 г.), где вел себя мужественно и достойно (см. также: Алкивиад I, прим. 50 и Хармид, прим. 1).
[33]
Аид
– подземное царство мертвых, бог смерти и сама смерть (см.: Горгий, прим. 81).
[34]
О своем внутреннем голосе, гении
(даймонии), свойственном ему с детства и удерживавшем его от того или другого поступка, Сократ в диалогах Платона говорит неоднократно (см.: Феаг 128, Федр 242b, Евтидем 272е, Теэтет 151а, Алкивиад I 103а). Замечания об этом внутреннем голосе приводят также Ксенофонт в «Воспоминаниях…» (I 1, 2‑5) и Аристотель в «Риторике» (II 23, 8). Поздние античные писатели не раз обращались к толкованию этого удивительного, по их мнению, явления (см.: Cicero.
De divinatione 1, 54 (122) // Ciceronis M. Tulli scripta quae manserunt omnia / Rec. Atzert, Marx, Pohlenz, Piasberg. Leipzig, 1923. Fase. 48. Русск. пер.: Цицерон.
О гадании // Философские трактаты / Пер, с лат. М. И. Рижского. М., 1985; Plutarchi Chaeronensis.
De genio Socratis // Moralia. Vol. III. Русск. пер.: Плутарх.
О демоне Сократа. Пер. Я. Боровского // Сочинения. М., 1983; Apulei.
Liber de deo Socratis // Apulei Madaurensis scripta quae sunt de philosophia / Rec. P. Thomas. Lipsiae, 1908. Русск. пер.: Апулей.
О божестве Сократа. Пер. А. Кузнецова // «Метаморфозы» и другие сочинения. М., 1988). См. также: Феаг, прим. 24.
[35]
Сократ был избран членом афинского Совета (см. прим. 26) в 406 г. от дема (округа) Алопеки, входившего в филу Антиохида.
[36]
Афиняне, одержавшие победу над пелопоннесцами в морском сражении
при Аргинузских о‑вах (406 г.), не успели из‑за бури похоронить погибших. Стратеги,
вернувшиеся в Афины (всего шесть человек из десяти; остальные, не подчинившись приказу, бежали), были казнены как нарушители отечественных религиозных традиций (см. красочное описание этих событий у Диодора (XIII 100–103): Diodori bibliotheca historica / Ed. Vogel – Fischer. Vol. III. Lipsiae, 1893). Сократ, бывший эпистатом (см. прим. 26 и 35), воспротивился незаконному огульному суду над всеми стратегами сразу (см.: Ксенофонт.
Воспоминания… I 1, 18; Греческая история I 7, 14) и едва избежал кары от правящей демократической партии. На следующий день при другом эпистате стратеги были казнены (см.: Аксиох 35d, прим. 22). Впоследствии афиняне раскаялись и привлекли к суду самих обвинителей. Главный из обвинителей – Калликсен – «умер от голода, ненавидимый всеми» (Ксенофонт.
Греческая история I 7, 35).
[37]
Мужественно и независимо держал себя Сократ и в правление Тридцати тиранов
(404 г.), отказавшись – единственный из пятерых пританов – участвовать в казни Леонта Саламинского. Круглая палата
– куполообразное здание на агоре (городской площади), где заседали и кормились на общественный счет пританы.
[38]
Сократ имеет здесь в виду слушавших его Алкивиада (см.: Алкивиад II, прим. 1) и Крития (см.: Хармид, прим. 4), склонных к политическим авантюрам.
[39]
Среди перечисляемых Сократом друзей – Критон,
друг и единомышленник Сократа (см.: Критон); будущий философ Эсхин,
впоследствии живший некоторое время при тиранах Дионисии Старшем и Младшем в Сиракузах. Антифон,
упоминаемый здесь, не имеет ничего общего с оратором Антифоном из Рамнунта (см.: Менексен, прим. 10). По имени Феага
назван один из диалогов, приписываемых Платону. Аполлодор,
по свидетельству Ксенофонта (Апология Сократа 28), сказал Сократу после вынесения приговора: «Мне особенно тяжело, Сократ, что ты приговорен к смертной казни несправедливо». На что Сократ ответил: «А тебе приятнее было бы видеть, что я приговорен справедливо?» Об упомянутом Никострате
других сведений не имеется. Подробный перечень учеников Сократа см. в словаре Суда (Σωκράτης).
[40]
Здесь имеются в виду слова Пенелопы (Од. XIX 162), обращенные к Одиссею, скрывавшемуся под рубищем нищего, чтобы узнать, откуда он родом. У Сократа было три сына:
старший Лампрокл и младшие Софрониск и Менексен.
[41]
Сократа называли, как известно, мудрецом, мудрейшим из людей (см. прим. 16).
[42]
Вслед за обвинением требовалось установить меру наказания. Так как дело Сократа не было рядовым, Мелет предложил смертную казнь. Теперь предстоит самому обвиняемому предложить себе наказание.
[43]
Судя по словам Сократа, за него был подан 221 голос, а против – 280. Следовательно, ему не хватило 30 голосов, так как для оправдания надо было иметь минимум 251 голос из 501. Место это спорное, так как в греческом тексте стоит «30 голосов только», а Диоген Лаэрций сообщает (II 41), что «против» Сократа был 281 голос, а «за» – 220 голосов. Комментаторы предлагают читать в греческом тексте «31 голос», полагая, что вкралась ошибка (μόναί – в переводе «только» вместо μία – «один»).
[44]
По афинским законам обвинитель, не собравший 1/5 голосов,
должен был заплатить штраф в 1000 драхм (т. е. около 250 руб.) и лишался в дальнейшем права подавать в суд жалобы сходного рода. Только наличие кроме Мелета еще двух обвинителей (Анита и Ликона)
обеспечило ему необходимое количество голосов.
[45]
Обед в Пританее
на общественный счет был чрезвычайно почетен. На него имели право, например, победители Олимпийских игр.
[46]
Намек на судопроизводство спартанцев (ср.: Фукидид.
История I 132); см.: Критон, прим. 15.
[47]
Одиннадцать
ежегодно выбиравшихся архонтов (начальников) надзирали над тюрьмами.
[48]
См. также: Лахет 187е; Софист 230b‑d; Алкивиад I 133с; Гиппий больший 304е; Ксенофонт.
Воспоминания… IV 2, 25; III 9, 6; I 1, 16).
[49]
См. прим. 12.
[50]
По Диогену Лаэрцию (II 42), после высказывания Сократа о том, что он заслуживает дарового обеда в Пританее, число голосов, поданных против него, увеличилось на 80.
[51]
Древние часто связывали дар провидения с приближением смерти. Так, Патрокл предсказывает гибель Гектору (Гомер.
Ил. XVI 851), Гектор – Ахиллу (Ил. XXII 358), о чем упоминает Сократ и у Ксенофонта (Апология Сократа 30; ср.: Цицерон.
О гадании I 30). Обвинители Сократа, по преданию, все получили по заслугам. По свидетельству Диогена Лаэрция (II 43), афиняне приговорили обвинителей Сократа к изгнанию. Диодор (XIV 37) говорит о казни обвинителей без всякого суда. Плутарх (De invidia et odio 6 // Moralia. Vol. III) сообщает, что обвинители Сократа повесились, так как не вынесли презрения афинян, лишивших их «огня и воды». Фемистий, ритор IV в. н. э., в одной из своих речей (XX 239с) сообщает, что Анит был побит камнями (Themistii Orationes / Ed. G. Downey, A. Norman. I–III. Leipzig, 1965–1974). При всей легендарности этих сведений важно отметить склонность потомков к мысли о возмездии тем, кто казнил невинного Сократа.
[52]
См. прим. 47.
[53]
Обычное наименование персидских царей, абсолютная власть и богатства которых считались символом высшего человеческого счастья.
[54]
Мифологические цари и герои, здесь – судьи в загробном мире. Однако Триптолем
обычно (см.: Гомеровские гимны. Гимн Деметре 153. Пер. В. В. Вересаева // Античные гимны. М., 1988) судит людей на земле. Эак
(см. Гиппий больший, прим. 27) из всех греческих авторов только у Платона является судьей в царстве мертвых, хотя римляне всегда считали его именно таковым. Несомненна связь Миноса
и Радаманта
с критскими и орфическими мистериями, Триптолема – с элевсинскими таинствами, Эака – с орфическим культом героев на о. Эгина (см. у Павсания II 30,4 // Описание Эллады / Пер. С. П. Кондратьева. Т. I–II. М., 1938–1940. Т. 1).
[55]
Мифические певцы Орфей
и Мусей
(см.: Ион, прим. 11 и 23) стоят здесь в одном ряду с поэтами Гесиодом
и Гомером.
[56]
Паламед
(гомер.) – один из героев Троянской войны – был убит по ложному доносу Одиссея греками. Аякс (или Аянт), сын Теламона
(гомер.), – один из ахейских вождей под Троей – убил себя в припадке безумия, которое на него наслала богиня Афина. Он тоже жертва несправедливого суда, присудившего доспехи погибшего Ахилла Одиссею, а не Аяксу, самому мужественному из ахейцев.
[57]
Великую рать под Трою привел
царь Аргоса и Микен Агамемнон (см. также Феаг, прим. 10). Одиссей
(гомер.) – герой Троянской войны, царь Итаки, славившийся умом и хитростью. Сисиф
(миф.) – царь Коринфа, обманувший Смерть.
[58]
Сократ вынужден был ждать казни 30 дней, так как накануне его суда было отправлено на Делос
ежегодное священное посольство, феория, в честь Тесея, некогда спасшегося от чудовища‑минотавра на Крите и принесшего богу Аполлону обет. По обычаю, на время пребывания феории на Делосе смертная казнь в Афинском государстве откладывалась (ср.: Федон 58а‑с; Ксенофонт.
Воспоминания… IV 8, 2).
[59]
Суний
– мыс на ю.‑в. Аттики, где находился храм Афины. Во время панафинейских празднеств (см.: Евтифрон, прим. 17) там происходили состязания триер (см.: Лахет, прим. 17).
[60]
Т.е. одиннадцать архонтов (см.: Апология Сократа, прим. 47).
[61]
Сократ видит вещий сон (см.: Апология Сократа, прим. 51).
[62]
Сократ вспоминает слова Ахилла (Ил. IX 363), оскорбленного Агамемноном и желающего возвратиться к себе на родину, во Фтию. Сократ видит в этих словах тайный смысл, так как греческие слова Φθ'ιη (Фтия) и φθίνω (гибнуть) близки по звучанию.
[63]
Критон предлагает Сократу считаться с мнением большинства,
намекая на то, что именно это большинство осудило его на смерть. Но для Сократа один мудрый и хороший человек стоит многих. Ср. известное мнение аристократически настроенного Гераклита: «Один для меня – десять тысяч, если он наилучший» (В 49 Diels).
[64]
Здесь упоминаются друзья и последователи Сократа – Симмий
и Кебет
(Кевит), фиванцы. Диоген Лаэрций (II 124) приписывает Симмию авторство 23 диалогов, а Кебету (II 125) – трех диалогов, в том числе знаменитого диалога «Картина», дошедшего до нас, хотя авторство Кебета сомнительно. В России диалог «Картина» (или «Таблица») Кебета был популярен в XVIII в. как аллегория и выдержал несколько изданий (см.: Кебет.
Картина / Пер, с греч. В. Алексеева. СПб., 1888).
[65]
См.: Апология Сократа, прим. 40.
[66]
В своих беседах Сократ у Платона обычно прибегает к примерам из повседневной жизни, что делает его мысли особенно доступными. Однако подобная привычка Сократа раздражала некоторых его собеседников, например софистов, ораторов, учителей риторики, которые считали ее низменной и недостойной философа (см.: Горгий 490d – 491b, Пир 221е).
[67]
Ср.: Горгий 486ab.
[68]
Сократ вопреки мнению большинства, выражающему традиционную этическую норму, предпочитает не отвечать злом на зло, а претерпеть это зло (см. также: Горгий 469с). Ср.: Архилох: «…хотел бы я видеть, чтобы таким (т. е. опозоренным и замученным. – А. Т.‑Г.
) предстал прежний мой товарищ, который меня оскорбил, растоптав клятвы» (fr. 79а Diehl); и Еврипид: «Я считаю, что человеку свойственно делать врагам зло» (fr. 1092 N. – Sn.).
[69]
Приход Законов
и Государства
к Сократу – знаменитая персонификация, или олицетворение, – «просопопея». Такие олицетворения были характерны для этических размышлений и примеров. Развернутый пример такой персонификации есть у Ксенофонта в «Воспоминаниях…» (II 21 – 34), где пересказывается притча о Добродетели и Пороке, явившихся в виде прекрасных женщин Гераклу. См. также: Горгий, прим. 30.
[70]
Об идеальном воспитании
молодого человека, о его телесном и духовном совершенствовании в духе Сократа и Платона см.: Jaeger W.
Paideia. Die Formung des griechischen Menschen. Bd II. 3 Aufl. Berlin, 1959. Этой теме, а также специально гимнастике и музыке Платон посвящает II книгу «Государства» (376е – 380с), а также раздел I книги «Законы» (657с – 673b). Однако трудно сказать, получил ли такое воспитание сам Сократ. См. с. 15, ср.: Феаг, прим. 21.
[71]
Об участии Сократа в военных действиях см.: Апология Сократа, прим. 32. Празднества,
упоминаемые здесь, – общегреческие атлетические состязания, посвященные Зевсу в Олимпии и Немее, Аполлону Пифийскому в Дельфах и Посейдону на Истме.
[72]
Законодательство Лакедемона
(Спарты) и Крита
пользовалось особыми симпатиями платоновского Сократа и самого Платона. В «Законах» ведут беседу о государственном устройстве афинский гость, критянин Клиний и спартанец Мегилл, что дает возможность Платону представить свою теорию идеального государства. Законы полулегендарного спартанского законодателя Ликурга и критского Миноса, по Платону, представляют собой «всю в совокупности добродетель», и государственный строй, основанный на них, именуется божественным (630de) и «действительно государственным устройством», а не «сожительством граждан, где одна их часть владычествует, а другая рабски повинуется», как при демократии, монархии или олигархии (712с – 713а).
[73]
В Фивах
и Мегарах
была в это время умеренная олигархия. Мегары были чисто дорийским полисом вне пределов Пелопоннеса.
[74]
Фессалийцы славились не только распущенностью нравов, но и ненадежностью. Ср. у Демосфена: «Фессалийцы, конечно, от роду никогда не внушали доверия никому из людей» (Олинфская речь I 22 // Демосфен.
Речи / Пер. С. И. Радцига. М., 1954). См. также: Горгий, прим. 66. Козья шкура
– обычная одежда пастухов.
[75]
См.: Апология Сократа, прим. 54.
[76]
Корибанты – жрецы и спутники Великой Матери богов (фригийской богини Кибелы, или критской Реи), славящие ее в экстатических оргиях под звуки флейт и тимпанов.
[77]
Поговорить с тобой наедине:
в ориг. ίδιολογέσασθαι – глагол, не употреблявшийся в аттической прозе, но относящийся к более позднему времени.
[78]
Портик Зевса Освободителя
(Элевтерия) находился в северо‑западном предместье Афин, Керамике. Демодок, видимо, прибыл в Афины через Дипилонские ворота (может быть, из Пирея), отделявшие внешний (за пределами городских стен) Керамик (где была расположена Академия Платона) от внутреннего (в самом городе), где рядом с портиком Зевса как раз и состоялась встреча Демодока и Сократа.
[79]
Сравнивая человека с растением,
Демодок аргументирует свою мысль в сократическом духе: с помощью простейшего примера, знакомого ему как земледельцу. Ср. сопоставление неправильно воспитываемого ребенка с кривым деревом в Протагоре 325d (см. также Критон, прим. 9).
[80]
Философы‑софисты обучали молодежь за большие деньги (см.: Апология Сократа, прим. 9). Поскольку название «софист» происходит в древнегреч. от σοφός, т. е. «мудрый», вполне понятно, почему Феаг, желая стать мудрым, хочет обратиться к софистам. Об имени «софист» см.: Протагор, прим. 13.
[81]
Схолиаст (древний комментатор) называет это выражение «поговоркой» и ссылается на то, что комедиограф Аристофан приводит ее в «Амфиарае» (р. 287 Hermann).
[82]
Феаг (θεάγης) – букв.: почитающий божество (θεός – бог, αζομαι, αζω – почитаю, благоговею).
[83]
См.: Критон, прим. 13.
[84]
Теперь Сократ начинает беседовать с Феагом, пользуясь своим постоянным методом вопросов и ответов, т. е. тем, что Платон называет диалектикой (см. также: Апология Сократа, прим. 24). Как обычно, Сократ хочет установить общее, родовое понятие – в данном случае общее понятие мудрости – в его отличии от частных проявлений. Ср. рассуждение в «Пире» о понятии любви и творчества (205b‑d).
[85]
См.: Критон, прим. 9.
[86]
Эгисф,
сын Фиеста (см.: Кратил, прим. 22) из царского рода Танталидов, вступил в связь с Клитемнестрой, супругой своего двоюродного брата Агамемнона и, убив его с ее помощью, захватил власть в Микенах, где и правил семь лет, пока не был убит Орестом, сыном Агамемнона.
[87]
Пелей, сын Эака
и Эндеиды, внук Зевса и отец Ахилла, – герой, участвовавший в походе аргонавтов. Обычно изображается престарелым супругом морской богини Фетиды. Владения его находятся во Фтии – в Фессалии на севере Греции.
[88]
Периандр из Коринфа
(ок. 660 – ок. 585) считался в Греции одним из семи мудрецов (см.: Гиппий больший, прим. 2). Однако, по некоторым свидетельствам, вместо него значится Мисон (см.: Протагор, прим. 57). Периандру приписывали изречение: «Забота – все», или «Прежде всего – забота».
[89]
Архелай
(? – 399), сын македонского царя Пердикки II
и рабыни (см.: Элиан.
Пестрые рассказы / Пер. С. Поляковой. М.; Л., 1963, XII 43), был деспотом и вместе с тем покровителем искусств. При его дворе жили поэты, музыканты и художники. Там находился, в частности, в последние годы жизни знаменитый греческий трагик Еврипид (480–406), который был вынужден в 408 г. уехать из Афин. В Македонии он написал трагедии «Ифигения в Авлиде» и «Вакханки». Приглашал Архелай и Сократа, но тот отказался (как отказался он и от аналогичных предложений Скопаса Краннонского (Фессалия) и Еврилоха Ларисского). Архелай был убит в 399 г.
[90]
Гиппий,
сын афинского тирана Писистрата,
после смерти отца унаследовал власть в Афинах вместе с братом Гиппархом. Вынужден был покинуть Аттику, когда туда вторглись спартанцы во главе с царем Клеоменом.
[91]
Бакид
– популярный прорицатель из Беотии (имя его Βάκις связано, видимо, с глаголом βάζω – вещать; ср. также лат. vates – прорицатель, поэт, наделенный особым вдохновением). В VI в., во времена Писистрата и его преемников, был известен также Бакидов сборник прорицаний. Геродот с большим доверием относился к прорицаниям Бакида (VIII 20, 77, 96). Сибилла,
или Сивилла, легендарная прорицательница, дочь Зевса, по преданию, обитала в Дельфах. Имя ее стало нарицательным для женщин, якобы наделенных божественным даром пророчества. До Платона дошли сведения о сивилле Эритрейской – Герофиле, жене или сестре бога Аполлона (см.: Кратил, прим. 59). Наиболее знаменитые оракулы Аполлона были в Трое, Кларосе, Колофоне, Дельфах и на Делосе. Вергилию известна сивилла Кумекая в Италии, которую отождествляли с Эритрейской. В «Энеиде» Вергилия (песня VI) она пророчествует Энею великое будущее. Всего древние знали десять Сивилл. Существуют так называемые Сивиллины книги – 14 книг (IX и X не дошли) прорицаний и изречений эллинистического времени (Sibyllinische Weissagungen. Urtext und Obersetzung / Ed. A. Kurfess. München, 1951). Амфилит,
предсказатель из Акарнании, долго жил в Афинах. О его предсказании Писистрату см. у Геродота I 62 // История. В 9 кн. / Пер. и прим. Г. А. Стратановского. Л., 1972. См. также: Алкивиад I, прим. 10.
[92]
Определение типов власти (всего пять) и их видов дает Аристотель (Политика IV 4, 1291b 15‑8, 1295а 24). В тирании
он выделяет три вида. Первые два основаны на законе и добровольном признании власти, которая по существу своему деспотична, третий противоречит желанию граждан и соответствует неограниченной абсолютной монархии. Платон в «Государстве» рассматривает четыре главных типа власти и промежуточные ее формы (VIII 544a‑е). См.: Государство, кн. VIII, прим. 3‑12.
[93]
Пер. С. Я. Шейнман‑Топштейн. Стихи, приписываемые Платоном Еврипиду
(см. прим. 13) не только здесь, но и в «Государстве» (VIII 568b), есть и у Софокла (ок. 496–406): fr. 13 N. – Sn. О том, что подобные стихи имелись у Еврипида, свидетельствуют античные комментаторы (р. 357 Hermann). Однако среди дошедших до нас фрагментов Еврипида их нет.
[94]
Анакреонт
(VI в.), древнегреческий поэт из Ионии (Малая Азия, г. Теос), воспевал легкую, вечно новую любовь, которая пребывает с поэтом вплоть до старости. О собрании фрагментов Анакреонта и их переводах на русский язык см.: Федр, прим. 15. См. также: Гиппарх, прим. 1. О Калликрите, дочери Кианы,
в дошедших фрагментах Анакреонта не говорится.
[95]
Фемистокл
(ок. 525 – ок. 460), сын Неокла, афинский государственный деятель и полководец, был главой партии радикалов в греко‑персидской войне. Он создал сильный морской флот, укрепил Афины, основал гавань Пирей (493), разбил при Саламине мощный флот персов (см.: Менексен, прим. 26). Умер в изгнании (см.: Горгий, прим. 73). Перикл
(ок. 469–429), сын Ксантиппа, знаменитый афинский государственный деятель и полководец, глава партии демократов, способствовал военному и культурному возвышению Афин. При нем Акрополь принял свой классический вид, а время его правления в Афинах, славящееся своим искусством и театром, называется «веком Перикла». Умер от чумы в Афинах в начале Пелопоннесской войны (см.: Плутарх.
Перикл // Сравнительные жизнеописания. Т. 1–2. М., 1961–1963. Т. 1; см. также: Алкивиад II, прим. 1; Менексен, прим. 8, 10 и 11; Горгий, прим. 69.). Кимон
(ок. 504–449), сын Мильтиада (см.: Горгий, прим. 56), видный афинский государственный деятель и полководец времени греко‑персидской войны (см.: Менексен, прим. 28), был одним из основателей морского союза греческих полисов во главе с Афинами. См. также: Горгий, прим. 72.
[96]
Греки называли всех неэллинов, говорящих на чуждом грекам языке, варварами. Последним, как считалось, был свойствен низкий культурный уровень, на чем и основывалось представление о естественном господстве греков над варварами (ср. «Ифигению в Авлиде» Еврипида, где героиня произносит монолог, прославляющий греков перед лицом варваров – троянцев: «Грек – цари, а варвар – гнися! Неприлично гнуться грекам перед варваром на троне», 1400 сл., пер. И. Ф. Анненского). Заметим, что и для египтян, считавших себя «древнейшим народом на свете» (Геродот
112), другие народы, говорящие на своем языке, тоже были варварами (там же II 158). Такую же позицию занимали потом и римляне по отношению к народам, с которыми воевали. Но в дальнейшем, ассимилировав завоеванных варваров, римляне называли так главным образом диких, не покорившихся их силе германцев.
[97]
Ср. Менон 93b – 94е, где говорится, что доблестные люди (Перикл и Фукидид) могут дать своим сыновьям прекрасное образование, но добродетели научить их не могут; а также Протагор 328с, где говорится, что сыновья благородных отцов зачастую отнюдь не похожи на своих родителей. См. также: Критон, прим. 13.
[98]
Из этих слов видно, что Демодок происходит из Анагиры, которую схолиаст относит к дему (округу) Эантида (р. 288 Hermann).
[99]
О Продике
и Горгий
см.: Апология Сократа, прим. 9. Пол‑акрагантец
(из Акраганта, или Агригента) – ученик Горгия вместе с Периклом и Исократом (см.: Евтидем, прим. 58), одно из действующих лиц диалога «Горгий».
[100]
См.: Апология Сократа, прим. 34. О воздействии гения
не только на самого Сократа, но и на его друзей говорится только в «Феаге».
[101]
Хармид, сын Главкона,
дядя Платона, был братом его матери Периктионы. Ему посвящен диалог «Хармид». Немея
– долина в области Арголида на юге Греции (п‑ов Пелопоннес), где находилось святилище Немейского Зевса и где Геракл, по преданию, убил немейского льва. Здесь устраивались общегреческие Немейские игры, участники которых состязались в мусическом мастерстве, пении гимнов, ристании, гимнастике. Наградой служил, по одним сведениям, оливковый венок из священной рощи Зевса, по другим – венок из листьев сельдерея. Греки любили аромат и зелень сельдерея, укропа, петрушки. Народные песни (Poetae melici graeci / Ed. D. Page. Oxford, 1962. Carmina 852, l, 2) и греческая лирика (Сафо) воспевали их наряду с фиалкой и розой (Fr. 191 L.‑Р.). О сельдерее упоминает Пиндар (Nem. IV 88 Snell‑Maehler), который посвятил последнюю из четырех книг своих «Од» победителям на Немейских играх. См. также: Пиндар.
Вакхилид. Оды. Фрагменты / Издание подготовил М. Л. Гаспаров. М., 1980.
[102]
О Клитомахе, Тимархе
и Еватле
других сведений нет.
[103]
О Филемоне, сыне Филемонида,
и Никий, сыне Героскамандра,
других сведений нет.
[104]
Сицилийское дело,
или экспедиция (415–413), – один из драматических эпизодов Пелопоннесской войны (см.: Менексен, прим. 31). Афинский флот из 134 кораблей был отправлен для захвата Сицилии и Южной Италии, чтобы нанести урон Спарте. Несмотря на победу у стен Сиракуз, афинский флот был осажден в гавани спартанскими кораблями (которыми командовал Гилипп) и их союзниками, объединившимися с Сиракузами и другими городами Сицилии. Афинским воинам, а их было около 40 тыс., пришлось отступать сушей, где они, отбиваясь от врагов, умирали от голода и жажды. Почти все воины были перебиты или захвачены в плен и проданы в рабство. Стратеги Никий (см.: Лахет, прим. 2) и Демосфен, проявившие большую самоотверженность и храбрость, были приговорены к смерти и лишили себя жизни накануне казни (см.: Плутарх.
Никий // Сравнительные жизнеописания. Т. 2. Подробнее об этих событиях см.: Фукидид.
История, кн. VI–VII). См. также.: Лахет, прим. 30 и 33.
[105]
О Саннионе
других сведений нет. Фрасилл,
афинский полководец, выдвинулся в 411 г. как защитник демократии. В 410–409 гг. отбил наступление спартанцев на Афины, но в Ионии (Малая Азия) потерпел поражение. Он один из десяти стратегов – участников морского сражения при Аргинузских островах; был казнен в числе других шести стратегов, вернувшихся после победы в Афины (подробнее см.: Апология Сократа, прим. 36). Так как Сократу еще не известна печальная судьба Фрасилла, можно предполагать, что действие диалога происходит между 410 и 406 гг. См. также: Аксиох, прим. 22.
[106]
Аристид, сын Лисимаха
(см.: Лахет, прим. 1), друга и товарища отца Сократа (см.: Лахет 180е), был внуком Аристида, видного полководца и государственного деятеля эпохи греко‑персидских войн, прославленного за бескорыстие, справедливость и скромность (см.: Плутарх.
Аристид // Сравнительные жизнеописания. Т. 1; см. также: Менексен, прим. 27). Фукидид, сын Мелесия
(см.: Лахет, прим. 3), глава аристократической партии, слывший в свое время человеком незапятнанной репутации, был внуком Фукидида, известного полководца и оратора (см.: Лахет, прим. 7). Внуки, однако, вполне заурядные люди, ничем не походили на своих знаменитых дедов. Аристид и Фуквдид вместе с сыновьями Перикла и Фемистокла – действующие лица диалога «Менон». На их примере Платон показывает, что хорошее образование, полученное от родителей, не делает человека доблестным (см.: Менон 93b – 94е, а также прим. 35 и 38). Характерно, что никчемность Аристида и Фукидида служила препятствием воздействию на них даже Сократа и его вещего голоса. Следовательно, действенность гения Сократа зависит от способностей и моральных качеств обучающегося.
[107]
Алкивиад
(ок. 450–403), афинский государственный деятель и полководец, часто менял политическую ориентацию и прибегал к прямым авантюристическим действиям в сложных взаимоотношениях конца V в. между греками и персами, афинянами и спартанцами. Отец Алкивиада Клиний погиб в 447 г., и опекуном мальчика (а также его брата Клиния – см.: Алкивиад I, прим. 27) стал его родственник Перикл (см.: Феаг, прим. 19). Впоследствии Алкивиад женился на сестре известного афинского богача Каллия (см. также: Апология Сократа, прим. 11; Алкивиад I, прим. 8) – сына жены Перикла от первого брака. Алкивиад славился своей красотой (Ксенофонт.
Воспоминания… I 2, 24) и честолюбием. Ксенофонт отмечал также его «невоздержанность, заносчивость, склонность к насилию» (там же I 2, 12). Алкивиад принадлежал к аристократической молодежи, так же как и Хармид (см.: Феаг, прим. 25) и Критий (см.: Хармид, прим. 4), которая посещала и Сократа, и софистов, изучая практику жизненных отношений, ораторское искусство, диалектику и эристику (мастерство спора). Алкивиад питал далеко идущие замыслы, вплоть до государственного переворота. Однако политические обстоятельства сложились таким образом, что в конце концов он был вынужден уйти в изгнание, где и погиб. Алкивиад является действующим лицом диалога «Пир», где он произносит знаменитое похвальное слово Сократу (215а – 222b). См.: Плутарх.
Алкивиад // Сравнительные жизнеописания. Т. 1. См. также: Алкивиад I, прим. 3.
[108]
Эдип,
мифологический герой, сын фиванских царей Лаия и Иокасты, происходил из рода, проклятого богами за нечестие. По воле дельфийского оракула Эдип убивает отца и женится на своей матери. Став владыкой Фив, благополучно правит долгие годы, пока его преступления не раскрываются, так что Иокаста кончает жизнь самоубийством, а Эдип ослепляет себя и уходит из города. У Эдипа и Иокасты было две дочери – Антигона и Исмена и два сына – Этеокл и Полиник. У Еврипида (Финикиянки 66‑68) Иокаста вспоминает, как разгневанный на сыновей Эдип просил богов сделать так, чтобы сыновья мечом стали делить отцовское наследие (см. также прим. 17).
[109]
Борьба за власть в Фивах между сыновьями Эдипа показана в трагедии Эсхила «Семеро против Фив». Оба сына погибают. Последовавшие далее события – воцарение брата Иокасты Креонта, смерть Антигоны, ее жениха Гемона (сына Креонта) и жены Креонта Евридики – представлены в «Антигоне» Софокла.
[110]
Об Архелае
см.: Феаг, прим. 13. Здесь в диалоге явная несообразность. Архелай умер в 399 г., т. е. в год смерти Сократа, когда Алкивиада уже не было в живых, и недавние события, о которых здесь говорит Сократ, никем не могли быть рассказаны юному Алкивиаду.
[111]
Т.е. доносчиков.
[112]
Сократ здесь несколько перефразирует стихи Гомера (Одиссея I 32‑34). Зевс, обращаясь к богам, говорит:
Странно, как люди охотно во всем обвиняют бессмертных!
Зло происходит от нас, утверждают они, но не сами ль
Гибель, судьбе вопреки, на себя навлекают безумством?
Пер. В. В. Вересаева
Сократу важно, что Гомер осуждает дерзость человека, идущего против судьбы.
[113]
Стихи неизвестного автора (см.: X 108 Beckby), пер. С. Я. Шейнман‑Топштейн.
[114]
Орест
убил свою мать, мстя за убийство своего отца (см.: Эсхил.
Орестея; см. также: Феаг, прим. 10; Кратил, прим. 20). Алкмеон,
сын Амфиарая и Эрифилы, убил мать, мстя за смерть отца, которого она против его воли заставила участвовать в сражении (Аполлодор.
Мифологическая библиотека. Л., 1972. См.: III 6, 2; 7, 5).
[115]
О Перикле
см.: Феаг, прим. 19 и Менексен, прим. 8. О его опекунстве см. также прим. 1.
[116]
Стих из трагедии Еврипида «Антиопа» (fr. 183 N. – Sn.). В более полном виде он встречается в «Горгии» (484е). Сыновья Антиопы, Зет и Амфион, защищают: один – жизнь практическую, другой – созерцательную. Амфион, несмотря на свою «непрактичность», воздвиг город Фивы: камни под его музыку сами складывались в стены.
[117]
Здесь цитируется строка из пародийного эпоса «Маргит», однако Сократ вкладывает свой смысл в этот стих, что видно из дальнейшего текста.
[118]
Рассуждения Сократа близки известной мысли Гераклита, что «многознание не научает уму» (В 40 Diels), а также Демокрита – что надо воспитывать в себе «многоумность», а не «многознание» (В 65 Diels).
[119]
Здесь вспоминаются стихи, приведенные выше (143а).
[120]
Аммон,
верховное божество Египта, почитался и греками. В дальнейшем идентифицировался у них с Зевсом. Храмы и прорицалища Зевса Аммона имелись в Олимпии, Спарте, Фивах и других местах. Подробнее см.: Законы, кн. V, прим. 15.
[121]
Гомер.
Ил. VIII 548–552, пер. Н. И. Гнедича.
[122]
Там же, V 127.
[123]
О Креонте
см. прим. 3. Тиресий
– слепой прорицатель в Фивах, сын нимфы Харикло. Юношей он случайно увидел Афину во время купания, был ослеплен ею и в то же время получил от богини дар духовного зрения. С тенью Тиресия, по мифам, беседовал в Аиде Одиссей (Гомер.
Од. XI 90‑137). Тиресий играет важную роль в истории царя Эдипа. См.: Софокл.
Царь Эдип; Антигона; Еврипид.
Финикиянки.
[124]
Еврипид.
Финикиянки 858 сл., пер. С. Я. Шейнман‑Топштейн.
[125]
Креопт
за один день потерял сына, убившего себя после гибели невесты, и жену, с горя покончившую с собой (см. прим. 3).
[126]
Менексен
– сын Демофонта из дема Пэании. Он и его двоюродный брат Ктесипп – персонажи диалога «Лисид» (206d – 207d), где Менексен, друг Лисида, уже выступает как любитель поспорить. Оба брата среди других учеников Сократа присутствовали при его кончине (Федон 59b). Ктесипп встречается и в Евтидеме 273а (см. также: Евтидем, преамбула).
[127]
В зале Совета
заседал Совет пятисот (см.: Апология Сократа, прим. 26).
[128]
В Афинах был обычай – может быть установленный Солоном (см. прим. 50), – ежегодно отмечать память погибших за родину. Историк Фукидид подробно рассказывает об этом торжестве, когда в общей могиле погребали всех павших за этот год на войне, привозя их останки в кипарисовых гробах из разных мест Аттики. Надгробную речь произносил специально избранный для этой цели оратор (II 34).
[129]
Архин,
афинский политик и оратор, вместе с демократами боролся с властью Тридцати тиранов; Дион
– оратор. О них упоминает ритор I в. Дионисий Галикарнасский в жизнеописании Демосфена (Dionysii Halicarnasei opuscula critica et rhetorica. Vol. V–VI / Ed. H. Usener et L. Radermacher. Leipzig, 1899. Opp. I, 23, p. 1027).
[130]
Знаменитые слова Сократа о прекрасной смерти в бою впоследствии в поэзии стали общим местом. Так, Гораций в одной из своих од (III 2, 13) пишет, что «красно и сладко умереть за отечество» (dulce et decorum est pro patrie mori).
[131]
Эти слова – прекрасный пример знаменитой сократовской иронии, которая в данном случае направлена против записных ораторов с их преувеличенно хвалебными речами, производившими на среднего человека неизгладимое впечатление. См. также: Апология Сократа, прим. 24.
[132]
Сократ имеет в виду давнюю вражду афинян
и спартанцев, которых также именовали лакедемонянами (по названию государства – Лакедемон), или пелопоннесцами
(по названию местности – п‑ов Пелопоннес). См. прим. 29 и 31; см. также: Алкивиад I, прим. 32.
[133]
Аспазия,
дочь Аксиоха, знаменитая афинская гетера родом из Милета, славилась не только своей красотой и образованностью, но и незаурядным умом. Перикл, оставив свою жену, мать двоих его законных детей, женился на Аспазии. Судя по всему, Аспазия имела на него большое влияние. Однако после его смерти она вышла замуж за довольно посредственного политика – скототорговца Лисикла, ставшего стратегом (Фукидид,
III 19), но получившего известность в большей мере благодаря не своим достоинствам, а именно супружеству с Аспазией (Плутарх.
Перикл 24). Схолиаст дает любопытную характеристику Аспазии (р.329 Hermann), указывая, в частности (со ссылкой на Диодора), что она «в философии – ученица Сократа», а также (со ссылкой на Эсхина Сократика), что она наставляла Перикла в политических речах.
Вряд ли можно воспринимать как шутку слова Сократа о том, что красноречию его обучала Аспазия (см. прим. проф. Карпова: Сочинения Платона… Ч. IV. СПб., 1863. С. 331), Сократ никогда беспредметно не шутил и не иронизировал. Задачей риторики, как известно, всегда было убеждение. Недаром в «Риторике» Аристотеля этой проблеме отводится важное место, она рассматривается с учетом психологии слушающего и говорящего, а также возрастных особенностей аудитории (II 12‑18). Аспазия с ее тонким знанием общества и людей разных типов и слоев вполне могла советовать, как воздействовать речью на слушателя, сделав слова убедительными. Существует множество свидетельств древних о мудрых женщинах, почитавшихся в Греции (поэтесса Коринна – наставница великого поэта Пиндара (см.: Горгий, прим. 35), женщины‑философы Феано, Тимиха, жрицы Фемистоклея и Аристоклея, многие принципы которых усвоили пифагорейцы). У самого Платона образ Диотимы в «Пире» является своего рода олицетворением женской мудрости. См.: Пир, прим. 73.
[134]
Конн, сын Метробия,
как учитель Сократа в игре на кифаре упоминается также в «Евтидеме» (272cd). Конна любили высмеивать античные комедиографы. Так, Амипсий высмеял его и Сократа в комедии «Конн», где старый кифарист обучает музыке детей, одновременно ведя беседы с Сократом и другими «мыслителями» (φροντιστών: см.: Athen. V 218с; ср.: Диоген Лаэрций
II 28. Ср. также: Аристофан.
Облака 94, где школа Сократа иронически именуется «мыслильней» – φροντιστήριον). В аристофановских «Всадниках» (534 сл.) хор посмеивается над Конном – любителем выпить.
[135]
Лампр,
фиванец, известный музыкант и композитор, упоминается Плутархом в его трактате «О музыке» (гл. 31). В античности вообще и в Афинах в частности чрезвычайно ценились учителя музыки, без которой не мыслилось никакое образование. Так, Платон знает Дамона, который, как и пифагореец Пифоклид, обучал Перикла (см.: Алкивиад I 118 с и прим. 25). Дамон являлся одним из главных авторитетов в музыке. Из его учеников был известен Агафокл (см.: Лахет 180 d). Сократ, как «человек скромный, берет себе в наставники и достаточно скромного, незнаменитого музыканта. Антифонт из Рамнунта
в Аттике, известный оратор и политик, приверженец олигархов, был казнен в 411 г., после восстановления демократии. Ему приписывали в древности до шестидесяти речей и наставлений в риторическом искусстве. До нашего времени из них дошло 15. Антифонт выступал и в качестве логографа, т. е. писал речи на заказ для желавших защищаться в суде. О том, что единственной его политической речью была его собственная защита на суде (после которого его казнили), сообщает Цицерон (Брут 12).
[136]
Прекрасный образец надгробной речи Перикла
можно найти у Фукидида (II 35‑46).
[137]
Т.е. без верхней широкой одежды – хламиды, а может быть, и без гиматия, в одном хитоне.
[138]
Метеки,
жившие в Афинах чужеземцы, не являлись гражданами Афин, их права и обязанности были ограниченны. Они не имели, например, права на покупку земельной собственности в Афинах. Так, Аристотель не мог приобрести в свое владение Ликей, где им была открыта (ок. 335 г.) философская школа, так как был метеком, приехавшим из Стагиры, вблизи Македонии. Ликей был куплен его учеником Феофрастом на свое имя. Зато в Афинах поощрялись занятия метеков ремеслами (со взносом налогов), так как это способствовало укреплению экономики и финансов полиса.
[139]
Имеется в виду миф о споре Афины (см.: Кратил, прим. 64) и Посейдона (см.: Горгий, прим. 81) из‑за владычества в Аттике. Посейдон выбил для афинян своим трезубцем из скалы источники воды, но зато Афина подарила им маслину, что решило спор в ее пользу (Геродот
VIII 55, Аполлодор
III 14, 1).
[140]
По преданию, богиня Деметра (см.: Кратил, прим. 56) обучила аттических царей в Элевсине земледелию, подарив пшеничные
зерна сыну Келея Триптолему и научив его засевать поле (Аполлодор
I 5, 1).
[141]
Правление лучших
– буквальное значение слова «аристократия». Сократ (и Платон), таким образом, понимает афинскую форму правления как власть народа, т. е. демократию, но само демократическое общество состоит из лучших людей и по рождению (они родились на родной афинской земле), и по воспитанию.
[142]
Ко времени Сократа и Платона в Афинах уже несколько сот лет не было басилевсов,
т. е. царей. Последний царь, Кодр, потомком которого считался Платон, жил, по преданию, в XI в. В демократических Афинах существовали выборные архонты (девять человек), занимавшиеся только административной (но не политической) деятельностью. Первый архонт, или архонт‑эпоним (по которому именовался год), имел в своем ведении государственные празднества и все, что касалось семейного права, в частности опеку над вдовами и сиротами; второй архонт – басилевс (называвшийся так в память о давних временах, когда царская и жреческая власть была сосредоточена в руках одного правителя) наблюдал за мистериями и выполнением религиозных законов, а также управлял судебными делами; третий – полемарх ведал культом богов войны и торжественными ритуалами общественных погребений, а также опекал иностранцев. Остальные шесть – фесмофеты – председательствовали в судах (см. также: Апология Сократа, прим. 46).
[143]
О разных формах правления см.: Феаг, прим. 16.
[144]
Речь идет, разумеется, о признании равенства лишь между свободными гражданами. Вопрос о правомерности рабовладения не может ставиться под сомнение ни у Платона, ни у какого иного античного автора. Для них наличие свободных граждан и рабов как бы установлено самой природой. Аристотель в «Политике» писал, что наука «быть господином» не заключает в себе «ничего ни великого, ни возвышенного: ведь то, что раб должен уметь исполнять, то господин должен уметь приказывать» (I 2, 1255b 33‑35). Аристотель признает естественность рабского состояния человека, который даже отличается особым физическим складом и притом «является некоей частью господина, как бы одушевленной, хотя и отделенной частью его тела» (там же 4‑11). Поэтому, несмотря на природное различие между господином и рабом, между ними допускается «взаимное дружеское отношение» (там же 12‑15).
[145]
Евмолп,
по преданию, сын Посейдона, ставший царем в Элевсине, сражался против афинян, которые победили врагов после того, как царь Эрехфей принес в жертву свою дочь. Об этой «элевсинской войне» есть сведения у Фукидида (II 15). Амазонки,
легендарные женщины‑воительницы, обитавшие у озера Меотида (Азовское море) и на реке Фермодонт в Малой Азии, известны своими походами по всей Малой Азии. Афинский царь Тезей вместе с Гераклом (см.: Лисид, прим. 7) ходил походом на амазонок и похитил себе в жены их царицу Антиопу или Ипполиту. Тогда амазонки осадили Афины, но были разбиты Тезеем (Аполлодор.
Эпитома I 16). О том, как после похода семерых вождей афиняне, мстя за погибших аргивян, выступили против кадмейцев,
или фиванцев (см. прим. 45), рассказывает Геродот (IX 27). Гераклидами
называли детей и потомков Геракла, который, совершая подвиги, странствовал по всему свету и имел большое количество любовных связей. Когда царь Аргоса Еврисфей из‑за ненависти к Гераклу потребовал выдачи его сыновей, афиняне отказались это сделать. Тогда Еврисфей вторгся в Аттику, но был разбит Тезеем. Сыновья Еврисфея погибли в бою, а сам он погиб от руки сына Геракла, Гилла, отрубившего ему голову (Аполлодор
II 8, 1‑2). См. также: Алкивиад I, прим. 32. Сократ вспоминает греко‑персидские войны (конец VI в. – 449 г.). Подвиги греков воспел Эсхил в «Персах». Их любовь к свободе он противопоставил рабскому послушанию персов своим деспотичным монархам. Персия представлена в трагедии аллегорически в образе женщины, которая «в наряде рабьем гордо шествует» (183 сл., пер. А. Пиотровского). Первый царь
– Кир Старший, сын перса Камбиса и Манданы, дочери мидийского царя Астиага. У Геродота (I 107–130) и в «Киропедии» («Воспитание Кира») Ксенофонта дан идеализированный образ этого монарха. Сын его,
Камбис, вступил на престол в 529 г., боролся с Египтом (Геродот
III 17‑29), умертвил своего брата Смердиса и сестру, погиб, поранив себя случайно мечом. Третий царь
– Дарий I,
сын Гистаспа, принадлежал к роду Кира, не будучи его прямым потомком. После смерти Камбиса он вступил в заговор с шестью знатными персами и, убив своего соперника, занял престол (Геродот
III 70‑88).
[146]
В 513 г. Дарий I совершил поход на Скифию. Он перешел Дунай, преследовал скифов в степи, но вынужден был возвратиться, так как скифы ослабили войска Дария неожиданными набегами и стычками, во время которых Дарий терпел большой урон, не имея возможности получить подкрепление (Геродот
IV 97‑98; 118–128).
[147]
Датис,
военачальник Дария I, вместе с Артаферном выступил против афинян
и эретрийцев
на о. Эвбея (вблизи Аттики), которые в 494 г. оказали помощь ионийским грекам, восставшим против персов. По Геродоту, у Датиса было 600 триер, когда он овладевал о‑вами Эгейского моря (VI 95‑97).
[148]
Столь же подробный рассказ о событиях греко‑персидских войн, и особенно об эретрийской экспедиции, находим в «Законах» (III 698b‑d).
[149]
Марафон
– город и местность на восточном побережье Аттики, приблизительно в 42 км от Афин. Там в 490 г. знаменитый греческий полководец Мильтиад (см.: Аксиох, прим. 17) одержал победу над персами, разбив войска Датиса (Геродот
VI 106–117).
[150]
По сообщению Геродота, лакедемоняне отказались выступить вовремя, так как был девятый день месяца и они ожидали полнолуния (т. е., согласно верованиям, наиболее благоприятного времени), и потому пришли на помощь афинянам только на следующий день после Марафонской битвы (Геродот
VI 106).
[151]
Саламин
– о‑в вблизи Аттики в Элевсинском заливе. При Сала‑мине в 480 г. произошло знаменитое морское сражение, в котором под предводительством Фемистокла (см.: Феаг, прим. 19) флот греков – по разным сведениям, от 378 до 366 кораблей, из которых 200 или 300 афинских – разбил мощный флот персов, имевших 1207 кораблей (см.: Эсхил.
Персы 338–343; Геродот
VII 89). Артемисий
– мыс на севере о‑ва Эвбея, где в 480 г. произошел бой между греческим флотом и флотом персидского царя Ксеркса (см.: Плутарх.
Фемистокл VIII; Геродот VIII 6‑18; см. также: Алкивиад I, прим. 5).
[152]
Платеи,
город в Беотии (средняя Греция), дружественный Афинам, был разрушен Ксерксом (см.: Алкивиад I, прим. 5). В 479 г. при Платеях произошло знаменитое сражение, в котором участвовали персы под командованием Мардония (около 300 тыс. персов и 50 тыс. союзных войск) и войска греков (около 110 тыс., из которых 8 тыс. афинских тяжеловооруженных воинов) под командованием спартанца Павсания и афинянина Аристида (Геродот
IX 25‑60). Персы были разбиты, Мардоний погиб, а греки после взаимных споров о присуждении наград главному победителю присудили награду самим платейцам, а афинянам и спартанцам воздвигли на поле боя два трофея из отнятого у врага оружия (Плутарх.
Аристид XX). В 427 г. Платеи за свою верность Афинам были вновь разрушены, но уже фиванцами.
[153]
Евримедонт
– река на побережье Малой Азии в Памфилии (между Линией и Киликией). Здесь в 469 г. афинянин Кимон одержал победу над флотом и сухопутными войсками персов (Плутарх.
Кимон XII; Фукидид
I 100). Кипр
и Египет
были во власти персов, и афиняне провели с 462–457 г. ряд экспедиций, чтобы изгнать персов и помочь египетскому царю – сыну того царя Псамметиха, при котором в 525 г. Египет подпал под власть персов. Военные походы афинян были безуспешны. Позже, в 449 г., войска под командованием Кимона осадили захваченный персами (которыми правил царь Артаксеркс) Кипр. Победой греков на Кипре завершаются греко‑персидские войны. Умерший во время осады Кипра 69‑летний Кимон почитался жителями города Кития как герой (Плутарх.
Кимон XVIII–XIX). См. также: Феаг, прим. 19. Согласно миру, заключенному с персами в 449 г., греческим городам в Малой Азии предоставлялась независимость, в то же время грекам запрещалось вмешиваться в дела Кипра и Египта.
[154]
Имеются в виду раздоры между Афинами с их экспансионистской политикой и Спартой. В 461 г. государства разорвали союз между собой, в 457 г. спартанцы вторглись в Среднюю Грецию якобы для защиты Дориды от фокейцев. Перемирие 451 г. и Каллиев мир 445 г. только задержали, но не остановили военные действия.
[155]
Танагра
– город в Беотии на восточном берегу реки Асоп. Здесь в 457 г. произошло сражение, в котором спартанцы победили афинян. Танагре, как союзнице Афин, приходилось достаточно трудно, чтобы уцелеть в борьбе Афин с Фивами, которые подавляли беотийцев,
опираясь на персидские связи и подстрекательство Спарты. Энофиты
– местность вблизи Танагры, где афиняне после поражения, нанесенного им спартанцами, вторглись в Беотию; они разрушили Танагру и взяли заложников (Фукидид
I 108, 3). Танагра также славилась своей терракотой и была родиной поэтессы Коринны (см. прим. 8).
[156]
Великая война
– Пелопоннесская война (431–404) за гегемонию в Греции, которую вели Афины и Спарта вместе со своими союзниками. Война ослабила все греческие полисы и привела к их упадку, что способствовало в дальнейшем македонскому завоеванию Греции. Сфактерия
– остров у берегов г. Пилоса в Мессении. В 425 г. афинские войска осадили на Сфактерии спартанцев. Те направили послов, которым были предъявлены такие позорные условия, на которые лакедемоняне не сочли возможным согласиться. Афинянам пришлось продолжать осаду. Военными действиями руководили демагог Клеон и опытный стратег Демосфен (см. также Феаг, прим. 28). Афиняне успешно овладели Сфактерией, взяв в плен 420 спартанцев. Клеон приписал эту победу одному себе (см.: Фукидид
IV 8‑38, а также: Аристофан.
Всадники 54‑60). Говоря, что после этих событий афиняне заключили мир,
оратор имеет в виду, однако, не перемирие после победы у Сфактерии, а Никиев мир (названный так по имени политического деятеля Никия – см.: Лахет, прим. 2). Он был заключен в 421 г., после сражения в 422 г. при Амфиполе (в Македонии), где афиняне потерпели поражение и где погиб не только возглавлявший афинские войска Клеон, но и предводитель спартанцев Брасид. Таким образом, оратор, желая представить соотечественников в наиболее выгодном свете, о некоторых событиях умалчивает.
[157]
Третья война
– военный поход афинян в Сицилию. Подробнее см.: Феаг, прим. 28. О Леонтинском
посольстве см. там же, прим. 23. Как и положено автору похвального слова, Сократ в своей речи преувеличивает мужество афинян, утверждая, что они якобы удостоились похвал от врагов. На самом деле сицилийская экспедиция афинян вызвала ненависть к ним со стороны сицилийских греков несравненно более великую, чем со стороны варваров – персов.
[158]
Видимо, речь идет о победе афинян над спартанским флотом, помогавшим жителям Хиоса и Лесбоса, которые хотели отложиться от Афин (Фукидид
VIII 9‑14).
[159]
Персидский царь
Дарий II Нот, незаконный сын Артаксеркса I, внук Ксеркса (см.: Алкивиад I, прим. 35 и 5), муж Парисатиды, правил с 424 г. Умер в 404 г., передав власть старшему сыну Артаксерксу II, а не младшему, Киру, который, подстрекаемый матерью, вступил в войну с братом и погиб (см. прим. 41). На сговор с персами подстрекал лакедемонян Алкивиад, изгнанный из Афин (см.: Алкивиад II, прим. 1).
[160]
Речь идет о сражении 406 г. при Митилене
(о. Лесбос), когда афинский флот во главе с Кононом вступил в сражение с флотом спартанца Калликратида и одержал победу. О Кононе см. также прим. 41 и 42. Сограждане,
которые поспешили на помощь
Конону, – те самые десять стратегов, что одержали победу при Аргинузских о‑вах (см.: Апология Сократа, прим. 36).
[161]
Видимо, Сократ упоминает о поражении, нанесенном в 405 г. флоту афинян в 180 кораблей при Эгосопотамах спартанским стратегом Лисандром, который казнил 3 тыс. пленных. См.: Плутарх.
Лисандр XII–XIV; см. также прим. 37.
[162]
Мир
был заключен со Спартой после побед Лисандра. Для афинян он оказался постыдным. Они должны были разрушить гавань Пирей и Афинские, или Длинные, стены, которые на протяжении 7 км соединяли Афины и Пирей (см. также прим. 42), лишались права иметь флот больше чем в 12 кораблей и принуждены были отказаться от своих заморских владений. Со стороны Афин переговоры вел Ферамен как полномочный посол. Он согласился также на изменение государственного строя: демократия была устранена (изгнанным аристократам было разрешено вернуться) и установлена олигархия, или власть Тридцати тиранов. Это и вызвало гражданскую войну
– борьбу демократов против Тридцати тиранов, которую возглавил изгнанный из Афин Фрасибул. В 403 г. он со своими приверженцами вступил в город и на Акрополе принес благодарственную жертву богине Афине.
[163]
После того как Фрасибул занял Филу на границе Аттики и разбил военные силы Тридцати тиранов при Ахарнах, главари олигархии бежали в Элевсин,
под Афины. Здесь они еще упорно держались, но затем вступили в переговоры с афинянами, во время которых и были убиты. Фрасибул занял гавань Пирей, и произошло последнее сражение, в котором погиб Критий, один из самых жестоких олигархов (см.: Хармид, прим. 4).
[164]
Имеется в виду повеление Лисандра уничтожить афинские корабли и срыть стены
города (см. прим. 36 и 37). Варвары – здесь персы (см.: Феаг, прим. 20).
[165]
Речь идет о союзе с Афинами Аргоса, Фив и Коринфа против Лакедемона. Правда, Сократ не упоминает о том, что деньги, на которые содержался этот союз, были предоставлены греческим полисам персидским царем Артаксерксом II, который преследовал свои собственные цели.
[166]
Опять‑таки риторическая гипербола об Афинах, спасших эллинские города и выручивших из беды царя
– Артаксеркса II. Дело обстояло более прозаичным образом и велось очень умело как раз персидским царем, использовавшим взаимную вражду эллинов, чтобы укрепить свое собственное положение. Как говорилось выше (прим. 34), против законного царя Артаксеркса II выступил его младший брат Кир, которому помогали греческие наемные войска. В этом походе участвовал известный в дальнейшем историк и писатель Ксенофонт, передавший события похода в специальном сочинении «Анабазис» (т. е. поход 10 тыс. греков). Кир погиб в битве при Кунаксе (401 г.), а греческие военачальники были вероломно убиты (в том числе Менон, которому Платон посвятил одноименный диалог). Оставшиеся 10 тыс. наемников во главе с Ксенофонтом, отступая, проделали тяжкий путь на родину. Однако спартанцы, помогая греческим городам в Малой Азии, продолжали военные действия против сатрапа Тиссаферна под командованием знаменитого полководца царя Агесилая. Артаксерксу не оставалось ничего, как использовать хитроумную уловку – подкупить греческие города во главе с Афинами, чтобы они бросили вызов Лакедемону и отвлекли войска Агесилая из Малой Азии. Как известно, спартанцы вынуждены были вернуть Агесилая с войском на родину и благодаря ему справились со своими противниками – афинянами (394–392) (см.: Плутарх.
Агесилай). Таким образом, не греческие наемники и так называемые перебежчики спасли персидского царя, а очередная междоусобная война греков, инспирированная персами. Следует отметить, что среди перебежчиков были изгнанные из Афин видные полководцы, как, например, Конон – участник Пелопоннесской войны. В 394 г., сражаясь на стороне персов (см. прим. 42), он разбил флот спартанцев под предводительством Писандра при Книде (Ксенофонт.
Греческая история IV 3, 10‑12; Плутарх.
Агесилай XVII). См. также прим. 35.
[167]
Афинские стены
заново воздвиг полководец Конон на деньги персидского царя (Ксенофонт.
Греческая история VI 8, 9). Флот
также был предоставлен Конону персами в 396 г. Какие же именно военные действия вели Афины в защиту паросцев,
неясно, поэтому данное место берется текстологами под сомнение. Некоторые (например, М. Поленц) полагают, что здесь вообще надо читать «в защиту персов», что, между прочим, соответствует деятельности флота Конона и вообще политике единения Афин и персов в это время.
[168]
Оратор показывает сложную политику персов, которые вмешивались в борьбу Спарты и Афин, преследуя собственную безопасность и укрепление. Персы стремятся ослабить то одну, то другую сторону. Артаксеркс II, видя победы афинского флота над лакедемонянами
и опасаясь возвышения Афин, хочет отторгнуть от союза с Афинами греческие города на побережье Малой Азии (здесь – на материке).
Лишь в таком случае он готов оставаться в союзе с Афинами. Рассчитывая на отказ Афин, Артаксеркс II подготавливал почву для отступления от союза с ними и укрепления взаимоотношений с Лакедемоном. В дальнейшем союзные Афинам малоазийские города по Анталкидову миру (по имени Анталкида – спартанского политика, ведшего переговоры через Тирибаза с Артаксерксом II) были переданы Лакедемоном под власть персов. Таким образом Афины были лишены помощи союзников в Малой Азии и уже не могли успешно вести военные действия. В результате Лакедемон снова обрел власть над греческими полисами.
[169]
Эти горделивые слова сказаны относительно событий, связанных с Анталкидовым миром. Все греки согласились признать последний, так что у царя не было предлога отступиться от них и не давать им денежных субсидий. Таким образом, оказалось, что всякий из полисов, не согласный на условия передачи малоазийских греческих городов персам, немедленно восстанавливал против себя всех (Ксенофонт.
Греческая история V 1, 30‑31). Ксенофонт не упоминает о том, что афиняне не приняли этих условий. Наоборот, он пишет, что «все государства дали клятву… были распущены сухопутные и морские контингенты. Это был первый мир между лакедемонянами, афинянами и союзниками их за всю войну, начавшуюся после разрушения афинских стен» (V 1, 35).
[170]
Афиняне всегда гордились тем, что они автохтоны, т. е. рождены самой аттической землей. Первые аттические цари – Кекроп, Кранай и Эрихтоний были автохтонами, тело Кекропа срослось со змеиным (змея – символ мудрости, коренящейся в глубинах земли) (см.: Аполлодор
III 14, 1; 5‑6). Далее в речи делается намек на чужеземное и даже восточное происхождение основателей других греческих городов, хотя и принимается во внимание, что все они потомки Зевса, как и положено героям. Кадм,
основатель Фив, родом из Финикии, сын Агенора (там же III 1, 1); Египет
и Данай
– родные братья, сыновья Бела из Египта (там же II 1, 4); Пелопс
– сын фригийского царя Тантала (там же III 5, 6). См. также: Гиппий больший, прим. 29; Кратил, прим. 23.
[171]
Лехей
– северная коринфская гавань, соединенная с городом, расположенным в 12 стадиях, двойными стенами. В Лехей были тайно введены лакедемонские войска. Им оказали помощь те коринфяне, которые хотели отомстить союзникам (Аргос, Фивы, Афины), жестоко наказавшим их за нежелание вести военные действия со Спартой. Несмотря на энергичные военные действия союзных войск, победителями оказались все‑таки лакедемоняне.
[172]
Морскую победу над лакедемонянами,
которых возглавлял Писандр, одержал Конон (см. прим. 41). Предводителями афинского флота были также Хабрий и Каллистрад. В 375 г. тяжелое поражение Лакедемону нанес Тимофей, захвативший о. Керкира (Ксенофонт.
Греческая история V 4, 62).
[173]
Один из излюбленных приемов античной риторики – вводить в рассуждения и речи увещевательные и наставительные слова. Так, в «Критоне» Законы государства обращаются с пространным увещеванием к Сократу (50b – 54d), вступая с ним в беседу. В диалоге «Филеб» идет беседа между Удовольствиями, Разумением, Умом и Сократом (63а – 64b). Цицерон в первой речи против Катилины тоже прибегает к этому приему. У него Катилину увещевает мать‑родина, сама Италия (I 7, 18). Здесь погибшие герои обращаются к своим потомкам устами Сократа, будто бы слышавшего еще при их жизни эти слова.
[174]
Это выражение приводит Цицерон в трактате «Об обязанностях», называя его «превосходным» (I 63).
[175]
Это изречение приписывалось одному из семи мудрецов (см.: Гиппий больший, прим. 2), афинскому государственному деятелю и поэту Солону (VII–VI вв.), не раз упоминаемому Платоном. Спартанцу Клеобулу Линдскому приписывали изречение: «Мера – наилучшее» (10, 3 Diels). У Пиндара читаем: «Мудрые не дозволяют ничего говорить излишне, сверх меры» (fr. 35 b Snell‑Maehler). O категории меры в античной эстетике см.: Лосев А. Ф., Шестаков В. П.
История эстетических категорий. М., 1965. С. 13–27. См. также: Лахет, прим. 21; Протагор, прим. 55.
[176]
Забота о семьях погибших возлагалась в Афинах на архонта эпонима (см. прим. 17). Об опеке над сиротами см.: Законы IX 926d.
[177]
Т.е. 18‑летнего возраста, когда мальчики вносятся в списки эфебов («возмужавших»), начинают подготовку к военной службе, знакомятся с общественными делами, приносят гражданскую присягу, несут сторожевую службу на границе. В 20 лет эфебы получают полное вооружение и становятся полноправными воинами и гражданами, поскольку их вносят в список лиц, имеющих право участвовать в народном собрании.
[178]
В словах Менексена содержится намек на то, что Сократ, возможно, и придумал непосредственное произнесение перед ним Аспазией данной речи. Это характерный для Платона прием: если речь была пересказана Сократу третьим лицом, то ряд неточностей, преувеличений, ошибок и т. д. оправдан. Интересно, что утверждение Сократа, который в самом начале диалога говорил, что только вчера услышал эту речь от Аспазии, никак не противоречит скептическому замечанию юноши в конце диалога. В то же время сдержанная похвала Менексена в адрес Аспазии и его слова о самой большой благодарности тому, кто эту речь сейчас перед ним произнес, дают возможность считать автором речи самого Сократа, который прячется за другое лицо, чтобы окончательное суждение собеседника было объективно и чтобы сам сочинитель держал себя свободнее.
[179]
Ликей
– парк и гимнасий при храме Аполлона Ликейского (см.: Павсаний
I 19, 4) в пригороде Афин у Диохаровых ворот, одно из любимых мест отдыха афинян. В Ликее часто бывал Сократ, свидетельства чему находим в диалогах «Лисид» и «Евтифрон», а также у Ксенофонта (Воспоминания… I 10; Домострой XI 15). Уже после смерти Платона (347) Аристотель открыл там (ок. 335 г.) свою философскую школу, тоже носившую наименование «Ликей». Однако в отличие от платоновской Академии (см.: Хармид, прим. 1) земля, на которой находился Ликей, не являлась собственностью Аристотеля (см.: Менексен, прим. 13).
[180]
Сын Аксиоха
– Клиний (см. преамбулу). Аксиох был братом Клиния – отца Алкивиада. Не путать Клиния, участника этого диалога, с Клинием – родным братом Алкивиада, упоминаемым в «Алкивиаде I» (см.: Алкивиад I, прим. 27). Аксиоху посвящен одноименный диалог.
[181]
О Критобуле
см. преамбулу.
[182]
О Евтидеме
и Дионисидоре
см. преамбулу.
[183]
Фурии,
город в Южной Италии (на побережье Лукании), был основан в 443 г. афинскими переселенцами и жителями разрушенного в VI в. г. Сибариса (греческая колония, основанная ахейцами в VIII в.). Среди основателей Фурии был знаменитый историк Геродот. Бегство софистов из Фурии, видимо, было связано с борьбой политических партий: около 411 г. произошло выселение оттуда приверженцев Афин.
[184]
Многоборцами
братья названы иронически. Многоборье – пентатл, или панкратия, – включало в себя бег, прыжки, борьбу, метание диска, метание копья (ср. элегию Симонида Кеосского, где перечисляются все виды многоборья. – Fr. 151 Diehl). Братья же обучали и борьбе в палестре, и словесной борьбе. См. также: Соперники, прим. 11.
[185]
О братьях из Акарнании
сведений не имеется.
[186]
Если братья – ученики Протагора (см. прим. 32), то, следовательно, не такие уж они старцы.
Сократ называет их так не без иронии, намекая на то, что они поздно начали заниматься софистикой, когда перепробовали другие способы заработать.
[187]
См.: Менексен, прим. 19.
[188]
Божественное знамение
– гений Сократа (см.: Феаг, прим. 24).
[189]
О Клиний
и Ктесиппе
см. преамбулу.
[190]
Опять иронический намек на «многоборье» обоих братьев. См. прим. 6.
[191]
Характерное для софистов замечание: обучать не только лучше,
но и скорее.
Именно этим они привлекали многих, так как родители учащихся считали выгодным вносить за учение пусть большую плату, но не длительное время (см. также: Апология Сократа, прим. 9). Искусство,
на владение которым претендуют софисты, – обучение добродетели, арете (αρετή). Исследованию ее посвящен диалог «Протагор». В нем арете отождествляется с искусством управлять государством (320b, 322е, 323ab и т. д.), но, как видно из других сочинений Платона, понимание добродетели у него гораздо более многозначно. Подробнее о разных типах добродетели у Платона см.: Протагор, преамбула. В диалоге «Менон» не только дается критика определения софистами добродетели, как в «Протагоре», но и отмечаются некоторые положительные моменты их интерпретации. Так, среди добродетелей у софистов фигурируют мужество и рассудительность, без которых немыслимы практическая жизнь, мудрость и щедрость человеческой натуры. Сократ добавляет сюда еще один вид добродетели – благочестие, или справедливость (78d). О разных видах софистической добродетели см.: Горгий, прим. 34. В «Государстве» Платона все виды добродетели относятся к сфере добродетели созерцающей, «философской», души и души деятельной (VI 486а‑d) с добавлением великодушия (487а), под которым можно понимать все ту же щедрость человеческой природы (μεγαλοπρέπεια). По всему видно, что претензии лучше и скорее всех привить добродетель – типичное для софистов хвастливое заявление, которое и вызывает дальнейшие иронические слова Сократа.
[192]
В ориг. ε'ρμαιον, букв. – то, что относится к Гермесу, помощнику путников и подателю всего, что встречается человеку на дороге (см.: Хармид, прим. 15). В обычном для него ироническом духе Сократ называет дело софистов находкой
(или сокровищем). Дальнейшее рассуждение – сравнение софистов с богами и персидским царем – продолжение этой иронической игры. См. также: Лисид, прим 9.
[193]
См.: Апология Сократа, прим. 53.
[194]
Софисты были известны своей дерзостью и самонадеянностью. Именно такими изображаются у Платона Гиппий из Элиды («Гиппий меньший», «Гиппий больший») или Фрасимах из Халкедона («Государство») и набравшийся софистической премудрости Калликл («Горгий»). См. также Апология Сократа, прим. 5 и 9.
[195]
Музы
– покровительницы искусства, дочери Зевса и Мнемосины,
богини памяти.
[196]
Ср. рассуждение Диотимы в «Пире» о том, что Эрот не бог (201d – 202e). Боги ни в чем не нуждаются, обладая полнотой бытия, а потому никуда не стремятся. Эрот стремится к прекрасному, которого ему не хватает, значит, он не бог. Здесь, в «Евтидеме», рассуждение о мудрости строится по такой же логике: мудрые обладают знанием, значит, им не надо к нему стремиться, следовательно, учиться должны те, кому не хватает знания, а именно невежды.
[197]
Т. е. софист подобен плясуну,
который, танцуя и выполняя различные па, поворачивается к зрителям то одним, то другим боком. Ниже софистические приемы сравниваются с применением подножки во время борьбы и со злой шуткой, когда у садящегося выхватывают скамейку и он падает навзничь (277с, 278bc). Атмосфера показного и рассчитанного на слушателя мудрствования сравнивается с условной игрой и хороводами таинств посвящения (277е, 278b). Все это не случайные сравнения, а один из любимых в греческой литературе и философии приемов – уподобление жизни космической и человеческой игре, хороводу, хору, сцене. См.: Тахо‑Годи А. А.
Жизнь как сценическая игра в представлении древних греков // Искусство слова. М., 1973.
[198]
См.: Критон, прим. 19.
[199]
Познание мудрости неоднократно сравнивается у Платона с мистерией, с посвящением в таинства.
В «Пире» мудрая Диотима готова посвятить Сократа в «таинства» любви (210а – 212а). Сам Сократ, как легендарные певцы Марсий и Олимп, увлекает тех своих слушателей, «кто испытывает потребность в богах и таинствах» (215с). Ср.: Горгий, прим. 49.
[200]
О Продике
см.: Апология Сократа, прим. 9.
[201]
О разных дистинкциях глаголов, относящихся к области познания, ср.: Аристотель.
Риторика III 10, 1410b 10‑28.
[202]
Ср. Горгий (451е – 452d), где приводится рассуждение о значении разных видов блага
для людей – здоровья, красоты, богатства – в зависимости от профессии того, кто о них судит – врач, учитель гимнастики, делец. В «Законах» (III 697b) имеются блага, относящиеся к душе, к телу и к имуществу.
[203]
Ср. рассуждения в «Протагоре»: «…единственное дурное дело – лишиться знания…» (345b); того, кто «познал хорошее и плохое, ничто уже не заставит поступать иначе, чем велит знание» (352с); «стыдно было бы не ставить мудрость и знание превыше всех человеческих дел» 352d).
[204]
Поговорка; русск. эквивалент: «Типун тебе на язык».
[205]
Карийцы,
жители Карий (Малая Азия), славились своим бесстрашием и в качестве наемных солдат выступали обычно в первых рядах. У греков существовала даже поговорка: «Испытать опасность на карийце». См. также: Лахет, прим. 19.
[206]
Согласно мифу, Медея
погубила царя Пелия, сварив его в котле. Она пообещала вернуть ему молодость и научила дочерей разрубить отца на части и бросить в котел, откуда он якобы вновь появится полный сил (Аполлодор
I 9, 27).
[207]
Имеется в виду миф о состязании в искусстве игры на флейте между Аполлоном и сатиром Марсием.
Победитель Аполлон заживо содрал с Марсия шкуру
(см.: Овидий.
Метаморфозы. М., 1977, VI 382–400; Ксенофонт.
Анабазис I 2, 8).
[208]
Эта мысль принадлежит Антисфену, основателю кинической школы, вначале ученику софиста Горгия (см.: Апология Сократа, прим. 9), а затем близкого к Сократу. Антисфен пытался доказать, что невозможно противоречить (80 А I Diels). У Аристотеля в «Метафизике» читаем: «…Антисфен был чрезмерно простодушен, когда полагал, что об одном может быть высказано только одно, а именно единственно лишь его собственное наименование (λόγος), откуда следовало, что не может быть никакого противоречия, да пожалуй, что и говорить неправду – тоже» (V 29, 1024 b 33 сл.). По Диогену Лаэрцию, первым за Антисфеном это учение развивал Протагор (см. прим. 32).
[209]
См. прим. 30.
[210]
Протагор
из Абдер (480/5 – 410/5), один из основателей софистики, прибыл в Афины в 40‑х гг. и прославился как ритор и учитель красноречия, бравший за обучение огромные деньги. В старости он был обвинен в вольнодумстве, бежал в Сицилию и погиб в бурю (А 3 Diels). Книги его были сожжены в Афинах. Протагор довел диалектику Гераклита до крайностей релятивизма. Тезис софистов «неправое дело выставить правым» или «более слабый аргумент выставить более сильным», по свидетельству Авла Геллия, мастерски применялся Протагором (V 3, 7 // Gelli noctium Atticarum libri XX / Ed. S. Hosius. Leipzig, 1903). Ему принадлежат слова: «О богах я не могу утверждать ни что они существуют, ни что их нет» (80 А 23 Diels), послужившие причиной его изгнания. По свидетельству Секста Эмпирика, Протагору принадлежит также знаменитая релятивистская формула софистов: «Человек есть мера всех вещей, существующих, что они существуют, и несуществующих, что они не существуют» (В l Diels). Жизнеописание Протагора помещено у Диогена Лаэрция (IX 50‑56) и Филострата (Жизнеописание софистов I 10).
[211]
О том, что невозможно произнести ложное мнение, говорится также в «Кратиле» (429cd).
[212]
Титан Кронос
(см.: Кратил, прим. 29) был отцом Зевса, т. е. жил в очень давние времена, и потому образ его являлся как бы символом древности и отсталости (см. также: Аристофан.
Облака 929).
[213]
Протей,
морское божество, обладал пророческим даром и был известен способностью принимать вид разных существ и ускользать таким образом из рук тех, кто пытался его схватить. Здесь он назван египетским софистом,
поскольку Гомер в «Одиссее» (IV 351–370) рассказывает, как, находясь в Египте, Менелай по совету дочери Протея Эдофеи хитростью овладевает этим «морским старцем» и получает от него предсказание своего будущего.
[214]
См. прим. 35.
[215]
Ср. рассуждение в Государстве VII 532b. 533d. Диалектика – это единственно правильный и универсальный метод постижения высшего блага, прочие науки изучают только чувственно‑вещественное его проявление в осязаемом, видимом мире. Диалектиком
же называется тот, «кому доступно доказательство сущности каждой вещи» (534b) (см. также прим. 38). Отметим также, что здесь, в «Евтидеме», Сократ пользуется охотничьей метафорой. Надо сказать, поиски идей, разрешение философских вопросов, выяснение истины часто уподобляются в диалогах Платона, и ранних, и зрелых, охоте (см., напр.: Евтидим 295d, 297b; Лахет 194b; Лисид 204е, 205е, 206а, 216d, 218с; Хармид 166b, 174b). Удовольствие, красота, добродетель, благо, мудрость, истина – все это предмет ловли для философа, как дичь для охотника. По мнению А. Ф. Лосева, «эта „охотничья“ символика является у Платона одним из самых основных способов представить себе отношение идеи и материи» (История античной эстетики. Высокая классика. М., 1974. С. 279. Подробное исследование этого вопроса см. там же. С. 277–293).
[216]
Под царским искусством
Платон понимает диалектику, которая есть не что иное, как искусство управления познанием. Поэтому она сродни искусству управления вообще. Диалектика ведет внутреннее знание человека к высшему благу, а сила и понимание, необходимые для управления государством, должны находиться в душе царя, и ему самому подобает познавательное, а не практическое ремесленное искусство (см. ниже 292cd; Политик 259b – d).
[217]
См.: Эсхил.
Семеро против Фив 1‑3.
[218]
Коринф
был сыном Зевса
и дочери Атланта Электры. Но Коринф также и название города. Пословицу можно понять двояко. С одной стороны, как русский эквивалент – «сказка про белого бычка», т. е. упорное повторение одного и того же: согласно схолиасту (р. 295 Hermann), коринфские послы с завидным упорством уговаривали мегарцев не восставать против них, иначе «восстанет на вас Коринф – сын Зевса!» С другой стороны, из этих высокопарных слов невозможно было понять, о ком идет речь – о герое Коринфе или о самом городе, что, однако, никак не меняло сути дела в отношениях коринфян и мегарцев; ср. русский вариант – «что в лоб, что по лбу».
[219]
Диоскуры
– братья Кастор и Полидевк, сыновья Зевса и Леды По одному из вариантов мифа, Кастор – сын спартанского царя Тин‑дара и, значит, смертен, а Полидевк – сын Зевса – бессмертен. Любовь братьев была так сильна, что, когда Кастор погиб, Полидевк упросил Зевса сделать и его смертным. Ему было позволено проводить день на Олимпе и день с братом в царстве мертвых. Диоскуры считались покровителями спартанцев. Одна из их главных функций – помощь терпящим бедствие, особенно спасение моряков.
[220]
См.: Менексен, прим. 9.
[221]
Сражение с девятиглавой Лернейской гидрой
– второй подвиг Геракла
(см.: Лисид, прим. 7). Вместо одной отрубленной у нее каждый раз вырастали две новые головы. На помощь гидре выполз огромный рак,
который стал кусать Геракла за ногу. Геракл убил рака, а затем призвал на помощь Иолая,
своего племянника, который прижигал шеи гидры горящими стволами деревьев, не давая вырастать новым головам. Затем Геракл зарыл в землю отрубленную голову, которая была бессмертна, и навалил на это место тяжелый камень (Аполлодор
II 5, 2). Раком Сократ иронически называет Дионисодора, который, как известно, приплыл с братом в Афины прямо из моря.
Во время беседы он сидит слева
от Сократа и досаждает ему своими укусами
слева.
[222]
Вероятно, Сократ имеет в виду Ктесиппа. Упоминание Патрокла
(видимо, обращение) в квадратных скобках дается по изданию Барнета.
[223]
Сводные братья Ификл
и Геракл
имели общую мать – Алкмену и разных отцов: Геракл – Зевса, Ификл – Амфитриона. Имена Ификл и Патрокл
не имеют ничего общего, кроме окончаний. Но и этого оказывается достаточным для софистов, чтобы считать их родственниками.
[224]
Сведения о Патрокле,
брате Сократа, нигде больше не встречаются. Судя по дальнейшему изложению, это сводный брат Сократа. Есть предположение, что это тот скульптор Патрокл, о котором упоминают Плиний в «Естественной истории» (XXXIV 8, 19 // S. Plini Secundi naturalis historiae Libri XXXVII / Post L. Jan. Ed. S. Mayhoff. Vol. V. Lipsiae, 1897) и Павсаний (IV 3, 4; Χ 9, 10).
[225]
О Софрониске
см.: Алкивиад I, прим. 34; о Хэредеме
сведений нет.
[226]
Т.е. глуп, как камень.
[227]
Т.е. у тебя не сходятся концы с концами.
[228]
Эллебор
– чемерица (лат. veratrum) – ядовитое растение, в корневищах которого содержатся алкалоиды, оказывающие парализующее действие на нервную систему. В древности применялось для лечения душевных болезней, а также как слабительное и рвотное средство. Едкий порошок из корня чемерицы вызывал чихание. О ядовитом воздействии чемерицы пишет Лукреций (IV 640).
[229]
В Дельфах было много статуй. О каком изваянии
идет речь здесь, неизвестно, может быть, о статуе Аполлона.
[230]
Гермой, сын Хрисаора и Каллирои, великан, состоявший из трех сросшихся тел, владел прекрасными стадами. Геракл угнал их, это был его десятый подвиг, и убил Гериона, пытавшегося его преследовать (Аполлодор
II 5, 10). Бриарей
– великан, один из трех братьев Сторуких, которые помогли Зевсу одолеть титанов, а затем стерегли их, низвергнутых в Тартар (Гесиод.
Труды и дни 717–735).
[231]
Обычай золотить черепа
умерших отцов и приносить им жертвы существовал у исседонов – соседей скифов
(см.: Геродот
IV 26).
[232]
Каждый грек почитал определенное божество как покровителя и прародителя своего рода. Зевс,
верховное божество греческого Олимпа, будучи «отцом богов и людей», как его обычно именует Гомер, является всеобщим прародителем (см.: Алкивиад I 121а и прим. 34).
[233]
По преданию, Аполлон
– отец Иона,
матерью которого была Креуса, дочь афинского царя Эрехфея. Ион был в дальнейшем усыновлен сыном Эллина Ксуфом, женившимся на Креусе (см.: Еврипид.
Ион). Однако, по Аполлодору, Ксуф – родной отец Иона (I 7, 3; ср.: Геродот
VIII 44). Братья Ксуфа, Эол и Дор, считались родоначальниками племен эолийцев и дорийцев, Ион – родоначальником племени ионийцев, а младший сын Ксуфа и Креусы Ахей – ахейцев. Жители Аттики всегда считали себя древнейшими из ионийцев, тем более что, согласно мифу, Ион стал афинским царем и через своих сыновей положил начало четырем ионийским филам. Схолиаст указывает, что существовало две версии мифа о происхождении афинян. По одной афиняне считали, что их предками были сама Гея (Земля) и Аполлон (Солнце) (см. также: Менексен, прим. 45). По другой – они происходят от Иона, сына Аполлона, поэтому Аполлона они именуют родовым (р. 296 Hermann).
[234]
Здесь приводятся древние эпитеты Зевса
и Афины
(см. также: Софокл.
Антигона 487; Пиндар.
Олимпийские оды VIII 16; Пифийские оды IV 167). Последняя искони считалась покровительницей Аттики. В Афинах почитались также Зевс Городской (Полней) – покровитель полиса (Павсаний
I 24, 4) и Аполлон Уличный (Агией) – охранитель улиц (см. схолии к «Осам» Аристофана 875 // Scholia graeca in Aristophanem; Лосев А. Ф.
Олимпийская мифология в ее социально‑историческом развитии // Ученые записки МГПИ. 1953. Т. 72. С. 53–133; он же.
Античная мифология в ее историческом развитии. М., 1957. С. 460–461). См. также: Протагор, прим. 33.
[235]
Под видом хвалебного слова Сократ произносит резко критические суждения в адрес софистики вообще. Оказывается, что весь этот словесный фейерверк спорщиков – явление достаточно заурядное и даже дешевое. Здесь Сократ апеллирует к народной мудрости, перефразируя известную пословицу «прекрасное – трудно», основанную на изречении Солона (подробнее см.: Гиппий больший, прим. 37), а также к стихам Пиндара. Одна из од поэта (Олимпийская I) начинается со слов «наилучшее – вода» (возможно, что здесь намек на учение философа VI в. Фалеса, который считал воду первичной материей, началом всякого бытия. – См.: 41 А 13, 23 Diels).
[236]
Согласно ряду исследователей (Ф. Шлейермахер, Л. Ф. Гейндорф, Л. Шпенгель, О. Апельт, С. Н. Трубецкой), весьма мудрый
незнакомец, беседовавший с Критоном, – видный политический деятель Исократ (436–338). Он прославился и как логограф – автор речей (сохранилась 21 речь), отличавшихся высоким патриотизмом, изяществом стиля и чистотой языка. Характеристика Критоном его собеседника (муж, весьма мудрый в судебных речах, но не оратор; не появляется в судах, но понимает судебное дело и сочиняет речи; не философ и не политик, но в меру заимствующий и в философии, и в политике) действительно может быть отнесена к Исократу. Мнение же о том, что это мог быть логограф Лисий, или Фразимах Халкедонский, или Феодор из Византии (учитель Лисия), вряд ли основательно. Лисий (ок. 445–378), сын Кефала из Сиракуз, знаменитый логограф, писал для своих клиентов судебные речи, в которых прекрасно передавал характер заказчика, его воспитание и манеру говорить. В «Федре» это приятель героя диалога – юного Федра, который читает Сократу речь Лисия о любви. Там же в конце диалога вспоминается «приятель» (по словам Федра) Сократа – Исократ, пока еще молодой двадцатилетний человек. Как бы предвидя будущую славу своего молодого друга, Сократ говорит, что тот не только превзойдет всех в речах, но «божественный порыв» увлечет его к большему, ибо у него благородный душевный склад и в нем «природой заложена какая‑то любовь к мудрости» (279а‑с). Как известно, Исократ, будучи афинским патриотом, выступал против македонского влияния в Афинах и после победы македонцев при Херонее в отчаянии покончил с собой. Платон в «Федре» рисует Исократа высокоблагородным человеком, близким к Сократу. Если считать, что события «Федра» происходят приблизительно в 416 г., а события настоящего диалога около 408 г., то здесь Исократу, свидетелю беседы софистов с Сократом, уже под тридцать. Он, возмужав, стал опытнее и считает себя вправе предупредить Критона о том вреде, который могут нанести Сократу его публичные споры с софистами.
Сцена, которая разыгрывается далее в конце настоящего диалога, полагал Вл. Соловьев (см.: Творения Платона. Т. II. С. 224, прим. 161 и с. 233), добавлена позже. Вряд ли, однако, это мнение обоснованно: сцена эта вполне логична. Критон, старый друг Сократа, обеспокоен наскоками софистов на Сократа. Последний, явно иронизируя, выражает готовность пойти к софистам в обучение, о чем и заявляет всем окружающим. Видимо, Критону известны слухи о том, что некоторые речи самого Сократа обыватели расценивают как нескромные и причисляют его к надоевшим всем софистам, а также обвиняют в предосудительных знакомствах, мыслях и поведении. Критон уверяет Сократа, что мудрый незнакомец правильно порицал стремление рассуждать с софистами перед лицом целой толпы. В диалоге «Критон» его герой опять напоминает Сократу, находящемуся в тюрьме, о силе мнения толпы, с чем Сократ вовсе не желает считаться. Однако в речи перед судьями (Апология Сократа 23е) и Сократ говорит о тех, кто «честолюбивы, сильны, многочисленны и… давно уже прожужжали вам уши клеветой на меня». Критон смущен и запутан всеми обстоятельствами спора, опасаясь помимо всего за воспитание своего сына Критобула, которого он хочет всячески отвратить от софистики и склонить к философии. Как мы знаем, Критобул пойдет за Сократом. И если Критон инстинктивно чувствовал правоту своего друга, то Критобул вполне сознательно остается с Сократом до самого его конца. Переход же к теме воспитания в конце «Евтидема» чрезвычайно характерен как для Платона, так и для его Сократа, который в «Апологии…» (29d – 31е) говорит, что не уставал многие годы воспитывать афинян и считает это главной целью своей жизни.
[237]
Первый стих «Илиады» – «Гнев, богиня, воспой Ахиллеса, Пелеева сына» (пер. Н. И. Гнедича) – сразу указывает на основную тему «Илиады». «Одиссея» же начинается словами: «Муза, скажи мне о том многоопытном муже, который долго скитался…» (пер. В. В. Вересаева), вводя слушателя в тему Одиссеевых странствий.
[238]
Гомеровские поэмы и вообще мотивы Троянского цикла давали в древности обильную пищу для риторических речей и упражнений. Спорили о том, какая из поэм лучше – «Илиада» или «Одиссея»; кем лучше быть – Ахиллом или Одиссеем; кто доблестнее – Аякс или Одиссей; кто хитрее – Одиссей или Паламед; виновна или не виновна прекрасная Елена и т. п. В «Гиппии большем» (286b) Гиппий выступает с речью: «Когда взята была Троя, Нептолем спросил Нестора, какие занятия приносят юноше наилучшую славу». Известны речи Горгия Леонтинского «Похвала Елене» и «Защита Паламеда».
[239]
Гиппий
был известен своим многознайством (за что получил прозвище Полигистор), а также хвастовством и богатством, которое он обрел, взимая большую плату за свои уроки (см.: Апология Сократа, прим. 9). Как и другие софисты, он выступал, состязаясь в красноречии на общегреческих Олимпийских играх (заметим, что Олимпия находится в Элиде, на родине Гиппия). Филострат в «Жизнеописании софистов» (I 11, 1 сл.) сообщает, что Гипиий «прельщал Грецию в Олимпии своими хитросплетениями и хорошо обдуманными речами» (Flavii Philostrati opera auctora / Ed. С. L. Kayser. Bd II. Lipsiae, 1871). Кстати сказать, Гиппий издал список «Победители на Олимпийских играх» (86 В 3 Diels). См. также прим. 7, 8 и 11.
[240]
Нестор
– царь Пилоса, один из героев гомеровских поэм, мудрейший и красноречивейший старец, к мнению которого прислушивались все ахейцы, один из ахейских вождей под Троей.
[241]
См.: Апология Сократа, прим. 9.
[242]
Ил. IX 308–314, пер. Вл. Соловьева с уточнением первой строки С. Я. Шейнман‑Топштейн. Древние комментаторы дали наименование каждой песне гомеровских поэм, исходя из их содержания. В IX песне изображается приход ахейских послов (Аякса, Одиссея и Феникса) к Ахиллу с мольбой,
чтобы он перестал гневаться и возобновил военные действия.
[243]
Гиппий был известен также как математик (см. прим. 8).
[244]
В комментариях Прокла к Евклиду говорится: «Гиппий Элейский сообщает, что он приобрел славу благодаря занятиям геометрией» (86 В 12 Diels). Он, в частности, занимался проблемой квадратуры круга и даже считал возможным ее разрешение с помощью изобретенной им кривой. О его занятиях геометрией, астрономией и теорией музыки см. 86 А 2 Diels.
[245]
См. Апология Сократа, прим. 2.
[246]
Флакончик для масла
– лекиф греки носили на поясе. Маслом натирались в палестрах перед гимнастическими занятиями или после омовения; оно впитывало пот, что было немаловажным во время жары. С помощью особых скребков
очищали перед омовением кожу.
[247]
О превосходной памяти
Гиппия сохранились свидетельства: он. «прослушав 50 слов сразу, воспроизводил их в том порядке, в каком они были сказаны» (86 А 2 Diels).
[248]
По мнению Аристотеля, «вводит в заблуждение… рассуждение в „Гиппии“ относительно того, что один и тот же человек лжив и правдив» (Метафизика V 29, 1025 а 7‑9).
[249]
Ил. IX 312–313, пер. Вл. Соловьева.
[250]
Там же IX 357–363, пер. В. В. Вересаева.
[251]
Там же I 169–171, пер. В. В. Вересаева.
[252]
Там же IX 650–655, пер. В. В. Вересаева. Сократ умышленно изображает Ахилла
лжецом, в зависимости от обстановки говорящим то одно, то другое. В действительности Ахилл не лжет, говоря Одиссею, что готов отплыть на родину после тяжкого оскорбления, а Аяксу – что вступит в бой не раньше, чем Гектор дойдет до ахейских кораблей. Оскорбленный Агамемноном, забравшим его пленницу, Ахилл уклоняется от военных действий, и ахейцы несут потери от осмелевших троянцев. В своем решении не вступать в бой и даже покинуть Трою Ахилл непреклонен. Всем читателям Гомера, в том числе и Сократу, хорошо известна просьба Ахилла к своей матери богине Фетиде, чтобы та умолила Зевса «подать свою помощь троянцам» и тем самым заставить Агамемнона раскаяться (I 408–412). Герой даже готов убить Агамемнона. Страшный гнев настолько ослепляет Ахилла, что он не может владеть собой и уже вытаскивает меч из ножен, но Афина укрощает его властным словом (I 188–211).
Таким образом, в IX песне Ахилл ничуть не лжет, хотя и колеблется «меж двух решений» (I 189). Он отвергает дары Агамемнона и, как и раньше, готов уехать во Фтию, но помнит уговор матери с Зевсом и знает, что богами уже предрешено, что он вступит в битву, когда Гектор дойдет до ахейских кораблей. Сократ упрощает ситуацию, останавливаясь на отдельных, не связанных между собой фактах, т. е. он поступает так, как поступали в своих спорах софисты, и преподносит Гиппию наглядный урок в излюбленной софистами манере. Весь этот пассаж является также пародией на дотошные и скрупулезные комментарии Гомера разных авторов, состязавшихся в оригинальности толкования древнего эпика. Подобный же пример встречается в «Протагоре», где детально рассматриваются стихи Симонида Кеосского (343с – 347а).
[253]
Хирон,
сын Кроноса и нимфы Филиры, мудрый кентавр, был воспитателем героев Ахилла, Ясона, Тесея, Диоскуров и обучил врачеванию Асклепия.
[254]
Эти рассуждения Сократа об умышленной и неумышленной лжи и о том, что правдивый и лжец ничем не отличаются друг от друга, напоминают беседу Сократа и юноши Евтидема (о нем см.: Пир 222b), которую передает в «Воспоминаниях…» Ксенофонт (IV 2, 14‑17). В этой беседе Сократ склоняется к мнению, что наносящий обиду сознательно лучше и справедливее того, кто делает это без умысла. Он признает также, что те, кто не знает прекрасного и доброго, – рабские натуры (см. там же 19‑22). В настоящем же диалоге Сократ до конца выдерживает взятую на себя роль простака, пребывающего в неведении, и позиция его здесь остается неопределенной.
[255]
Ср. рассуждения Аристотеля о добродетели: она не является ни только чистым знанием (επιστήμη), ни только чистой потенцией духа (δύναμις), но внутренним сознанием человека, его достоянием (έξις). – Никомахова Этика I 13, 1103а 9‑10; II 4, 1106а 11‑12; V 1, 1129а 11‑13.
[256]
Т.е. Алкивиад (см. прим. 3 и Алкивиад II, прим. 1).
[257]
Причина божественного свойства
– внутренний голос, или гений, Сократа (ср. 105е). См.: Апология Сократа, прим. 34; см. также схолии (р. 276 Hermann).
[258]
Род,
к которому принадлежал Алкивиад, по отцовской линии вел свое происхождение от Ореста, сына царя Агамемнона, и, следовательно, восходил в конечном итоге к самому Зевсу (см.: Евтидем, прим. 54). Этот прославленный род играл важную роль в истории Афин. Дед Алкивиада, тоже Алкивиад, был отцом Клиния и Аксиоха (см.: Евтидем, преамбула и прим. 2). Клиний, отец Алкивиада, отличился в морском сражении против персов при мысе Артемисий в 480 г. (Геродот
VIII 17). Он погиб в битве при Коронее в 447 г., когда афиняне потерпели поражение от беотийцев. После него остался трехлетний сын (см.: Плутарх.
Алкивиад I). Мать Алкивиада Диномаха (см. 105d) – дочь Мегакла и внучка знаменитого Клисфена (см.: Аксиох, прим. 4), благодаря политическим реформам которого была упразднена тирания сыновей Писистрата. Таким образом, по материнской линии Алкивиад происходит из рода Алкмеонидов (Алкмеон – правнук гомеровского героя Нестора). О Перикле
см.: Феаг, прим. 19.
[259]
Имеются в виду фракийцы и македоняне, обитавшие на севере Греции. Следует отметить, что их правители стремились приобщиться к эллинской образованности (см., напр.: Феаг, прим. 13).
[260]
О Кире
см. прим. 21 к с. 102. Ксеркс,
сын Дария и Атоссы, вступивший в 485 г. на престол, отличался непомерной гордостью и деспотизмом. В годы греко‑персидских войн потерпел поражение от греков при Саламине, Платеях, Микале (485–465). См. также: Менексен, прим. 26 и 27.
[261]
Т.е. Перикл.
[262]
Это единственное место в диалогах Платона, где функция сократовского божества (гения) трактуется не как запретительная, а, наоборот, как разрешающая приступить к действию (см.: Апология Сократа, прим. 34).
[263]
Алкивиад привык
к многословным речам софистов. Он не раз слушал споры, в которых участвовали Протагор и Горгий (см.: Апология Сократа, прим. 9; Евтидем, прим. 32). Так, в «Протагоре» он находится среди гостей, жаждущих послушать приехавшего в дом Каллия (см.: Апология Сократа, прим. 11) Протагора (316а).
[264]
Игре на флейте
Алкивиад не пожелал
учиться потому, что при этом приходится надувать щеки и лицо искажается, что, конечно, не нравилось Алкивиаду, гордившемуся своей красотой. В данном случае он поступил как прекрасная богиня Афина (см.: Кратил, прим. 64), которая по той же причине отвергла флейту, бросив ее на землю; инструмент поднял уродливый сатир Марсий.
[265]
При обсуждении государственных дел в древности принято было выслушивать и прорицателей; в особо важных случаях отправляли послов к Дельфийскому оракулу, существовали даже официальные толкователи прорицаний (см.: Законы VI 759d). Иногда к оракулам обращались и частные лица. Вспомним, например, случай с Херефонтом (см.: Апология Сократа 21аb). См. также: Феаг, прим. 15.
[266]
Сократ не раз прибегает к примеру, где действует учитель гимнастики, дающий советы в палестре. См., напр.: Критон 47b.
[267]
См.: Евтидем, прим. 17.
[268]
Определение гармоничности,
или гармонии, находим в «Филебе» (17с – е), «Софисте» (253b), «Законах» (II 615а). Античные мыслители придавали огромное значение гармонии, исследуя различные ее проявления в искусстве, в жизни человека, в космосе, причем их представление о гармонии отнюдь не исключало, а предполагало наличие диалектического единства противоположностей. Еще Гераклит (VI в.) говорил о гармонии лука и лиры, когда «расходящееся согласуется с собой» (В 51 Diels). Подчеркнем, что даже по чисто музыкальным трактатам видно, что греки применяли представление о гармонии как созвучии, согласии, единомыслии к сфере философии, этики и политических учений (см.: Aristidis Quintiliani. De musica libri III / Ed. R. P. Winnington – Ingram. Lipsiae, 1963). Платоновский космос основан на гармонии сфер, которые представляют собой музыкальную октаву и звучат как хорошо настроенный инструмент (Государство X 616е – 617с). Поздние теоретики искусства следуют классическому пониманию космической гармонии как «согласия неподобных звуков», лежащего в основе тех принципов, по которым была создана лира (M. F. Quintiliani institutiones oratoriae libri XII / Ed. L. Radermacher, V. Buchheit. I–II. Leipzig, 1971).
[269]
Сократ у Платона очень высоко ставит справедливое.
Быть справедливым для Сократа – первое благо, а становиться справедливым – второе. Поэтому и красноречие должно служить справедливости, иначе оно теряет смысл (Горгий 527с). Справедливость, будучи этическим принципом, имеет и эстетическую ценность – она прекрасна (там же 476е). Более того, Сократ включает справедливость (честность) в число видов добродетели, отождествляя ее с благочестием (Менон 78d и прим. 7), что было совершенно чуждо софистам.
[270]
О боге
– Покровителе дружбы,
т. е. Зевсе Филии (Φίλιος), Сократ упоминает и в диалоге «Евтифрон» (6b), а также в «Федре», где прямо сказано: «…ради Зевса, покровителя дружбы…» (234е). В схолии к «Горгию» 500b говорится: «У афинян был эпонимом Зевс Филиос» (О разных эпитетах Зевса см.: Протагор, прим. 31.) И менее всего я хотел бы нарушить такую клятву
– перефразировка стиха Гомера «…напрасно я им никогда бы не клялся» (Ил. XV 39‑40).
[271]
Букв.: «несправедливо поступает». Выражение употреблялось как разговорное «плутует». Ср.: Аристофан.
Облака 25.
[272]
В поэме Гомера «Илиада» изображаются события последнего, десятого года войны ахейцев с троянцами,
начавшейся из‑за похищения троянским царевичем Парисом жены спартанского царя Менелая Елены. Здесь, таким образом, несправедливость, нанесенная ахейцам, влечет за собой войну, цель которой – смыть позор и восстановить попранную справедливость. Разногласия по вопросам справедливости и несправедливости
возникли и среди ахейцев вследствие ссоры вождей Агамемнона и Ахилла из‑за прекрасной пленницы (см.: Гиппий меньший, прим. 16). В «Одиссее» описаны события последнего, десятого года странствий ахейского героя, вернувшегося после Троянской войны домой и вступившего в борьбу с претендентами на руку его жены Пенелопы,
которые, считая Одиссея
погибшим, хотели завладеть его состоянием и властью на о. Итака. Каждая из соперничающих сторон, таким образом, тоже действовала, руководствуясь своими представлениями о справедливости и несправедливости, пока богиня Афина не установила на Итаке мир.
[273]
Упоминаются события Пелопоннесской войны; о битве при Танагре
см.: Менексен, прим. 30, о битве при Коронее
см. здесь, прим. 3.
[274]
Еврипид.
Ипполит 352. Пер. С. Я. Шейнман‑Топштейн. В одной из сцен этой трагедии кормилица спрашивает влюбленную в Ипполита, но боящуюся произнести его имя Федру, в кого она влюблена, Федра уклончиво отвечает, что он – сын амазонки. Тогда кормилица впервые произносит вслух имя Ипполита, и Федра бросает ей в ответ эти слова.
[275]
В ориг. μανικόν (от μανία – сумасшествие, безумие), т. е. незнание здесь приравнивается к безумию. Ср.: Ксенофонт.
Воспоминания… III 9, 6. Сократ признает, что сумасшествие противоположно добродетели, однако незнание (άνεπιστημοσύνην) он не считает сумасшествием. В то же время не знать самого себя или воображать, будто знаешь то, чего не знаешь, по его мнению, очень близко к сумасшествию. См. также: прим. 24 и Хармид, прим. 29.
[276]
В «Меноне» Платон говорит об относительности понятия полезного.
Так, здоровье, сила, красота и богатство, считаясь благами, признаются полезными, но они могут оказаться и вредными для человека и стать для него злом (87е – 88а). В «Горгий» (477а) полезным оказывается прекрасное, являющееся благом. У Ксенофонта выражен более трезвый взгляд на полезное (Домострой 6, 4), он подчеркивает также целенаправленность действия человека (Воспоминания… II 7, 7). Подробнее см.: Гиппий больший, прим. 31.
[277]
Ср. рассуждение Сократа в диалоге «Гиппий больший»: «…если прекрасное есть причина блага, то благо возникает благодаря прекрасному… прекрасное – это своего рода отец блага» (297b).
[278]
Пепарефийцы
– жители Пепарефа, одного из Кикладских островов.
[279]
Сократ полагает, что самое главное – это познание самого себя. Если человек лишен этого познания, то он находится в плену ложных мнений, воображая себя то более богатым, то более красивым и добродетельным, чем он есть на самом деле. В «Филебе», где специально разбирается этот вопрос (48с – 49а), подчеркивается, что люди чаще всего состязаются в «ложной, кажущейся мудрости», которая есть зло. См. также прим. 20 и Хармид, прим. 36.
[280]
Пифоклид,
пифагореец, знаменитый музыкант‑флейтист с о. Кеос (см.: Протагор 316е), изобрел лидийский лад (Плутарх.
О музыке 16). Дамон,
известный музыкант, ученик Пифоклида, изобрел гиполидийский лад, противоположный миксолидийскому, но сходный с лидийским (см. также: Лахет, прим. 22). Подробнее о греческих ладах и ритмических формах см.: Лосев А. Ф.
Античная музыкальная эстетика. М., 1960–1961, а также Государство, кн. III, прим. 52. На авторитет Дамона Платон ссылается в Государстве III 400аb. То, что Перикл, стремясь стать мудрым,
общался с философом Анаксагором (см.: Апология Сократа, прим. 27), не вызывает удивления. Но обучение этому же у музыкантов может показаться современному читателю странным. Однако следует учитывать, что упомянутые музыканты, как и многие другие, одновременно являлись и философами‑пифагорейцами, в учении которых музыка занимала важное место (см.: Протагор, прим. 38). Вспомним, что и Сократ обучался у музыканта Конна (см.: Менексен, прим. 9), который у Платона всегда изображается в окружении философствующих собеседников. См.: Менексен, Евтидем, ср.: Протагор, прим. 24.
[281]
См.: Феаг, прим. 21.
[282]
Клиния
– младшего брата Алкивиада не путать с Клинием – сыном Аксиоха, его двоюродным братом, действующим в диалоге «Евтидем» (см.: Евтидем, прим. 2). Опекун братьев Перикл, опасаясь дурного влияния старшего брата, отдал Клиния на воспитание к Арифрону, но тот вернул его обратно, не зная, что с ним делать (Протагор 320b).
[283]
Пифодор
упоминается в «Пармениде» (126bc) как друг Зенона. Каллий, сын Каллиада
из дема Эксоны, – афинский полководец и политик, которого схолиаст называет «прославленным» (р. 279 Hermann). Он погиб в 432 г. при осаде Потидеи. Зенон
из Элей (Италия) (490–430), философ, ученик Парменида, развивал теорию о едином непрерывном бытии как подлинном предмете мысли. Чувственное бытие, лишенное непрерывности и вызывающее лишь смутные ощущения, немыслимо вообще. Видимо, поэтому Аристотель называет Зенона изобретателем диалектики (А 1, 10 Diels). Знаменитые апории Зенона («Ахиллес», «Стрела», «Дихотомия», «Стадий». – А 25‑28 Diels) парадоксальны с точки зрения чувственного познания мира, которое является недостоверным. В сочинениях Платона Зенон иронически именуется «элейским Паламедом», т. е. необыкновенно изощренным и мудрым человеком. Намекая на апории Зенона, Сократ говорит, что слушателем Зенона «одно и то же представляется подобным и неподобным, единым и множественным, покоящимся и несущимся» (Федр 261d). В диалоге «Парменид» Зенон – зрелый самоуверенный человек, обремененный славой (127а – 128е).
Заключительные слова данной реплики Сократа подчеркивают ее вполне ироничный характер: оказывается, от общения с Периклом никто не становится мудрым, а вот от общения с Зеноном, которому платят огромные деньги за обучение, таковыми становятся просто с необходимостью. Пифодор и Каллий в действительности ничем особенно не проявили себя на поприще мудрости.
[284]
Слова Алкивиада вполне соответствуют тому, что говорил сам Сократ перед своими судьями. Его разоблачение ложной мудрости государственных людей вызвало со стороны афинских политиков неприкрытую ненависть (см.: Апология Сократа 21с‑е).
[285]
См.: Апология Сократа, прим. 53, а также Менексен, прим. 7.
[286]
Афинянин Мидий,
желавший сделать политическую карьеру, был известен своей никчемностью. Он, в частности, увлекался перепелиными боями, что соответствовало дурным и низменным вкусам толпы. О пристрастии афинян к птичьим боям см.: Законы VII 789bc. Аристофан в комедии «Птицы» высмеивает «птицебезумие» афинян (ст. 1290), причем Мидий, по его словам, «напоминает дрозда, ушибленного в темечко» (ст. 1298 сл.). Рабская прическа
– коротко остриженные волосы, что, по общепринятому тогда мнению, вполне соответствовало грубости и невежеству нравов рабов. Схолиаст толкует это место у Платона как поговорку (р. 280 Hermann).
[287]
Цари лакедемонян
вели свой род от потомков Геракла
и его сына Гилла, так называемых Гераклидов, поселившихся в Пелопоннесе, который они считали своим наследственным достоянием. Первыми царями Лакедемона были Прокл и Еврисфей – сыновья Аристодема, правнука Гилла, после них там всегда правили два царя. Цари персов
вели свой род не только от Ахемена
(родоначальника династии Ахеменидов), но и от самого Персея
(по имени которого назван и народ) и его супруги Андромеды, чьим сыном и был Ахемен. В свою очередь Персей был сыном Зевса и Данаи, а Геракл – сыном Зевса и Алкмены, т. е. гераклиды и персы – одного происхождения (см. также: Евтидем, прим. 54).
[288]
Еврисак
– сын героя Аякса и его возлюбленной Текмессы, дочери фригийского царя; Аякс в свою очередь – внук Эака и правнук Зевса. Среди потомков Еврисака кроме Алкивиада насчитывался ряд знаменитых афинян, среди которых Мильтиад, Кимон, историк Фукидид. О роде
Алкивиада см. прим. 3.
[289]
Здесь, возможно, Сократ иронизирует; ср.: Евтидем, прим. 54. Схолиаст приводит мифологическую генеалогию Сократа, согласно которой он, сын скульптора Софрониска и Фенареты, через многих лиц мужского и женского пола, неизвестных по имени, восходит к Дедалу,
который в свою очередь через Евпалама, Метиона, афинского царя Эрехфея и Гею – Землю, впитавшую семя Гефеста,
имеет своими предками Зевса
и Геру (р. 280 Hermann). Возводя свой род к Дедалу – мифическому ваятелю и искусному мастеру (см. также: Ион, прим. 10; Менексен, прим. 45), Сократ поступал так же, как греческие врачи, которые обычно считали своим предком Асклепия и именовали себя «асклепиадами» (ср. род Аристотеля), или певцы – «гомериды», возводившие свой род к Гомеру (см. также: Лосев А. Ф., Тахо‑Годи А. А.
Аристотель. Жизнь и смысл… М., 1982. С. 30). Между прочим, в Аттике был дем Дедалида, что неудивительно, так как Дедал не только был родом из Аттики, но и имел вместе с царем Тесеем одних предков. См. также: Лахет, прим. 10.
[290]
Имеется в виду Артаксеркс I,
который после убийства Артаба‑ном царя Ксеркса
(см. прим. 5) наследовал отцу и в 465 г. вступил на персидский престол; умер в 425 г. Эгина,
остров в Сароническом заливе (Эгейское море), назван по имени нимфы Эгины, дочери речного бога Асопа, которую поселил на этом острове влюбленный в нее Зевс. Сыном Зевса и Эгины был Эак
(см. прим. 33).
[291]
Эфоры,
должностные лица в Лакедемоне (Спарте), представлявшие народное собрание, назначались ежегодно в количестве пяти человек. Они обладали судебной, законодательной, правительственной властью и даже контролировали деятельность царей, т. е. имели большое политическое влияние. По преданию, должность эфоров была установлена Ликургом (см.: Критон, прим. 15).
[292]
Это выражение,
ставшее поговоркой, согласно схолиасту (р. 281 Hermann), принадлежит аттическому комедиографу Платону (конец V – первая половина IV в.), которому приписывали до 30 комедий.
[293]
Воспитание сына персидского царя в идеализированных тонах описывается Ксенофонтом. По его мнению, именно благодаря столь продуманному и тщательному воспитанию ребенка из него в дальнейшем формируется такой выдающийся и разносторонне образованный правитель, как Кир Старший (Киропедия I 2‑6) или Кир Младший (Анабазис I 9).
[294]
Зороастр
(Заратустра) – мудрец, пророк и зачинатель древне‑иранской дуалистической религии, в основу которой он положил мистическое учение о противоборстве Ормузда
(Агурамазды – владыки мудрости) – светлого божества и Аримана – черной силы зла. В греческой традиции Зороастр считался первым магом. Согласно фантастической хронологии Диогена Лаэртского, от Зороастра до падения Трои прошло 5 тыс. лет, а от Зороастра до переправы Ксеркса (480 г.) – 6 тыс., причем маги – преемники Зороастра действовали вплоть до завоевания Персии Александром Македонским (I Вступление 2). Сведения о происхождении Зороастра неясны.
[295]
О воспитателе Алкивиада других сведений нет. Плутарх в биографии Алкивиада (гл. 1) основывается именно на этом упоминании.
[296]
Суждение Сократа о богатстве лакедемонян односторонне. Аристотель в «Политике» указывает, что «одна часть граждан владеет собственностью больших размеров, другая – совсем ничтожной» (II 6, 1270а 15‑18). Мессения,
юго‑западная часть Пелопоннеса, на востоке граничившая с Лакедемоном, подпала под владычество Спарты еще в VII в. и стала независимой только в IV в. Славилась своим плодородием. Илотами,
называли жителей Спарты – потомков некогда побежденного племени. Они не обладали правами свободных граждан, это были государственные рабы, предоставленные в пользование частным лицам, причем в Спарте существовал обычай так называемых криптий – тайного, происходившего по ночам убийства илотов. Плутарх сомневается, что установлением этого обычая Спарта обязана Ликургу. Он называет криптий «гнусным делом» и заявляет, что «в Лакедемоне свободный до конца свободен, а раб до конца порабощен» (Ликург XXVIII). Схолиаст, ссылаясь на Гомера, производит наименование «илоты», «гелоты» (είλωτες) от города Гела в Пелопоннесе. Мнения филологов неоднозначны. К. О. Мюллер считал, что слово образовано от аориста II греческого глагола αίρέω (беру, захватываю): εϊλον, т. е. илоты, – это те, которые захвачены. Ф. Сольмсен возводил слово к исходной форме *e‑Felötes, связывая ее с инфинитивом от глагола άλίσκομαι – άλώναι (быть взятым в плен) с протетической дигаммой (F), так как первоначально илотами звали военнопленных. Я. Фриск приходит к выводу, что ни значение этого слова, ни его этимология неясны (Frisk J.
Griechisches etymologisches Wörterbuch. Heidelberg, 1960. V. Είλωτες, p. 462).
[297]
Имеется в виду басня полулегендарного Эзопа (ок. VII в.) «Лев и лисица» (Corpus fabularum Aesopicarum / Ed. A. Hausrath – H. Hunger. Vol. I. Fase. 1‑2. Leipzig, 1959–1970. Fab. 147). Хитрая лиса опасается принять приглашение льва и посетить его пещеру, так как заметила, что многочисленные следы
животных ведут только внутрь пещеры, но не обратно, и поняла коварное намерение льва.
[298]
Как утверждает схолиаст (р. 282 Hermann), заслуживающий веры человек
– Ксенофонт (см.: Менексен, прим. 41). Однако если действие «Алкивиада I» происходит в канун Пелопоннесской войны (см.: Менексен, прим. 31), то это допущение неверно, так как путешествие Ксенофонта к Киру Младшему имело место в 401 г. Поскольку недостатка в лицах, посещавших персидский двор, не было, вопрос этот не является принципиальным.
Подобные приводимым здесь наименования личных дополнительных доходов, идущих в руки того или иного члена царской семьи, были характерны не только для Персии тех времен. В феодальной Европе были в ходу выражения, близкие этим. О. Апельт (Platon.
Sämtliche Dialoge / Hrsg. von O. Apelt. Bd 3. Leipzig, 1922. S. 222) приводит свидетельство, что королева Испании, будучи одновременно принцессой Пармы и Пьяченцы, предполагала установить там власть своего второго сына дона Филиппа и называла эти города своей «нижней юбкой» (ср. русск.: «дать город на кормление» или деньги «на булавки», подарки «на зубок»).
[299]
Аместрида
(Άμηστρις) – дочь Отана, супруга Ксеркса, мать Артаксеркса I (Геродот
VII 61, 114). Убор Диномахи
стоит 1250–1800 руб. (см.: Апология Сократа, прим. 12). Эрхия
– дем в филе Эантида или Эгеида. Здесь имеется в виду квадратный плетр, т. е. мера плоскости, а не длины. 1 кв. плетр = 10 кв. м (1 плетр = около 1,01 га). Значит, Алкивиад владеет землей в 3 тыс. кв. м.
[300]
Леотихид
(Левтихид) – спартанский военачальник, возглавлявший в 479 г. союзный морской флот греков в битве при Микале (Геродот
IX 90‑92 сл.; 98‑100). Архидам II
(время правления – 468–426 гг.) – спартанский царь, возглавлявший в 431 и 428 гг. поход на Аттику. Первый период Пелопоннесской войны (431–421) назван по его имени Архидамовой войной. В 434 г. (время действия в «Алкивиаде I») Архидам еще не выступал против Афин. Агис I,
сын Архидама и Лампидо, начал править в 426 г.; вместе с Лисандром
(см.: Менексен, прим. 36, 37, 39) в 405 г. осаждал Афины; умер в 397 г. В 434 г. царем еще не был.
[301]
В оригинале γνώθι σεαυτόν. Сократ вспоминает надпись, начертанную на храме Аполлона в Дельфах
(храм принято также называть Дельфийским, или Пифийским, – в память о подвиге Аполлона, убившего чудовищного змея Пифона). Это же самое изречение приписывают одному из семи мудрецов – спартанцу Хилону (10, 3, р. 63 Diels). Оно стало одним из принципов бесед Сократа (см., напр.: Протагор 343 ab и прим. 55). Знаменита была и другая надпись на Дельфийском храме: «Ты еси». Ее философско‑религиозную интерпретацию дает Плутарх в сочинении «Об „Е“ в Дельфах». По его мнению, эта надпись указывает, что божество присутствует и в храме, и в мире.
[302]
Имеется в виду гений Сократа (см.: Апология Сократа, прим. 34).
[303]
В оригинале καλοί κάγαθοί – словосочетание, имеющее терминологическое значение и выражающее неразрывное единство прекрасного (καλός) внешнего облика человека и его хорошей (άγαθός) внутренней сущности. Идеал калокагатии с течением времени менялся: постепенно все большее значение приобретала внутренняя красота. «Кто прекрасен, – читаем у Сапфо, – одно лишь нам радует зрение. Кто хорош – сам собой и прекрасным покажется» (fr. 49 Diehl =
fr. 50 L.‑Р.). И сам Сократ, внешне безобразный, оказывается тем не менее «калокагатийным» человеком. См. об этом: Пир 215а, 217а, а также Протагор 345b – 346с и прим. 47, 50. Подробнее об историческом развитии термина «калокагатия» см.: Лосев А. Ф.
Классическая калокагатия и ее типы // Вопросы эстетики. М., 1960. № 3. С. 411–475.
[304]
Постановщик,
или наставник, хора
– хородидаскал – занимался обучением членов хора (хоревтов) трагедии, ответственность за постановку которой лежала на хореге, бравшем на себя все денежные расходы.
[305]
Тяжелое вооружение
(копье, большой щит, меч, панцирь, шлем, набедренники) – принадлежность пехотинца‑гоплита. В качестве гоплита Сократ участвовал в походе на Делий (см.: Пир 219е – 221а).
[306]
См. прим. 46. Схолиаст приводит в данном месте стихи: «Познать самого себя на словах не великая важность, а на деле это знает один бог» (р. 283 Hermann).
[307]
В оригинале αυτό το αυτό. По Платону, здесь следует подразумевать общее понятие «идеи», или «эйдоса», человека. Только познав эту идею как родовое, общее понятие человека, можно познать каждого конкретного индивида. Ср.: Гиппий больший, прим. 3, где исследуется природа идеи, или понятия, прекрасного.
[308]
О роли души
см.: Горгий 465d. О взаимоотношении души и тела подробнее см. там же, прим. 45. В «Кратиле» душа – причина жизни тела (399е), а тело – могила (σήμα), или знак (σήμα), души (400с).
[309]
Здесь Сократ перефразирует слова, с которыми у Гомера старая нянька Евриклея обращается к сыну Одиссея Телемаху, опасаясь за него: «Ну как ты – любимый, единственный, – как пустишься в дальние земли?» (Од. II 364 сл., пер. В. В. Вересаева).
[310]
Сократ опять перефразирует Гомера, упоминающего в «Илиаде» об афинских воинах под Троей: «Рать здесь была и мужей, населяющих город Афины, край Эрехфея героя» (II 547, пер. В. В. Вересаева). Об Эрехфее
см. прим. 34.
[311]
В угловых скобках Барнет помещает текст, включенный автором III–IV вв. Евсевием (Praeparatio evangelica XI 27, 5 // Eusebii Caesariensis Opera / Rec. G. Dindorf. Vol. II. Lipsiae, 1867), другими переписчиками он опускался как спорный. Зеркала
в античности делались из полированного металла, бронзы, меди или серебра.
[312]
Ср.: «Государство» (IX 571а – 579е), где дана картина становления тирании
на почве извращенной демократии, показана деятельность тирана, качества его души, наклонности. Сократ приходит к выводу, что сам тиран является рабом угодливости и рабства. «Всю свою жизнь он полон страха, он содрогается и мучается, коль скоро он сходен со строем того государства, которым управляет» (579е).
[313]
Ср. «Пир», где Алкивиад утверждает, что, только слушая Сократа, он испытал негодование на свою рабскую жизнь и чувство стыда. Сократ, по словам Алкивиада, воздействует на слушателей, подобно силену или мифическим певцам, покорявшим все живое пением и музыкой (215a – 216d).
[314]
Ср. «Апологию Сократа», где в самом конце своей речи Сократ говорит судьям, что никому, кроме бога, неведомо, что лучше – жить или умереть, а также его заключительную реплику в «Лахете». В этих высказываниях ощущаются уже монотеистические мотивы, язычеству чуждые.
[315]
По распространенному мнению, аист,
став взрослым, заботится о своих родителях.
[316]
В этих словах как бы предсказывается будущая судьба Сократа и Алкивиада.
[317]
Лисимах,
единственный сын знаменитого Аристида (см.: Феаг, прим. 30), ничем не выделялся среди сограждан и вел частную жизнь. Так как отец не оставил ему никакого состояния, афиняне, памятуя о славе Аристида, одарили его сына землей и деньгами, о чем упоминает Плутарх в жизнеописании Аристида (XXVII). Если Аристид родился в 540 г., то Лисимах как старший сын, возможно, родился еще в начале VI в. В диалоге это уже человек преклонного возраста, хотя и имеет совсем юного сына.
[318]
Никий
(ок. 470–413), сын Никерата, родом из дема Кидантиды (фила Эгеида), известный афинский полководец, знатный, богатый и образованный человек, близкий к Сократу, был также выдающимся политическим деятелем и оратором. По его имени был назван мир 421 г. (см.: Менексен, прим. 31). У него был сын (см. прим. 5). Жизнь Никия, необыкновенно удачная (он одержал много побед в Пелопоннесской войне), закончилась трагически (см.: Феаг, прим. 28). См. также прим. 30 и 33; Горгий, прим. 22. Лахет,
сын Меланопа, родом из дема Эксоны (фила Кекропида), известный афинский полководец, возглавлял в 427 г. поход в помощь леонтийцам (см.: Апология Сократа, прим. 9). В 424 г., как указано в преамбуле, он участвовал в битве при Делии. В 423 г. стараниями Лахета было заключено на год перемирие со Спартой, а при заключении мира 421 г. он вместе с Никнем принес положенные клятвы (Фукидид
V 43). В 418 г. он и Никострат выступили на помощь аргосцам и оба пали в битве при Мантинее. Лахет отличался мужеством, бесхитростностью, прямодушием и не особенно доверял учености. Здесь Лахет и Никий только что наблюдали, как демонстрировал свое мастерство воин‑гоплит.
[319]
Мелесий,
сын Фукидида (см. также: Феаг, прим. 30), ничем особенно не выделялся, хотя и был в числе 400 олигархов, пытавшихся в 411 г. совершить антидемократический переворот (Фукидид
VIII 86, 9).
[320]
В Афинах существовал обычай называть старшего сына именем деда.
[321]
Сын
Никия по имени Никерат, образованный и богатый человек, был казнен во время правления Тридцати тиранов (Ксенофонт.
Греческая история II 3, 39). О сыновьях Лахета сведений нет.
[322]
В оригинале συσσιτοΰμεν, т. е. «имеем общий стол», сисситию, что напоминает сисситии, т. е. общие трапезы, спартанцев. На самом деле «общий стол» Лисимаха и Мелесия указывает только на их дружеские семейные связи.
[323]
Отец
Лисимаха, знаменитый Аристид (сын тоже Лисимаха), отличился в битвах при Марафоне, Саламине (на о. Пситталея с конницей) и Платеях. Он принимал участие в реформе Клисфена, играл большую роль в Делосском союзе, контролируя поступление взносов в союзническую казну, а также содействовал уравниванию малоимущих фетов в гражданских правах (Плутарх.
Аристид XXIII–XXIV). Отец
Мелесия Фукидид, будучи родственником Кимона, вождя олигархической группировки, активно участвовал в борьбе партий, возглавляя аристократическую оппозицию Перикла; был даже подвергнут остракизму, но в дальнейшем вернулся и в 440 г. исполнял обязанности стратега. Прекрасный оратор, Фукидид, по свидетельствам, настраивал «свою речь, как музыкальный инструмент…» (Плутарх.
Перикл VIII). Не следует путать этого Фукидида с известным историком, как в прим. 17 к «Феагу» в кн.: Творения Платона. Т. 1. См. также прим. 3. и Феаг, прим. 30.
[324]
См.: Феаг, прим. 30.
[325]
Мелесий и его брат Стефан брали уроки у лучших преподавателей борьбы – Ксанфия и Евдора, обучавших знатную молодежь, так что юноши «в борьбе… превосходили всех афинян» (Менон 94с). Интерес Мелесия и его друга к мастерству гопломахии, следовательно, не случаен.
[326]
Сократ был родом из дема
Алопеки филы Антиохида (см.: Апология Сократа 32b; Горгий 495d). Его земляком
был не только Лисимах, но и Мелесий (ср.: Плутарх.
Аристид, гл. I, где говорится, что Аристид был родом из дема Алопеки).
[327]
См.: Менексен, прим. 10; Алкивиад I, прим. 25.
[328]
Лисимах Младший как старший сын Аристида вполне может быть ровесником и другом Софрониска, отца Сократа, к тому же они земляки (см. прим. 10).
[329]
Платон в «Пире» отмечает, что при отступлении войска от Делил Сократ проявил большее самообладание, чем Лахет, «он… спокойно посматривал на друзей и на врагов, так что даже издали каждому было ясно, что этот человек, если его тронешь, сумеет постоять за себя…» (221b). Заявляя, что город
(Афины) бесславно пал
после поражения при Делии, Лахет образно говорит о том, что Афины перенесли тогда большой позор.
[330]
См. преамбулу, а также Хармид, прим. 1.
[331]
Никий рассуждает здесь как защитник высокого военного искусства, полагающийся на науку.
[332]
Лахет рассуждает как бывалый солдат, не искушенный в хитростях военной науки. При этом он подчеркивает авторитет спартанцев во всем, что касается военной выучки (об отношении в Спарте к другим наукам см.: Гиппий больший 285с‑е).
[333]
Из рассказа Лахета о единичном случае делается, однако, общий вывод, что от гопломахии как науки пользы нет, а если она не наука, то и изучать ее не стоит. Триера
– военное судно с тремя рядами весел. Число воинов‑моряков, эпибатов, на таком корабле было невелико – до 20 человек, в то время как гребцов было до 180. Эпибаты брали вражеское судно на абордаж или метали дротики, стреляли из луков и т. д. В данном случае Стесилай
вооружен копьем с серповидным лезвием, напоминающим алебарду, тогда как при нападении на врага необходимо колющее оружие, т. е. обычное тяжелое копье.
[334]
В оригинале παιδοτρίβης, педотриб, т. е. учитель гимнастики,
который вел практические занятия в палестре, в отличие от учителя‑гимнаста (γυμναστής), обладавшего теоретической подготовкой.
[335]
См.: Евтидем, прим. 27. Схолиаст приводит к этому месту ссылку на поэта Архилоха (VII в.), историка‑логографа Эфора (V–IV вв.) и др. Он указывает, что дешевые рабы были обычно из карийцев
и фракийцев. Поэтому и человек малодостойный – кариец (р. 291–292 Hermann).
[336]
Эта пословица, указывает схолиаст (р. 292 Hermann), применяется к тем, кто, не умея делать простой вещи, прямо обращается к сложной, как если, например, овладение мастерством гончара сразу начать с изготовления пифоса
– большого глиняного сосуда с узким горлом и суживающимся дном (чтобы его удобно было зарывать в землю) для хранения вина, масла, зерна и т. д. Пословица встречается также в Горгий (514е).
[337]
У Солона сказано: «Старея, я постоянно многому учусь» (fr. 22 Diehl). См. также: Менексен, прим. 51.
[338]
См.: Алкивяад I, прим. 13, а также прим. 25. Об этической стороне музыкальной гармонии (лада)
и ритмов см.: Филеб, прим. 14. Лады в античности различались следующим образом: дорийский
считался благородным и сдержанным, фригийский
– экстатичным, лидийский
– жалобным, ионийский
– изнеженным. Для Платона и его любимых героев истинно эллинским является, конечно, дорийский лад, и только он допустим в идеальном государстве (Государство III 398е – 399е). Классические труды античных авторов по гармонии см.: Государство, кн. III, прим. 50; о типах ритмических форм см. там же, прим. 53.
[339]
См. прим. 13.
[340]
У древних бытовало мнение, что скифы и парфяне, убегая, мечут стрелы. Об этом не раз упоминают античные писатели. У Плутарха в жизнеописании Марка Красса (гл. XXIV) скифы даже превосходят парфян в такого рода умении сражаться. Ср.: Вергилий.
Георгики III 34; Гораций.
Оды I 19, 10.
[341]
Ил. V 223 VIII 105–109; Диомед похваляется, что отбил коней у Энея,
«возбудителя бегства» (букв.: умелого в бегстве).
[342]
О битве под Платеями см.: Менексен, прим. 27. Ряды щитоносцев
– перевод выражения προς τοις γερροφόροις. Что именно здесь подразумевается, однако, неясно. Геррофорами называли обычные легкие плетеные щиты персов. Но тогда почему спартанские гоплиты повернули перед ними вспять? Возможно, в данном случае речь идет о чем‑то вроде заграждений (бруствера), хорошо закрепленных в земле, за которыми и находились персы. К такому толкованию склоняется и схолиаст, говоря, что в Аттике укрепления (σκεπάσματα) называли геррами, персы же имели покрытия (σκηνοί), обтянутые кожами в виде заграждений (γέρρα), которые они употребляли вместо щитов, так что те, кто их нес, именовались «геррофоры» (р. 292 Hermann). У Геродота (IX 59‑63) описание боя под Платеями отличается от рассказа Сократа. Зато один из моментов битвы при Фермопилах в изложении Геродота (VII 210 сл.) почти буквально совпадает со словами Сократа.
[343]
Изображение спора как бури
на море не раз встречается у Платона. Ср.: Филеб 29b, Евтидем 293а.
[344]
Схолиаст указывает поговорку
«и собака и свинья это поняли бы» (р. 292 Hermann).
[345]
Кроммионская свинья
– Фейя – чудовище, убитое Тесеем во время его пути к Афинам.
[346]
Ламах,
сын Ксенофана, афинский полководец периода Пелопоннесской войны, был известен смелостью, горячим нравом и бескорыстием. Он участвовал в Сицилийском походе (см.: Феаг, прим. 28) и погиб под Сиракузами в 414 г. Плутарх в жизнеописании Алкивиада (гл. XVIII), говоря о трех стратегах, возглавлявших поход в Сицилию, указывает, что Алкивиад отличался «дерзостью», Никий – «предусмотрительностью», а Ламах, несмотря на свой возраст, был не менее Алкивиада «горяч» и «искал опасностей в сражении». Ламах фигурирует и среди комических персонажей Аристофана (Ахарняне 566–625).
[347]
Лахет происходит из дема Эксоны, а его жители, как считалось, всегда славились злоречием.
[348]
См.: Феаг, прим. 23.
[349]
Сократ намекает на пристрастие Никия к прорицаниям и гаданиям. В будущем Сицилийском походе это приведет к несчастью: вместо решительных действий Никий медлил, прислушиваясь к гаданиям, и упустил важный для армии момент (Плутарх.
Никий XXI, XXIII–XXIV).
[350]
О Никерате
см. прим. 5.
[351]
Телемах советует Одиссею, представшему в виде нищего, обойти пирующих женихов, прося подаяние, ибо «стыд для нищих людей – совсем негодящийся спутник» (Од. XVII 347, пер. В. В. Вересаева).
[352]
См.: Алкивиад I, прим. 59.
[353]
См.: Евтидем, прим. 1.
[354]
Т.е. к архонту‑басилевсу (см. преамбулу).
[355]
Жалоба
имеет характер частного дела (юрид. causa privata), иск же предъявлялся по поводу гражданских дел, связанных с нанесением урона обществу (юрид. causa publica), и потому разбирался на открытом процессе. Греческое наименование иска, γραφή («запись», «донесение»), указывает на то, что иск подавался архонту‑басилевсу оформленным письменно. Дело и Евтифрона и Сократа подлежит юрисдикции второго архонта, так как в конечном счете наносит ущерб интересам общества. Ср.: р. 223 Hermann.
[356]
О Мелете
см.: Апология Сократа, прим. 1. Дем Питфей
относился к филе Кекропида (по схолиасту, Эгеида – р. 223 Hermann).
[357]
Словесный оборот, ставший поговоркой. Очаг
– центр не только каждого дома и семьи, но и государства, поэтому в пританее, здании городского совета, имелся общий очаг города, в котором поддерживался вечный огонь. В представлении греков существовал и мировой очаг – это сама богиня Гестия (εστία – очаг), которая находится в центре космоса, а вокруг нее расположены планеты, носящие имена богов. См.: Тимей, прим. 52.
[358]
См.: Апология Сократа, прим. 34.
[359]
Об отношении к прорицателям см. преамбулу.
[360]
Выражение όμόσε ίέναι, заимствованное из Гомера (Ил. XIII 337), понималось двояко: у риторов – «идти против», у Гомера – «идти вместе». В «Федоне» (95b) Сократ употребляет похожий оборот, говоря: «а мы по‑гомеровски вместе пойдем».
[361]
Поговорка, букв.: «преследуешь летящего», т. е. занимаешься пустым делом. Русск. эквивалент: «Искать ветра в поле». Аристотель в «Метафизике» говорит так в отношении людей, которые только начинают заниматься философией и не могут разобраться в истине (IV 18, 1009b 33‑38).
[362]
Право преследовать убийцу имел только родственник, если убит был раб – его господин.
[363]
Евтифрон в данном вопросе придерживается, скорее, не формально‑юридической, а религиозной точки зрения. Он считает, что самое страшное – осквернение от общения с убийцей, которое требует очищения.
[364]
Речь идет о наемном работнике, так называемом пелате – πελάτης, от слова πέλας – близко, т. е. работающий вблизи, близкий, сотоварищ (см. р. 224 Hermann). Пелаты принадлежали к категории свободных, но бедных арендаторов, или поденщиков,
которые или платили за аренду 1/6 часть дохода, или оставляли себе 1/6 часть, что не совсем ясно. Некоторые из них попадали в почти крепостную зависимость. Афиняне, получавшие в качестве наделов участки завоеванной территории, в том числе и на о. Наксос,
относились к числу клерухов (κλήρος – надел). Они оставались афинскими гражданами, зачастую жили в Афинах, сдавая землю в аренду. Однако, когда Наксос в 405 г. (после поражения афинян при Эгоспотамосе) отложился от Афин, клерухи потеряли землю и вернулись в Афины. Если разговор с Евтифроном происходил в 399 г., то убийство должно было произойти до 405 г. Здесь или анахронизм, или Евтифрон подает в суд на своего отца за убийство, свершившееся уже давно, тем более что дело могло быть передано в суд в течение пяти лет.
[365]
Экзегет
– должностное лицо в Афинах, ведавшее исполнением религиозных обрядов, в том числе обряда очищения убийц. Экзегеты обычно назначались в количестве трех человек.
[366]
Имя Евтифрон
означает «обладающий прямым умом», «прямодушный», «правильно мыслящий», поэтому‑то Евтифрон и считает себя особым человеком.
[367]
Зевс,
одолев в битве своего отца
– титана Кроноса и его родичей – титанов, низринул их в Тартар, где находятся корни земли и моря (Гесиод.
Теогония 729–740). Кронос же оскопил своего отца
Урана и лишил его власти (там же 176–181). См. также: Кратил, прим. 29.
[368]
См.: Алкивиад I, прим. 15.
[369]
Для Сократа подобные мифологические истории чересчур грубы и примитивны, точно так же как и для самого Платона, который иронически и критически относится к «ложным» рассказам Гомера, Гесиода и других поэтов о богах, так как они, по его мнению, мешают воспитанию граждан (Государство II 377а – 383с). См. также: Государство, кн. II, прим. 27 и 39.
На празднестве Великих Панафиней
(Всеафинских), т. е. на третий год каждой Олимпиады от 24 до 29 гекатомбеона (июль – август), когда чествовали Афину Полиаду, покровительницу города, торжественная процессия (πομπή) несла в дар своей богине расшитый пеплос, чтобы совершить обряд ее одевания в храме Эрехтейоне на Акрополе. На пеплосе были вытканы подвиги Афины, битвы с Титанами и Гигантами. Подношение богине приурочивалось к 28 гекатомбеону, т. е. ко дню ее рождения. По преданию, именно на Панафинеях в VI в. была сделана комиссией Писистрата запись гомеровских поэм.
[370]
В оригинале είδος, т. е. эйдос – «вид», «образ», «образец», «род», что в данном случае тождественно идее (ιδέα, ср. выше 5d, ниже 6е). Эйдос – вид и идея (то, что видно) – основные термины платоновского учения об идеях, они выражают структурную особенность предметно‑смысловой цельности каждой вещи, оказываясь видением предметно‑смыслового оформления действительности. Исследование этих терминов см.: Лосев А. Ф.
Очерки античного символизма и мифологии. Т. I. М., 1930. С. 135–281. Излагая учение Платона об умственно‑интуитивном познании идеи, о ее мифологическом и диалектическом понимании, автор дает десятки разных оттенков значений данных понятий. «Эйдос», по подсчетам А. Ф. Лосева, употребляется у Платона 408 раз, «идея» – 96. См. также: Лосев А. Ф.
История античной эстетики. Софисты. Сократ. Платон. М., 1969. С. 533–547. См. также: Гиппий больший, прим. 23.
[371]
Один из характернейших терминов Платона – образец, парадигма (παράδειγμα), т. е. та главная идея, глядя на которую можно конструировать другие идеи или вообще предметный мир. Так, например, есть образец‑парадигма, по которому строится космос в «Тимее» (31аb), или образец для построения государства (Государство VIII 592b), или образец правления и нравов (там же 561е). См.: Лосев А. Ф.
История античной эстетики. Софисты. Сократ. Платон. С. 552–554.
[372]
См. прим. 15. Гефест
– сын Зевса и Геры (см.: Апология Сократа, прим. 25), искусный мастер и бог‑кузнец, в древнейшее время отождествлявшийся с огнем (Гомер.
Ил. II 426, ср. описанную у Гомера борьбу Гефеста с богом реки Скамандром).
[373]
См.: Алкивиад I, прим. 34.
[374]
Тантал
– сын Зевса, фригийский царь, известный своим богатством, он обманул богов, предложив им блюдо, приготовленное из тела собственного сына Пелопа. См. также: Кратил, прим. 26.
[375]
Пер. Вл. Соловьева. По мнению схолиаста (р. 225 Hermann), здесь подразумевается (хотя в этом можно и сомневаться) Стасин Кипрский (VII в.), один из так называемых киклических поэтов, автор «Киприй», где излагались события от свадьбы Пелея и Фетиды и похищения Елены до начала Троянской войны (fr. XXIII 1‑2 Allen).
[376]
Эта сентенция, согласно схолиасту трагедии Софокла «Аякс» (ст. 1074), приписывается знаменитому сицилийскому комедиографу Эпихарму (VI–V вв.), близкому по своим взглядам к пифагорейцам. Фрагменты Эпихарма см.: Diels.
Bd I. Кар. 23; fr. 221 Kaibel).
[377]
См.: Евтидем, прим. 35.
[378]
Академия
– пригород к северо‑западу от Афин, за Дипилонскими воротами, где находились роща и храм, посвященные герою Академу, а в дальнейшем гимнасий и сад, обнесенный стеной, с жертвенниками Музам, Прометею, Эроту и святилищем Афины. Академия была излюбленным местом отдыха горожан. Дорога к ней была обрамлена стелами в честь погибших героев и гробницами знаменитых афинян. В то время, которое описывает в ранних диалогах Платон, в Академии еще не было его собственной школы. Платон купил гимнасий вместе с прилегающим к нему садом по возвращении из первой поездки в Сицилию (389–387 гг.). Его школа получила название Академия платоновская. Здесь, в частности, учился Аристотель. Академия просуществовала до 529 г. н. э., т. е. почти тысячу лет, и была закрыта византийским императором Юстинианом как рассадник языческой мудрости, которой уже не было места в христианском государстве. Поскольку Сократ шел из Академии в Ликей
(на восток от Афин), то более близкий путь вел вдоль северной афинской стены мимо Ахарнских и Диомейских ворот к Диохаровым, за которыми расположен Ликей (см.: Евтидем, прим. 1).
[379]
Окрестности Ликея славились источниками
прекрасной воды. Один из них носил имя аттического героя Панопса. Об источниках чистой питьевой воды за Диохаровыми воротами писал Страбон (IX 1, 19). Гиппотал, сын Гиеронима,
подросток лет 15‑18, искал дружбы с Лисидом и посвящал ему стихи и прозу. Диоген Лаэрций (III 46) упоминает его как Гиппотала Афинского среди учеников Платона. Других сведений о Гиппотале не имеется. О Ктесиппе
см.: Менексен, прим. 1, а также Евтидем, преамбула.
[380]
Софист Микк
исполнял в палестре, видимо, роль учителя красноречия в отличие от педотрибов (см.: Лахет, прим. 18). Однако в «Евтидеме» Платон изображает двух братьев‑софистов, которые одинаково ловко владели обоими искусствами и преподавали их. Судя по тому, что Микку здесь дается положительная оценка, Сократ пока еще не ссорится с софистами и даже имеет среди них приятелей.
[381]
Лисид,
сын Демократа из дема Эксоны, происходит из богатой и знатной семьи. Сократ его совсем не знает, поскольку Лисид еще очень юн и не участвовал в беседах (204е). Он уже недурно играет на лире, умеет писать, читать и знает поэзию. Вместе с тем Лисид робко и всецело находится в руках учителей и воспитателей, беспрекословно слушается отца и мать (208а – 209е). Судя по этим данным, ему, видимо, лет 12.
[382]
О Демократе
других сведений нет; он земляк Лахета (см.: Лахет, прим. 2).
[383]
О Лисиде,
отце Демократа, других сведений нет. См. также Критон, прим. 14 и Феаг, прим. 25. О еще более древних вещах
– букв.: «о еще более современных Кроносу» вещах (см.: Евтидем, прим. 34).
[384]
Геракл
– знаменитый греческий герой, сын Зевса и Алкмены, супруги царя Амфитриона. См. также: Менексен, прим. 20 и Гиппий больший, прим. 28.
[385]
Эта поговорка не раз встречается у Платона (напр., Горгий 527а – «плетут старухи"» Тэтет 176b – «бабушкины сказки»).
[386]
Гермес,
сын Зевса, вестник богов, славившийся изобретательностью ума, считался и покровителем палестр и гимнасиев, ибо слыл зачинателем состязаний (ср. его эпитет «состязатель» – εναγώνιος: Pyth. II Ш Snell‑Maehler). Ему был посвящен (Эсхин 1 10) праздник Гермеи в Афинах (Aeschinis orationes / Ed. Fr. Blass. Ed. 2. Lipsiae, 1908), Аркадии (Павсаний
VIII 14, 10) на Крите. По старинному закону Солона (см. Менексен, прим. 51), на празднества Гермеса в палестрах взрослые не допускались, и дети праздновали его вместе с подростками. См. также: Кратил, прим. 69.
[387]
См.: Менексен, прим. 1.
[388]
В ориг. καλός τε καναδός, т. е. Лисид воплощал полноту калокагатии (см.: Алкивиад I, прим. 48).
[389]
Изречение, выражающее один из жизненных принципов пифагорейцев не раз встречается у Платона (напр., Государство IV 424а, V 449с; Законы V 739с).
[390]
В оригинале παιδαγωγός – педагог, букв.: «ведущий ребенка». Здесь воспитатель – раб, обязанность которого отводить мальчика в школу.
[391]
На лире струны
(обычно семь или восемь) натягивались специальным ключом для настройки, играли же на ней с помощью плектра
– палочки из дерева или слоновой кости.
[392]
Игра слов: φρονέω – разуметь, быть знающим, a μέγα φρονέω – много о себе думать, гордиться собой.
[393]
Ктесипп,
ученик Сократа, был известный спорщик (см.: Евтидем, преамбула). Неудивительно, что Менексен, будучи учеником
Ктесиппа, тоже оказывается спорщиком и человеком весьма искушенным
в свои 13‑14 лет (см. также: Менексен, прим. 1).
[394]
См.: Алкивиад I, прим. 31.
[395]
Богатства персидских царей вошли в поговорку (см. также: Апология Сократа, прим. 53). В данном случае, упоминая сокровища Дария,
Платон, возможно, по предположению Вл. Соловьева (Творения Платона. Т. 1. С. 325), имеет в виду золотые монеты с изображением Дария, так называемые дарики, бывшие в ходу среди греков, что было вполне наглядным примером для детей, с которыми беседовал Сократ. См. также: Апология Сократа, прим. 19.
[396]
Эти стихи принадлежат Солону (fr. 13 Diehl), пер. С. Я. Шейнман‑Топштейн.
[397]
Од. XVII 218, пер. В. В. Вересаева, Ср. Пир 195b, где перефразируется эта гомеровская строка.
[398]
Здесь имеются в виду натурфилософы и, возможно, Анаксагор, автор сочинения «О природе», у которого Ум (Нус) упорядочивает смешение элементов, так называемых гомеомерий, мельчайших материальных частиц (59 А 43 Diels). Аристотель указывал, что «натурфилософы приводят в порядок всю природу, взявши в качестве принципа стремление подобного к подобному» (31 А 20 a Diels). Тот же принцип фигурирует у атомистов Левкиппа (67 А I Diels) и Демокрита (68 А 99 a Diels). На основе этого же принципа взаимодействуют магнит и железо, состоящие из подобных атомов (68 А 165 Diels = 200 Маков.).
[399]
Возможно, здесь имеются в виду известные слова Гераклита: «Неразрывные сочетания образуют целое и нецелое, сходящееся и расходящееся, созвучие и разногласие; из всего одно и из одного все образуется», которые приводятся Аристотелем в подтверждение идеи о том, что «и природа стремится к противоположностям, и из них, а не из подобных вещей (ουκ εκ των ομοίων) образует созвучие» (22 В 10 Diels).
[400]
Труды и дни 25‑26, пер. С. Я. Шейнман‑Топштейн. У Гесиода
речь идет о том, что существуют две Эриды – богини раздора. Одна вызывает войны и вражду, а другая побуждает к труду, причем даже ленивого человека (11‑24). Платон несколько видоизменяет стихи. Приводим эти строки в переводе В. В. Вересаева:
Зависть питает (κοτέει) гончар к гончару и плотнику плотник,
Нищему нищий, певцу же певец соревнует (φφονέει) усердно.
Здесь «зависть» и «соревнование» выражают благую Эриду. Однако в оригинале у Гесиода стоят глаголы κοτέω – питать злобу, гнев (κότος – длительная, подспудно питаемая злоба или гнев), а также φθονέω – завидовать (φθόνος – зависть). Таким образом, или гесиодовское употребление глаголов с очевидной отрицательной нагрузкой не исключает элемента хорошей зависти и соревнования, или в самом тексте Гесиода ощущается некое несоответствие с предшествующими строками, которое переводчик В. В. Вересаев и стремился преодолеть. Однако Платон как раз говорит не о хорошей зависти, а о враждебности подобного подобному и хорошего хорошему. И в этом контексте необходимо перевести стихи, не смягчая значения глагола κοτέω, что и сделано в переводе С. Я. Шейнман‑Топштейн.
[401]
Здесь чувствуются принципы, установленные Эмпедоклом и Гераклитом. Эмпедокл говорит о силе Любви (φιλία) и Вражды (νεΐκος), благодаря которым стихии притягиваются и отталкиваются в своем круговращении до тех пор, пока, «сросшись в единое вселенское целое, не потеряются в нем» (В 26 Diels). См. также фрагменты Гераклита (В 51 Diels) и Алкивиад I, прим. 13. Платон не раз касается этой проблемы. См.: «Пир», речь Эриксимаха о любви, где говорится о том, что «требуется уменье установить дружбу между самыми враждебными в теле началами и внушить им взаимную любовь» (186d), а также прим. 51 о космической гармонии противоположностей. О смешении «противоположных [первоначал]», составивших основу неба, животных и растений см.: Законы X 889с. См. также: Горгий, прим. 61.
[402]
В сочинении Псевдо‑Аристотеля «De mundo» (О мире 5, 396b 7) есть целое рассуждение о том, как «природа стремится к противоположностям» и из них, а не из «подобных вещей» образует созвучие. Здесь приводится множество примеров, обобщающих опыт классической натурфилософии, и в частности Гераклита (В 10 Diels). Мужской пол сочетается с женским, живописец смешивает белые и черные, желтые и красные краски, музыка создает гармонию из высоких и низких, протяжных и коротких звуков, грамматика создает искусство письма из соединения гласных и согласных и т. д. Судя по тому, что Сократ упоминает о «возвышенных выражениях» того, кто учил о влечении противоположных
начал, это действительно могли быть Гераклит, славившийся высокой поэтичностью языка, и Эмпедокл. Идеи Эмпедокла (В 20, 23 Diels), возможно, послужили основой для рассуждений в трактате «О мире».
[403]
Ср.: Аристотель.
Никомахова этика VIII 2, 1155а 28‑31.
[404]
Поговорка, возможно, восходит к поэту‑элегику VI в. Феогниду (fr. 148 Diehl).
[405]
Это рассуждение Сократа о ни дурном ни хорошем,
а среднем (каковой и является в конечном счете именно дружба) перекликается с другими положениями как в ранних (Хармид 161ab, Евтидем 280е), так и в зрелых (Горгий 467е; Пир 202ab) диалогах Платона. В «Пире», например, признается, что между мудростью и невежеством, прекрасным и безобразным, добрым и злым всегда есть нечто среднее. Эрот, бог любви, не прекрасен и не добр, но он не безобразен и не зол, а находится посредине между крайностями (см. преамбулу).
[406]
Рассуждение о том, что обладание полнотой бытия исключает стремление, вполне аналогично объяснениям, которые Диотима дает Сократу в «Пире», рассказывая о природе богов и Эрота.
[407]
См.: Евтидем, прим. 37.
[408]
Здесь перед нами уже вполне отчетливое положение о существовании некоего первоначала,
или «того, что первое» – εκείνο το πρώτον, т. е., собственно говоря, речь идет о наличии высшей идеи блага, блага самого по себе, ни на чем не основанного, того, что называется Платоном «беспредпосылочным началом» (αρχή άνυπόΦετος), вполне автаркичным и ни в чем не нуждающимся абсолютом (см.: Лосев А. Ф.
История античной эстетики. Софисты. Сократ. Платон. С. 621–634). У Аристотеля аналогом этого абсолюта явится «идея идей», «перводвигатель» – πρώτον κινοΰν, Ум‑Нус, сам от себя зависящий и испытывающий высшее блаженство в созерцании самого себя (см.: Лосев А. Ф.
История античной эстетики. Аристотель и поздняя классика. М., 1973. С. 38–70). У неоплатоников этим первоначалом станет Единое, которое выше ума (см.: Лосев А. Ф.
История античной эстетики. Поздний эллинизм. М., 1980. С. 677–696).
[409]
Цикута
(лат. – cicuta virosa или conium maculatum, греч. – κώνειον, русск. – болиголов) – ядовитое растение, семена которого растирались для получения яда. В Афинах употреблялось для казни осужденных на смерть (см.: Федон 115а – 118а – о казни Сократа; Ксенофонт.
Греческая история II 3, 56 – о казни Ферамена).
[410]
Слова Сократа о вожделении к тому, в чем кто‑то нуждается
(ενδεές), соответствуют рассуждению в «Пире».
[411]
В оригинале οΐκείον – родственное, свое. Сократ хочет сказать, что человек ищет в дружбе нечто ему родственное, свое. Поэтому и далее он утверждает, что друзья по своей природе «родственны» (οικείοι) друг другу, т. е. они «свои». Именно это «свое», которого ему недостает, ищет стремящийся к дружбе.
[412]
Родственное,
или «свое», тождественно
благу потому, что стремление обладать в дружбе «своим» есть не что иное, как стремление обладать благом (ср. Пир 206b, где любовь – всегда любовь к благу).
[413]
Рабы, сопровождавшие детей, часто были варварами и плохо говорили по‑гречески. То, что рабы перепились,
характерно, по мнению грека, как раз для варваров.
[414]
Сократ участвовал в осаде Потидеи
(город в Македонии, принадлежал Коринфу), т. е. в тех военных действиях, которые послужили началом Пелопоннесской войны (см.: Менексен, прим. 31). В общей сложности осада длилась с 432 по 429 г. См. также: Апология Сократа, прим. 32.
[415]
Посейдон Таврий,
т. е. Посейдон Бычий, или Бык (ср.: Scut. 104 Rzach). Этому морскому божеству, брату Зевса, приписывали буйный нрав, его именовали также «колебателем земли» и «синекудрым». Бык – одна из древних зооморфных ипостасей Посейдона (так же как, впрочем, и Зевса и Диониса). В мифе о Тесее и в критских мифах Посейдон высылает из моря быка, который оказывается причиной многих бедствий. Согласно легенде, Посейдон спорил с Афиной из‑за господства в Аттике (см.: Менексен, прим. 14), и то, что палестра
названа его именем, совершенно естественно в Афинах. Кроме того, здесь, видимо, имеет место игра слов: Сократ является невредимым из‑под Потидеи – города, имя которого связано с Посейдоном (ср. варианты имени бога – Ποτειδας, Ποτιδας), и сразу направляется в палестру, носящую имя этого грозного божества. Царский храм – храм архонта‑басилевса (см.: Менексен, прим. 17).
[416]
См.: Алкивиад I, прим. 10.
[417]
Критий,
сын Каллесхра,
двоюродный дядя Платона по матери, будущий глава Тридцати тиранов, погибший в 403 г. (см.: Менексен, прим. 38), был известен как образованнейший человек, софист и поэт. Критий выступает в диалогах Платона «Тимей», «Критий», «Хармид», «Эриксий» (подлинность этого последнего сомнительна). Ксенофонт писал о нем: «Критий при олигархии превосходил всех корыстолюбием, склонностью к насилию, кровожадностью» (Воспоминания… I 2, 12). Фрагменты его сочинений см.: Diels.
Bd II Кар. 88; в русск. пер.: Маковельский А.
Софисты. Вып. 2. Гл. X. Каллесхр
– брат Главкона; оба они сыновья Крития Старшего (см. прим. 16), отца матери Платона Периктионы.
[418]
Хармид
(см.: Феаг, прим. 25) поддерживал Крития в политической борьбе; они погибли в одном сражении (Ксенофонт.
Греческая история II 4, 19; Воспоминания… III 7). См. также прим. 4.
[419]
Характерно замечание Сократа, что Хармиду подобает
(πρέπει), иметь достойную душу. Подобающее, подобное (πρέπον) несет у Платона эстетическую нагрузку, означая нечто соответствующее другому и создающее органичное единство целого. Благодаря подобию все части целого оказываются взаимосвязанными лучше, удобнее, прекраснее. В прекрасном теле обязательно присутствует подобие.
[420]
Хармид, если судить по дальнейшей характеристике (157е – 158а), является образцом старинно‑аристократической калокагатии. Род его древний, знатный, доблестный, величавый и благополучный. См.: Лосев А. Ф.
История античной эстетики. Софисты. Сократ. Платон. С. 288–294. См. также: Алкивиад 1, прим. 48.
[421]
Душа и ее способности раскрываются с помощью диалектической беседы, так же как в упражнениях телесных раскрываются физические способности человека.
[422]
В этой характеристике юного Хармида чувствуется легкая ирония. Хармид, видно, любит порассуждать на высокие темы. Заметим, однако, что представители рода Крития, Хармида (и, добавим, Платона) были талантливыми и одаренными людьми (вспомним знаменитого Солона, да и сам Критий – поэт). Нет ничего удивительного, что Хармид не чужд поэзии.
[423]
См.: Менексен, прим. 50.
[424]
Кидий
– мелический поэт, упоминаемый также у Плутарха в сочинении «О лице, видимом в лике Луны» (см.: Филологическое обозрение. 1894. Т. VI. Приложение. С. 1–41) наряду с Архилохом, Мимнермом, Стесихором и Пиндаром. Цитата из Кидия в рукописях диалога приводится по‑разному. См. также: Ион, прим. 13.
[425]
Залмоксид
(Залмоксис, Замолксис, Салмоксис), легендарный ученик Пифагора, бывший раб, фракиец, гет или скиф, распространил, вернувшись на родину, пифагорейское учение и за свою праведную жизнь почитался бессмертным (Геродот
IV 95). Диоген Лаэрций (VIII 1, 2) со ссылкой на Геродота сообщает, что Залмоксиса геты почитали Кроносом и приносили ему жертвы.
[426]
О единстве целого
и частей
см.: Теэтет 204а – 205b. Это единство мыслится не механическим, а диалектическим: целое обладает новым качеством по сравнению с частями (Софист 245а). Поэтому представление об организме как целостном единстве дает возможность лечить не симптомы, больше проявляющиеся в отдельных частях тела, а саму болезнь.
[427]
В древности верили, что заклинаниями
можно лечить болезни. Это представление основано на действительном наблюдении: определенным образом подобранные слова, воздействуя на психику, помогают больному справиться с физическим недугом. Лекарь – тот, кто правильно подбирает слова (корень слова «лек» указывает на выбор чего‑то и затем собирание в целое, т. е. на произнесение и чтение вслух); лечить – воздействовать с помощью правильно подобранных слов (ср. лат. lego – читаю, собираю, elegans – избранный и т. д.).
[428]
Даром Гермеса
считались неожиданные находки, свидетельствующие о том, что бог посылает путникам удачу. См.: Евтидем, прим. 14.
[429]
Здесь упоминается внук Дропида Критий
Старший, который фигурирует в «Тимее», где он рассказывает со слов своего родича Солона
историю Атлантиды, слышанную им еще мальчиком (21а – 25(1). Дропид именуется у Диогена Лаэрция (III 1, 1) братом Солона (см.: Менексен, прим. 50). Стихи Солона, посвященные Критию, см. fr. 12‑14, 18‑20 Diehl. Об Анакреонте
см.: Феаг, прим. 18.
[430]
Пириламп,
сын Антифонта, был вторым браком женат на сестре Хармида Периктионе, матери Платона. Он, таким образом, муж сестры Хармида, его зять. Этот Пириламп имел сына Антифонта, о котором идет речь в «Пармениде» (126b – 127d). Пириламп упоминается Плутархом как друг Перикла (Плутарх.
Перикл XIII).
[431]
Абарис,
скиф или гипербореец,
жрец Аполлона, получил, по преданию, от Аполлона золотую стрелу, с помощью которой летал по воздуху. Считался чудотворцем, пророком, целителем, аскетом (Геродот
IV 36).
[432]
В оригинале όμοια γράμματα – одинаковые (подобные) буквы,
здесь – одинаково хорошо написанные буквы.
[433]
См.: Лахет, прим. 35.
[434]
Ср. «Тимей» (72а), где вспоминается старая пословица: «лишь рассудительный в силах понять сам себя и то, что он делает». Судя по дальнейшему изложению (164d), рассуждение о «своем» деле Хармид, возможно, слышал от Крития.
[435]
В ориг. πράττειν и ποιείν. Если вспомнить, что в «Никомаховой этике» (VI 4, 1140а 1‑23) Аристотель различает πράξις (творческая деятельность) и ποίησις (делание), становится ясно, что в творческом действии совпадают деятельность и ее цель, а в обычном действии процесс делания мыслится вне его связи с результатом. См. также прим. 23.
[436]
В ориг. ποιειν и έργάζεσθαι. Ср.: Гиппий меньший 373de.
[437]
Ср.: «Нет никакого позора в работе: позорно безделье» (Труды и дни, 311).
[438]
Страсть софистов к тончайшим дистинкциям в толковании близких по значению слов или синонимов сказывается также в рассуждениях в «Гиппий большем» о «пригодном» и «полезном» (см.: Гиппий больший, прим. 31) и в «Протагоре» о различии между «быть» и «стать» (см.: Протагор, прим. 50).
[439]
См.: Алкивиад 1, прим. 46.
[440]
Русскому приветствию «здравствуй» (пожелание здоровья, ср. лат. salve) соответствует греческое χαίρε – «будь весел» и «будь радостен» (пожелание хорошего настроения).
[441]
См.: Менексен, прим. 51. Схолиаст (р. 290 Hermann) сообщает, что второе из этих изречений было начертано в Дельфах. В оригинале «беде» соответствует ατή – ослепление, приводящее к гибели. У Гомера Ата – богиня несчастья, дочь Зевса. О ней см.: Пир, прим. 64.
[442]
Для Сократа характерно смешение понятий «искусство», (τέχνη) и «наука» (επιστήμη). По Платону, и то и другое достигается с помощью обучения и научения, так что и науке и искусству противопоставляются вдохновение и божественное безумие (μανία), о чем идет речь в «Ионе», где рапсод Ион именуется «божественным, а не искусным хвалителем Гомера» (542а).
[443]
На пиршествах третья
(«совершенная» – см.: Филеб, прим. 59) чаша приносилась в жертву Зевсу Спасителю
(Сотеру). Это выражение не раз встречается у Платона как образное: собеседники делают третью, окончательную попытку выяснить вопрос.
[444]
Здесь обсуждается диалектика отношений одного и иного, характерная для диалога «Парменид» (137с – 166с).
[445]
Здесь обсуждение некоего абстрактного понятия свидетельствует о начале формирования учения Платона об идеях. Знание знания, т. е. знание, сознающее себя как знание, есть не что иное, как идея знания, т. е. знание в чистом виде. Таким образом, здесь налицо попытка найти идею софросины, или «рассудительности», которая и является наукой наук, или «способностью знать вообще», а «знание чего именно» (170d) в отдельности, иначе говоря, конкретное знание отдельных сфер человеческой деятельности, к этому отношения не имеет. Как говорит Сократ, человек, обладающий идеей софросины, не обязан разбираться в многообразии практических наук, ибо всему, что он изучает, он предпосылает знание знания.
[446]
Здесь имеется в виду известное место из «Одиссеи» (XIX 564–567), где Пенелопа говорит еще не узнанному ею мужу об обманчивых и истинных снах. Первые проходят через ворота из слоновой кости, а вторые – через роговые ворота. У Гомера чувствуется в стихах игра слов, которая не всегда передается переводчиками. Она хорошо выражена в переводе В. В. Вересаева:
Те, что летят из ворот полированной кости слоновой,
Истину лишь заслоняют и сердце людское морочат;
Те, что из гладких ворот роговых вылетают наружу,
Те роковыми бывают, и все в них свершается точно.
[447]
В ориг. τέλος του ευ πράττειν, букв.: «завершение благополучия». Но так как слово τέλος – «конец», «цель» (ср.: телеология) имеет в греческом языке значение окончательной реализации, совершенной законченности (ср. Зевс Телейос, т. е. Зевс, приводящий к законченному совершенству), это выражение можно перевести как «совершенное осуществление благополучия».
[448]
Здесь вполне очевидный намек на гомеровского прорицателя Калхаса, о котором говорится: «Ведал, премудрый, он все, что было, что есть и что будет» (Ил. I 70).
[449]
Сократ высказывает одну из любимых своих мыслей, что знание, не различающее добра,
и зла,
не является истинным и, наоборот, настоящее знание всегда ведет к благу и пользе (174е). Знание добра и зла стоит для Сократа выше любой науки и создает в человеке подлинное единство всех его духовных и практических сил, которыми отличается настоящая калокагатия (см.: Алкивиад I, прим. 48).
[450]
Об учредителе имен
см. в диалоге «Кратил», где говорится, что имя вещи присваивает своего рода законодатель имени – номотет (νομοθέτης, 388е), или мастер имен (δημιουργός, 389а), который создает имена по образцу эйдоса, т. е. идеи, имени (390а). Поскольку же в отношении имен необходимо знание (έπίστασθαι, 389d), а знающим может быть только тот, кто спрашивает и отвечает, то учредитель имен должен учиться у диалектика (διαλεκτικός, 390cd), создавая имена не по личному произволу, а в соответствии с объективной природой имен. См. также: Учебник платоновской философии, VI 10.
[451]
Как и в диалогах «Гиппий больший» и «Протагор», здесь не делается окончательного вывода о том, что же такое рассудительность. Главная цель Сократа – заставить читателя задуматься над диалектикой понятия. Ксенофонт, указывая, что Сократ не дал определения софии (мудрости) и софросины – «целомудрия» (рассудительности), ставит, однако, ему в заслугу положение о том, что, зная прекрасное (καλά) и хорошее в нравственном смысле (αγαθά), надо уметь ими пользоваться, а зная нравственно безобразное, надо его избегать (Воспоминания… III 9, 4).
[452]
Здесь опять Сократ уподобляется некоему чародею, увлекающему за собой людей своими речами и «заговорами» (см.: Алкивиад I, прим. 58).
[453]
Эфес
– один из 12 ионийских городов в Малой Азии, где, по одному из преданий, родился Гомер и где особенно почитались исполнители его песен.
[454]
Эпидавр
– город в области Арголида (Пелопоннес), славившийся храмом в честь бога врачевания Асклепия, сына Аполлона. Праздник в честь Асклепия назывался «Великие Асклепиеи» или «Эпидаврии».
[455]
Примечательно, что Ион говорит о себе торжественно – во множественном числе, а Сократ иронически поддерживает самомнение рапсода.
[456]
См.: Евтифрон, прим. 17.
[457]
Ион хвастливо сравнивает себя со знаменитыми учеными комментаторами V в., аллегорически толковавшими Гомера. Метродора Лампсакского
не следует смешивать с Метродором Лампсакским – учеником Эпикура. О Стесимоброте,
бравшем большие деньги за обучение, упоминает Ксенофонт в «Пире» (III 6).
[458]
Гомериды
– рапсоды, знатоки, хранители и распространители поэм Гомера на о. Хиос, считавшиеся, по преданию, его потомками. Сведения о них имеются у Страбона (География XIV I, 35 // Пер. Стратановского. М., 1964) со ссылкой на Пиндара (Немейская ода II 1). Здесь скорее всего имеются в виду вообще почитатели Гомера.
[459]
Гесиод
– автор дидактической поэмы «Труды и дни» и поэмы «Теогония» (VIII в.). Об исполнении рапсодами Гесиода см. у Платона (Законы II 658d). Архилох
– ямбограф с о. Парос (VII в.).
[460]
Цельное,
или единое целое (το όλον) – один из основных терминов философии и эстетики Платона. О категории цельности у Платона см.: Лосев А. Ф.
Эстетическая терминология Платона // Из истории эстетической мысли древности и средневековья. М., 1961; он же.
История античной эстетики. Софисты. Сократ. Платон. С. 330–334.
[461]
Сын Аглаофонта Полигнот
с о. Фасос – знаменитый живописец V в. Павсаний в своем «Описании Эллады» подробно рассматривает картины Полигнота в Дельфах, на которых изображено разрушение Илиона и Одиссей в Аиде (X 25‑29).
[462]
Дедал, сын Метиона,
– строитель критского лабиринта (см. также Алкивиад I, прим. 34). Эпей, сын Панопея,
– легендарный строитель деревянного коня, с помощью которого греки овладели Троей. Феодор Самосец
– мастер бронзового литья, по преданию, изготовил перстень Поликрата и чашу для Креза, посвященную Дельфийскому оракулу (см.: Геродот
III 41).
[463]
Перечисляются мифические певцы и музыканты: Олимп,
флейтист, связанный с культом фригийской Великой Матери богов; Фамира,
или Фамирид, – фракийский певец, состязавшийся с Музами и ослепленный ими (Гомер.
Ил. II 594 сл.); Орфей,
прославившийся тем, что игрой на кифаре усмирял диких зверей и сумел очаровать бога смерти Аида, пытаясь вывести из царства мертвых свою жену Евридику (см.: Овидий.
Метаморфозы X 1‑105), погиб, растерзанный вакханками, буйными спутницами бога Диониса, культу которого Орфей был чужд, так как он связан с Аполлоном и Музами – покровителями искусства; Фемий,
рапсод с о. Итака, исполнявший песни во дворце Одиссея и пощаженный им как певец во время убийства женихов (Од. I 154; XVII 362; XXII 230 сл.).
[464]
Магнесийский камень,
или магнит, назван так по г. Магнесии (Малая Азия), неподалеку от которого был также мидийский г. Гераклея, богатый магнитом; отсюда второе название этого камня – гераклейский (ср. словарь Суда, Ηράκλεια λιθος). Существует, однако, и другая этимология названия «гераклейский», которое можно читать также «Гераклов», от имени Геракла (при этом имеется в виду сила притяжения магнита) (см.: Гассенди.
Свод философии Эпикура. М., 1966. С. 221 и прим. 91).
[465]
Мелические поэты
– создатели мелоса, т. е. песенной лирики (см. также: Хармид, прим. 11). О корибантах
см.: Критон, прим. 19.
[466]
Вакханты и вакханки
– жрецы и жрицы бога Диониса, охваченные в экстазе нечеловеческой силой. Еврипид в трагедии «Вакханки» рисует выразительную картину вакхического служения Дионису (см. речь Вестника, ст. 677–774). Платон (Федр 244а) пишет: «Но ведь величайшие из благ от неистовства в нас происходят, по божественному, правда, дарованию даруемого». Здесь же (244е – 245а) содержится речь Сократа о разных видах неистовства, в частности исходящего от муз, овладевающего душой поэта и изливающегося в песнях. Ср.: Менексен, прим. 46.
[467]
Т.е. на Парнасе и склонах лесистого Геликона, горной гряды в Беотии, посвященной Аполлону и музам.
[468]
Эти слова Платона о поэте приводит Климент Александрийский (VI 18 // Строматы, творение Климента Александрийского / Пер. Н. Корсунского. Ярославль, 1892). Представление о поэте, вдохновленном божественной силой, не было специфично только для идеалиста Платона, но было присуще грекам вообще; материалист Демокрит тоже писал: «Без безумия не может быть ни один великий поэт» (68 В 17Diels = 569 Маков.), а также: «Все, что поэт пишет с божественным вдохновением… то весьма прекрасно» (68 В 18Diels = 570 Маков.).
[469]
Дифирамб
– гимн в честь Диониса. Слово догреческого происхождения. Сам Дионис тоже именовался Дифирамбом. Энкомий
– хвалебная песнь (см.: Менексен, преамбула). Ипорхема
(гипорхема) – песнь в соединении с пляской. Ямбы
– разновидность декламационной лирики с чередованием краткого и долгого слова в двухсложной стопе (U –), по содержанию большей частью сатирические.
[470]
Тинних халкидец
– поэт, сочинитель пеанов (см. прим. 19). Порфирий (О воздержании II 18) сообщает: «Эсхил, говорят, рассказывает, что Тинних из всех поэтов, кого Дельфы удостоили написать пеан в честь бога (Аполлона), создал наилучший пеан» (Porphyre.
De l'abstinence. 1‑2 / Text etabli et traduit par J.Bouffartigue et M. Patillon. Paris, 1977–1979). Пеан
– гимн в честь бога Аполлона.
[471]
См.: Гомер.
Од. XXII 1‑4:
Сбросил с тела тогда Одиссей многоумный лохмотья.
С гладким луком в руках и с колчаном, набитым стрелами,
Быстро вскочил на высокий порог, пред ногами на землю
Высыпал острые стрелы и так к женихам обратился.
Пер. В. В. Вересаева
и Ил. XXII 131 сл.:
Так рассуждал он и ждал. Ахиллес подошел к нему близко,
Грозный, как бог Эниалий, боец, потрясающий шлемом…
Пер. В. В. Вересаева.
[472]
Герои «Илиады» Гомера: Андромаха
– жена Гектора, Гекуба
(или Гекаба) – мать его, Приам
– его отец. Остров Итака
– родина Одиссея.
[473]
Ксенофонт в «Пире» (III 11) упоминает об актере Каллипиде, «который страшно важничает тем, что может многих доводить до слез».
[474]
Хоревт
– участник хора.
[475]
Мусей
– мифический поэт и прорицатель, ученик Орфея. О Мусее см. у Геродота (VIII 6 и 96) и Платона (Государство II 363с). Мусею приписывались поэмы «Евмолпия», «Теогония» и др.
[476]
Метафора; ср. Эсхил (Хоэфоры 167): «…сердце пляшет от страха».
[477]
Критике Платона здесь и ниже подвергается ходячее мнение о том, что занимающиеся Гомером знают «всякое искусство». Это – «подражатели», а «истины они не касаются» (см.: Государство X 598е – 601 а).
[478]
Платон цитирует здесь «Илиаду» XXIII 335–340 (пер. Н. И. Гнедича).
[479]
Ил. XI 638–640, пер. Я. М. Боровского. Вторая половина второго стиха соответствует стиху 625, что отражено в цитировании Платона и здесь в переводе.
[480]
Ил. XXIV 80‑82 (пер. Н. И. Гнедича).
[481]
Од. XX 351–353, 355–357, пер. В. А. Жуковского. Феоклимен
– сын Мелампа. Меламп
– мифический прорицатель, жрец, основатель культа Диониса в Греции (см.: Геродот
II 49). Гомер.
Од. XV 225–255.
[482]
«Сражение у стен» – заголовок песни XII «Илиады» (в пер. Гнедича – «Битва за стену», в пер. Вересаева – «Битва у стены»). Далее цитируется XII 201–207.
[483]
Аполлодор из Кизика
(см. 541с), Гераклид из Клазомен
и Фаносфен
– афинские стратеги родом из Малой Азии. Афиняне даровали им гражданство за их доблесть. О первых двух см. у Элиана XIV 5: Пестрые рассказы / Пер. С. В. Поляковой. М., 1963; о Фаносфене
– единственное упоминание у Ксенофонта: Греческая история I 5, 18, 19.
[484]
Эфесцы,
как и другие ионийцы, считались выходцами из Аттики. По Геродоту (I 147), ионяне чистой крови именно все те, которые «происходят из Афин». В другом месте (VIII 44) Геродот сообщает, что афиняне, пока нынешнюю Элладу населяли пеласги, «были пеласгами и назывались кранаями»; в царствование Кекропа названы были кекропидами, а когда власть наследовал Эрехфей, «они получили имя афинян и, наконец, по имени их предводителя Иона, сына Ксуфа, – ионянами». Таким образом, оказывается, что ионийцы – это древнейшие жители Аттики, переселившиеся в Малую Азию.
[485]
См.: Евтидем, прим. 35.
[486]
Элида
– область на западе Пелопоннеса, родина Гиппия. Свою речь Гиппий начинает с похвальбы, и в словах Сократа, обращенных к нему, чувствуется ирония: «славный и мудрый», ниже – «мудрый и совершенный». У многих греческих государств было в обычае делать знаменитых софистов послами: Гиппий прибыл из Лариссы фессалийской, Горгий – из Леонтины (Сицилия), Продик – с о. Кеос.
[487]
Сократ, который только что назвал Гиппия мудрым, здесь же замечает, что «древние мужи», славившиеся мудростью, «держались в стороне от государственных дел»; тем самым он как бы ставит под подозрение мудрость Гиппия. Питтак, Биант, Фалес
издавна входили в число так называемых семи мудрецов (остальные из них – Хилон, Клеобул, Солон, Периандр. См.: Алкивиад I, прим. 46; Менексен, прим. 50; Феаг, прим. 12). Питтак известен как выборный митиленский верховный правитель – «эсимнет» (VII–VI вв.); о нем – у поэта Алкея, друга, а потом политического врага Питтака (Fr. 72, 73 // Lyra Graeca / Ed. J. M. Edmonds. Vol. I. London, 1963; см. также: Горгий, прим. 51). Биант из Приемы (VI в.), в Ионии, прославился своим изречением: «Все мое с собой ношу». Фалес (VI в.) – крупнейший ионийский натурфилософ, по учению которого в основе всего сущего лежит материальная стихия воды. Изречения этих семи мудрецов помещены у Дильса (Bd. I. Кар. 10). Об Анаксагоре
см.: Апология Сократа, прим. 27.
[488]
Сократ здесь имеет в виду искусство
красноречия и в этом смысле противопоставляет себя и софистов мудрецам из древних.
Ср.: Евтидем, прим. 19 и 57.
[489]
См.: Ион, прим. 10.
[490]
См.: Апология Сократа, прим. 9; Горгий.
[491]
См.: Апология Сократа, прим. 9. Сократ одно время был слушателем Продика.
[492]
См.: Евтидем, прим. 32; Протагор, преамбула.
[493]
150 мин = около 4 тыс. руб. (см.: Апология Сократа, прим. 12). Иник
– город в Сицилии.
[494]
Ср.: Еврипид: «Ненавижу мудреца (σοφιστής), который мудр не для себя» (fr. 905 N. – Sn.). «Софист» у Еврипида употребляется в общем значении «мудрец» (см.: Протагор, прим. 13), а не «софист». Вряд ли Еврипид мог ненавидеть «софиста», так как сам он был близок к софистам и испытал их влияние.
[495]
Ср. весь последующий обмен репликами между Гиппием и Сократом, особенно 283е; см. также: Критон, прим. 15.
[496]
Фессалия
(С. Греция) славилась своей конницей.
[497]
Плутарх, рассказывая о реформах Ликурга и упразднении им золотых и серебряных денег, пишет: «В пределах Лаконии теперь не появлялись ни искусный оратор (σοφιστής λόγων), ни бродячий шарлатан‑предсказатель, ни сводник…» (Плутарх.
Ликург IX // Сравнительные жизнеописания). Любопытное сопоставление профессии софиста с занятиями шарлатанов – совсем в духе Сократа.
[498]
Гиппий здесь достаточно объективно оценивает сущность закона,
в то время как вообще софисты усиленно противопоставляли его природе человека и на этом основании считали, что человеку по природе все дозволено. В «Протагоре» (337d) Гиппий прямо называет закон властителем над людьми (τύραννος των ανθρώπων), насилующим природу. См. также: Протагор, прим. 46.
[499]
Ниже Сократ перечисляет ряд наук, в которых Гиппий считал себя знатоком и в которых так невежественны, по его мнению, спартанцы. В «Протагоре» (342bc), однако, выясняется, что спартанцы не нуждаются в чужеземных подражателях софистам, так как у них достаточно своих истинных мудрецов, с которыми они общаются тайно от иноземцев.
[500]
Родословные
(генеалогии) были чрезвычайно распространены в древности. Как авторы древних генеалогий известны Гекатей, Акусилай, Ферекид, Гелланик и сам Гиппий (см.: Die Fragmente der griechischen Historiker / Hrsg. von F. Jacoby. Erster Teil: Genealogie und Mythographie. A. Text. Leiden, 1957).
[501]
Здесь в общем смысле, как «правители» (см.: Менексен, прим. 17).
[502]
Искусство запоминания
– так называемая мнемоника. См. также: Гиппий меньший, прим. 11.
[503]
Неоптолем
(гомер.) – сын Ахилла; о Несторе
см.: Гиппий меньший, прим. 4.
[504]
Фидострат
– афинский грамматик. Евдик
– действующее лицо диалога «Гиппий меньший». Возможно, у него остановился Гиппий в Афинах.
[505]
Имеется в виду ответ оракула мегарцам, превозносившим себя над всеми греками (XIV 48 // Scholia in Theocritum vetera / Rec. Wendel. Lipsiae, 1914). Этот же ответ оракула содержится в эпиграмме XIV 73 из «Палатинской антологии» (Bd IV Beckby):
Лучший край на земле – пеласгов родина, Аргос,
Лучше всех кобылиц – фессалийские; жены – лаконки.
Мужи – которые пьют Аретусы‑красавицы воду.
Но даже этих мужей превосходят славою люди,
Что меж Тиринфом живут и Аркадией овцеобильной,
В панцирях из полотна, зачинщики войн, аргивяне.
Ну а вы, мегаряне, ни в‑третьих, и ни в‑четвертых,
И ни в‑двенадцатых: вы ни в счет, ни в расчет не идете.
Пер. Ф. А. Петровского
в коммент. к кн.: Феокрит, Мосх, Бион.
Идиллии и эпиграммы / Пер. и коммент. M. E. Грабарь‑Пассек. М., 1958. С. 278.
[506]
Ионийский натурфилософ VI в. Гераклит из Эфеса был знаменит своей диалектикой; стиль его отличался сложностью и метафоричностью, за что он был прозван Темным. Здесь имеется в виду fr. В 82 Diels. Сюда же можно присоединить fr. В 102: «У бога все прекрасно, хорошо, справедливо; люди же считают одно справедливым, другое несправедливым». Эти фрагменты свидетельствуют об иерархийном понимании красоты у Гераклита. Здесь «существуют твердые и определенные, нетекучие формы красоты… и они находятся между собою в определенном, отнюдь нетекучем взаимоотношении» (Лосев А. Ф.
История античной эстетики. Ранняя классика. М., 1963. С. 350).
[507]
Гераклит В 83 Diels (см. также прим. 21).
[508]
См.: Евтифрон, прим. 18. Относительно рассуждения об идее прекрасного в «Гиппий большем» и о разработке этого представления с помощью последовательного развертывания вопросов и ответов см.: Лосев А. Ф.
Очерки античного символизма и мифологии. М., 1930. С. 342–348.
[509]
Речь здесь и ниже идет о статуе Афины Паллады в Парфеноне, изваянной Фидием
(см.: Протагор, прим. 12).
[510]
Клятва именем полубога Геракла
(см.: Лисид, прим. 7) была очень распространена у эллинов.
[511]
См.: Апология Сократа, прим. 25.
[512]
Эак
– сын Зевса, отец Пелея и дед Ахилла;
см. также: Апология Сократа, прим. 54 и Горгий, прим. 80.
[513]
Испытывая муки от яда, пропитавшего его одежду, Геракл приказал сложить для себя костер и сгорел на нем (см.: Трахинянки 1097–1208 // Софокл.
Трагедии / Пер. С. В. Шервинского. М., 1988). За свои страдания он был взят Зевсом на Олимп, а тень его, по Гомеру (Од. XI 601–627), скиталась в Аиде. Таким образом, погребение Геракла вовсе не прекрасно, а скорее ужасно и трагично.
[514]
Тантал
– фригийский царь (см.: Евтифрон, прим. 22); Дардан
– родоначальник троянцев; Зет
– фиванский герой. По мифам все это дети Зевса и смертных женщин, т. е. полубоги, поэтому для них быть погребенными своими потомками или предать погребению отца – нечестиво. Пелоп
же, сын Тантала (см.: Кратил, прим. 23), – не полубог, значит, погребение для него может быть прекрасным.
[515]
Ср.: Ион, прим. 8.
[516]
Употребляемые здесь термины «пригодное» (χρήσιμον) и «полезное» (ώφέλιμον) имеют у Платона очень тонкое различие. Χρήσιμον соотносится с термином άχρηστος (непригодный), a ώφέλιμον не только с термином ανωφελής (бесполезный), но и с термином βλαβερός (вредный). Если «полезный» соотносится с «вредным», значит, оба этих термина имеют более активное значение, чем соотношение «пригодный» – «непригодный». Такое же соотношение «полезное» – «вредное» у Ксенофонта (Воспоминания… IV 6, 8). Э. де Плас считает «пригодное» родственным и связанным с «полезным» (см.: Platon.
Oeuvres completes. Т. XIV. Lexique de la langue philosophique et religieuse de Platon. Par E. des Places. 2‑е partie. Paris, 1964), не вдаваясь в объяснения, тем более что у того же Ксенофонта (там же IV 6, 9) термин «пригодное» равнозначен «полезному». В другом месте (Домострой 6, 4) Ксенофонт пишет: «Полезное мы нашли, – это все, чем человек умеет пользоваться (χρήσθαι)». Сам Платон в «Меноне» (87е) дает такое определение полезного: «…всякое благо (τάγαθά) полезно… здоровье, сила, красота и богатство – все это и тому подобное мы называем полезным… Но о том же самом мы порой говорим, что оно и вредит». Г. Шмидт в своей четырехтомной «Синонимике греческого языка» (Schmidt H.
Synonymik der griechischen Sprache. Bd IV. Leipzig, 1886. S. 170–171) приходит к выводу, что χρήσιμον – это «пригодное само по себе», оно неприменимо для определенной цели, a ώφέλιμον, наоборот, мыслится полезным для определенной цели. Подобное четкое различие следует из слов Ксенофонта в «Воспоминаниях…» (II 7, 7): «Или ты замечал, что для
усвоения нужных знаний, для
запоминания выученного, для
здоровья и укрепления организма… ничегонеделание и пренебрежительное отношение ко всему полезно
(ωφέλιμα) людям, а труд и забота ни на что не годны
(χρήσιμα)?» (курсив наш. – А.Т.‑Г.
).
[517]
Эстетика Сократа и его окружения тяготеет к телеологическому, целесообразному представлению о прекрасном (καλόν). Представление, согласно которому прекрасное есть причина блага,
приводит к выдвижению этического смысла прекрасного. Эту телеологию прекрасного в сократовской эстетике великолепно воплотил Ксенофонт (см.: Тахо‑Годи А. А.
Классическое и эллинистическое представление о красоте в действительности и искусстве // Эстетика и искусство. М., 1966. С. 15–37). Ср.: Кратил, прим. 83.
[518]
Удивительным образом то же самое определение прекрасного, предположительно данное Гиппию Сократом и тут же им опровергаемое, приводит Аристотель в «Топике» (146 а 22). У Аристотеля, правда, рассуждение чересчур компактно. Вместо этого у его учителя Платона мы находим неторопливое чередование вопросов и ответов, выставляющих предмет в гораздо более понятном, доступном и конкретном виде. О. Апельт (Platon.
Sämtliche Dialoge. Bd 3. S. 101) правильно думает, что подобного рода определение прекрасного едва ли могло принадлежать недалекому и хвастливому Гиппию. Однако первоначального автора этого определения указать трудно.
[519]
Некоторые переводчики (Карпов, Вл. Соловьев) опускают вопрос Гиппия о собеседнике Сократа и ответ последнего, считая не без основания, что раскрытие Сократом своего инкогнито совсем нелогично, так как Сократ и в дальнейшем продолжает ссылаться на своего мнимого собеседника. Видимо, считают они, здесь позднейшая вставка переписчика. Однако в переводе настоящего издания отражено чтение Барнета и О. Апельта, который правильно считает (Ibid. S. 101, n. 52), что Сократ стыдится не мнимого собеседника, а самого себя, участвующего здесь в разговоре.
[520]
Телесные сущности, или тела сущностей, тела бытия (σώματα της ουσίας), чтение рукописи. Некоторые комментаторы, например О. Апельт (Ibid. S. 103–104), читают σχήματα της ουσίας, т. е. «отношения бытия», так как этот термин подтверждает конструктивный характер мышления Платона и попытки его абстрагироваться от частного к общему. Однако не менее важным аргументом для подтверждения рукописной традиции является соображение о чувственно‑телесном понимании эстетических и онтологических категорий у Платона вплоть до самого эйдоса. Такое в основе своей осязаемое и телесное восприятие отвлеченных идей характерно для греческого мышления вообще и есть следствие стихийно‑соматических тенденций античной философии. Вспомним, что в греческом языке не было слова «личность». Человек в греческом языке понимается как σώμα, т. е. «тело». В «Антигоне» Софокла (ст. 676) сказано τα πολλά σώμαθ' («народ», «люди»). В «Умоляющих» Еврипида (ст. 224) говорится о σώματα άδικα («несправедливых людях»). Платон в «Законах» (X 908а), говоря об охране «личной безопасности большинства», выражается так: τοις πολλοίς των σωμάτων. Слово σώμα понимается во всех этих случаях как нечто личностное. У Ксенофонта (Греческая история II 1, 19) έλεΰοερα σώματα означает «свободное население». Однако если во всех этих случаях человек в полноте своих духовных и физических сил как‑то еще может быть назван «тело», то в «Кинегетике» Ксенофонта (XII 19) есть одно замечательное место (см.: Xenophontis scripta minora / Rec. Didorfius. Lipsiae, 1880), где говорится о «теле добродетели» (σώμα… αρετής), т. е. этическое понятие здесь тоже мыслится вполне материально и ощутимо, как это обычно у Гомера (см., например, Од. XXIII 156, где красота изображается наподобие текучей материальной сущности, которую Афина «пролила» на Одиссея). Следовательно, совершенно правомерно можно читать в данном месте и «телесные сущности», и «отношения бытия».
[521]
Пословица, приводимая и в словаре Суда (Vol. I, p. 735): «Мы живем не как хотим, а как можем» (ср. русск.: «Не так живи, как хочется…») – со ссылкой на это место «Гиппия большего».
[522]
В схолиях к «Гиппию большему» (р. 327 Hermann) по этому поводу говорится следующее: «Периандр, коринфский правитель, будучи сначала другом народа, впоследствии стал тираном. Управлявший тогда митиленцами Питтак, услышав об этом и боясь за свою репутацию, уселся у алтаря как проситель и требовал освободить его от власти. На расспросы митиленцев о причине этого Питтак ответил, что трудно быть благородным. Узнав об этом, Солон сказал: „Прекрасное – трудно“, и отсюда эти слова вошли в поговорку».
[523]
См. у Гомера (Ил. XXIV 348): «С первым пушком на губах – прелестнейший в юности возраст». Это сказано о боге Гермесе. Алкивиад
(см.: Алкивиад II, прим. 1) служил моделью как раз для статуй Гермеса (см.: Protrept. 53 // Clementis Alexandrini opera / Rec. G. Dindorfius. Vol. I. Oxonii, 1869). См. также: Ксенофонт.
Воспоминания… I 2, 24.
[524]
Речь идет о Протагоре.
[525]
См.: Алкивиад
II, прим. 1.
[526]
О сочетании мудрости и красоты как даре богов см. у Еврипида (Вакханки 877).
[527]
Поговорка (см. Геродот
III 42); διπλή букв.: «двойной».
[528]
Ср.: Критон 43а.
[529]
Эноя
– аттический дем у границы с Беотией.
[530]
См.: Менон, прим. 7.
[531]
Протагор впервые приехал в Афины в 444/3 г.
[532]
См.: Апология Сократа, прим. 11.
[533]
Гиппократ Косский
(460–377), тезка Гиппократа – участника диалога, знаменитый греческий врач (см. также: Алкивиад I, прим. 34); был близок к Демокриту из Абдеры.
[534]
Поликлет аргосец
(из Сикиона) и Фидий афинянин
– знаменитые ваятели V в., мастера хрисоэлефантинных статуй (золото и слоновая кость). Один прославился храмом Геры в Аргосе, другой – статуей Зевса в Олимпии.
[535]
Слово «софист» имеет в основе своей корень σοφ‑, указывающий на мудрость (ср.: σοφία – мудрость, σοφός – мудрый). Слово это было у древних греков приложимо ко всем видам ремесел и искусств. Ср. у Гомера (Ил. XV 412) о плотнике, который «знает искусство свое, обученный Палладой‑Афиной»: ремесло здесь есть не что иное, как мудрость‑Афина. Сюда же относится Ил. XXIII 315–318, где «разум», «ум» – μήτις, едва отличимый от σοφία, присущ и лесорубу, и кормчему, и вознице. Поэтому мастером‑демиургом (δημιουργός), сведущим в своем ремесле, могут быть (Гомер.
Од. XVII 382–385) наряду с плотником врач, гадатель и певец, т. е. люди, чье умение не ограничивается сноровкой с применением физической силы, а требует разума, мудрости и даже вдохновения. Нет ничего удивительного, что слово «софист» имело первоначально такое широкое значение. Между прочим, софистом у Эсхила назван Прометей (Прометей прикованный 62), правда, скорее в смысле хитреца и ловкача. О софистах см. также: Апология Сократа, прим 9; Евтидем, прим. 13, 19, 57; Гиппий больший, прим. 10 и др.
[536]
См. Критон, прим. 13.
[537]
См. Алкивиад I, прим. 53.
[538]
См. Апология Сократа, прим. 9.
[539]
О Перикле
см.: Феаг, прим. 19 и др. Мать Каллия
(см.: Апология Сократа, прим. 11), разведенная с мужем, вступила в брак с Периклом и родила Парала
и Ксантиппа (Плутарх.
Перикл XXIV). См. также: Менон, прим. 37. О Хармиде
см.: Феаг, прим. 25. Филиппид, сын Филомела,
принадлежал к старинному афинскому роду. Антимер мендеец
упоминается только здесь у Платона.
[540]
Перефразировка стиха из Гомера (Од. XI 601 сл.): «После того я увидел священную силу Геракла».
[541]
Эриксимах,
врач, и Федр
из дема Миррина – действующие лица в диалогах «Пир» и «Федр». Андрон, сын Андротиона
из дема Гаргетт, – ученик Гиппия, друг молодого аристократа Калликла (см. также: Горгий 487с), участник олигархического переворота 411 г.
[542]
Перефразировка стиха из Гомера (Од. XI 528 сл.).
[543]
Керамеец Павсаний
(не назван по отцу и роду из‑за незначительного происхождения; в Керамике жили гончары) и Агафон
(будущий трагический поэт) действуют в «Пире».
[544]
Оба Адиманта:
один из них, сын Левколофида, стратег, противник демократии, участвовал в битве со спартанцами при Эгоспотамосе (405 г., битва эта решила исход Пелопоннесской войны; см.: Менексен, прим. 31), попал в плен, но остался в живых, так как, видимо, предал афинские суда спартанцам (см.: Ксенофонт.
Греческая история I 4, 21; II I, 30 – 32). Сын Кепида
упоминается только здесь у Платона.
[545]
См.: Хармид, прим. 4. Об отношениях Крития
и Алкивиада
с Сократом см.: Ксенофонт.
Воспоминания… I 2, 12‑18.
[546]
Утверждение Протагора о древности софистического искусства вполне обоснованно, если под софистикой понимать искусство мудрости. В одном из «Гомеровских гимнов» (III 511) прямо говорится о том, что Гермес изобрел «искусство мудрости». Симонид Кеосский (VI–V вв.) – знаменитый греческий элегик и создатель хоровых песен (см. прим. 47 и 53; Горгий, прим. 8; Гиппарх, прим. 1). Устами Протагора Платон говорит, что под прикрытием разработки теории музыки и преподавания не только музыки, но даже и гимнастики часто выступало софистическое искусство, вызывавшее враждебность слушателей. Из софистов, действовавших подобным образом, известны, например, атлет и теоретик гимнастики Икк тарентинец (Законы VIII 839е – 840а) и учитель Гиппократа Косского (см. прим. 11) врач Геродик. Последний содержал гимнасий в Афинах. Ввел гимнастику в лечебных целях, удлинял жизнь больного, при этом его не вылечивая. Платон (Государство III 406а) с негодованием пишет, что Геродик «сперва жестоко мучил самого себя, а потом и многих других». Агафокл
– ученик пифагорейца Пифоклида
(см.: Алкивиад I, прим. 25). См. также: Ион, прим. 11 и 25.
[547]
В ориг. συν θεφ – «с богом».
[548]
Греческие софисты постоянно находились в окружении своих почитателей.
[549]
Зевксипп
(Зевксис, или Зевксид) из Ю. Италии – знаменитый художник (V в.). Упоминается также Ксенофонтом (Воспоминания… I 4, 3); возможно, идентичен Зевксиду в «Горгий» (453с).
[550]
Орфагор
– флейтист, учитель фиванского стратега Эпаминонда.
[551]
Добродетель,
о которой здесь говорится, и есть, собственно, тема диалога. Как обстоит дело с добродетелью и что такое добродетель (360е) – вот вокруг чего вертится весь разговор. «Добродетель», конечно, приблизительный перевод, так как термин αρετή можно переводить по‑разному (о различных переводах этого термина см. выше. С. 789). «Аретй «в данном месте отождествляется с πολιτική τέχνη, т. е. с искусством управлять государством (см. также 320е, 322е, 323аb и т. д.). О термине «аретй «см.: Krämer H.J.
Op. cit.
[552]
К линия
Алкивиад называет (Алкивиад I 118е) бешеным, а сыновей Перикла – глупыми. Арифрон
– брат Перикла. См. также: Алкивиад I, прим. 27.
[553]
В основе мифа,
рассказываемого Протагором, лежат проблемы этические, социальные и историко‑культурные. Здесь миф (μΰφος) противопоставляется «рассуждению» или «доказательству» (λόγος – см. 320с, 324d, 328с). Вместе с тем его сказочно‑поучительный характер – это как бы внешний покров, в который облечен логос. О мифах Платона см.: Willi W.
Versuch einer Grundlegung der platonischen Mythopoiie. Leipzig, 1925; Reinhardt K.
Platons Mythen. Bonn, 1927; Тахо‑Годи A. A.
Миф у Платона как действительное и воображаемое // Платон и его эпоха. М., 1979. С. 58–82 (с библиографией).
В данном мифе боги творят все живое, в том числе людей. Ср.: Гесиод.
Теогония. Ст. 127 сл. И Прометей (см.: Эсхил.
Прометей прикованный 90) называет Землю
– богиню Гею – «Всеобщая Мать», а Еврипид (fr. 839 N. – Sn.) говорил, что она «рождает… смертных, растения и племена животных, откуда по справедливости и называется матерью всех» (хотя здесь же: «Зевсов эфир – породитель людей и богов»). Но у Овидия (Метаморфозы I 81) сохранилось предание о том, что людей вылепил из земли и воды Прометей. Защитником рода человеческого Прометей предстает еще у Гесиода (Труды и дни 42‑52) и Эсхила (Прометей прикованный 439–506), где прямо говорится: «Все искусство у людей от Прометея». Своеобразная история развития культуры человека рисуется Софоклом в «Антигоне» (332–375), где нет никакого упоминания о Прометее. К тому же начала государственности и порядка, а также нравственные качества человека связаны, по представлениям древних греков, не с дарами Прометея, а с деятельностью Зевса (см. Гесиод.
Теогония 96; Труды и дни 256–264), почему Зевс у Аристофана и носит имена «Отца» (Ахарняне 223), «Отчего» (Облака 1468), «Дружественного» (Ахарняне 730), «Общеродового» (fr. 245 Kock), «Покровителя народного собрания» (Всадники 410), «Царя» (Лягушки 1278), «Эллинского» (Всадники 1253), а также «Спасителя», «Помощника», «Освободителя», «Советника», «Устроителя», «Благодетеля».
По Платону, людям недостаточно технического прогресса, идущего от Прометея. Они должны обладать культурой социального общения и следовать нормам этики, которые подсказываются их совестью, вложенной в них по повелению Зевса Гермесом.
…Из смеси земли и огня.
О двух видах элементов – огне и «плотной, тяжелой» ночи (видимо, речь идет здесь о земле) – гласит фрагмент Парменида (В 8, 53‑58 Diels). Платон в «Тимее» (31b) тоже пишет: «Начав созидать тело Вселенной, бог творил его из огня и земли» (в определенной пропорции).
[554]
Прометей
и Эпиметей
(миф.) – братья, дети титана Напета, брата Кроноса, т. е. двоюродные братья Зевса. Имена Прометей и Эпиметей выражают их сущность. Прометей – «предвидящий» (индоевроп. корень me‑dh = men‑dh – «размышлять»), Эпиметей – «тот, кто после думает», т. е., как говорят, «крепкий задним умом». Прометей близок по своим «просветительским функциям» к Гефесту – богу кузнечного дела и Афине – богине мудрости, у которых он и крадет «искру огня» (см. Гесиод.
Труды и дни 50 сл.; Эсхил.
Прометей прикованный 107–111).
[555]
Об общности Афины
и Гефеста
см.: Критий 109с. Общее святилище их было в храме Гефестионе (Павсаний
I 14, 6). Была даже Афина Гефестия (см.: Corpus inscriptionum atticarum II 114). В честь Афины, Гефеста и Прометея устраивалось факельное шествие или даже бег с факелами на праздниках Панафинеи, Гефестии и Прометейи.
[556]
Стражи Зевса
(миф.) – Власть и Сила. Именно они приводят Прометея в Скифию, где его за похищение огня Гефест по приказу Зевса приковывает к скале (см. Эсхил.
Прометей прикованный 1‑17 // Трагедии / Пер. С. Апта. М., 1971).
[557]
См.: Лисид, прим. 9.
[558]
Характерно, что для Протагора хорошее в дурное, о которых здесь идет речь, происходят от природы и случая,
т. е. этим подчеркивается релятивизм и произвольность допущений софистов.
[559]
Единое
(το εν) в данном случае объединяет различные виды человеческой добродетели. См. также: Ион, прим. 8.
[560]
О благотворном воздействии музыки с ее ритмом и гармонией на физическое и духовное здоровье человека учили еще древние пифагорейцы (15, 25 // Jamblichi de vita pythagorica liber. Rec. A. Nauck. Petropoli, 1884). См. также у самого Платона (Государство III 403с): «Мусическое искусство завершается любовью к прекрасному». Страбон (География I 2, 3) пишет: «…музыканты утверждают, что эти занятия [игра и пение] имеют воспитательное значение и способствуют нравственному усовершенствованию». О роли музыки в жизни античного человека см.: Античная музыкальная эстетика/Вступит, очерк и собр. текстов А. Ф. Лосева. М., 1960.
[561]
Ферекрат
в комедии «Дикари» высмеял афинян, убегающих, согласно сюжету его комедии, от испорченных сограждан и столкнувшихся с подлинными дикарями. Комедия была поставлена на празднестве Леней
(месяц Гамелион – январь) в 421 г.
[562]
Еврибат
– предатель, продавшийся персидскому царю Киру и погубивший воевавшего с ним царя Креза. Фринонд
– мошенник. Имена этих двух лиц стали нарицательными.
[563]
Во время долгого пробега
надо было 12 раз объехать стадион в Олимпии.
[564]
Сходство противоположностей, о которых здесь и выше говорит Протагор, напоминает учение Гераклита об относительности противоположностей. Ср.: «Холодное становится теплым, теплое – холодным, влажное – сухим, сухое – влажным»; «В нас всегда одно и то же: жизнь и смерть, бдение и сон, юность и старость. Ибо это, изменившись, есть то и, обратно, то, изменившись, есть это», и, наконец: «У бога все прекрасно, хорошо и справедливо. Люди же считают одно справедливым, другое – несправедливым» (fr. 126, 88, 102 Diels). Однако, зайдя слишком далеко в своем релятивизме (Протагор 331е – 334с), Протагор подменяет диалектику единства противоположностей тождеством антиномий; поэтому в дальнейшем оказывается, что у него рассудительность и безрассудство, благо и зло – одно и то же.
[565]
В ориг. τριβών – короткий грубый плащ.
[566]
Крисон
– сицилийский бегун, который трижды побеждал на Олимпийских играх – в 448, 444, 440 гг. Платон в «Законах» (VIII 840а) восхваляет его и других атлетов, хотя «воспитание их души было гораздо хуже, чем у наших идеальных граждан, а тело их гораздо более было преисполнено жизненных сил».
[567]
В речи Продика чувствуется гордость мастерством в исследовании синонимов (см. также 340b). Особенно популярны были под его влиянием рассуждения о различии «блага», «счастья», «радости», «наслаждения»; ср. например: Геродот
I 32 (беседа Солона и Креза о счастье и благе).
[568]
Излюбленная тема софистических бесед – противопоставление природы
и закона
(φύσις и νόμος). См. также: Гиппий больший, прим. 13. Ксенофонт в «Воспоминаниях…» (IV 4: разговор с Гиппием о справедливости) приводит целый ряд высказываний Гиппия о законах. Гиппий говорил: «А разве можно, Сократ, придавать серьезное значение законам и повиновению им, когда сами творцы их часто отменяют их и переделывают?» Об истории этих понятий детально см.: Heinimann F.
Nomos und physis. Basel, 1945; о софистической антитезе природы и закона – S. HO – 162, специально о Протагоре – S. 110–125.
[569]
Стихи Симонида Кеосского (см. прим. 24), приводимые здесь и ниже, относятся, по Бергку, к эпиникию Симонида (fr. 5 Bergk), а по Дилю, – к его сколию, т. е. застольной песне (fr. 4 Diehl). У филологов XVIII–XIX вв. (Гейне, Шлейермахер) были попытки реконструировать эту песнь (подробно об этом см.: Wilamowitz‑Moellendorff U. v.
Sappho und Simonides. Berlin, 1913. S. 159). Мы приводим здесь текст этого стихотворения Симонида в той последовательности, как оно цитируется Сократом у Платона в этом диалоге (339b – 346с):
Трудно поистине стать человеком хорошим,
Руки, и ноги, и ум чтобы стройными были,
Весь же он не имел никакого изъяна…
Вовсе неладным сдается мне слово Питтака,
Хоть его рек и мудрец: добрым быть нелегко…
Богу лишь одному дан этот дар…
Нет возможности зла избежать человеку
В тяжкой беде, злобной, необоримой…
Добрый поступок свершая, всякий будет хорошим,
Зло свершая, будет дурным…
Жизнь, что судьба мне дала, потому я не трачу впустую
Ради надежды тщетной найти средь людей совершенство:
Сколько б ни было нас, плодами сытых земными,
Нет человека такого; а если б нашел я – сказал бы…
Всех и хвалю и люблю я также охотно,
Злого кто не свершил. А с судьбой не воюют и боги…
Мне довольно того, чтобы не был дурным он [человек],
Вовсе негодным, но знал бы правду и пользу
Города, здравый ум бы имел – такого не осужу я.
Я не любитель корить: глупцов ведь бесчисленно племя…
Все прекрасно, в чем примеси нету дурного…
Стихотворный перевод этой песни (на русском языке – впервые) выполнен С. Я. Шейнман‑Топштейн.
Скопас
– фессалийский владетель.
[570]
См.: Гиппий больший, прим. 2.
[571]
Ил. XXI 307.
[572]
Данное рассуждение свидетельствует о философском подходе Сократа к языку, так как разница в употреблении «быть» и «стать» в греческом бытовом языке уже исчезала, а в поздней античности стерлась совсем. В дальнейшем (344b‑e) Сократ блестяще развил свою мысль об отличии изречений Симонида и Питтака. К его комментарию можно добавить также, что существует некоторая разница между «хорошим» человеком Симонида (άγοθός) и «добрым» («благородным», «превосходным») человеком Питтака (έσφλός). В фрагменте Симонида άναθός – это тот, кто обладает гармоничным сочетанием здоровья, красоты и ума. Ср. fr. 56 Diehl: «В прекрасной мудрости нет очарования, если кто не имеет достаточно здоровья». См. также: Алкивиад I, прим. 48.
[573]
Здесь и выше (340d) дана выборка из стихов Гесиода «Труды и дни» 289–292.
[574]
Сократ, видимо, слушал Продика
(см.: Апология Сократа, прим. 9), но не систематически. В «Кратиле» (384b) он сам говорит, что слушал его урок не за 50 драхм, а только за драхму, соответственно чему менялось и содержание урока. Известно, что своих не очень серьезных учеников Сократ отсылал к Продику (Теэтет 151b).
[575]
Симонид
Кеосский (см. 346de и прим. 24) писал иной раз, в зависимости от жанра, на эолийском (лесбосском, или митиленском)
диалекте, хотя сам, как и Продик, был ионийцем с о. Кеос, вблизи Аттики. Формы эолийского и дорийского диалектов Платон (Кратил 401с) именует чужеземными. Разница между греческими диалектами была довольно значительна. Люди ученые и образованные старались говорить на аттическом диалекте.
[576]
Кеосцы
славились своей порядочностью.
[577]
Здесь Сократ создает, мы бы сказали, миф о глубоко скрытом интеллекте спартанцев, чтобы противопоставить словесную (и не только словесную) распущенность софистов благородной сдержанности лаконцев. Ср.: Гиппий больший, прим. 12.
[578]
Ср.: Горгий 515е.
[579]
Перечисляются так называемые семь мудрецов (см.: Гиппий больший, прим. 2). Платон помещает среди них Мисона
вместо обычного Периандра. Мисона дельфийский оракул назвал мудрейшим (см.: fr. 61 Diehlj.
[580]
Лаконское немногословие
вошло в поговорку. Отсюда – «лаконичный», т. е. краткий.
[581]
Греки называли такую перестановку гипербатом (ΰπερβατόν) – переносом, который в позднеантичной риторике стал специальным термином. В трактате «О возвышенном» (22, 1 / Пер. Н. А. Чистяковой. М.: Л., 1966) читаем по поводу этого термина, что люди, «охваченные душевной тревогой, мечутся по сторонам, словно подгоняемые переменным ветром, меняя выражения мысли и даже привычный строй речи».
[582]
Цитата из неизвестного поэта (см. fr. adespota, S. 1355 Bergk), которого цитирует также Ксенофонт (Воспоминания… I 2, 20). Ср.: Еврипид: «Дурной человек никем иным не бывает, как только плохим. Благородный – только благородным. Природу свою он не погубил никаким нечестьем. Он всегда хорош» (Гекуба 592 сл.).
[583]
О флейтистках
и танцовщицах на пиру см. у Ксенофонта (Пир II 1), а также у Платона (Пир 212de): Алкивиад появляется у Платона в сопровождении флейтистки.
[584]
Ил. X 224 сл. Это слова Диомеда перед его уходом вместе с Одиссеем лазутчиками в лагерь троянцев.
[585]
См. 329cd.
[586]
Пельтасты
– легковооруженные воины.
[587]
Ср.: Законы V 732е – 733а: «Должно хвалить прекраснейшую жизнь… и за то, что она может доставить… то, к чему мы стремимся, именно – испытывать больше радости и меньше скорби».
[588]
Ср.: Аристотель.
Никомахова этика VII 3, 1145 b 22.
[589]
Ср.: Горгий 451b: «Что такое искусство арифметики? …искусство о четном и нечетном», а также о видах числа у Филолая (44 В 5 Diels).
[590]
Измерение,
или измерительное знание, – термин, чрезвычайно характерный для рассуждений Платона, близкого к пифагорейцам и построившего на точнейших вычислениях картину всего космоса (см.: Тимей, а также Государство X 614b – 621b).
[591]
Утверждением, что понимание
(здесь – σοφία) страшного и нестрашного есть мужество в противоположность неведению этого,
Сократ приходит к обоснованию своего тезиса о том, что знание есть мужество (350с).
[592]
Игра слов: Прометей
– опромет
чивый. Сократ старается не обходиться без помощи Прометея (не быть опрометчивым), т. е. пользуется мыслью и знанием.
[593]
Игра слов: по‑гречески «красота» – το κάλλος, «красивый» – καλός. Этот конец ироничен в духе Сократа: стоило ли являться к Протагору и вести столь сложный разговор только ради красавца Каллия?
[594]
В этих словах Херефонта – намек на героя трагедии Еврипида Телефа, раненного копьем Ахилла и им же исцеленного.
[595]
Искусство,
о котором говорит Херефонт, – медицина, так как брат Горгия Геродик
– врач (см.: Протагор, прим. 24). Медицина считалась искусством (или наукой – τέχνη) в отличие от занятий, основанных на чисто практической сноровке. Так, Сократ (462bc) вообще не считает риторику искусством, но лишь сноровкой и опытностью (449d).
[596]
Аглаофонт
и его сыновья Аристофонт
и Полигнот
– известные живописцы. Особенно знаменит последний (см.: Ион, прим. 9).
[597]
Слова Пола, видимо, представляют парафразу из его сочинения, до нас не дошедшего, Аристотель (Метафизика I 1, 981а 4‑5) приводит, со ссылкой на Пола, почти те же слова. Вполне возможно, однако, что он знает их из платоновского «Горгия», а не из сочинений самого Пола.
[598]
Имеется в виду гомеровский оборот,
когда вместо «я называюсь» говорится «я хвалюсь». Например, Од. 1 180: «Имя мне – Мент…» (букв.: «Я хвалюсь, что я Мент…»).
[599]
Игра в шашки, по Платону (см. Федр 274с), изобретена египетским богом Тевтом. Греки различали рассуждение о числах, т. е. теорию числа (искусство арифметики
), и искусство счета
(«логистику»). Ср. Горгий 451b: «…что такое искусство арифметики? …Это одно из искусств, обнаруживающих свою силу в слове… На что направлена эта сила? …На познание четных и нечетных чисел…»; Хармид 166а: «Счетное знание относится к определению равных и неравных величин, т. е. к определению их связи и взаимной зависимости».
[600]
Предлагая новый закон и желая оттенить в нем главное, вносивший его обычно как бы отметал второстепенное при помощи формулы «во всем прочем… и т. д.»,
аналогичной нашему «и тому подобное».
[601]
Застольная песнь,
т. е. «сколий». Песнь, о которой здесь говорит Сократ, Климент Александрийский (Строматы IV, гл. V 23) приписывает Симониду Кеосскому (см.: Протагор, прим. 24): «Для человека быть здоровым лучше всего, второе – стать статным и красивым, третье – стать честно богатым» (Scol. anon. fr. 7 Diehl). Платон не приводит четвертое желание, которым заканчивается песня: «Процветать вместе с друзьями». В схолии к данному месту эта застольная песнь приписывается не только Симониду, но также и Эпихарму. На этот же сколий «прекрасного Платона» ссылается Атеней (XV 694ef), приводя толкование этой песни эллинистическим комиком Анаксаидридом (II fr. 17 Kock).
[602]
См.: Протагор, прим. 27.
[603]
Горгий понимает красноречие главным образом как искусство убеждения в том, что справедливо и несправедливо, хорошо и дурно. Это видно также из мнения ученика Горгия Исократа (см.: Евтидем, прим. 58). В своей третьей речи, посвященной кипрскому владетелю Никоклу, он тоже говорит о риторике, которая установила законы о справедливом и несправедливом, о постыдном и прекрасном (III 7): «…с ее помощью мы уличаем дурных и восхваляем хороших. Через нее мы воспитываем неразумных и одобряем разумных». Исократ энергично защищает своего учителя, возводя риторику в ранг всемогущего искусства и тем самым критикуя Платона (см.: Isocratis orationes / Ed. Benseler – Blass. Vol. 1. Lipsiae, 1913).
[604]
Представление о вере,
не основанной на людских мнениях, приобретенных через выучку или знание, было уже у элеатов (28 В 8; 31 В 71 Diels).
[605]
Афинские стены
– так называемые Длинные стены (см.: Менек‑сен, прим. 37). Пристани
– в Пирее: Мунихий, Кантар и Зея. О Фемистокле
и Перикле
см.: Феаг, прим. 19.
[606]
Борьба: в ориг. «панкратий» – самый сложный и опасный вид борьбы в Древней Греции.
[607]
Палестра
– место для упражнения в борьбе.
[608]
Ложное мнение,
или суждение, для Сократа – тяжкое зло. Сам же Горгий в речи «Похвала Елене» (В 11, 11 Diels) говорит о страшной силе ложной речи и ложного мнения: «…весьма многие о весьма многом доставляют душе мнение… Будучи обманчивым и шатким, мнение доставляет тем, кто им пользуется, обманчивые и шаткие успехи».
[609]
Мнение о широкой свободе
слова в Афинах выражено Платоном и в «Законах» (I 641е), где с этой точки зрения сравниваются три государства: «…наше государство любословно и многословно, Лакедемон краткословен, на Крите же развивают скорее многомыслие, чем многословие».
[610]
Игра слов: πώλος по‑греч. означает «жеребенок».
[611]
Анаксагор
(см.: Апология Сократа, прим. 27) – автор сочинения «О природе». В словах Сократа о том, что если дать телу господствовать над самим собой, то все вещи смешались бы воедино, слышен отзвук учения Анаксагора о гомеомериях и «нусе» – Уме. По свидетельству Аристотеля (59 А 43 Diels), гомеомериями у Анаксагора назывались мельчайшие материальные частицы. Анаксагор говорил (59 В l Diels), что «из единой смеси выделяются бесконечные по числу гомеомерии, причем все заключается во всем…», т. е. здесь мы находим явное соответствие словам Сократа. Смешение элементов может упорядочиться только благодаря Уму, который приводит в движение косную неподвижную материальную смесь, тем самым выделяя и разделяя ее (В 13 Diels). Ум, по Анаксагору, «бесконечен, самодержавен и не смешан ни с одной вещью, но только он один существует сам по себе… Он обладает совершенным знанием… порядок всего определил Ум» (В 12 Diels). Учение Анаксагора было настолько популярно, что Сократ находит возможным походя сослаться на него.
[612]
См.: Феаг, прим. 13.
[613]
См.: Апология Сократа, прим. 53.
[614]
Сократ как бы предсказывает свою собственную судьбу.
[615]
Дар Никия
(см.: Лахет, прим. 2) – треножники
– стоит в святилище Диониса потому, что он, как очень богатый человек, был не раз хорегом. Как сообщает Плутарх (Никий III // Сравнительные жизнеописания), еще в его время продолжал стоять поставленный Никием «на священном участке Диониса храм для треножников, которые получали в награду хореги‑победители». Аристократ, сын Скеллия,
– один из вождей олигархов в афинском государственном перевороте 411 г. Выл казнен в 406 г. после битвы при Аргинузских о‑вах (см.: Апология Сократа, прим. 36). Треножник в честь победы его хора на празднестве Таргелий стоял в храме, воздвигнутом еще Писистратом.
[616]
Об этой страшной казни, когда человека помещают в просмоленный мешок и сжигают на огне, пишет Атеней (XII 524а) со ссылкой на Гераклида Понтийского, рассказывая о событиях в Милете (VI в.): тогда богатые, взявши власть, предали ужасной казни своих противников – и взрослых, и детей. Перечень мучительных истязаний см. в «Государстве» Платона. Именно несправедливые, говорится там, полагают, что справедливого надо «сечь, пытать и держать в оковах, что ему выжгут и выколют глаза и что, наконец, испытав все роды мучений, он пригвожден буден ко кресту и узнает, что человеку надобно хотеть не быть, а казаться справедливым» (II 361е).
[617]
См.: Апология Сократа, прим. 36. Наша фила
– Антиохида.
[618]
Эта мысль Сократа не раз повторяется у Платона. Именно на этой идее основано нежелание Сократа бежать из тюрьмы или отказ его вызвать снисхождение судей (см.: Критон, прим. 11). См. также: Апология Сократа, прим. 39.
[619]
Рассуждениям Сократа о природе прекрасного специально посвящен диалог «Гиппий больший».
[620]
Несправедливость, невежество, трусость
противопоставляются трем добродетелям – справедливости, мудрости, храбрости. Ксенофонт в «Воспоминаниях…» посвящает специальные главы беседам Сократа о хорошем и прекрасном (III 8), о храбрости и мудрости (III 9) и о справедливости (IV 6).
[621]
Игра слов: Калликл «влюблен» в народ, демос,
и красавца Демоса, сына богача Пирилампа
(см. Хармид, прим. 17). В греческом оригинале имя этого красавца, созвучное слову «народ», не упоминается. Та же игра слов и дальше (513а‑с).
[622]
Говоря о своей любви – философии,
Сократ как бы подчеркивает отличие ее от софистики, которую представляет Калликл. Во второй половине V в. софистика и философия уже резко разграничивались, и, хотя у Геродота мудрецы носят название софистов (I 29), он уже употребляет глагол «философствовать» применительно к Солону (I 30). Известен такой фрагмент: «Ибо очень много должны знать мужи‑философы, по Гераклиту» (22 В 35 Diels). Дильс, комментируя этот фрагмент, считает, что слово «философ» ионийского происхождения и, возможно, создано впервые Гераклитом. Историю терминов «философия» и «философ» на протяжении тысячи лет, от досократиков до IV в н. э., дает Маленгрэ (см.: Malingrey A.‑M.
Philosophie. Etude d'un groupe de mots dans la litterature grecque. Paris, 1961). См. также: Протагор, прим. 13.
[623]
О противопоставлении софистами природы
и обычая
(закона) см.: Гиппий больший, прим. 13. Закону, установленному людьми и государством, противопоставляется также «неписаный» закон, о котором говорит Антигона в одноименной трагедии Софокла (457–461):
Не знала я, что твой приказ всесилен
И что посмеет человек нарушить
Закон богов, не писаный, но прочный.
Ведь не вчера был создан тот закон –
Когда явился он, никто не знает.
Пер. С. Шервинского.
Ср. у Ксенофонта беседу Сократа и софиста Гиппия: «…о неписаных каких‑нибудь законах, Гиппий, ты имеешь сведения? – спросил Сократ. – Да, – отвечал Гиппий, – это те, которые признаются одинаково во всякой стране… – Так кто же, по‑твоему, установил эти законы? – спросил Сократ. – Я думаю, – отвечал Гиппий, – боги дали эти законы людям» (Воспоминания… IV 4, 19‑20). О высоком предназначении закона как некой нравственной силы, дарованной Зевсом, см. у орфиков: «Закон сопрестолен Зевсу, как говорит Орфей» (fr. 160 Kern). У орфиков был даже «Гимн Ному», т. е. Закону, который красноречиво именовался в нем «святым царем бессмертных и смертных», «небесным», «верной скрепой моря и суши», «опорой телесной природы». Он несет «беззаконным злейшую месть», он «блаженный», «всечтимый, несущий обилие» (64 // Orphei hymni / Ed. G. Quandt. Berolini, 1955).
[624]
Свободный (будь то мужчина, женщина, старик или мальчик) и раб
у софистов имеют каждый свою особую добродетель, причем, по их мнению, нет никакой добродетели в том, чтобы не сопротивляться злу злом, как учил Сократ (Критон, прим. 11). Согласно «Менону» 71е – 72а, добродетель состоит в том, чтобы «справляться с государственными делами, благодетельствуя при этом друзьям, а врагам вредя и остерегаясь, чтобы самому от кого не испытать ущерба… Добродетель ребенка – и мальчика, и девочки – совсем в другом; в другом и добродетель престарелого человека, хоть свободного, хоть раба».
[625]
В том, что законы устанавливают слабосильные
– «а их большинство», – чтобы оградить себя от сильных, уверен не только Калликл. Критий (см.: Хармид, прим. 4), по свидетельству Секста Эмпирика, «принадлежавший к числу безбожников, поскольку он говорил, что бога выдумали древние законодатели… чтобы никто тайно не обижал ближнего, боясь наказания от богов» (88 В 25 Diels), прямо говорит устами героя своей сатировской драмы Сисифа: «Было время, когда жизнь людей была беспорядочной и подобной жизни животных и когда господствовала грубая сила… Затем… люди установили карающие преступников законы, чтобы справедливость царствовала одинаково над всеми и чтобы насилие было у нее в неволе» (Ibid., 1‑7).
[626]
Отец Ксеркса
– Дарий I. См.: Алкивиад I, прим. 5 и Менексен, прим. 21.
[627]
Речь Калликла свидетельствует о том, какими крайними выводами чревато учение софистов. Калликл – индивидуалист, действующий всегда по произволу и неизменно считающий свои действия справедливыми. Он требует активности, а не увещания и философских бесед. Калликл как человек сугубо практический проницательно видит будущее Сократа, осужденного (486b) и потерпевшего поражение из‑за нежелания активно сопротивляться злу. Интересно сравнить отношение к большинству Сократа, с одной стороны, и Калликла и софистов – с другой: в противоположность Калликлу Сократ считает, что установления большинства – это установления сильных, т. е. законы, которым надо подчиняться. Позиция Сократа в отношении большинства ясно рисуется в диалоге «Критон», а также в ряде мест диалога «Горгий» (459а, 488de).
[628]
Пиндар
(522–442) – великий греческий лирик, родом из Фив, создатель хоровых песен – «эпиникиев» в честь победителей на общегреческих играх. Здесь цитируется fr. 169 Snell‑Maehler; в его «Немейской оде» (X 72) читаем также: «Тяжкий спор – общаться с мощными людьми». Геракл,
который в дальнейшем (например, у киников) получает облик страдальца, в классическом представлении отлицетворял собой грубую силу.
[629]
См.: Алкивиад II, прим. 10.
[630]
Т.е. Гомера (см. Ил. IX 440 сл.). Имеются в виду слова Феникса, воспитателя Ахилла, обращенные к нему:
Юный, не знал ни войны ты, для всех одинаково тяжкой,
Ни совещаний народных, где славой венчаются люди.
[631]
См.: Алкивиад II, прим. 10.
[632]
Здесь Калликл перефразирует слова Зета
к Амфиону
(fr. 185 N. – Sn.); «женственное поведение», в котором Зет упрекает Амфиона, Калликл заменил «ребячеством».
[633]
Еврипид.
Антиопа (fr. 186 N. – Sn.).
[634]
Калликл перефразирует строки из «Антиопы» (fr. 188 N. – Sn.), где Зет увещевает своего брата Амфиона обратиться к «благозвучию бранных дел», оставив другим «тонкие уловки и софистические ухищрения». Калликл вместо слов «прекрати свои мелодии» говорит «прекрати свои изобличения»; вместо «благозвучания бранных дел» – «благозвучие дел»; он опускает слово «софизмы», оставляя «уловки эти тонкие». Интересно, что именно Калликл опускает «софизмы». Он сам софист и прекрасно понимает, что такое софистические ухищрения, которыми Сократ не пользовался и которые он презирал.
[635]
Ср. Феогнид
(119 Diehl):
Золото ль, Кирн, серебро ль фальшиво – беда небольшая,
Да и сумеет всегда умный подделку узнать.
Пер. В. В. Вересаева.
[636]
О Тисандре из Афидны
(Аттика, фила Акамантида) нет никаких сведений. Он вряд ли может быть отождествлен с родичем Перикла и послом в Персии в 423 г. Об Андроне, сыне Андротиона
см.: Протагор, прим. 19. Навсикид из Холарга
(Аттика, фила Аянтида), возможно, то же самое лицо, что и у Ксенофонта (Воспоминания… II 7, 6): богатый мельник, который «не только себя со слугами может прокормить, но сверх того и множество свиней и коров, и столько у него еще остается, что он и в пользу города может часто исполнять разные литургии».
[637]
Здесь цитируется fr. 638 N. – Sn. Еврипида (Полиид). Мотив отождествления жизни и смерти нередок у Еврипида. Ср. fr. 833 N. – Sn. (Фрикс): «Кто знает, не зовется ли жизнь смертью, а смерть жизнью?» Здесь возможны отзвуки знаменитого гераклитовского учения о противоположностях, представляющих собой некое диалектическое единство. Гераклит называет рождение смертью (22 В 21 Diels). Ср.: «Когда человек умер (и погас свет его очей), он жив и ночью зажигает себе свет» (22 В 26 Diels). Далее читаем: «Бессмертные смертны, смертные бессмертны, жизнь одних есть смерть других; и смерть одних есть жизнь других». Все материальные стихии тоже живут смертью друг друга: «Огонь живет смертью земли; воздух живет смертью огня, вода живет смертью воздуха, земля – смертью воды» (22 В 62, 76 Diels).
[638]
Тело как могила души – идея орфико‑пифагорейская, которую можно найти у пифагорейца Филолая (Ю. Италия). Именно у него Платон покупал через Диона пифагорейские книги (44 А 1 Diels) и ездил к нему (А 5 Diels) в Италию. Сам же Филолай жил одно время в Фивах, где его слушал ученик Сократа Кебет (44 A 1a Diels). Платон под мудрым человеком
понимает, видимо, Филолая, о чем говорит Климент Александрийский, толкуя данное место «Горгия» (44 В 14 Diels). Здесь же Климент ссылается и на другого пифагорейца, Евксифея, и пишет: «Свидетельствуют также древние теологи и прорицатели, что в наказание за некоторые преступления душа соединена с телом и как в могиле погребена в нем». То, что Платон говорит далее о «незримом мире» и об «обитателях Аида» (493b), тоже имеет отношение к Филолаю, который утверждал, что «все заключено богом как бы в темнице», показывая тем самым «существование единого и высшего, чем материя» (44 В 15 Diels). Представление о жизни как темнице и о теле как могиле души характерно и для орфиков (1 В 3 Diels) с их дуалистическим отделением чистой, божественной души от испорченного и смертного тела. Идея эта была чужда ионийцам. Она порождена орфической космогонией, где из тела и крови растерзанного титанами младенца Диониса происходят люди с их исконным дуализмом доброй и злой природы (см.: fr. 220. Kern). С марксистских позиций освещает воззрения орфиков и происхождение их дуализма Дж. Томсон (Первые философы / Ред. и послесловие А. Ф. Лосева. М., 1959. С. 217–237). Символическая картина жизни как темницы или пещеры, откуда люди наблюдают только за призраками, тенями истинной жизни, дана у Платона (Государство VII 514а – 517b). Понимание Аида как «незримого мира» связано также со старинным этимологическим толкованием слова «аид»: Άίδης ← ά‑Fιδης («невидимый»). Отсюда миф о шапке‑невидимке бога смерти Аида (см. Ил. V 844 сл.): «Чтоб ее он не видел, дочь Эгиоха‑Кронида покрылася шлемом Аида». Однако современная этимология предпочитает связь слова «Аид» с греч. αίανής (*sai‑Faνης) «ужасный» (ср. лат. saevus – «жестокий»). См.: Carnoy A.
Dictionnaire etymologique de la mythologie greco‑romaine. Louvain, 1957, Hades). Автор схолии к этому месту Платона видит в мудром человеке,
считающем тело могилой души, сицилийца или италийца, возможно, Эмпедокла. «Он ведь был, – продолжает схолиаст, – пифагореец и родом из Акраганта, города в Сицилии… а вблизи Сицилии – Кротон и Мета‑понт, города, где учили пифагорейцы, живущие в Италии». В дошедших до нас фрагментах Эмпедокла, правда, нет такого точно высказывания, но, например, в одном из этих фрагментов он «объемлющее душу тело» называет «закрывающей смертных землей» (31 В 148–150 Diels), мы бы сказали – могилой, могильным холмом. Эмпедокл был близок к пифагорейцам, «слушал Пифагора» и «обнародовал учение пифагорейцев» (31 А 1, 54, 55 Diels), а самого Пифагора он именует «человеком необычайного знания», который «обладал в самой высокой степени разнообразной мудростью… и созерцал отдельные явления всего существующего даже за десять и за двадцать человеческих поколений». Вполне возможно, что в этом гераклитовском и орфико‑пифагорейском сплаве смерти‑жизни есть доля и Эмпедокла.
[639]
Птица‑ржанка
славится своей ненасытностью, причем еда не идет ей впрок.
[640]
Т.е. из дема Ахарны.
[641]
Калликла раздражает приверженность Сократа к примерам из повседневной жизни (см.: Критон, прим. 9).
[642]
Великим
таинствам, или мистериям, в Элевсине (осенью, в месяце Боедромии) предшествовали Малые
мистерии в Афинах (весной, в месяце Анфестерии). Сократ иронически замечает, что Калликл презирает постепенность познания, сразу хватаясь за обобщения.
[643]
Поговорка, которую схолиаст Платона приписывает Эмпедоклу: «Ведь что нужно, и дважды хорошо поведать» (31 В 25 Diels). Однако Дильс, комментируя этот фрагмент, считает, что поговорка Платона не заимствована у Эмпедокла и по смыслу не относится к его высказываниям. См. также: Филеб 60а.
[644]
Букв.: «пользоваться настоящим и принять, что ты даешь». Ср. высказывание Питтака о том, что лучше всего «хорошо делать то, что делаешь» (Диоген Лаэрций I 77). Гесихий упоминает данное место Платона с указанием на происхождение его от пословицы (см.: Hesichii Alexandrini Lexicon. Ed. M. Schmidt. Ienae, 1867. P. 1464).
[645]
См.: Алкивиад I, прим. 15.
[646]
Игра на флейте
оценивается Платоном как забава, не требующая работы. В III книге «Государства», где идет разговор о поэзии и музыке в идеальном государстве, а также о месте их в воспитании молодежи, Платон отвергает мастерство флейтистов и музыкантов. Он предпочитает бога Аполлона и изобретенные им лиру и кифару сатиру Марсию с его флейтой (399е). Об этическом значении музыки см.: Протагор, прим. 38.
[647]
Кинесий, сын Мелета,
– автор дифирамбов, которого не раз высмеивали комедиографы. Аристофан в «Облаках» (ст. 333 сл.) пишет о «голосистых искусниках в круглых хорах» (т. е. дифирамбах. – А. Т.‑Г.),
а в комедии «Птицы» Кинесий в шутовском виде является к птицам, где над ним издевается один из героев комедии, Писфетер. Отца Кинесия Мелета комедиограф Ферекрат в комедии «Дикари» (fr. I 6 Kock) назвал «наихудшим кифаредом».
[648]
Известно, что на театральных зрелищах в Афинах могли присутствовать женщины и дети (последние в зависимости от сюжета даваемого спектакля), а также рабы.
[649]
См.: Феаг, прим. 19. Мильтиад
(VI–V вв.) – знаменитый афинский полководец времен греко‑персидской войны, отец Кимоноа.
В 400 г. одержал победу над персами при Марафоне (см. также прим. 76).
[650]
В ориг. είδος. См. Евтифрон, прим. 18.
[651]
Ставшее поговоркой выражение Эпихарма
(fr. 253 Kaibel), знаменитого сицилийского комедиографа (VI–V вв.), близкого по взглядам к пифагорейцам. Философские фрагменты Эпихарма собраны у Дильса (Bd I. Кар. 23).
[652]
Если Калликл, сравнивая себя выше с Зетом,
уговаривал Сократа заняться практической деятельностью (484с – 486а), то теперь Сократ хочет внушить ему созерцательные мысли Амфиона
и расположить Калликла к философии (см.: Алкивиад II, прим. 10).
[653]
Поговорка записать благодетелем
– значит удостоить кого‑нибудь звания «эвергета» (благодетеля), которым греки награждали лиц, принесших общественную пользу государству (даже иностранцев).
[654]
Мудрецами,
о которых здесь (и ниже – 508а) говорится, схолиаст к Платону считает пифагорейцев, и «особенно Эмпедокла, говорящего, что Дружба объединяет шаровидный космос, делая его единым». Действительно, у Эмпедокла Дружба, или Любовь (она же Афродита), – важнейший космогонический принцип, противопоставляемый Вражде, или Раздору. «Эмпедокл же к началам причисляет Дружбу, понимая под ней некую соединительную силу (31 В 17 Diels). По Эмпедоклу, „Вражда и Любовь без очереди господствуют над людьми, рыбами, зверями и птицами“ (В 20 Diels). Точно так же все стихии – „и лучезарное Солнце, и Земля, и небо, и море – дружны всеми своими частями… и, будучи уподоблены Афродитой, одержимы взаимным любовным влечением“ (В 22 Diels). Космос же мыслится „беспредельным, шаровидным, гордым в своей замкнутости“ (В 28 Diels), так как в нем все уже соединено Любовью и он является не чем иным, как именно „царством Любви“ (В 27 Diels). См. также: Лисид, прим. 24. Мудрец, назвавший мир космосом,
т. е. порядком,
– это Пифагор. О нем сообщает известный доксограф Аэций: «Пифагор первый назвал окружность целого космосом по заключенному в нем порядку». У элеатов тоже есть «мировой порядок», благодаря которому бытие «не может ни разойтись совершенно, ни соединиться» (Парменид В 2). О космосе в смысле «мира» говорит Демокрит: «Мудрому человеку вся Земля открыта. Ибо для хорошей души отечество – весь мир» (68 В 247 Diels = 509 Маков.).
[655]
Геометрическое равенство,
по словам схолиаста, «это – справедливость». Такое равенство Платон в «Законах» назвал «суждением Зевса» (VI 757b); там проводится различие между равенством «мер, веса, числа», т. е. чисто арифметическим, и «истинным, наилучшим равенством, ибо оно есть суждение Зевса», т. е. равенством геометрическим.
[656]
Ср. у Гомера (Од. XVII 219): «Бог, известно, Всегда подобного сводит с подобным». Эта же мысль почти без изменения повторяется у самого Платона в «Пире» (195b). По Аристотелю, «натурфилософы приводят в порядок всю природу, взявши в качестве принципа стремление подобного к подобному» (31 А 20а Diels). У атомиста Левкиппа при описании образования миров из первобытного вихря тоже проводится принцип стремления подобного к подобному (67 А 1 Diels); у Демокрита (68 А 99а Diels) «во влажном, как и во всем, подобное стремится к подобному». Тот же Демокрит полагает (68 А 165 Diels = 200 Маков.), что «происходят истечения и подобное несется к подобному… Магнит и железо поэтому состоят из подобных атомов». См. также: Лисид 214b, Федр 240с, Протагор 337cd; Ксенофонт (Псевдо‑Ксенофонт).
Афинская полития III 10 сл.; Аристотель,
Риторика I 11, 1371b. Приведенные тексты свидетельствуют, что эта очень старая и весьма популярная мысль, начиная с Гомера, пронизывает всю натурфилософию, кончая философами‑атомистами (позднейших, еще более многочисленных текстов на эту тему мы не приводим).
[657]
См.: Алкивиад I, прим. 35; Апология Сократа, прим. 28. Понт
– Черное море.
[658]
Здесь намек на слова Гектора, сказанные им его жене Андромахе при их последнем прощании: «Ну, а судьбы не избегнет, как думаю я, ни единый» (Ил. VI 488). Вообще же неизбежность судьбы – общее место в архаической греческой литературе. Вот почему Сократ иронически называет веру в судьбу «женской мудростью». Женщины считались хранительницами суеверий, как и всех других архаических традиций. Известно, например, что смертельно больной Перикл, которому женщины надели на шею ладанку, показал ее своему другу, желая этим сказать, «что ему очень плохо, раз уж он согласен терпеть и такую нелепость» (см. Плутарх.
Перикл XXXVIII). Мужчина же (герой) у Гомера иной раз даже «гибель судьбе вопреки на себя навлекает безумством» (Од. I 34‑36).
[659]
Фессалия славилась своими колдуньями, которые будто бы даже заговаривали Луну и сводили ее на Землю. Это их владение магическими силами вошло в пословицу. В словаре Суда (Επί σαυτφ) читаем о необычной силе фессалийских колдуний: «Ты притягиваешь к себе Луну». Есть пословица о наговорах ими зла. Вспомним знаменитую идиллию Феокрита «Колдуньи», где героиня обращается с заклятием к «царице Селене» и к «мрачной Гекате глубин, лишь заслышавши поступь которой, в черной крови меж могил дрожат от страха собаки» (II 10‑13 // Феокрит, Мосх, Бион.
Идиллии и эпиграммы). Недаром Лукий, герой «Золотого осла» Апулея, приехав по делам в Фессалию, испытывает на себе все прелести колдовства хозяйки дома и ее служанки. Апулей прямо говорит о Фессалии как о родине магического искусства (II 1). О «даре волшебницы из Ларисы», фессалийского города, упоминает и эпиграмма неизвестного автора (V 205 Beckby).
[660]
См. прим. 28.
[661]
См.: Лахет, прим. 20.
[662]
Плутарх пишет о Перикле:
«По свидетельству многих других авторов, Перикл приучил народ к клерухиям (т. е. раздачам наделов. – А. Т.‑Г.),
получению денег на зрелища, к вознаграждениям; вследствие этой дурной привычки народ из скромного и работящего под влиянием тогдашних политических мероприятий стал расточительным и своевольным» (Перикл IX). Плутарх повествует об обвинениях, направленных против Перикла демосом и инспирированных врагами Перикла. Смерть друга Перикла скульптора Фидия, обвиненного в воровстве золота, предназначенного для статуи Афины, процесс над другом Перикла философом Анаксагором и изгнание его, нападки на возлюбленную Перикла Аспазию, чума, разразившаяся в Афинах, и военные неудачи афинян – все это привело к тому, что афиняне «с камешками в руках стали голосовать против Перикла и, получив всю полноту власти, лишили его должности стратега и наложили денежный штраф» (XXXV). Однако афиняне раскаялись, и «народ просил простить ему его несправедливость» (XXXVII). См. также: Феаг, прим. 19.
[663]
Кулачная борьба, в которой могло быть повреждено и лицо, была очень распространена у спартанцев (ср.: Протагор 342b).
[664]
Такого изречения буквально у Гомера нет. Однако есть близкие по смыслу места, например: Од. VI 119–121; VIII 575 сл.
[665]
Кимон
(см.: Феаг, прим. 19) в 461 г., после помощи спартанцам в третьей Мессенской войне, был изгнан путем остракизма
(голосования с помощью глиняных черепков) на 10 лет, но в 457 г. был возвращен по совету Перикла (см.: Плутарх.
Кимон XVII). По поводу обычая подвергать остракизму
выдающихся деятелей Плутарх (Фемистокл XXII) замечает: «Остракизм был не наказанием, а средством утишить и уменьшить зависть, которая радуется унижению выдающихся людей и, так сказать, дыша враждой к ним, подвергает их этому бесчестью».
[666]
Фемистокла
(см.: Феаг, прим. 19) в 471 г. подвергли остракизму, «чтобы уничтожить его авторитет и выдающееся положение» (Плутарх.
Фемистокл XXII).
[667]
Мильтиад
после неудачного похода против о. Парос был осужден якобы за обман афинян. Геродот (VI 136) сообщает, что отец Перикла Ксантипп требовал смертной казни Мильтиаду, а «народ благоволил к Мильтиаду настолько, что освободил его от смертной казни, но за преступление против гусударства наложил на него пеню в 50 талантов», причем Мильтиад умер, так и не заплатив денег, которых он не имел, а за него расплатился впоследствии его сын Кимон.
[668]
Имя пекаря Теариона
встречается во фрагментах Аристофана (I fr. 155 Kock) и Антифана (II fr. 176 Kock). Митек
из Сиракуз – автор поваренной книги. Афеней (XII 516с) упоминает его в числе знаменитых кулинаров – Главка Локридского, Дионисия из Сиракуз, Эпайнета, Евтидема и др. Сарамб
– виноторговец, о славе которого упоминает комик Посидипп (III fr. 29 Kock); Атеней, перечисляя этих трех знаменитых мастеров своего дела (III 112de), ссылается на диалог Платона «Горгий».
[669]
См.: Алкивиад I, прим. 15.
[670]
Поговорка, указывающая на то, что вещи надо называть своими именами, как бы плохи они ни были. Рабы из мисийцев
(малоазиатское племя) считались самыми плохими. В «Теэтете» Платона (209b) о ничтожном человеке говорится как о «последнем из мисийцев».
[671]
Сократ здесь как бы видит перед собой будущее, которое осуществится через несколько лет: события в «Горгии» происходят около 405 г. Диалог написан вскоре после смерти Сократа, еще живы воспоминания о трагическом одиночестве невинно осужденного, о полной его беззащитности перед клеветой и несправедливостью. Здесь чувствуется непосредственный отзвук обвинений, вменяемых Сократу как «развратителю юношества» (см.: Апология Сократа, прим. 23).
[672]
Согласно Сократу, по существу только истинный философ может быть воспитателем народа и мудро руководить им. Эта мысль пронизывает «Государство». В идеальном государстве философы специально воспитываются для этого (VI 498с – 504е) и именно они управляют государством, созерцая сущность идей, а не внешнее разнообразие чувственного мира (V 473с – 480а). Платон пишет: «Пока в городах не будут либо философы царствовать, либо нынешние цари и властители искренне и удовлетворительно философствовать, пока государственная сила и философия не совпадут в одно… дотоле… не жди конца злу».
[673]
Ниже Сократ рассказывает миф о том, как Зевс учредил суд над мертвыми. У Платона не раз встречаются упоминания и описания судьбы душ в загробном мире. В «Федоне» (107с – 114с) рисуется подробный путь души в Аид, а также «истинное небо, истинный свет и истинная земля» иного мира, где все прекрасно, все полно света и сияния. Вместе с тем подробно изображена топография Тартара и подземных рек. Те же, «кто благодаря философии очистился полностью, впредь живут совершенно бестелесно и прибывают в обиталища еще более прекрасные» (114с). В «Федре» (245с – 249d) есть образ вселенской бессмертной души, ибо «вечно движущееся бессмертно». Каждая отдельная душа подобна «слитой воедино силе упряжки крылатых коней и возничего» (246b). Зевс, воинство богов и демонов на крылатых колесницах мчатся по небу, а за ними жадно стремятся попасть в занебесную высь души смертных, но их тянут вниз все их земные несовершенства. Здесь же, в «Федре», – орфико‑пифагорейское учение о переселении душ. В «Государстве» (X 614а – 621b) некий памфилиец Эр рассказывает о странствии своей души по царству мертвых, о суде над умершими и о жребии, который выбирают души, чтобы вновь возродиться на земле. Там же знаменитое описание небесных сфер с поющими сиренами и мирового веретена между коленями Ананки – богини Необходимости.
Среди источников платоновских описаний загробного мира в первую очередь необходимо указать Гомера: Одиссей спускается в царство мертвых, беседует с тенями, вкусившими свежей крови и обретшими память (Од. XI 145–234). Кроме беседы с душами Агамемнона, Ахилла и Аякса, которые сохранили все свои земные страсти и горести (ст. 185–564), Одиссей наблюдает, как Минос, сын Зевса, с золотым жезлом правит суд над умершими, а они, «кто сидя, кто стоя», ждут своей очереди (ст. 568–571). Наконец, Одиссей видит наказания преступников Тития, Тантала и Сисифа (ст. 576–600). Два последних момента наиболее интересны, так как здесь чувствуется уже орфическое представление о справедливом воздаянии душе за ее земные проступки. У. Виламовиц‑Мёллендорф, который еще в прошлом веке отметил данное место как орфическую вставку (Wilamowitz‑Moellendorff U. v.
Homerische Untersuchungen. Berlin, 1884), впоследствии, в 30‑х годах XX в., в своей книге «Вера эллинов» категорически отказался от этой мысли (Der Glaube der Hellenen. 3. Aufl. Basel, 1959. S. 198). Во всяком случае XI песня «Одиссеи» настолько сложна, что здесь можно наметить в представлениях Гомера о душе шесть разных историко‑культурных напластований (см. Лосев А. Ф.
Античная мифология в ее историческом развитии. С. 23–25).
Однако даже если не считать гомеровских преступников и суд над ними орфической вставкой у Гомера, то у Пиндара, этого чистейшего орфика, можно найти подлинные истоки платоновского представления о загробном мире. В «Олимпийских одах» (II 54‑88 Snell‑Maehler) рисуется стройная концепция загробной судьбы душ. Преступления, содеянные на земле, наказуются под землей, а достойные люди проводят век свой «бесслезно» и «радуясь» «среди почтенных богов». Те же, кто трижды уже испытал перевоплощение в обоих мирах, совершают путь на Острова блаженных, где сияют золотые цветы, которыми увенчивают себя праведники после суда Радаманта (о нем и Миносе см.: Апология Сократа, прим. 54). Среди этих праведных душ пребывают Пелей (отец Ахилла), герои Кадм и Ахилл. У Пиндара, таким образом, мы находим идею посмертного воздаяния, Острова блаженных, суд Радаманта и круговорот душ. Поэт замечает, что «стрелы в его колчане звучат для разумных», ибо «мудрый рождается знающим многое», а «для всех» нужны толкователи. Тем самым Пиндар как бы обращается к посвященным и отделяет их от тех, кому неведомо тайное учение орфиков.
Как видно из рассказа Сократа в «Горгии», Гомер дает Платону основные моменты мифа: раздел власти между Зевсом, Посейдоном и Плутоном (Ил. XV 187–193), представление о Тартаре (Ил. VIII 13‑16) и о месте для праведников (Од. IV 561–569), о «Елисейских полях», где нет ни снега, ни бурь, ни дождя, а веет лишь Зефир, наконец, идею загробного суда Миноса и загробного воздаяния. Правда, Острова блаженных у Гомера не упоминаются, но они есть у Гесиода (Труды и дни 166–173), так же как и «сумрачный Тартар», в котором залегают «корни земли и горько‑соленого моря» (Теогония 721–728). Но дело даже не только в таких подробностях, что умерших в Азии будет судить Радамант, а умерших в Европе – Эак: первый – сын Зевса и финикиянки Европы (Ил. XIV 321), а второй – сын Зевса (Ил. XXI 189) и, по Пиндару, нимфы Эгины (Isthm. VIII 15а – 23 Snell‑Maehler), и не в том, что орфическая идея возмездия встречается у Эсхила (Умоляющие 230 сл.), а распутье дорог (Горгии 524а), по которому идут души, есть пифагорейский символ, выраженный греческой буквой «ипсилон» (Т). Дело в том, что в диалогах Платона все эти элементы складываются в одну стройную картину, части которой, разбросанные по диалогам «Горгии», «Федон», «Федр» и «Государство», соответствуют, вместе собранные, орфической концепции Пиндара, целостно преподанной им во «II Олимпийской оде».
Интересна одна деталь, совершенно оригинальная у Платона и нигде не засвидетельствованная до него: раньше людей судили живыми, а теперь их будут судить мертвыми, чтобы земное тело не заслоняло качеств души, дурных и хороших (ср. у Лукиана – II в. н. э. – Разговоры в царстве мертвых 10 // Собрание сочинений: В 2 т. / Под ред. Б. Богаевского. Т. I. М., 1935: перевозчик мертвых Харон предписывает покойникам сбросить с себя все проступки и земные привязанности, которые они умудрились протащить с собой и в Аид в складках богатых одежд). Поэтому Прометею дается приказ, чтобы он лишил людей дара предвидения. Здесь, несомненно, содержится реминисценция из эсхиловского «Прометея прикованного» (ст. 248), где Прометей считает себя великим благодетелем человечества именно из‑за того, что он лишил людей дара предвидеть свою судьбу.
Орфическая традиция в эсхатологических мифах Платона становится очевидной, если познакомиться еще и с комментарием Прокла к «Государству» Платона (II 340, 11 Kroll); Прокл ссылается на связь орфических и платоновских идей (ср.: fr. 222 Kern). «Платон, – пишет Прокл, – заимствовал у Орфея предание о том, что одни души у Ахеронта очищаются и получают свою благую участь… на прекрасном лугу близ глубоко текущего Ахеронта, а другие наказываются… в холодном Тартаре». Прокл, далее, считает, что Платон заимствовал у Орфея (см.: Ион, прим. 11) предания о переселении душ и что «платоновская философия отличается от всех других тем, что он низводит душу в неразумные существа и делает ее лебедем». Здесь Прокл ссылается на «Государство» (X 620b), где Платон как раз говорит о душе Орфея, избравшей жизнь лебедя (а также душе певца Фамирида, избравшей жизнь соловья), и, наоборот, о лебеде, избравшем душу человека. Душа Аякса переселяется во льва, а душа Терсита (620с) – в обезьяну.
Орфического происхождения у Платона также «закон Кроноса» (Горгий 523а) о загробном воздаянии, или «установлении» (θεσμός), Адрастеи («Неотвратимой» – эпитет Немесиды; см.: Федр 248с – 249d), о круговороте душ, об их переселении, их служении богу или отпадении от него. Сюда можно присоединить платоновскую Ананке – «Необходимость» (Государство X 617b‑е) с тремя дочерьми – Клото и Атропой, воспевающими прошлое и будущее, и Лахесидой, дающей душам жребии жизни. К этому же кругу представлений относится богиня Дике (Федр 249b) – вершительница справедливости в тысячелетнем круговороте жизни души. Еще у Эсхила в «Прометее прикованном» (ст. 936) хор говорит Прометею, что «мудрые поклоняются Адрастее», которая, в интерпретации Гесихия Александрийского, является не кем иным, как Немесидой, т. е. богиней возмездия. В орфических фрагментах (105ab Kern) мы находим историю такой мудрости, которая воплощает в себе «законы Зевсовы, Кроносовы, божественные, надкосмические и внутри‑космические». Именно здесь дается ссылка на Платона, сделавшего Адрастею «демиургом и законораспределительницей». От нее исходят установления для богов. В орфическом фр. 152 опять‑таки указывается на прямую связь платоновского закона о судьбе душ, который растолковывается не раз в упомянутых выше диалогах Сократа, с орфической Адрастеей. Возможно, что орфическое учение о переселении душ и тысячелетних странствиях преступной души было известно Платону и через посредство Эмпедокла, который подробно рисует кары и наказания, испытанные душой. Оказывается, по Эмпедоклу, что душа убийцы или клятвопреступника «будет бродить тысячи лет вдали от счастливых, принимая последовательно всевозможные образы смертных, меняя скорбные пути жизни» (В 115, 6‑8 Diels). Эмпедокл пишет, что «души меняют тело за телом, так как Вражда их изменяет, наказывает и не позволяет
пребывать в едином» (Ibidem). Однако эти «ненавистные души соединяет некая благая Любовь из сожаления к плачу их и к беспокойному и тяжкому созиданию неистовствующей Вражды» (Ibidem). О душе, переселившейся в юношу, деву, ветку, птицу и рыбу, см. фр. 117 Эмпедокла (Diels). Во фр. 119 – скорбь души, низринутой из «полноты блаженства» на Землю, «дабы блуждать здесь среди людей».
Наконец, платоновскую Дике можно найти у Парменида, учителя Эмпедокла. В своей знаменитой поэме «О природе» Парменид славит «неумолимую Дике», хранящую ключи от ворот, через которые пролегают пути Дня и Ночи. Эта Дике открывает человеку ворота, чтобы он познал «бестрепетное сердце совершенной истины» (28 В 1, 11‑14, 28 Diels). Платоновско‑орфические Дике и Ананке выступают у Парменида также под именем «богини‑правительницы» (букв.: «кормчей»), «владеющей Вселенной по жребию» (А 37 Diels).
Учение о бессмертии души характерно и для близкого к Платону пифагорейца Филолая. По его мнению, мир «пребывает бессмертным и непреодолимым в течение бесконечной вечности». Одна часть мира не изменяется никогда и простирается от Мировой души до Луны, другая – изменчивая – от Луны до Земли. Мир находится в вечном движении, он есть «вечная деятельность бога и рожденной твари», причем бог «пребывает неизменно», а сотворенные существа хотя и подвергаются гибели, но «сохраняют свою природу и свои формы и путем рождений вновь восстанавливают ту же самую форму, какую дал им сотворивший их отец и создатель» (44 В 21 Diels). Здесь – хорошо известное Платону учение о бессмертии души и о возрождении ее после гибели тела, а также о «вселенской душе» (Федр 246с). Интересна также мысль Филолая о том, что «душа облекается в тело через посредство числа и бессмертной бестелесной гармонии», столь характерных для учения пифагорейцев. После своей смерти душа «ведет в мире бестелесную жизнь» (44 В 22 Diels). Платоновская душа в мифе, рассказанном здесь Сократом, тоже после смерти лишена земного тела, почему она и может подвергнуться правильному суду за пределами жизни, так как ее не отягощает ничто чувственное. Вот почему в «Федре» (246с‑е) души, утерявшие крылья, т. е. приобщенные к дурному, получают земное тело, а в загробном мире остаются «лишенными созерцания сущего и, удалившись, питаются только представлениями» (248b).
Из всего изложенного очевидно, что мы имеем дело у Платона с орфико‑пифагорейской традицией относительно судьбы души после смерти и ее нового рождения на земле. Огромный материал из истории представлений о душе в античности дает Э. Роде в своей знаменитой книге: Rohde E.
Psyche. 10. Aufl. Tübingen, 1925. Анализ воплощения в творчестве Вергилия эсхатологических традиций Гомера, орфиков, пифагорейцев и Платона можно найти в капитальном труде Э. Нордена: Vergilius Maro P.
Aeneis. Buch VI / Erklärt von E. Norden. Leipzig, 1903. См. также прим. 45 и Менон, прим. 26.
[674]
Зевс
– верховное божество. Посейдон
– брат Зевса, повелитель морей. Плутон
– тоже брат Зевса, бог подземного царства – Аида (Аидом именуется также и сам Плутон. Плутона связывали иногда с богом богатства Плутосом, так как недра земли дают изобилие). См. также Евтифрон, прим. 15: Протагор, прим. 31; Менексен, прим. 14.
[675]
См. прим. 80 и Кратил, прим. 30.
[676]
См. Протагор, прим. 31.
[677]
См. Гиппий больший, прим. 27.
[678]
См. Евтифрон, прим. 22; Апология Сократа, прим. 57. Титий
(миф.) – великан с о. Эвбея, пытавшийся овладеть богиней Латоной. Об их судьбе см. у Гомера (Од. XI 576–600). См. также прим. 80.
[679]
Терсит
– по преданиям, самый уродливый из греков (см. Гомер.
Ил. II 212–277), символ злоречия и злонравия.
[680]
См.: Лахет, прим. 1, 7, 12.
[681]
Од. XI 569.
[682]
О том, что путем упражнения
(аскезы) можно достичь нравственного совершенствования, кроме Платона говорят Ксенофонт и Аристотель. Ксенофонт (Воспоминания… I 2, 23) пишет: «…все хорошие, благородные навыки можно развить в себе упражнением, а особенно нравственность». Аристотель (Никомахова этика I 10, 1) занят вопросом о том, можно ли добродетели научиться, или же она приобретается привычкой либо упражнением, дается какой‑то божественной судьбой или просто случаем (в русск. пер. Э. Радлова – «Этика Аристотеля». СПб., 1908 – как раз опущен самый для нас существенный термин: «упражнение». Вместо этого Радлов пишет: «Или другим каким путем»). Обычно греческие классические авторы употребляют глагол άσκέω («упражняюсь») в физическом смысле. Только христианство в полной мере стало понимать под аскетической жизнью и «аскезой» духовное совершенствование.
[683]
Сократ иронически говорит о мудрости фессалийцев,
так как они скорее славились своей роскошью, необузданностью (см. Критон 53d) и пристрастием к лошадям (Гиппий больший 284а). Аристипп
из г. Лариса в Фессалии, как и Менон, из рода фессалийских владетелей Алевадов. Он, по Ксенофонту (Анабасис I 1, 10), друг Кира Младшего, брата персидского царя Артаксеркса (см. преамбулу, с. 819, а также Менексен, прим. 34 и 41). Аристипп втайне готовил для Кира войско, необходимое для его похода против брата. Как и Менон, он ученик Горгия. Интересно, что среди стратегов, принявших участие в опасной авантюре Кира Младшего, был еще один ученик Горгия – Проксен беотиец (Ксенофонт.
Анабасис II 6, 16).
[684]
См.: Апология Сократа, прим. 9, а также Горгий, преамбула.
[685]
Менон отвечает на вопрос Сократа с замечательной легкостью самоуверенного человека. Такова в целом ряде случаев позиция собеседников Сократа (ср. Гиппий больший 286е, где Гиппий тоже с легкостью отвечает на вопрос Сократа о том, что такое прекрасное), которые в конце концов признаются в своей несостоятельности.
[686]
Весь этот пассаж свидетельствует о хорошо усвоенном Меновом софистическом релятивизме и о характерной для софистов подмене общего понятия частными. Для Сократа и Платона добродетель едина. Сравнивая природу мужчины
и женщины,
Сократ говорит в «Пире» Ксенофонта (II 9): «Женская природа нисколько не ниже мужской, только ей не хватает силы и крепости».
[687]
Философское понятие сущности
в доплатоновской философии не употреблялось; термин этот имел отношение только к физической сущности человека и к его имуществу. У самого Платона «сущность» понимается разнообразно. Например, в «Федоне» (84d) это «бытие, существование которого мы выясняем в наших вопросах и ответах»; там же (65de) Сократ рассуждает о «сущности всех вещей – о величине, здоровье, силе и так далее… о том, чем каждая из них является по самой своей сути», т. е. мы бы сказали – по своей природе. В «Федре» (237с) идет разговор о «сущности предмета» как необходимой предпосылке для всякого логического рассуждения. Не уяснив себе этой сущности, нельзя вести беседу, так как она будет изобиловать противоречиями. Сущность, которая упоминается здесь, принадлежит, видимо, к той же категории, что и сущность в указанном выше месте диалога «Федон».
[688]
Здесь характерное перечисление добродетелей
для ученика софистов Менона: мужество,
необходимая для практической жизни рассудительность
(σωφροσύνη) и мудрость
(σοφία), а также щедрость,
или скорее, великолепная широта натуры. Все это качества не только созерцательной «философской души» (Государство VI 486d), но и души деятельной. Однако Платон, перечисляя свойства истинного философа, включает в них и великодушие (487а), т. е. ту же самую щедрость натуры, о которой говорит Менон, причем по‑гречески эта щедрость обозначается в обоих случаях одинаково – μεγαλοπρέπεια. Правда, Сократ включает в число видов добродетели благочестие, или справедливость («честность», 78d), т. е. именно то, что совсем отсутствовало у исторического Менона.
[689]
Цвета
и очертания
(74b) занимают у Платона почетное место в учении о несмешанном источнике наслаждения. В «Филебе» (51b) именно такое наслаждение вызывается «красивыми красками, прекрасными цветами, формами, весьма многими запахами, звуками». Интересно, что под красотой формы (здесь – очертаний) Сократ понимает не красоту конкретного единичного живого существа, а «прямое и круглое, в том числе, значит, поверхности и тела… а также фигуры, построенные с помощью отвесов и угломеров» (Филеб 51с). Таким образом, отрешенный от тела цвет и геометрическая форма тела вызывают, по Платону, беспримесное наслаждение. См. также прим. 14.
[690]
Сократ противопоставлял метод спора – эристику методу беседы и рассуждения – диалектике (см.: Евтидем, прим. 37 и 38). Диалектика добивается объективной истины, а эристика – субъективной правоты каждого из спорящих. Эристика недостойна истинного философа, и Сократ называет таких спорщиков возражателями (Лисид 216а). В «Федоне» (89d) Сократ больше всего боится стать «ненавистником всякого слова и рассуждения, как иной становится человеконенавистником, ибо нет большей беды, чем ненависть к слову». Здесь, очевидно, под ненавистниками рассуждения и подразумеваются «возражатели», идентичные по своим методам «ненавистникам слова». В диалоге «Теэтет» (165de) тоже рисуется портрет такого «ненавистника слова» – «пращника в рассуждениях». Он «вдается в споры по найму, закидает тебя из своей засады… он будет опровергать тебя настойчиво и не отпустит, пока ты… запутавшись в его сети, не откупишься деньгами».
[691]
Продик
(см.: Апология Сократа, прим. 9) любил изучать синонимы. См. также: Протагор, прим. 43.
[692]
См.: Апология Сократа, прим. 9.
[693]
Эмпедокл
из Акраганта в Сицилии, крупнейший натурфилософ VI–V вв., по свидетельству Аристотеля (35 А I, 57 Diels), «первый изобрел риторику». Он был учителем Горгия. Вот почему Сократ говорит о согласии
(софистов. – А.Т.‑Г.)
с Эмпедоклом. Эмпедокл (В 89 Diels) писал: «Знай, что из всех существующих предметов истекают токи». Изображения на зеркале тоже, по его мнению, происходят благодаря истечениям
от предметов, выделяющимся на зеркале (А 88 Diels). Человеческий глаз тоже воспринимает истечения от предметов (А 90 Diels). Это учение оказалось близким учению атомистов. У Демокрита тоже «от всего всегда происходит некое истечение» (А 135 Diels = 274 Маков.). Это учение было очень устойчиво и через Эпикура впоследствии перешло к римлянину Лукрецию (О природе вещей IV 42 сл.), у которого
…с поверхности всяких предметов
Отображения их отделяются тонкого вида.
См. также прим. 15; Горгий, прим. 45 и 61.
[694]
Платон здесь приводит строку из не дошедшей до нас гипорхемы (песни‑пляски) Пиндара
(см.: Горгий, прим. 35) в честь Гиерона Сиракузского (fr. 105 Snell‑Maehler).
[695]
Ср. Тимей 67с, где цвет, включающий в себя множество разновидностей, есть не что иное, как пламя, «истекающее от каждого из тел, которому, чтобы оно воспринималось чувством, даны соразмерные зрению частицы». Смешение оттенков и происхождение цвета представлены у Платона в целой системе в том же «Тимее» (67d – 68d). См. также прим. 8.
[696]
Т.е. напыщенный, величавый; так отвечать было свойственно учителю Менона Горгию и учителю этого последнего Эмпедоклу. Известно, что оба они любили роскошь и несколько театральное великолепие. Сообщают, что Эмпедокл усвоил «трагическую напыщенность и торжественную одежду» Анаксимандра (А 1, 70 Diels). Примечательно свидетельство о том, что Эмпедокл, «имея золотой венок на голове, медные башмаки на ногах и дельфийские венки в руках, обходил города, желая распространить славу о себе, как о боге» (А 2 Diels). В «Кратиле» Платона говорится о том, что в зависимости от произнесения и изменения слов можно придать им «трагический» характер (414с).
[697]
См.: Евтидем, прим. 21.
[698]
Шутливая поговорка.
[699]
Бергк относит эту строку к фрагментам неизвестного автора (fr. 130 Bergk).
[700]
Менон был потомственным гостем
персидского царя, как и его предки, родичи Алевадов, помогавшие Ксерксу во время похода против греков.
[701]
Менон недаром сравнивает Сократа с морским,
так называемым электрическим, скатом,
о котором подробно писали античные натуралисты, например Аристотель в «Истории животных» (IX 37, 620b 19‑29 // Aristotelis. De animalibus historia. Lipsiae, 1907). Как известно, Сократ был некрасив лицом и низкого роста. Алкивиад сравнивал его также с уродливым силеном или сатиром Марсием (Пир 215b).
[702]
О колдовской силе речей Сократа говорит Алкивиад в «Пире» (см.: Алкивиад I, прим. 58).
[703]
См.: Горгий, прим 80. О переселении душ трактует и «II Олимпийская ода» Пиндара. Строки, цитируемые ниже Платоном, – из «Тренов» («Плачей») Пиндара (fr. 133 Snell‑Maehler). Персефона,
о которой здесь идет речь, – супруга Плутона (Аида), богиня царства мертвых.
[704]
О знании как воспоминании прежнего жизненного опыта, заложенного в душе до ее нового воплощения, Платон говорит не раз. В «Федре» (249bc) человек понимает истину на основании единого общего понятия (идеи), которое есть воспоминание о том, что «некогда видела наша душа, когда она сопутствовала богу». В «Федоне» (72е – 76е) есть целое рассуждение на эту тему, причем Сократ полагает, что человек, рождаясь, теряет то, чем он владел до рождения, а потом с помощью чувств восстанавливает прежнее знание. Отсюда познавать означает восстанавливать знание, уже тебе принадлежавшее. «И, называя это воспоминанием, – говорит Сократ, – мы бы, пожалуй, правильно употребили это слово» (75е). Однако «анамнесис», т. е, воспоминание, Платон отличает от памяти. В «Филебе» (34bс) душа вспоминает, как она «без участия тела отчетливым образом воспроизводит то, что она испытала когда‑то совместно с телом». Памятью же называется тот процесс, «когда душа, утратив память об ощущении или о знании, снова вызовет ее в самой себе». Таким образом, память связана с чувственными ощущениями и знаниями, а воспоминание – с чисто духовным ощущением и знанием. Представление об «анамнесисе» принадлежит, видимо, самому Платону, так как в досократовской философии даже сам этот термин не встречается ни разу, за исключением одного места у пифагорейцев (58 в l Diels), где говорится о «восстановлении в памяти недавних событий».
[705]
Сократ ведет, видимо, все это рассуждение (82b – 84а и 84d – 85b) с помощью указки, которой он чертит соответствующие линии и фигуры на песке. Об этом говорит обилие здесь указательных местоимений.
[706]
По известной теореме Пифагора квадрат гипотенузы равен сумме квадратов двух катетов, т. е. квадрат диагонали нашей фигуры должен равняться сумме квадратов двух ее сторон (2² + 2² = 8); поскольку это и есть квадрат исходной диагонали, постольку сама диагональ, очевидно, будет равняться √8. Тогда ясно, что площадь удвоенной фигуры будет равняться √8 × √8 = 8. Некоторые сведения о происхождении так называемой Пифагоровой теоремы можно найти, например, в кн.: Ван дер Верден В.
Пробуждающаяся наука. Математика древнего Египта, Вавилона и Греции / Пер. И. Веселовского. М., 1959. С. 138–140, 163–165.
[707]
См. прим. 22 и Горгий, прим. 80. Однако, как ни важна для Платона идея бессмертия, она еще не может, по Платону, сделать человека совершенным. В «Евтидеме» (289bс) имеются примечательные слова о том, что мало «знания делать бессмертными», а надо научить «пользоваться бессмертием». Как всегда у Платона, эта мысль поясняется обычным житейским примером о мастере, который может сделать лиру, а играть на ней не в состоянии. В «Законах» (II 661b) верхом всех благ, к которым стремится человек (здоровье, красота, богатство, возможность исполнить любое желание), является бессмертие. Однако и здесь Платон проводит мысль о бессмертии как «наилучшем достоянии» для людей «справедливых и благочестивых», но «никак не для несправедливых».
[708]
Предпосылка,
или предположение (ύπόθεσις), – термин, чрезвычайно распространенный у Платона. Он означает заранее заданную мысль, аргумент, определение, основное положение концепции, из которой исходит философ и к которой он приходит. Так, в «Федоне» (92d) «довод о припоминании и знании… строится на такой основе, которая заслуживает доверия». Основа здесь – «ипотеса» (ύπόθεσις). В «Пармениде» такой ипотесой является мысль элеатов о бытии как Едином. Поэтому Сократ, вступая в беседу с Зеноном, защищающим учение Парменида, просит его перед беседой предварительно «прочесть снова первое положение первого рассуждения» (127d), т. е. просит напомнить ему первую ипотесу, или первый аргумент, теории Парменида. В «Теэтете» (183b) Сократ именует ипотесой основное положение защитников теории Гераклита о всеобщем движении. Слово «ипотеса» буквально означает «подположение», «подставка», «ступенька"» до Платона оно употреблялось только в физическом, конкретном смысле, но никак не в абстрактно‑философском. Лишь в пифагорейских «акусмах» («изречениях») и символах (58 С 6 Diels) упоминается «первое положение» из главнейших наставлений Пифагора. У самого Платона, например, в «Государстве» (VI 511b) ипотесы названы «как бы ступенями и усилиями». Однако софист Антифон (87 В 13 Diels) говорит о «предположении геометра», т. е. употребляет термин «ипотеса» совсем в ином значении, чем у Платона, даже противоположном ему. Для Платона «ипотеса» – твердая основа той или иной концепции, а для Антифона, как для вечно сомневающегося софиста, – только предполагаемая основа. О термине «ипотеса» см. дис.: Altenburg M.
Die Methode der Hypothesis bei Platon, Aristotelis und Proklos. Marburg, 1905.
[709]
Для Платона вообще характерна постоянная тенденция базировать свои философские рассуждения на математике, и особенно на геометрии (см. прим. 24). Подобно тому как в геометрии выставляется некоторое предположение («ипотеса» в смысле софиста Антифона – см. прим. 27), которое в дальнейшем последовательно доказывается, Платон доказывает свое предположение о принадлежности добродетели к области души тоже при помощи геометрической аналогии. Предположение заключается здесь в том, что мы, имея какой бы то ни было прямоугольник, считаем возможным вписать в круг равновеликий ему треугольник.
[710]
К сожалению, Платон не приводит здесь всего хода доказательства, считая его, по‑видимому, общеизвестным, и ограничивается только глухими ссылками на основные пункты этого доказательства. Это обстоятельство доставило много труда ученым при истолковании этого места.
[711]
У платоновского Сократа все добродетели
как бы пронизаны разумностью. Например, мужество вне разумности теряет даже свое наименование и из добродетели превращается в дерзость (см.: Протагор 359cd). Платон посвятил проблеме мужества как добродетели целый диалог «Лахет» (определение мужества см.: Лахет 192b‑d; см. также преамбулу к этому диалогу).
[712]
В афинском Акрополе
обычно хранилась государственная казна.
[713]
Об Аните
см. Апология Сократа, прим 1. Исмений
– глава демократической антиспартанской партии в Фивах, разбогатевший на деньги, которыми персы стремились подкупить ряд политических деятелей в Фивах, Коринфе и Аргосе, чтобы возобновить войну со Спартой. Об этом пишет Ксенофонт (Греческая история III 5, 1). Здесь в тексте Платона содержится явный анахронизм: деньги для подкупа были посланы через Тимократа Родосского в 395 г., т. е. уже после смерти Сократа. Такие анахронизмы у Платона нередки. В данном случае Сократу надо противопоставить честного афинского гражданина человеку, разбогатевшему благодаря подкупу. Поликратовы сокровища
– символ богатства. Геродот (III 39‑43) раскрывает историю необычайного счастья Поликрата.
[714]
Замечание о хорошем (по мнению большинства афинян) воспитании Анита
– ирония Сократа в отношении своего будущего обвинителя, а также намек на то, что своего‑то собственного сына Анит воспитывал плохо (см.: Ксенофонт.
Апология Сократа 30‑31).
[715]
Анит высказывает здесь ходячее мнение о софистах,
прекрасно выраженное в комедии Аристофана «Облака». По словам Сократа (Государство VI 492аb), именно так думают многие, хотя софисты, как частные люди, гораздо меньше приносят вреда юношеству, чем те люди, которые заседают в судах, в театрах и собраниях. «Никакой софист» и «никакие частные речи» (там же VI 492е) не оказывают, по его мнению, на юношу более вредного влияния, чем воспитание, идущее от этих людей.
[716]
Ср.: Протагор 319е – 320с. В «Лахете» государственные мужи Лисимах и Мелесий тоже сокрушаются о том, что им нечего рассказать о собственных достойных делах своим сыновьям (179с).
[717]
Плутарх (Фемистокл XXXII) со ссылкой на Платона сообщает о Клеофанте
– «превосходном наезднике, но в других отношениях человеке, ничего не стоящем».
[718]
См.: Феаг, прим. 30.
[719]
О Лисимахе
Старшем, отце знаменитого Аристида, Лисимахе Младшем и Аристиде Младшем см.: Лахет, прим. 1, 7, 12. Парал
и Ксантипп
– законные сыновья Перикла (см.: Протагор, прим. 17). Когда они умерли от чумы, был узаконен также его сын от гетеры Аспазии. См. также: Протагор 315а и 320а; Алкивиад I 118е. Плутарх (Перикл XXXVI) пишет о неладах между Периклом и Ксантиппом, о недостойных денежных махинациях этого последнего, о том, что у него «до смерти оставалась непримиримая вражда к отцу».
[720]
О Фукидиде,
сыне Мелесия, см.: Феаг, прим. 30. О сыновьях Фукидида – Мелесии
и Стефане
– см.: Лахет, прим. 3 и 9.
[721]
Угроза Анита красноречиво предваряет его будущее участие в процессе Сократа. Здесь Анит оскорблен за критикуемых Сократом крупных государственных лиц. Ср. Апология Сократа 23е, где Сократ говорит об обиде Анита за ремесленников, а другого обвинителя Сократа, Л икона, – за ораторов.
[722]
Феогнид
из Мегары (VI–V вв.) – знаменитый элегический поэт, автор стихотворного нравоучительного сборника. Отличался аристократической направленностью идей и ненавистью к народу – «неразумной черни».
[723]
Стихи Феогнида (33‑36 Diehl), приведенные здесь в переводе В. В. Вересаева, – одно из поучений юноше Кирну – вспоминает и Ксенофонт (Воспоминания… I 2, 20). Однако там же ксенофонтовский Сократ цитирует слова неизвестного автора: «Но добродетельный муж то бывает хорош, а то дурен».
[724]
434, 436–438 Diehl, пер. В. В. Вересаева.
[725]
Платон различает здесь знание
(επιστήμη) и правильное мнение
(δόξα άληθής). Первое обычно противопоставляется незнанию (άγνωσία) и сопричастно миру идей. Правильное (или «истинное») мнение относится к сфере чувственного и потому занимает среднее положение между знанием и незнанием. В «Государстве» (V 476d – 480a) дан подробный анализ взаимоотношений знания, незнания и мнения. Знания, по Платону (Законы IX 875cd), стоят выше всякого закона, ибо «нельзя разуму быть чьим‑либо послушным рабом; нет, он должен править всем, если только он по своей природе действительно обладает истинной свободой». Правда, Платон пессимистически замечает, что «в наше время этого вовсе не встречается нигде». См.: Sprute J.
Der Begriff der Doxa in der platonischen Philosophie. Göttingen, 1961.
[726]
По преданию, статуи,
сделанные знаменитым мастером Дедалом, двигались как живые. В схолиях к ст. 838 «Гекубы» Еврипида (см.: Scholia in Euripidem / Coll. E. Schwartz. Vol. I. Berolini, 1887) дается ссылка на стихи из «Еврисфея» Еврипида (fr. 372 N. – Sn.): «Все Дедаловы статуи, кажется, двигаются и говорят. Вот каков этот мудрец Дедал». В этих же схолиях даются аналогичные ссылки на комиков Кратина и Платона. Из «Илиады» Гомера (XVIII 375, 417) известны механические треножники Гефеста, сами собой двигавшиеся.
[727]
Божественный удел и одержимость, по Платону, присущи не только поэтам (Ион 534с – 536d), но и всякий человек «причастен божественному уделу» (Протагор 322а). Исступление (о котором выше – 99с – говорит Сократ), или неистовство, дает нам величайшие блага, «когда оно уделяется нам, как божий дар» (Федр 244а). В «Государстве» (VI 493а) проводится мысль, что и в общественной жизни «божественный удел» спасает человека. Это вполне соответствует рассуждению (в данном месте диалога «Менон») о «вдохновении» и «провидении» государственных людей. Ср.: Ион, прим. 14.
[728]
Одиссея X 494 сл. О Тиресии
см.: Алкивиад II, прим. 17.
[729]
Здесь – типичная для гераклитовца Кратила теория от природы каждой вещи присуще «правильное» имя, а люди по договору условились называть ее по своему, и имя тем самым уже не соответствует вещи («до говорившись» – συνθεμένοι здесь не обязательно понимать буквально. Вероятно, это просто указание на условность всякого обозначения с точки зрения звуковой).
[730]
Намек на то, что имя Гермоген
(букв.: «рожденный Гермесом», «потомок Гермеса») никак не соответствует облику и сущности Гермогена. Гермес – бог покровитель житейской удачи, торговли, ловкости, и Гермоген, практически совершенно беспомощный, никак не может носить имя, имеющее такое значение.
[731]
Сократ несколько видоизменяет известную пословицу (см. Гиппий больший, прим. 37). Таким образом, старинное изречение о том, что все прекрасное по своей природе создается с трудом, Сократ истолковывает по‑своему: познать прекрасное трудно.
[732]
См.: Апология Сократа, прим. 9 и Протагор, прим. 52.
[733]
Здесь Сократ снова шутит, на сей раз по поводу имени Гермогена, как бы подхватывая шутку Кратила (см. прим. 2).
[734]
Гермоген в отличие от Кратила выражает распространенный среди софистов взгляд, что главное в вопросе об именах – это договоренность о том, как называть вещь. Правильности имени от природы не существует, она – результат договора (иначе говоря, правильность всегда и во всем относительна, условна и субъективна).
[735]
Рабы чужеземцы, носившие имена,
звучавшие «варварски» для греческого уха, часто получали от своих хозяев новое имя (см., например, Протагор 310с).
[736]
См.: Евтидем, прим. 32.
[737]
См.: Менон, прим. 6.
[738]
Евтидем
– современник Сократа, хиосец, поздний софист, по своим воззрениям близкий Калликлу и Полу (см.: Горгий); Платон называет его именем диалог. См. также: Евтидем, преамбула.
[739]
Здесь перевод греческого είδος. См.: Евтидем, прим. 18.
[740]
В ориг. ίδεα; ср.: Евтифрон, прим. 18.
[741]
См.: Ил. XX 73‑74.
[742]
Гомер.
Ил. XIV, 240–291 (здесь и в прим. 15 «Илиада» цитируется в переводе Η. И. Гнедича).
[743]
См.: Гомер.
Ил. II 813–814:
Смертные люди курган тот высокий зовут Батиеей,
Вечноживущие боги – могилой проворной Мирины.
Ср. о «сторуком великане» в «Илиаде» (I 403):
Имя ему Бриарей у богов, у людей же – Эгеон
В диалоге «Федр» (252b) Платон приводит стихи (видимо, им самим сочиненные) о разных наименованиях Эрота: Люди прозвали его самого Эротом крылатым,
Боги ж – Птеротом, за то, что расти заставляет он крылья.
Новое имя получает человек, ставший бессмертным, например, в «Одиссее» (V 333–335):
Кадмова дочь Левкотея, прекраснолодыжная Ино,
Тут увидала его Сначала была она смертной,
Ныне же в безднах морских удостоилась божеской чести.
(Пер. В. В. Вересаева)
[744]
Троянский герой Гектор, сын царя Приама, имел сына Астианакта
(он же Скамандрий),
погибшего еще ребенком при взятии Трои грека ми.
[745]
Здесь у Платона неточность, возможно необходимая для хода рассуждений Сократа. В «Илиаде» (VI 402 сл.) прямо говорится:
Именовал его Гектор Скамандрием, все остальные – Астианактом.
(Пер. В. В. Вересаева)
Платон как бы забывает об этом месте и помнит только XXII 506:
Астианакт как ребенку троянца, прозвание дали.
(Пер. В. В. Вересаева)
Объяснение этимологии имени «Астианакт» дано у Платона несколько ниже, 393а (см. также прим. 18).
[746]
Древние не различали звука и буквы.
О классификациях букв (звуков) и слов см. Тронский И. Μ.
Указ. соч.
[747]
Археполис
– слово, состоящее из двух основ: «власть» (άρχη) и «город» (πολις), т. е. оно близко по своему значению к имени «Астианакт» («владыка города»).
[748]
По велению бога Аполлона и с помощью своей сестры Электры Орест
отомстил за смерть отца, убив свою мать Клитемнестру (см. Феаг, прим. 10 и Алкивиад II, прим. 8). Месть Ореста и его сестры стала темой трагедий Эсхила («Орестея»), Софокла («Электра»), Еврипида («Электра», «Орест»).
[749]
См. Апология Сократа, прим. 57.
[750]
Атрей
(миф.) – отец Агамемнона и брат Фиеста,
с которым они вместе убили своего сводного брата Хрисиппа.
Впоследствии он из мести убил детей Фиеста и подал их в виде угощения брату.
[751]
Пелоп
завоевал в жены дочь элидского царя Эномая Гипподамию, победив в состязании колесниц с помощью возничего Миртила,
которого он потом вероломно убил.
[752]
См. прим. 23.
[753]
Гипподамия
(см. прим. 23) была обещана отцом в жены победителю в состязании колесниц.
[754]
Тантал
за свои проступки перед богами (похищал амбросию и нектар, открывал тайны богов) вечно терпит муки жажды и голода в царстве мертвых – Аиде, над его головой нависает камень, грозящий падением.
[755]
См. прим. 23.
[756]
Здесь в корне имени «Зевс» мыслится глагол ξαν (жить). Все античные этимологии имени «Зевс» см.: Лосев А. Ф.
Античная мифология в ее историческом развитии. М., 1957. С. 96–97, 103–104.
[757]
Кронос
– сын Урана
и Геи, титан, отец Зевса и других олимпийских богов Древние связывали его имя или со словом χρόνος (время), или с глаголом κορεΐν (выметать, чистить) и существительным νους (ум); согласно этому последнему толкованию, Кронос означает «чистый умом».
[758]
Уран
– Ουρανός (небо) – древнейшее божество, порожденное богиней Земли Геей и вступившее с ней в брак, от которого произошли титаны, циклопы и сторукие, воплотившие в себе стихийную мощь космоса. Урания
(небесная) – имя одной из муз, а также прозвище Афродиты (см. также прим. 63).
[759]
Гесиод
в данном случае упоминается как автор генеалогической поэмы «Теогония» («Рождение богов»).
[760]
Евтифрон
(см.: Евтифрон, преамбула) был известен фантастическими толкованиями имен.
[761]
См.: Апология Сократа, прим. 29. В распределении реплик в этом месте мы отступаем от издания Барнета и принимаем чтение Шанца и др. (ср.: Platonis opera/Rec. I. Burnet. Т. I, adnot. crit. 379 d).
[762]
Труды и дни 121–123. По Гесиоду,
человечество пережило четыре века – золотой, серебряный, медный, героический – и находится в стадии пятого, железного века (Труды и дни 109–201). Счастливые времена для поэта в прошлом. Наивысшее блаженство – золотой век с полным отсутствием труда (все даруют людям боги) и безболезненной, незаметной, как сон, смертью.
[763]
См. выше 398а.
[764]
Здесь явная ирония Сократа и столь же ироническая и фантастическая этимология слова «герой».
[765]
Этимология имени ανθρωπος (человек)
до сих пор не выяснена (см.: Hofmann J. В.
Etymologisches Worterbuch des griechischen. Munchen, 1950: Frisk H.
Op. cit.).
[766]
По Анаксагору, всю природу упорядочивает мировой Ум (см.: Горгий, прим. 18).
[767]
См.: Горгий, прим. 45.
[768]
Орфики
– последователи оккультного учения (см.: Горгий, прим. 80).
[769]
Гестия
– богиня очага. По пифагорейско‑платоновской системе космоса она, как мировой очаг, находится в центре всех планетных сфер (Филолай А 16 Diels), т. е. Гестия является центром всего существующего. Интересно сопоставить слово έσσία с лат. essentia.
[770]
См.: Гиппий больший, прим. 21.
[771]
Рея
(см.: Критон, прим. 19) и Кронос
(см. прим. 29) – титаны, дети Урана и Геи.
[772]
Эти слова Гераклита
см. в издании Дильса (22 А 6). Близок к данной мысли также fr. 91 Diels.
[773]
Сократ производит имя Рея
от ρεΐν (течь); Кронос
– от κρουνός (источник).
[774]
См.: Ил. XIV 200 сл.
[775]
См.: Теогония 337–368.
[776]
См.: Ион, прим. 11.
[777]
Об Океане
и Тефии
– fr. 25, 109, 112, 114, 117 Kern.
[778]
См.: Горгий, прим. 81.
[779]
См. там же.
[780]
Этимология слова «Аид» – «безвидный», «невидимый» – сейчас оспаривается. Подробнее об этом см.: Горгий, прим. 45.
[781]
Сирены
(миф, – девы‑птицы) у Платона (Государство X 617b) восседают на небесных сферах и тем самым создают созвучие восьми тонов, т. е. космическую октаву. Сирен, которых Платон помещает в Аид, Прокл, комментируя Платона, именует «родом очистительным», который «охвачен мыслями об Аиде» (см.: Procli Diadochi in Platonis Cratylum commentaria / Ed. G. Pasquali. Lipsiae, 1908).
[782]
См.: Горгий, прим. 81.
[783]
Узы Кроноса
– связи самой природы, которая удерживает в своих недрах все живое.
[784]
Деметра
– богиня плодородия и земледелия, мать Персефоны, похищенной Плутоном и ставшей владычицей мертвых (см. также: Менексен, прим. 15). Арес
– один из сыновей Зевса и Геры, бог стихийной, неупорядоченной войны. О Гере
и Гефесте
см.: Апология Сократа, прим. 25 и Евтифрон, прим. 20. Научные этимологии имен Геры, Аполлона, Лето, Гефеста, Афины, Ареса трудны, так как это догреческие имена, относящиеся к древнейшему балканскому и малоазийскому субстрату.
[785]
Феррефатта
(в такой форме это имя встречается у Софокла, Еврипида и Аристофана), иначе Ферсефона, или Персефона, – супруга Аида.
[786]
Возможно, здесь имеется в виду φόνος – «убийство», хотя в оригинале стоит δεινός.
[787]
Хотя данные здесь Платоном толкования имени «Аполлон»
с научной точки зрения и не выдерживают никакой критики, они хорошо отражают основные функции Аполлона – целителя и губителя, пророка и музыканта, установителя мировой гармонии.
[788]
Лето – мать Аполлона и Артемиды.
[789]
Артемида
– сестра Аполлона, девственная богиня‑охотница.
[790]
Дионис
– бог плодородия и виноградной лозы. См. также прим. 70.
[791]
См.: Теогония 195–200: …ее Афродитой
«Пенорожденной», еще «Кифереей» прекрасновенчанной
Боги и люди зовут, потому что к Киферам пристала,
«Кипророжденной» – что в Кипре, омытом волнами, родилась.
(Пер. В. В. Вересаева)
[792]
Афина,
по Гесиоду (Теогония 886–896), – дочь Зевса и Метиды (Мудрости), которую поглотил Зевс перед рождением Афины. Отсюда миф о рождении Афины одним отцом, Зевсом, без участия женщины, а также представление об Афине как о воплощенной мысли Зевса и самой мысли. Об Афине, «устрояющей умы, души и тела», см. в орфических фрагментах (fr. 210 Kern), а также в «Орфических гимнах» XXXII. Именно в связи с таким толкованием функций Афины и связано дальнейшее замечание Сократа (406d), что ему не пристало забывать об Афине.
[793]
Альфа вместо эты
была характерна для дорийского наречия.
[794]
θεονόη букв.: «божественное разумение».
[795]
Здесь перефразируется гомеровский стих (Ил. V 221 сл.): …тогда каковы, ты увидишь, Тросовы кони…
[796]
Ср. 387b, 390de.
[797]
Гермес
и Ирида
(миф.) – вестники богов, почему и связываются с глаголом εΐρειν (говорить). По своему происхождению эти имена тоже негреческие. О Гермесе см. также прим. 2.
[798]
Пан
– козловидный бог лесов, полей, охранитель стад; это божество из круга дионисийских культовых представлений Он один из спутни ков Диониса, свита которого состояла из козлоподобных демонов.
[799]
Античная традиция производит наименование жанра трагедии от слова τράγος (козел) Так своеобразно толкует Сократ козлоподобную «лживую» сущность полубога Пана.
[800]
Пан
– сын Зевса или Гермеса.
[801]
Об отраженном свете Луны
см. А 77 Diels: «Фалес, Анаксагор учили, что Луна ежемесячно убывает, сопутствуя Солнцу и получая от него свет».
[802]
См.: Ион, прим. 17.
[803]
«Огонь», «вода», «собака» – в греч. яз. слова индоевропейского происхождения. Их древние корни – малоазийские (хеттские, тохарские, фригийские, лидийские), т. е. для грека Сократа – варварские.
[804]
Ср.: Протагор, прим. 31.
[805]
Поговорка, связанная с басней Эзопа об осле, который надел львиную шкуру и выдавал себя за льва (см.: Corpus fabularum Aesopicarum Τ. 1. Fasc. 2. Ν 199 – три варианта басни).
[806]
Видимо, Сократ намекает здесь на гераклитовцев с их вечным течением, на атомистов с их непрерывным движением атомов и на софистов с их релятивизмом. Все они занимались именами, их происхождением, их историей. У Демокрита были трактаты: «О речениях», «Именослов», «О благозвучных и неблагозвучных буквах» и др. Среди софистов были такие знатоки имен, как Протагор, Продик, Гиппий. Известен безымянный софистический трактат «Двойные речи» (конец V в.). Гераклитовец Кратил был также любителем толковать имена.
[807]
В ориг. (чтение Барнета) асс. Δια. Игра слов; ср. δια – «через», «из‑за»: Зевс – причина всего, то, из‑за чего все происходит.
[808]
Чтобы перепрыгнуть через ров, надо сразу сделать один большой прыжок Сократ хотел бы узнать, что такое право, сразу, как бы одним прыжком, а не шаг за шагом перебираться по положенной через ров
лестнице.
[809]
См.: Горгий, прим. 18.
[810]
У Гомера (Ил. VI 265) с этими словами обращается Гектор к своей матери, которая предлагает ему перед поединком чашу с вином.
[811]
Здесь и ниже (416b‑d) Сократ дает своеобразное истолкование этимологии слова «прекрасное» (καλόν). Он сопоставляет его с глаголом καλούν (называть), в котором в свою очередь ему слышится созвучие со словом νους (ум, винительный падеж – νουν), и таким образом он связывает «прекрасное» с «разумом», «умом», «мыслью».
[812]
Употребление дзеты
(ζ) вместо дельты
(δ) – результат тенденции к так называемой спирантности и переднему произнесению согласной. В VI–V вв. эти тенденции наблюдались в Элиде, на Родосе.
[813]
Здесь намек на нечто неделимое в слове, какой‑то «атом», «ко рень» слова. Простейшие частицы
– στοιχεία (стихии, элементы), которыми сначала обозначались буквы. В философии этот термин имел значение «элемент», «вещество». О раннем этапе употребления этого понятия см.: Лосев А. Ф.
Стойхейон. Древнейшая история термина. УЗ МГПИ им. Ленина. 1971, N 450. С. 18–26.
[814]
Подражание
(μιμησις) – термин, часто встречающийся у Платона и Аристотеля. Понимался Платоном как воспроизведение какого то образа (идеи, эйдоса, см.: Евтифрон, прим. 18). У досократиков этот термин в философском смысле не встречается. Но для понимания мысли Сократа о первоначальных словах, созданных подражанием, важен не только fr. 154 (Diels) Демокрита (324 Маков.): «От животных мы путем подражания научились важнейшим делам: [а именно мы – ученики] паука в ткацком и портняжном ремеслах, [ученики] ласточки в построении жилищ и [ученики] певчих птиц, лебедя и соловья, в пении», – но и fr. 26 (313 Маков.). Здесь мнение Кратила поддерживается Пифагором и Эпикуром, а мнение Гермогена – Демокритом и Аристотелем. Для Пифагора «имена вещам дает душа» или тот, «кто видит ум и естество сущего». Слова – это «как бы статуи» сущих вещей в виде имен, являющихся подражанием числам (ср. 58 В 12 Diels). Для Демокрита «имена – по установлению», они не что иное как «звучащие статуи богов», так как «первые люди положили вещам имена в избытке мудрости», они, «как наилучшие ваятели, открыли силы богов посредством имен, служащих как бы образцами богов» (68 В 142 Diels = 314 Маков.) О подражании (мимесисе) в античности см.: Roller N.
Die Mimesis in der Antike. Bern, 1954.
[815]
См. прим. 19.
[816]
Имеется в виду неожиданное появление божества в трагедии – «deus ex machina». Ср. у Цицерона (О природе богов I 20): «Вы прибегаете к богу по примеру поэтов, авторов трагедий… когда не знают, как довести действие до развязки» (Философские трактаты).
[817]
Попытку выразить с помощью звука особенности того имени, в которое он входит, а значит, и особенности вещи или действия, которое выражено этим именем, можно найти и у эллинистических риторов. Дионисий Галикарнасский в сочинении «De compositione verborum» (14‑16 // Dionysn Halicarnasei opuscula critica et rhetonca. Opp. II, русск. пер. О соединении слов // Античные риторики / Пер. Μ. Л. Гаспарова. Μ., 1978) пишет о звуках «нежных и твердых», «гладких и шероховатых». Деметрий Фалерейский (О стиле III 174–178) тоже пишет о «складных», но тяжеловесных звуках, «гладких» и «шероховатых», о тех, что обладают «изяществом» (см. Demetm Phalerei de elocutione hbellus, русск. пер. Η. Α. Старостиной и О. В. Смыки см. в кн. «Античные риторики»).
[818]
Труды и дни 361 сл.:
Если и малое даже прикладывать к малому будешь,
Скоро большим оно станет, прикладывай только почаще.
(Пер. В. В. Вересаева)
[819]
Гомер.
Ил. IX 664 сл. Александрийские грамматики называют эту песню «Мольбы» (или «Просьбы»), так как здесь ахейские послы (Аякс, Одиссей, Диомед) умоляют Ахилла вступить в бой.
[820]
Ср.: Гомер.
Ил. I 343 сл (слова Ахилла об Агамемноне):
«Прежде» и «после» связать не умеет, не может придумать,
Как, пред судами своими сражаясь, спастися ахейцам.
(Пер. В. В. Вересаева)
[821]
Возможно, Кратил был сыном афинянина Смикриона.
[822]
По мнению Сократа, здесь и ниже подражание (изображение предмета, или его образ,
– εΐκων, 432) не может быть буквальным копированием. Здесь сказывается принципиальная новизна Платона по сравнению со старой натурфилософией, еще не порвавшей с мифологической значимостью имени.
[823]
Сократ намекает, по видимому, на какой то широко известный в то время, возможно, не очень скромный обычай жителей о. Эгина. Во всяком случае никто из античных комментаторов это место не поясняет.
[824]
Сократ указывает на реальное произношение эретрийцев (малоазиатских ионийцев), которым был свойствен так называемый ротацизм, т. е. переход «сигмы» (σ) в «ро» (ρ) и не только в конце слова, как здесь, но и в середине.
[825]
См.: Евтифрон, прим. 18.
[826]
Сократ здесь критикует гераклитовцев, в том числе Кратила, которые довели до крайности учение Гераклита о вечном движении (65 4 Diels)…
[827]
В ориг. «катар» (κατάρρους), что по‑гречески означает болезнь, сопровождающуюся выделением или истечением слизи (например, насморк, расстройство желудка и др.). О чем именно идет здесь речь – не вполне ясно.
[828]
По приговору суда Сократ должен был выпить, видимо, чашу с цикутой (см.: Лисид, прим. 32).
[829]
Флиунт
– город на северо‑востоке Пелопоннеса, в долине среди гор, откуда берет начало р. Асоп. Славился виноградниками и вином. Постоянный союзник Спарты.
[830]
Между вынесением приговора и его исполнением прошло 30 дней (см.: Критон, прим. 1).
[831]
Корму корабля
украшали лаврами, посвященными Аполлону. Делос
– родина Аполлона. Там находился его великолепный храм и пальма, под которой богиня Лето родила близнецов – Аполлона и Артемиду.
[832]
Тесей
– сын афинского царя Эгея. Отправился вместе с семью юношами и семью девушками на Крит в качестве живой дани царю Миносу, где убил чудовище – Минотавра, которому предназначалась эта жертва.
[833]
Аполлодор
из Фалера (см.: Диоген Лаэрций.
О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов / Пер. М. Л. Гаспарова. М., 1986, II 35) – ученик Сократа, в диалоге «Пир» рассказывает со слов Аристодема о вечере у трагического поэта Агафона (см. также: Апология Сократа, прим. 39). Критобул
– сын Критона (см.: Критон, преамбула; Евтидем, преамбула и прим. 58). О Термогене
см.: Критон, преамбула. Эпиген,
сын Антифона из Кефиссии (у Диогена Лаэрция II 121 – сын Критона), упоминается в «Апологии Сократа» 33е. Эсхин
из Сфетта – сын Лисания, автор семи диалогов (см.: Диоген Лаэрций
II, гл. 7; Апология Сократа, прим. 39). Об Антисфене
см.: Евтидем, прим. 30; О Ктесиппе
и Менексене
– Менексен, прим. 1; Лисид, прим. 16.
[834]
О Симмии
и Кебете
см. в преамбуле. О фиванце Федонде
сведений нет. Евклид,
будущий основатель мегарской школы, и Терпсион из Мегары
– участники диалога «Теэтет».
[835]
Клеомброт,
по преданию, бросился в море, прочитав «Федона». Об этом 23‑я эпиграмма Каллимаха (Callimachus.
Hymni et epigrammata / Ed. R. Pfeiffer. V. II. London, 1957):
Солнцу сказавши «прости», Клеомброт‑амбракиец внезапно
Кинулся вниз со стены прямо в Аид. Он не знал
Горя такого, что смерти желать бы его заставляло:
Только Платона прочел он диалог о душе.
Пер. Л. Блауменау.
«Греческая эпиграмма». М., 1960. С. 98.
Аристипп
из Кирены (V в.) – будущий основатель школы киренаиков‑гедонистов.
[836]
Об одиннадцати
архонтах см.: Апология Сократа, прим. 47.
[837]
У Ксантиппы
и Сократа было три сына (см.: Апология Сократа, прим. 40). Ксантиппа славилась сварливым характером.
[838]
Эзоп
– полулегендарный греческий баснописец VI в., с именем которого связывают несколько сот басен (см.: Басни Эзопа / Пер. М. Л. Гаспарова. М., 1968).
[839]
См.: Апология Сократа, прим. 10.
[840]
Платон включает философию
– «любовь к мудрости» – в мусические искусства,
так как именует мудрость «прекраснейшей и величайшей согласованностью», употребляя при этом термин «симфония» (Законы III 689d).
[841]
Сократ сочинил гимн (пеан) в честь Аполлона. По Диогену Лаэрцию (II 42), он начинался так: «Слава тебе, Аполлон Делиец с сестрой Артемидой».
[842]
По Диогену Лаэрцию (II 42), стихотворное переложение басни Эзопа у Сократа начиналось так: «Некогда молвил Эзоп обитателям града Коринфа: „Кто добродетелен, тот выше людского суда“». Платон (Законы IX 873cd) осуждает самоубийц – тех, кто «насильно лишает себя того, что ему суждено судьбой» и «совершил это неправедное правосудие из‑за своей слабости и отсутствия мужества». Платон называет таких людей «бесславными». В «Законах» предлагается хоронить их на пустырях, «не отмечая их места погребения ни надгробными плитами, ни именами». Пифагорейцы (Филолай)
, учившие о переселении душ (см.: Горгий, прим. 45 и 80), тоже отвергали самоубийство.
[843]
См.: Горгий, прим. 45.
[844]
Имеется в виду учение
пифагорейцев.
[845]
Мнения о недостаточности чувственных ощущений для познания придерживались элеаты (Парменид), Эмпедокл, Гераклит, Анаксагор. Так, Анаксагор (59 В 21 Diels) писал: «Вследствие слабости [ощущений] мы не в состоянии судить об истине». Далее говорится о поэтах,
поскольку Парменид, Эпихарм и Эмпедокл многие философские мысли выражали в стихах. У Парменида и Эмпедокла были поэмы «О природе»; Эпихарм писал комедии.
[846]
[Чистые сущности
] – чистые идеи. Человек, по Платону, может их познать, только отрешившись от нечистого тела. В «Государстве» (VI 490а) читаем о том, как человек «касается» сущего той частью души, «которой свойственно касаться» сущего, т. е. «родственной» сущему. Только тогда душа «рождает ум и истину», «познает» и «живет истинной жизнью».
[847]
Имеются в виду мифы об Алкесте (Алкестиде), желавшей умереть вместо своего мужа Адмета, или об Орфее, отправившемся в Аид за своей женой Евридикой.
[848]
Сравнение с обменом монет
характерно для Греции VI–V вв. с ее большими экономическими сдвигами. Ср. Гераклит (В 90 Diels): «На огонь обменивается всё и огонь – на всё, как на золото – товары и на товары – золото».
[849]
Посвящения в таинства
и очищение от «житейской скверны» были характерны для многих религиозных и философских обществ (например, элевсинские таинства Деметры, обряды пифагорейцев и орфиков); ср.: Евтидем, прим. 21. Слова о тирсоносцах
и вакхантах
(69d) – древний орфический стих, ставший поговоркой. Тирсы – жезлы, увитые плющом и виноградной лозой – любимыми растениями Диониса. Дионис, по преданию, сам был плющом (Дионис Кисеей, т. е. «Плющ») и виноградной лозой (Дионис Ойнос, т. е. «Вино»). Ср.: Ион, прим. 14. Олимпиодор, толкуя данное место «Федона» (fr. 235 Kern), прямо указывает на орфическое учение о косной материи человеческого тела, причастного титанам, и об очистившихся вакхантах. Ср. евангельское изречение (Матф. 20, 16) «Много званых, но мало избранных».
[850]
Сократа высмеивали такие комедиографы, как Аристофан, Евполид, Телеклид, Каллий. См.: Апология Сократа, прим. 6.
[851]
Эндимион,
возлюбленный Селены (Луны), был погружен в вечный сон на горе Латис. Древние толковали слово «латис» как «забвение» (греч. λανθάνω, λάθω).
[852]
Ум, по Анаксагору, «вдруг начав действовать, связал воедино все находившееся раньше в беспорядке» (59 А 1 Diels). См. также: Горгий, прим. 18.
[853]
О знании как припоминании
см.: Менон 81b – 86b и прим. 22.
[854]
См.: Горгий, прим. 80.
[855]
Разные учения о соотношении души и тела находим у досократиков. По Гераклиту, душа «прочно и соразмерно связана с телом», причем душу он сравнивает с пауком, а тело – с паутиной (В 67 а Diels). Гераклитовец Гиппократ (22 С 1) считает, что душа как высшая жизненная сила устраивает «душу человека и равным образом тело». По Эмпедоклу, «определение судьбы» и «природа» «переменяют одеяние душ», «облачая людей» «чужою одеждой плоти» (В 126). По Демокриту (А 108 Diels = 252 Маков.= 454 Лурье), «первоначала» тела и души, «чередуясь» друг с другом, связуют «все члены». Однако «[тело] приводится в движение душою» (А 104 Diels = 245 Маков.= 445 Лурье). Иная, дуалистическая, концепция у пифагорейца Филолая (см.: Горгий, прим. 45).
[856]
Об этимологическом толковании слова «Аид» см.: Горгий, прим. 45.
[857]
См.: Горгий, прим. 80.
[858]
Пенелопа,
жена скитавшегося Одиссея, за ночь распускала все, что успевала соткать за день, чтобы никогда не закончить свою работу и тем самым не дать согласия на новый брак. Об этом рассказывает в Аиде душа одного из женихов Пенелопы (Одиссея XXIV 120–146).
[859]
В соловья, ласточку
и удода
были, по преданию, превращены Прокна, ее сестра Филомела и муж Прокны фракийский царь Терей, овладевший Филомелой и отрезавший ей язык, чтобы скрыть злодеяние. Прокна, мстя Терею за сестру, убила своего сына Итиса (Овидий.
Метаморфозы VI 424–674).
[860]
Лебедь
считался священной птицей Аполлона
(Cornuti theologiae graecae compendium / Rec. С. Lang. Lipsiae, 1881). О том, что лебеди воспевают Аполлона, – гомеровский гимн XXI 1 сл. О связи Аполлона и лебедя см.: Лосев А. Ф.
Античная мифология в ее историческом развитии. М., 1957. С. 276–277.
[861]
Сократ именует себя служителем
Аполлона – бога прорицания, ибо он, как и служители этого последнего (например, Пифия в Дельфах, Тиресий, Калхант), предвидит будущее.
[862]
См.: Алкивиад I, прим. 13.
[863]
Сократ, излагая ниже взгляд на душу
как на гармонию,
возникающую в результате различного натяжения телесных начал, возможно, имеет в виду пифагорейцев, учениками которых были Симмий и Кебет. Макробий сообщает: «Пифагор и Филолай сказали, что душа есть гармония"» «Говорят, что она есть некая гармония, ибо гармония есть смесь и соединение противоположностей, и тело состоит из противоположностей» (44 А 23 Diels). Ср.: Софист прим. 11.
[864]
В знак траура греки остригали волосы. Так, Ахиллес после смерти Патрокла, «встав в стороне от костра… русые волосы срезал» (Илиада XXIII 141, пер. В. В. Вересаева).
[865]
Геродот пишет, что после победы спартанцев аргосцы
«стали коротко стричь себе волосы (прежде, по обычаю, они отращивали длинные волосы). Они даже ввели закон и изрекли проклятие, чтобы ни один аргосец не смел отращивать себе длинные волосы и ни одна женщина – носить золотых украшений, пока Фирея не будет отвоевана» (I 82 // История. В 9 кн. / Пер. и прим. Г. А. Стратановского. Л., 1972).
[866]
См.: Евтидем, прим. 43.
[867]
См.: Менон, прим. 9.
[868]
Непостоянство течения в Еврипе
– проливе между Аттикой, Беотией и Евбеей – вошло в поговорку.
[869]
См. прим. 26.
[870]
Од. XX 17 сл.
[871]
Гармония
– супруга фиванского царя Кадма, т. е. оба они из города, откуда родом Симмий и Кебет.
[872]
См.: Евтифрон, прим. 8.
[873]
О происхождении живых существ
из смешения теплого и холодного см. у Анаксимандра (12 А 9, 16, 28, 30 Diels), Эмпедокла (31 В 21, 22, 96, 98, 115), Анаксагора (59 А, 64; В 14, 16) и его ученика Архелая (60 А 4), с которым «находился в близких отношениях Сократ» (А 5). Гиппократ (22 С 1) считал, что человек и всякое живое существо состоит «из огня и воды».
[874]
Эмпедокл говорил, что «мысль у людей есть не что иное, как омывающая сердце кровь» (В 105, 3) и что «все части огня… обладают мышлением и причастны разуму» (В 110 Diels). Согласно Анаксимену, «человек есть воздух» (13 А 22), а душа «воздушна» (А 23 Diels). По Гераклиту, «огонь разумен» (22 В 64 Diels). Гиппократ (22 С 1, 10 Diels) находит в огне местопребывание «души, ума, мышления, роста».
[875]
Алкмеон Кротонский, близкий к пифагорейцам, считает, что «все ощущения соединяются некоторым образом в мозгу"» для Алкмеона «мозг – переводчик разума» (24 А 5, 11 Diels).
[876]
См.: Горгий, прим. 18.
[877]
О противоречии у Анаксагора Платон пишет и в «Законах» (XII 967b).
[878]
В Мегару
и Беотию
(Фивы) предлагали бежать Сократу его друзья. См.: Критон, прим. 16.
[879]
Согласно Эмпедоклу, земля держится благодаря воздушному водовороту (31 А 67 Diels), и устойчивость ее можно сравнить с устойчивостью воды в кружке, которая не выливается при круговом вращении последней. См. также прим. 49.
[880]
Титан Атлант,
по древнейшему преданию, поддерживал столбы, отделяющие небо от земли (Од. I 53). По Гесиоду (Теогония 517–520, 746 сл.), Атлант держит небо на голове, подпирая его руками, у крайнего запада, вблизи Океана (см. прим. 68).
[881]
Прекрасное рассматривается в «Гиппии большем"» см. также: Пир 211b.
[882]
Имеются в виду софисты, которым противопоставляется истинный философ. См.: Горгий, прим. 29.
[883]
Подробно об этом см.: Парменид 130b – 131е, а также 132d – 133а (об идеях как образцах для вещей).
[884]
Здесь начинается рассказ Сократа о пребывании души в загробном мире. У Платона этому посвящен ряд мест в «Федре», «Государстве» и «Горгий». См.: Горгий, прим. 80.
[885]
Гений,
или демон, которого, по мифологическим представлениям, человек получал при своем рождении, сопровождает его всю жизнь до самой смерти. См.: Апология Сократа, прим. 29, а также: Лосев А. Ф.
Античная мифология в ее историческом развитии. С. 46 – 50, 55‑60.
[886]
Телеф,
царь Мисии (Малая Азия), – герой одноименной, не дошедшей до нас трагедии Эсхила, отрывок из которой приводится ниже в тексте (fr. 239 N. – Sn. = S. Radt).
[887]
Видимое место,
около которого витает
(букв. «порхает», «летает») душа, – могила, место погребения. По мифам, там же вместе с душами умерших бродит Геката. Представление о порхающей душе есть у Гомера (Од. XXIV 5‑9).
[888]
Эта поговорка объясняется в схолиях к данному месту (р. 234 Hermann), использованных Дильсом (Сар. 18, 12). Главк
раскрыл секрет созвучия медных дисков, приобретенных пифагорейцем Гиппасом, и стал изготовлять музыкальные инструменты.
[889]
Это представление, возможно, заимствовано у Анаксимандра: «Земля же парит в воздухе, ничем не поддерживаемая, остается же на месте вследствие равного расстояния отовсюду» (12 А 11 Diels).
[890]
Фасис
(совр. Рион) и Геракловы Столпы
(совр. Гибралтар) – крайний восток и запад, по представлениям древних (см. прим. 53).
[891]
У Платона под эфиром
понимается верхняя часть атмосферы, чистый воздух (ср. об эфире как высших слоях воздуха и как о чистом воздухе в противоположность близкому земле «аэру» у Гомера – Ил. XVI 300, XVIII 207, XIV 288). Натурфилософы (Эмпедокл) воспринимали эфир как один из элементов, то ли тождественный воздуху, то ли обособленный от него (В 37, 38, 98 Diels). – У орфиков эфир – божество, именуемое еще и Зевсом, начало деятельное, в то время как земля – Хтония – начало страдательное (А 9; В 1 Diels). В орфической космогонии (1 В 12, 13) Эфир наряду с Хаосом и Эребом – божественная первооснова (ср.: Гесиод.
Теогония 123–125:
Черная Ночь и угрюмый Эреб родились из Хаоса.
Ночь же Эфир родила…
…с Эребом в любви сочетавшись).
У Гомера есть понимание эфира как жилища богов и пути к Олимпу (Ил. II 412, 458).
[892]
О том, что земля имеет форму совершенного тела – шара, или сферы, учили пифагорейцы (58 С 3 Diels). По Пифагору (44 А 15 Diels), существует пять телесных математических фигур, причем «сфера Вселенной» возникла из додекаэдра (у Платона Земля – тоже додекаэдр; см. также: Теэтет, преамбула). Пифагореец Гиппас (Сар. 18, 4 Diels) «первый разгласил и начертил шар из двенадцати пятиугольников».
[893]
О специфическом восприятии цвета в античности и несоответствии его с современными представлениями см.: Лосев А. Ф.
История античной эстетики. Ранняя классика. М., 1963. С. 481–495, особенно с. 483–487: «Принципы античного цветоведения».
[894]
Ил. VIII 13.
[895]
Океан
омывает землю у ее пределов (ср.: Ил. XVIII 607 сл.).
[896]
Ахеронт,
а также озеро Ахерусиада
находятся на севере Греции, в Феспротии. Они же, как рассказывают мифы, протекают и в подземном мире. По Геродоту (V 92, 7), вблизи ущелья, где течет Ахеронт, совершали обряд для вызывания умерших.
[897]
Огненная река.
[898]
Рекой Стикс
(букв. «холод», «ужас»), по Гомеру, имели обыкновение клясться боги (Од. V 185): «…клятва, ужасней и нерушимей которой не знают блаженные боги».
[899]
Кокит
(букв. «плач», «завывание») – приток Ахеронта.
[900]
Умершего Сократа могли предать земле или сжечь.
[901]
См.: Апология Сократа, прим. 40.
[902]
См.: Лисид, прим. 32.
[903]
Возлияние
делали Зевсу Спасителю и своему доброму гению (демону)‑покровителю (см. Пир, прим. 19). Однако если Сократ сделает возлияние, то содержимое чаши уменьшится и яд не достигнет своей цели. Об этом и напоминает служитель. Сократ делает возлияние мысленно.
[904]
Ср.: Аристофан.
Лягушки 124, где говорится об окоченелых голенях
– признаке действия цикуты (см.: Лисид, прим. 32) и надвигающейся смерти.
[905]
Петуха
приносил Асклепию выздоравливающий. Сократ считает, что смерть для его души – выздоровление и освобождение от земных невзгод.
[906]
Т.е. к расспросам
друзей Аполлодора.
[907]
Фалер
– дем в пригороде Афин, собственно, фалерская гавань.
[908]
Шутка основана, видимо, на созвучии греческих слов Φαληρεΰς – «житель Фалера» и φαλακρός – «блестящий», «гладкий», т. е. с лысой головой.
[909]
Агафон,
сын Тисамена, – афинский трагический поэт (ок. 448/46 – ок. 400/399), близкий в юности к софистам (Протагор 315d) и находившийся под влиянием Горгия (см.: Апология Сократа, прим. 9), политически был связан с олигархами. Славился своим изяществом и женственной красотой (ср. Аристофан.
Женщины на празднестве Фесмофорий. Агафон является в женском наряде, декламирует от лица корифея и поет, подражая хору. В «Лягушках» (83) его именуют «милым» – игра слов αγαθός – Α'γάθων). Об особенностях его трагедий, близких, видимо, к новоаттической драме, см.: Lévêque P.
Agathon // Annales de l'Université de Lyon. 3 sér. Lettres, Fase. 26. Paris, 1955). Об Алкивиаде
см.: Алкивиад II, прим. 1.
[910]
Феникс, сын Филиппа,
нигде, кроме этого диалога, не встречается.
[911]
Главкон
нигде, кроме этого диалога, не встречается. Его никак нельзя отождествлять ни с братом Платона, ни с его дядей (см.: Феаг. прим. 25).
[912]
После 411 г., а может быть, между 408 и 407 гг. Агафон покинул Афины и прибыл ко двору македонского царя Архелая (см.: Феаг. прим. 13).
[913]
Ср. слова Сократа у Ксенофонта: «У меня есть милые особы, которые ни днем ни ночью не дадут мне уйти от них"» «И Аполлодор вот, и Антисфен никогда от меня не отходят» (Воспоминания… III 11, 16‑17).
[914]
Во времена нашего детства,
т. е. в 416 г., когда и Платон (род. в 427 г.) был еще мальчиком. Поражает то, что, несмотря на долгие годы, отделяющие этот пир от рассказа о нем, создается иллюзия, будто событие пережито только что, оно воспринимается Главконом как случившееся совсем недавно, на днях. Это особое чувство времени у Платона создает зримость, интимность и конкретность переживания.
В данном случае Агафон – автор трагедии – сам набрал и обучал хор (хоревтов)
в качестве хорега (см.: Алкивиад I, прим. 49).
[915]
Аристодем
(из аттического дема Кидафин
Пандионской филы) – восторженный поклонник Сократа, известный только по свидетельству Ксенофонта (Воспоминания… I 4), который передает разговор Сократа с Аристодемом об отношении божества к человеку. Аристодем всегда ходил босиком, подражая в этом, видимо, самому Сократу (ср. Пир 220b, когда в зимнюю стужу Сократ выходил «в обычном своем плаще и босиком шагал по льду легче, чем другие обувшись»).
[916]
Место спорное: в одних рукописях стоит μαλακός – «мягкий», «кроткий"» в других оно исправлено как μανικός – «безумный», «бесноватый». Оба чтения имеют свои основания. В первом случае – иронический подтекст.
[917]
Сократ умытый и в сандалиях
действительно явление редкое (ср.: Федр 229а). У Ксенофонта (Воспоминания… I 6, 2) софист Антифонт осуждает Сократа: «Живешь ты, например, так, что даже ни один раб при таком образе жизни не остался бы у своего господина: еда у тебя и питье самые скверные; гиматий ты носишь не только скверный, но один и тот же летом и зимой, ходишь ты всегда босой и без хитона». Однако в своем «Пире» (17) Ксенофонт пишет, что Сократ и его друзья явились на пиршество к Каллию после того, как «одни занимались гимнастикой и умастились маслом, а другие даже приняли ванну».
[918]
Платон перефразирует поговорку, которую схолиаст (р. 256 Hermann) приписывает Гераклу, явившемуся на пир к царю Кеику со словами: «Люди достойные без зова приходят на пир к недостойным». Источник поговорки – стихи из Вакхилида (Bacchylides.
Fr. 4, 21‑25 Snell – Maehler), y которого Геракл, став на каменном пороге дома Кеика, сказал: «Без зова приходят справедливые мужи на обильные пиры достойных». Атеней (V 178а) приводит эти стихи и дает оба варианта поговорки – по Платону и по схолиасту.
[919]
Агамемнон
и Менелай
– герои «Илиады» Гомера. «Слабым копейщиком» называет Менелая Аполлон, подстрекая Гектора к битве (Ил. XVII 585–590). Менелай приходит незваным на жертвоприношение Агамемнона (Ил. II 408).
[920]
У Гомера Диомед, царь Аргоса, направляясь в ночную разведку, приглашает себе в спутники кого‑нибудь из героев, говоря так (Ил. X 224–226):
Ежели двое идут, то придумать старается каждый,
Что для успеха полезней. А что бы один ни придумал,
Мысль его будет короче и будет решенье слабее.
Пер. В. В. Вересаева.
[921]
Эриксимах
– сын известного врача Акумена и сам врач. Умеренность в еде и питье была характерна для врачебных советов Акумена (Ксенофонт.
Воспоминания… I 13, 2) и самого Эриксимаха (Пир 176d). Вместе со своим другом Федром, Агафоном и Павсанием он участник встречи знаменитых софистов в доме Каллия (Протагор 315с‑е).
[922]
Имеется в виду победа Агафона в афинском театре (см. преамбулу).
[923]
Здесь, может быть, намек на комический суд в «Лягушках» Аристофана, где покровитель театра Дионис, спустившись в царство мертвых, оценивает творчество Эсхила и Еврипида.
[924]
Об обычае совершать возлияние
и возносить хвалу богу
в конце первой части пиршества, т. е. когда все насытились едой и стол уносился, упоминают многие авторы. Бог этот, видимо, «благой демон», о котором говорит, ссылаясь на Феопомпа, и схолиаст «Ос» Аристофана (525): «Был обычай, когда собирались уносить стол, делать возлияния благому демону». Однако Атеней (XV 675а‑с), ссылаясь на врача Филонида, таковым богом считает Диониса, принесшего виноградную лозу с Красного моря в Грецию и отождествляемого с «благим демоном». Возлияние Дионису делается несмешанным, чистым вином. Но когда приступают ко второй части пира, наслаждаясь вином и беседой, первую чашу смешанного с водой вина посвящают Зевсу Сотеру («спасителю»), посылающему с неба дождевую влагу на виноградные лозы.
[925]
См. прим. 16. У Ксенофонта (Пир 8, 32) Сократ осуждает Павсания
за его приверженность к чувственной, телесной любви. Ср. ниже (180с – 185с) речь Павсания.
[926]
Об Аристофане
(446–385) см.: Апология Сократа, прим. 6.
[927]
Федр
– сын Питокла из аттического дема Мирринунта, филы Эгеиды. Ему посвящен Платоном диалог «Федр». По свидетельству оратора Лисия (XIX 15), он был «человек, впавший в бедность не по своей порочности». Федр – большой поклонник красноречия в философии любви. Эллинистический комедиограф Алексид в комедии «Федр» (II fr. 245 Kock) заставляет своего героя произносить речь, характеризующую Эрота как существо «ни женского, ни мужского рода, ни бога, ни человека, ни глупого, ни умного, но отовсюду всего набравшего, в одном лике объединяющего многие виды. Он дерзание мужчины, слабость женщины, неразумие безумца, разум мыслящего, сила зверя, неукротимая мука, стремление к божеству (δαίμονος)».
[928]
Имеется в виду трагедия Еврипида
«Меланиппа мудрая», дошедшая во фрагментах (fr. 484. N. – Sn.).
[929]
Эрот,
или Эрос,
– божество любви (см. также прим. 22). У Гесиода – одна из четырех первых космогонических потенций наряду с Хаосом, Геей и Тартаром (Теогония 116–122). У Гесиода же «между вечными всеми богами прекраснейший – Эрос. Сладкоистомный, у всех он богов и людей земнородных душу в груди покоряет и всех рассужденья лишает» (пер. В. В. Вересаева). Автор древних генеалогий, мифограф V в. Акусилай (9 В 1 Diels) делает Эрота, Эфир и Метиду (Мысль) детьми супружеской пары Эреба и Ночи. По свидетельству Климента Александрийского (9 А 4 Diels), «историографы Евмен и Акусилай изложили прозаически и выдали за собственные сочинения сведения, взятые из Гесиода». Однако видно, что Акусилай вовсе не следует буквально за Гесиодом.
По Ферекиду (7 В 3 Diels), «Зевс, намереваясь быть демиургом, превратился в Эроса, потому что, составивши, как известно, мир из противоположностей, он привел его к согласию и любви и засеял все тождеством и единством, пронизывающим все». Парменид объявляет Эрота старейшим из созданий Афродиты; в своей космогонии он пишет: «Первым из всех богов она сотворила Эрота» (В 13 Diels). Орфики в своей теогонии представляют «древнейшего, самосовершенного, многомудрого» (fr. 29 Kern) Эрота в нескольких ликах. Он – Фанет («явленный»), «сын прекрасного Эфира», «великий демон… нежный» (fr. 74, 83 Kern). Фанет же – Фаэтон («сияющий»), Протогон («перворожденный») (fr. 73 Kern). Эроту посвящен 58‑й орфический гимн (Quandt), где читаем: «Призываю тебя, великий, чистый, возлюбленный, сладостный Эрот. Ты – смелый стрелок, крылатый, огненношумный, с быстро бегущим движеньем, играющий с богами и смертными людьми, многоискусный, с двойной природой, владеющий всеми ключами эфира, неба, моря, земли и даже той богини Реи, зеленоплодной, все породившей, которая питает смертные души, и даже той, которая царит над широким Тартаром и шумносоленым морем. Ты один властвуешь, как видно, над всеми. Но, благодатный, сопричислись к чистым мыслям посвященных в таинства и отгони от них стремления злые и неуместные» (пер. А. Тахо‑Годи. Стихотворный перевод О. Смыки см. в изд.: Античные гимны. М., 1988. С. 238).
Об архаическом культе Эрота свидетельствует его каменное необработанное изображение в Феспиях (Павсаний
IX 27, 1). В классическую же эпоху это сын Зевса (Еврипид.
Ипполит 533), «златокрылый бог» (Аристофан.
Птицы 1738). По Анакреонту, он изящный, «золотоволосый» (fr. 5 Diehl), согласно Алкею – «самый мощный из богов, которого породила прекраснообутая Ирида в объятиях златовласого Зефира» (fr. 8 Diehl), y Сафо – «подобный ветру» (fr. 50 Diehl). По Ивику, он «влажно мерцающим взглядом из‑под темных ресниц» завлекает своими чарами в сети Киприды (fr. 7 Diehl). Симонид Кеосский (fr. 24 Diehl) обращается к нему так: «О дитя Афродиты, жестокое, хитроумное, которого богиня породила Аресу, отважному в битвах». Сила Эрота «необорима», и ей Софокл посвящает в «Антигоне» III стасим (781–805). Образ Эрота в греческой поэзии см.: Lasserre F.
La figure d'Eros dans la poésie grecque. Lausanne, 1946; в искусстве – Strobel W.
Eros. Versuch einer Geschichte seiner bildlichen Darstellung. Erlangen, 1952; Лосев А.
Эрос у Платона. 1916 (см.: переиздание с предисл. А. А. Доброхотова – «Вопросы философии». 1988. № 12. С. 120–139).
Похвальное слово
– энкомий – особый литературный жанр, распространенный в течение всей античности (ср.: Менексен, преамбула). Об отсутствии энкомия в честь Эрота ср. слова хора из трагедии Еврипида «Ипполит» (538–540): «Эрота – владыку над людьми, хранителя ключей от милой опочивальни Афродиты – мы не почитаем». См. также: Ион, прим. 17 и 18.
[930]
См.: Феаг, прим. 4.
[931]
Покровитель театра Дионис
и Афродита
(любовь) – непременные действующие лица греческой драмы.
[932]
О происхождении Эрота
см. прим. 24. Федр в своей речи приводит аргументы в защиту древнего происхождения могущественного Эрота.
[933]
Теогония 119–121. Хаос
– в древнегреческой мифологии «зияющая бездна» (ср. χαίνω, χάσκω – «зиять», «разверзаться») в отличие от римского понимания хаоса как «беспорядка», «косной материи». Овидий называет хаос rudis indigestaque moles («сырая и грубая глыба»), non bene iunctarum discordia semina rerum («плохо связанные враждой семена вещей») (см.: Овидий.
Метаморфозы. М., 1977, I 5‑9). Об истории понимания хаоса в античном мире см.: Lossew A.
Chaos antyczny // Meander, 1957. Ν9. См. также: Федон, прим. 64.
[934]
Об Акусилае
см. прим. 24.
[935]
Из поэмы «О природе» (В 13 Diels). См. прим. 24.
[936]
Тема любви мужчины к прекрасному юноше, которой так насыщен диалог «Пир», да и другие диалоги Платона, не должна казаться столь необычной, если подойти к ней исторически. Многие тысячелетия матриархата, оставившего заметный след во всей греческой жизни вплоть до классической эпохи, обусловили своеобразную реакцию в мифологических представлениях греков и в их социальном бытии. Хорошо известны, например, миф о рождении Афины без матери из головы Зевса или трилогия Эсхила «Орестея», в которой молодые олимпийские боги Аполлон и Афина доказывают превосходство мужчины, героя и вождя рода. Известно также, как бесправна была женщина в греческом классическом обществе. Знаменитые гетеры, образованные, умные и пользовавшиеся полной свободой поведения, по сути дела стояли вне официального общества. В то же время вся античность принципиально отличается от новой Европы еще недостаточно развитым сознанием неповторимости личности, задавленной сначала родовыми, а затем и полисными авторитетами или на Востоке неограниченным владычеством деспота, перед которым миллионы людей были все на одно лицо и лежали ниц (ср. «Персов» Эсхила). В Персии особенно была распространена однополая любовь, и именно оттуда этот обычай перешел в Грецию, когда между этими странами завязались прочные отношения. Отсюда представление о высшей красоте, воплощенной в теле, причем неважно, в каком именно, в мужском или женском, но скорее в мужском, так как мужчина – полноправный член государства, он мыслитель, издает законы, он воюет, решает судьбы полиса, и любовь к телу юноши, олицетворяющего идеальную красоту и силу общества, прекрасна. Вот почему собеседники «Пира» (см. 181cd) считают Афродиту Небесную («Уранию» – см.: Гесиод.
Теогония 195–250) покровительницей любви к юноше, в атлетически‑прекрасном теле которого воплощена высшая красота. Афродита Пандемос («Пошлая», букв. «Всенародная») помогает любви к женщине, существу низшему, способному рождать лишь детей (а это все‑таки надо для продолжения рода), но не мысли и не идеи, которыми живет общество и ради которых мужчина‑герой идет на подвиг и даже на смерть (см. также прим. 40).
[937]
Мысль о том, что взаимная любовь учит юношей стремиться к прекрасному
и быть мужественными, развивается у Ксенофонта в «Воспоминаниях…» (4, 10‑18). В «Киропедии» (VII 1, 30) Ксенофонт пишет: «Совершенно очевидно, что нет сильнее фаланги, чем та, которая состоит из любящих друг друга воинов». Та же мысль у Элиана – Пестрые рассказы III 9 (пер. С. Поляковой. М.; Л., 1963).
[938]
У Гомера отвагу герою «вдыхают» Афина (Ил. X 482) и Аполлон (Ил. XV 262). Ксенофонт (Греческая история VII 4, 32) пишет: «Если божеству угодно, оно может в один день прославить людей, вдохнув в них храбрость» (пер. С. Лурье. Л., 1935).
[939]
В трагедии Еврипида «Алкеста» героиня готова умереть вместо своего мужа
царя Адмета, но Геракл вырывает ее из рук Смерти. Существует иная версия (Аполлодор.
Мифологическая библиотека. Л., 1972, I 9, 15): Персефона, супруга Аида, возвращает Алкесту (Алкестиду)
на землю, тронутая ее мужеством. Отец
Адмета – Ферет, мать
– Периклимена. Сам Адмет – участник похода аргонавтов.
[940]
См.: Апология Сократа, прим. 33.
[941]
Орфей
– сын Эагра и музы Каллиопы, мифический фракийский певец, муж нимфы Евридики. О силе его пения говорят Эсхил (Агамемнон 1629) и Еврипид (Вакханки 561–565, Ифигения в Авлиде 1211). См.: Ион, прим. 11. Драматическая история о влюбленном певце красочно изображена Овидием (Метаморфозы I 1‑85, XI 1‑66) и Вергилием (Георгики IV 454–526). Аргумент Федра о наказании богами Орфея за его изнеженность, так как он не осмелился умереть за жену, встречается впервые у Платона. Однако аргумент этот не противоречит основной версии мифа, если понимать под изнеженностью неспособность Орфея совладать с охватившим его «безумием» (Георгики IV 488) – желанием увидеть Евридику.
[942]
Об Ахилле
на Островах блаженных
см.: Горгий, прим. 80 (с. 811). По одному из редчайших мифов (Аполлоний Родосский.
Аргонавтика IV 811–815 // Александрийская поэзия / Пер. Г. Церетели. М., 1972). Ахилл должен попасть после смерти в Елисейские поля и стать там мужем Медеи.
[943]
Патрокл
– сын Менетия, друг Ахилла, убитый Гектором с помощью Аполлона (Ил. XVI 791–863).
[944]
Намек на влюбленность Ахилла содержится в «Мирмидонянах» Эсхила
(fr. 131, 135 N. – Sn. = Radt). Существовала сатировская драма Софокла «Возлюбленные Ахилла» (fr. 153–161 N. – Sn. = fr. 149–157а Radt), отзвук которой у Овидия в «Тристиях» (II 409–412). О том, что Ахилл моложе Патрокла, но знатнее его родом, говорит сам Менетий (Ил. XI 786 сл.).
[945]
О двух Афродитах
– Урании и Пандемос (см. прим. 31) – трактуют, например, Геродот (I 105 – о сирийском храме Афродиты Урании, 131 – о почитании ее персами, III 8 – арабами и IV 59 – даже скифами) и Ксенофонт (Пир VIII 9). Павсаний указывает на то, что в Афинах были храм Афродиты Урании (I, 14, 6), а также храм Афродиты в «Садах» (I 19, 2) (ср.: Лукиан.
Изображения 4, 6 // Собрание сочинений: В 2 т. / Под ред. Б. Богаевского. Т. 1. М., 1935). Афродита Пандемос тоже имела, по Павсанию, свой храм на Акрополе. Поклонение ей было введено Тесеем, «когда он свел всех афинян из сельских домов в один город» (I 22, 9). Здесь Павсаний подчеркивает общегосударственный, политический смысл имени Афродиты, объединяющей весь народ, в то время как обычно противопоставляется любовь идеальная, небесная любви чувственной.
О двух сторонах Эрота говорит неизвестный трагический поэт: «Двойным дыханием ты дышишь, Эрот» (fr. adespota 187). Ксенофонт устами Араспа (Киропедия VI 1, 41) говорит о «двух душах» «лукавого софиста любви», так как одна душа не может быть «в одно и то же время хорошей и дурной, любить прекрасное и постыдное, одного и того же желать и не желать"» Сократ у Ксенофонта (Пир I 10) говорит о людях, «вдохновляемых целомудренным Эротом». Оратор Эсхин в речи «Против Тимарха» одобряет Эрота «справедливого» (136), «целомудренного и законного» (140), который вдохновлял тираноубийц (см.: Eschine.
Discourse. Т. l / Texte et. et trad. par V. Martin et G. de Budé. Paris, 1927).
[946]
См. прим. 31. Диона
– дочь (одна из трех тысяч) Океана и Тефии (Гесиод.
Теогония 353) или (вместе с другими титанами) дочь Урана и Геи (Аполлодор
I 2). Гомер (Ил. V 370–417) знает ее как мать Афродиты.
[947]
Об оценке чего‑то как прекрасного
или безобразного
в зависимости от образа действия говорит не раз сам Платон (Менон 88d., Федр 258d). Ср. у Аристотеля (Политика VII 13, 1333а 9 сл.): «По отношению к прекрасному или непрекрасному действия отличаются не столько сами по себе, сколько тем, какова их конечная цель и ради чего они совершаются».
[948]
Элида
– западная область Греции, Беотия
– центральная, Иония
– на Малоазиатском побережье.
[949]
Аристогитон
и Гармодий
убили тирана Гиппарха (514 г.). Фукидид, полагая, что «люди склонны принимать на веру от живших раньше без проверки сказания о прошлом» (I 20, 1‑2), уточняет этот старинный рассказ и выясняет, что Аристогитон и Гармодий вместо Гиппия, правителя Афин, вынуждены были убить его брата Гиппарха (см.: Феаг, прим. 14), так как Гиппий был уже кем‑то предупрежден и заговору грозил провал. Известна бронзовая группа работы Крития и Несиота, изображающая Гармодия и Аристогитона.
[950]
Мысль Эриксимаха о
любви, разлитой по всему миру растений и животных, типична для греческой натурфилософии. О любви, победившей «людей земнородных, в небе высоком летающих птиц и зверей всевозможных», говорит уже автор гомеровского гимна к Афродите (IV 1‑6 // Античные гимны). Тема эта постоянна у трагических поэтов. У Еврипида говорится: «Киприда шествует и в высях эфира, и в бездне моря, все из нее рождается. Она сеятельница и дает любовь, и все мы на земле произросли от нее [из семян Киприды]» (Ипполит 447–450). Ср. также у Лукреция «О природе вещей» – обращение к Венере (I 1‑40): «Под небом скользящих созвездий жизнью ты наполняешь и все судоносное море, и плодородные земли; тобою все сущие твари жить начинают, и свет, родившися, солнечный видят».
[951]
Стремление непохожего к непохожему
– идея, близкая пифагорейцу Филолаю («подобное постигается подобным», 44 А 29 Diels).
[952]
О постоянном наполнении
и опорожнении
читаем в Гиппократовом подражании Гераклиту (22 С 1, 6): «Одно входит, чтобы взять, другое – чтобы дать. И берущие уменьшают, а дающие увеличивают"» «Такова природа человека. Одно отталкивает, другое притягивает; одно дает, другое берет». Гиппократ пишет: «Медицина есть прибавление и отнятие: отнятие всего того, что излишне, прибавление же недостающего» (О ветрах 1 // Гиппократ.
Избранные книги / Пер. В. И. Руднева. М., 1936).
[953]
Любовь,
объединяющая начала, разделенные Враждой, характерна для учения Эмпедокла (см.: Лисид, прим. 24).
[954]
Асклепий,
бог врачевания, сын Аполлона и нимфы Корониды (Гомеровские гимны XVI 2), за попытки воскрешать умерших был поражен, по Гесиоду, «дымным перуном» Зевса (fr. 125 Rzach). В ответ Аполлон перебил киклопов, выковавших Зевсу его громы и молнии. За это Зевс заставил Аполлона семь лет служить пастухом у царя Ферета (Еврипид.
Алкеста 1‑9). Подробности об Асклепии, ученике мудрого кентавра Хирона, о его дерзости и его гибели от «пылающего перуна» см. у Пиндара (Pyth. III 24‑62 Snell – Maehler). См. также: Ион, прим. 2.
[955]
Ср.: Критон, прим. 13, а также Протагор, прим. 24. О врачебном искусстве
и гимнастике,
заботящихся о теле человека, у Аристида Квинтилиана (De musica I 1 // Aristidis Quintiliani.
De musica libri III / Ed. R. P. Winnigton‑Ingram. Lipsiae, 1963). Земледелие
связано с Эротом, так как благодаря любви земля рождает растения и плоды. См. прим. 45. Платон в «Законах» пишет: «Из искусств только те порождают что‑либо серьезное, которые применяют свою силу сообща с природой, каковые, например, врачевание, земледелие и гимнастика» (889d).
[956]
См.: Алкивиад I, прим. 13; Гиппий больший, прим. 21.
[957]
Урания
– муза астрономии. Полигимния
– муза гимнической поэзии. Они, по Гесиоду (Теогония 75‑80), в числе девяти муз – дочери Мнемосины (богини памяти) и Зевса. Платон прибегает здесь к аналогии: один Эрот – сын Афродиты Урании, а значит, и музы Урании (Небесной).
[958]
Другой Эрот – сын Афродиты Пандемос, а значит, и музы Полигимнии (Многопоющей) (см. также прим. 40). Может быть, Эриксимах понимает Полигимнию как «поющую для многих, для всех». Тогда она в данном случае действительно идентична с Афродитой Пандемос – тоже Любовью «для всех».
[959]
Эриксимах рассуждает здесь как натурфилософы (Эмпедокл), для которых весь мир был одним живым организмом, со своими влечениями и отталкиваниями (ср.: Лисид, прим. 24).
[960]
Дж. Барнет в своем издании Платона следует за чтением Стобея – «любовные вожделения людей благочестивы» (ευσέβειαν). Однако в кодексах BTW смысл противоположный – «нечестивы» (άσέβειαν). Оба чтения правомерны. Первое чтение построено по принципу позитивного сближения: гадание определяет вожделения благочестивые и освященные обычаем. Второе чтение – по принципу негативного противопоставления: гадание определяет вожделения нечестивые и освященные обычаем.
Многим из нас, на Олимпе живущим, терпеть приходилось
От земнородных людей из‑за распрей взаимных друг с другом.
Пер. В. В. Вересаева
Вся история мифологии – это история борьбы между древними, хтоническими богами, титанами, гигантами, чудовищами вроде Тифона с богами олимпийскими и новым владыкой Зевсом, утверждающим принцип порядка, закона, соразмерности, разумной воли. Сюда же примыкают и мифы о посягательстве человеческого рода на господство Зевса. Интересно, что богам у Платона невыгодно уничтожить человечество вообще, так как тогда они лишаются почитания и жертв. Однако дерзких следует наказать – рассечь пополам, сделать их слабыми, увеличив вместе с тем число людей, а значит, и количество жертвоприношений. Вспомним, что Эсхил тоже знает такой период в истории мифа, когда Зевс решил уничтожить жалких людей, живших в пещерах, как муравьи, и «насадить новый род» (Прометей прикованный 230–233). Красивый, соразмерный и целесообразный облик человеку, рассеченному Зевсом, придает Аполлон, любящий во всем гармонию и стройность. Ср. эпитеты Аполлона: «сплетающий порядок» (Orph. hymn. anon. II 11 Abel), «гармония мира», «всемудрый демон» (Lactantii divinarum, institutiones I 7, 9‑10 // L. С. Lactantii Firmiani opera omnia V. I / Rec. G. Walchius. Mosquae, 1851).
[961]
Стремлением половинок человека в зависимости от их происхождения (мужской пол, женский, андрогины) объясняются здесь три типа любви. По словам Аристофана, вполне оправданна любовь мужчины к прекрасному юноше, так как в этой любви есть память о некогда едином существе мужского пола, рассеченном Зевсом пополам.
Очевидно, что общепринятое романтическое толкование этого мифа как мифа о стремлении двух душ к взаимному соединению не имеет ничего общего с платоновским мифом о чудовищах, разделенных пополам и вечно испытывающих жажду физического соединения. Скорее всего при толковании этого мифа можно согласиться с К. Рейнгардтом, который видит в нем, во‑первых, этиологический миф, как в «Протагоре» и «Горгии» (см.: Протагор 320d – 322d; Горгий 523а – 527а), и, во‑вторых, стремление к древней целостности и единству человека чисто физическому вместо божественно прекрасной целостности с ее восхождением от тела к духу, от земной красоты к высшей идее (Reinhardt К.
Platons Mythen. Bonn, 1927. S. 60‑61).
[962]
См.: Евтифрон, прим. 20.
[963]
Лакедемоняне
в 385/4 г. разрушили аркадский город Мантинею и переселили ее жителей. Эпаминонд в 371 г. восстановил город. Здесь характерный для Платона анахронизм, ввиду которого диалог датируется между 385 и 371 гг.
[964]
Значки гостеприимства
(проксении) – игральные кости, распиленные половинки которых гость и хозяин при расставании оставляли у себя, чтобы они или их потомки при встрече могли доказать свое право на гостеприимство.
[965]
Для иллюстрации слов Агафона о том, что Эрот ненавидит старость,
можно привести стихи Анакреонта, в которых Эрот, бросив в поэта «пурпурный мяч», возбудил в нем любовь к «прекраснообутой деве», а она презирает «седые волосы» Анакреонта и «глазеет на другого» (fr. 5. Diehl).
[966]
Ср. Од. XVII 218:
Бог, известно, всегда подобного сводит с подобным.
Пер. В. В. Вересаева.
[967]
Об Начете
см.: Протагор, прим. 32; о Кроне
– Кратил, прим. 29.
[968]
Имеется в виду поэма Гесиода
«Теогония». У Парменида
поэмы о происхождении богов не было, но, может быть, их история входила в поэму «О природе», дошедшую до нас лишь в отрывках. Необходимость
(Ананке), богиня судьбы (см. о веретене Ананке у Платона в «Государстве» X 616с – 617d), по орфической теогонии, вместе с Кроносом порождает Эфир, Хаос и Мойр (fr. 54 Kern); ср. прим. 76.
[969]
Ата
– ослепление, приводящее к гибели, богиня несчастья. По Гомеру – дочь Зевса, которая ввела в заблуждение своего отца, за что и была сброшена им с Олимпа (Ил. XIX 90‑133). Ее вред людям стараются исправить дочери Зевса Мольбы (Просьбы), защитницы людей (Ил. IX 502–512). По Гесиоду, Ата – дочь Эриды – Раздора (Теогония 230).
[970]
Ил. XIX 92‑93.
[971]
Ср.: Аристотель.
Риторика III 3 1406 а 18‑23 со ссылкой на ритора Алкидаманта.
[972]
Слова из не дошедшей до нас трагедии Софокла «Фиест» (fr. 235 N. – Sn. = 256 Radt) о власти любви над богом войны Аресом.
См. историю об Аресе и Афродите, рассказанную певцом Демодоком на пиру, где присутствовал Одиссей (Од. VIII 266–366).
[973]
Слова из трагедии Еврипида «Сфенебея» (fr. 663 N. – Sn.).
[974]
Реминисценция из Гомера (Ил. 11 205 сл., IX 98 сл.).
[975]
Авторство этих стихов не установлено. Может быть, они принадлежат самому Агафону.
[976]
О Горгии
см.: Апология Сократа, прим. 9. Голова Горгия
– перефразировка известных гомеровских строчек из рассказа Одиссея о его путешествии в царство мертвых (Од. XI 633–635):
…Бледный объял меня ужас, что вышлет
Голову вдруг на меня чудовища, страшной Горгоны,
Славная Персефонея, богиня из недр преисподней.
Пер. В. В. Вересаева.
[977]
Слова Ипполита из трагедии Еврипида «Ипполит» (612).
[978]
Далее следует замечательный образчик диалектики Сократа, заставляющей собеседника признать бессмысленность его основных положений. В своих утверждениях о том, что Эрот нуждается в прекрасном и благородном, но никак не является воплощением прекрасного, Сократ подходит к дальнейшей характеристике Эрота как вечного стремления к благу и красоте.
[979]
Образ мантинеянки Диотимы
достаточно загадочен у Платона. Его можно считать чистой фикцией и видеть в имени этой мудрой женщины только символический смысл (мантинеянка – из г. Мантинеи; μάντις – «пророк», «пророчица», μαντικός – «пророческий». Мантинея в Аркадии славилась прорицателями: Диотима – «чтимая Зевсом»). Не исключена, однако, возможность ее реального существования. Ведь у нас не вызывает никакого сомнения реальность таких выдающихся своим умом и талантом женщин, как Аспасия, Сапфо и Коринна. Известно, что Сократ считал Аспасию своей наставницей в риторике (Менексен 235е). Пиндара наставляла в поэтическом искусстве Коринна (Plutarchi.
De gloria atheniensium 4 // Moralia. Vol. II) и даже побеждала его в состязаниях (Павсаний
IX 22, 3). Женщины – пророчицы и жрицы чрезвычайно почитались в Греции. Диоген Лаэрций, например, упоминает дельфийскую жрицу Фемистоклею, у которой заимствовал многие из своих принципов Пифагор (VIII 8). Порфирий, излагая учение пифагорейцев, пишет о дельфийской жрице Аристоклее (Vita Pythagorae 41 // Porphyrius opuscula / Ed. Nauck. Lipsiae, 1886). Прокл в своих комментариях к «Государству» Платона (I 248, 25‑30 Kroll), следуя Тимею, говорит, что известны несколько женщин‑пифагореек, и рядом с Феано и Тимихой называет и Диотиму. Схолиаст к ритору II в. н. э. Элию Аристиду именует Диотиму «мистериальным философом, провидицей», «жрицей Ликейскою Зевса в Аркадии» (р. 468, sch. 127; 11, 15 Dindorfii), которая отсрочила так драматически изображенную Фукидидом (II 47‑54) чуму в Афинах (430 г.) на десять лет. Сам Элий Аристид называет Диотиму – наряду с Аспасией – образованнейшей женщиной.
[980]
Порос – сын Метиды, Мудрости (μήτις – «мудрость», «мысль»), супруги Зевса (см.: Кратил, прим. 64). Порос (πόρος – «путь», «средство для достижения чего‑либо», «выход из затруднительного положения», «богатство"» см.: Законы VI 752d, Менон 78е; отсюда απορία – «безвыходное положение», см. Теэтет 191а) – явное олицетворение ловкости, сноровки во всех сложных положениях жизни – впервые упоминается в хоровой лирике. Алкман (fr. 1,14 Diehl = fr. 16, 15 Bergk) упоминает Пороса и Айсу – Судьбу (чтение Диля у Бергка – Гея – Земля) «старейшими из богов». Схолиаст к этому месту пишет: «Он (Алкман. – А.Т.‑Г.
) назвал Пороса одинаково с Хаосом, упомянутым Гесиодом» (см. прим. 28). Здесь же Пения
– олицетворение бедности («бедность»). В комедии Аристофана «Богатство» (489–618) она пытается доказать бедняку Хремилу, что спасение человека в труде и что без страха перед бедностью люди бы не трудились. Однако вся логика Пении тщетна, и Хремил предпочитает богатство. У буколического поэта из Сиракуз Феокрита (III в.) в идиллии «Рыбаки» (XXI 1‑3) тоже есть слова, близкие к мыслям аристофановской Пении:
Только лишь бедность одна, Диофант, порождает искусства,
Бедность – учитель работы, и людям, трудом отягченным,
Даже спокойно заснуть не дают огорчения злые.
Феокрит. Мосх. Бион.
Идиллии и эпиграммы / Пер. и коммент. М. Е. Грабарь‑Пассек. М., 1958
Миф о рождении Эроса
от Пуроса
и Пении
вымышлен Платоном; воспринимаемый аллегорически, он создает совершенно новый образ Эрота, не сравнимый ни с какой иной его трактовкой в античности. Здесь Эрот – начало демоническое, срединное между богами и людьми. Он вечно беден; скитаясь, стремится, жаждет, ищет прекрасное, теряет все, что имеет. Он дерзкий софист, чародей и философ (софистом называет Эрота Арасп в «Киропедии» Ксенофонта – VI 1, 41). Сократ усматривает суть Эрота в его «творческой силе, которая все пронизывает», «в его любви не просто к прекрасному, но к порождению и воспроизведению в красоте, что и есть стремление к Благу» (Reinhardt К.
Op. cit. S. 70). Вся речь Диотимы есть не что иное, как прославление высшей красоты, к которой стремится человек, отрешаясь от любви к отдельным, конкретным, чисто чувственным объектам, телам и вещам. Только постепенно восходя от ощущения красоты в частностях материального мира к созерцанию идеи прекрасного, а также высшего Блага, можно понять сущность Эрота, т. е. вечного духовного рождения в красоте.
[981]
По Гомеру же, боги (Ил. V 341)
Хлеба… не едят, не вкушают вина, потому‑то
Крови и нет в них, и люди бессмертными их называют.
Пер. В. В. Вересаева.
[982]
Красота
здесь персонифицирована (ср. в этом диалоге – Пения, Порос, Эрот; Законы в «Критоне»). Илифия
– богиня, помогающая роженицам. Мойра
– богиня судьбы – тоже присутствует при рождении ребенка, определяя его участь на всю жизнь (ср. прим. 63).
[983]
Обычная тема в античной поэзии. Ср. у Симонида Кеосского о царе спартанцев Леониде, который оставил «великое украшение доблести и вечную славу» (fr. 5 Diehl), или у Софокла в «Филоктете», где герой «стяжал вечную славу» (1420 N. – Sn.).
[984]
Кодр,
аттический царь, при вторжении дорийцев пожертвовал собой и спас родину. После этого афиняне упразднили царскую власть, а потомки Кодра получили достоинство пожизненных архонтов. См. также: Менексен, прим. 17.
[985]
Потомство
Гомера и Гесиода – их поэтические произведения.
[986]
Дети Ликурга
(см.: Федр, прим. 48) в Лакедемоне – его законы.
[987]
Венки
на пирах сплетались из мирта, серебристого тополя, плюща, из цветов, например роз или фиалок, излюбленных афинянами. Ср.: Феокрит II 122, о пурпурной ленте, обвившей тополевый венок. Алкей называет Сапфо «фиалковенчанной» (fr. 63 Diehl). Ср.: Феаг, прим. 25.
[988]
Холодильная чаша
(псиктер) – сосуд, который наполняли снегом и льдом для охлаждения вина. Ср. у Ксенофонта (Воспоминания… II 1, 30) о поисках снега летом для пиров. Котила
– приблизительно 1/4 литра.
[989]
Гомеровский стих (Ил. XI 514) о враче Махаоне, сыне Асклепия.
[990]
Силены,
или сатиры, в мастерских ваятелей
– забавные смешные фигурки козлоногих спутников бога Диониса. В этих фигурках, состоящих из двух половинок и сделанных часто из дорогого материала, а иной раз из терракоты, хранились флаконы с ароматическими веществами, драгоценности или изваяния богов.
О том, что Сократ действительно был похож на силена, упоминает в своем «Пире» Ксенофонт (IV 19). Сократ мудр, значит, он похож на мудрого сатира, или силена, Марсия (см.: т. 1, Евтидем, прим. 29 и Алкивиад I, прим. 9). Скрытая за безобразной внешностью силена мудрость Сократа, завораживающего своими речами, как флейтой, слушателей, – опять‑таки блестящий пример создания Платоном выразительной символики. Платоновский символ был использован в литературе эпохи Возрождения знаменитым гуманистом Ф. Рабле. Он в авторском обращении, предваряющем роман «Гаргантюа и Пантагрюэль», вспоминает «Пир» Платона и образ Сократа‑силена, делая вывод, что забавная форма романа не так уж нелепа, как можно подумать.
[991]
Олимп
у Павсания (X 30, 5) – ученик Марсия
в игре на флейте. Плутарх считает, что Олимп ввел в Элладе законы гармонии, обучившись у Марсия (см.: О музыке 7 / Пер. Н. Томасова // Античная музыкальная эстетика / Вступит. очерк и собр. текстов А. Ф. Лосева. М., 1960).
[992]
См.: Критон, прим. 19.
[993]
Алкей (fr. 66. Diehl) и Феокрит (XXIX 1) пишут: «Правдив у вина язык». Был, видимо, и второй вариант поговорки: «Вино и дети правдивы». У Алкивиада оба варианта объединены (см.: Творения Платона. Т. V. С. 82, прим. 109).
[994]
Схолиаст к Элию Аристиду (р. 471, sch. 129, 4 Dindorfii) упоминает орфический стих, который произносили перед началом мистерий:
Я буду вещать тем, кому позволено.
Замкните двери для непосвященных.
[995]
Имеется в виду обмен оружием между Диомедом и Главком, у которого Зевс похитил разум и тот обменял свое золотое оружие на медное своего противника (Ил. VI 235, 236).
[996]
Об Аяксе
см.: Апология Сократа, прим. 56.
[997]
См.: Апология Сократа, прим. 32.
[998]
Гомер.
Од. IV 242.
[999]
См.: Лахет, прим. 2.
[1000]
Слова из комедии Аристофана «Облака» 361–362.
[1001]
Брасид
– спартанский полководец, которому посмертно оказывали почести как герою. Погиб от раны при Амфиполе (422 г.), одержав победу над афинянами. Нестор
(см.: Гиппий меньший, прим. 4) и его сын Антенор
– гомеровские герои, славившиеся ораторским искусством. Образцы речей Перикла (см.: Феаг, прим. 19) оставил Фукидид (I 140–144; II 35‑46).
[1002]
О Хармиде
см.: Феаг, прим. 25. Этот Евтидем
фигурирует у Ксенофонта в «Воспоминаниях…» в главе «Разговор с Евтидемом о необходимости учиться» (см.: Гиппий меньший, прим. 18). Другому Евтидему (см.: Кратил, прим. 10) – софисту – посвящен диалог Платона.
[1003]
Ср.: Гесиод.
Труды и дни 217 сл.:
Праведен будь! Под конец посрамит гордеца непременно
Праведный. Поздно, уже пострадав, узнает это глупый.
Пер. В. В. Вересаева
и Гомер.
Ил. XX 198:
Только тогда, как случится беда, дураки ее видят.
Пер. В. В. Вересаева.
[1004]
Говоря о том, что искусный трагический поэт
должен уметь сочинить и комедию, Сократ имеет в виду не только выучку и мастерство (τέχνη), которые дают возможность человеку выработать разносторонние способности и навыки. Здесь скорее идет речь о внутреннем глубоком осмыслении жизни, которую творец (а не только выученный мастер) видит в разных аспектах, которые умеет воплотить в равной мере выразительно. С этой мыслью можно сравнить слова Пиндара из II Олимпийской оды: «Мудр тот, кто рождается постигающим многое; ученые же, обильные пусторечием, как вороны каркают непрестанно на божественную птицу Зевса» (86‑89 Snell – Maehler). Совмещение трагического и комического в художественном произведении не результат «многознайства», но скорее следствие «многомыс‑лия» (ср.: Алкивиад II, прим. 12).
[1005]
См.: Евтидем, прим. 1.
[1006]
См.: Евтидем, прим. 58.
[1007]
См.: Пир, прим. 16.
[1008]
Личность Эпикрата
недостаточно достоверна. Может быть, это тот демагог, известный взяточник и казнокрад, против которого написана XXVII речь Лисия и который упоминается у Аристофана (Женщины в народном собрании 71), а также у схолиаста к этому месту. У него была комически громадная борода. Морихий
– богатый афинянин, большой чревоугодник, принимавший на пирах в своем доме поэтов, философов, ораторов и актеров. Его гастрономические увлечения осмеивались в комедиях (схол. 227b).
[1009]
Пиндар в «Истмийских одах» (I 1‑3) пишет:
Матерь моя Фива,
Носительница золотого щита,
Для меня твой труд
Превыше всяких забот!
Пер. М. Л. Гаспарова.
Пиндар.
Вакхилид. Оды. Фрагменты. М., 1980
[1010]
Мегары
расположены приблизительно в 40 км от Афин (см. также: Критон, прим. 16). О Геродике
см.: Протагор, прим. 24.
[1011]
Орифия,
дочь аттического царя Эрехтея, по преданию, была похищена северным ветром Бореем
и унесена во Фракию (Павсаний
I 19, 6). Геродот (VII 189) сообщает, что афиняне считали Борея своим зятем и во время бури у Евбеи принесли Орифии и Борею жертвы с мольбой сокрушить флот варваров.
[1012]
В местечке Агры
(«Ловы») находился храм Артемиды Агротеры («Ловчей»), где «некогда, придя с Делоса, охотилась Артемида» (Павсаний
I 19, 7 // Описание Эллады / Пер. С. П. Кондратьева. Т. I–II. М., 1938–1940. Т. I).
[1013]
Фармакея
– наяда одноименного ручья.
[1014]
Холм Арея
– ареопаг, где, по Эсхилу, происходил суд над Орестом (Евмениды) и где с тех пор, по преданию, был основан древнейший суд по делам, связанным с убийством или с оскорблением богов.
[1015]
Сократ перечисляет целый ряд мифических существ. Гиппокентавры,
или кентавры, – полулюди‑полулошади (Ил. I 268, II 743 сл.), химера
– огнедышащее чудовище, полулев и полузмея с туловищем козы (Ил. VI 180–182). Древние знали трех горгон
– чудовищ подъемного царства, самая знаменитая из которых Медуза
(«Владычица») со змеями вместо волос и взглядом, «все превращающим в камень» (Гесиод.
Теогония 275–277). Пегас
– крылатый конь, сын Медузы и Посейдона, появившийся из крови убитой горгоны (Теогония 278–281). Тифон
(ниже в тексте, 230а) – чудовище со ста головами, сын Геи – Земли, побежденный Зевсом (Теогония 820–868).
[1016]
В словах о доморощенной мудрости
чувствуется насмешка над ранними философами, которым еще не была чужда мифология и которые толковали стихии и вообще чувственный мир в ее духе; например, у Анаксимена «воздух есть бог», у Гераклита «мудрость» хочет и не хочет называться Зевсом (В 32 Diels), y Парменида органы зрения называются Гелиадами (В 1 Diels), y Эмпедокла боги – космогонические силы: Любовь – Афродита и Гефосина, Вражда – Эрида (В 17‑20, 22 Diets), Огонь – Гефест (В 98 Diels), Вода – Нестида (В 96 Diels). Сократа, стоявшего на принципиально новых позициях по сравнению с натурфилософами, интересует прежде всего человек. Вот почему он вспоминает изречение на храме Аполлона в Дельфах: «Познай самого себя» (см. здесь же, ниже).
[1017]
Ахелой
– река в Греции, пересекающая ее с севера на юг. По мифам, «серебристопучинный» Ахелой – древнейшая река, сын Океана и Тефии, старший из трех тысяч братьев (Гесиод.
Теогония 340), отец источника Дирки недалеко от Фив (Еврипид.
Вакханки 519 сл.), губительниц‑сирен – дочерей Мельпомены (Аполлодор
I 3, 4) или Терпсихоры (Аполлоний Родосский
IV 895–897) и нимф (Ил. XXIV 616).
[1018]
См. также: Критон 52b.
[1019]
Подлинность речи Лисия сомнительна. Парадоксальность темы (предпочтение нелюбящего любящему), аргументация и выводы напоминают упражнения опытных софистов.
[1020]
Сапфо
(Сафо) – знаменитая древнегреческая поэтесса с о. Лесбос (VII–VI вв.), основательница песенной любовной лирики. Фрагменты сочинений Сапфо и Анакреонта
(см.: Феаг, прим. 18) см. у Диля (Diehl) и Эдмондса (Edmonds). Русск. пер. см.: Вересаев В. В.
Полн. собр. соч. Т. X; Он же.
Соч. Т. III. M., 1948; Эллинские поэты. М., 1963.
[1021]
Плутарх пишет (Солон 25): «Совет давал присягу коллективную – твердо соблюдать Солоновы законы, а каждый из фесмофетов (архонты, председательствовавшие в суде) присягал особо на площади у камня, заявляя, что если он нарушит что‑либо в этих законах, то посвятит богу в Дельфах золотую статую, равную своему росту» (Сравнительные жизнеописания. Т. 1–2. М., 1961–1963. Т. I). См. также: Менексен, прим. 17.
[1022]
Павсаний (V 1, 4) пишет, что «Кипсел, коринфский тиран, посвятил Зевсу в Олимпии золотую статую».
[1023]
Сладкоголосые Музы
(собственно «звонкие»: λίγειαι, что созвучно названию племени лигийцев, или лигуров, больших любителей пения) – так Музы названы в гомеровских гимнах (XVII 1 Diehl), в пэанах Пиндара (fr. 14, 32 Snell – Maehler), в идиллиях Феокрита (XXII 221).
[1024]
Как указывает Гесихий, человек, охваченный поэтическим вдохновением, считался охваченным нимфами
или Музами (см.: Hesichii Alexandrini Lexicon / Ed. M. Schmidt. Ienae, 1867. Νυμφόληπτος), вообще всякий поэт творит по какому‑то безумному наитию. Ср.: Ион, прим. 14 и 16; о дифирамбе
см. там же, прим. 17.
[1025]
Схолиаст к данному месту приводит пословицу в следующем виде: «Сверстник радует сверстника, старик – старика». Ср.: Горгий, прим. 63.
[1026]
Схолиаст считает эти строки пародией на «Илиаду» XXII 262–264:
Как невозможны меж львов и людей нерушимые клятвы,
Как меж волков и ягнят никогда не бывает согласья,
Друг против друга всегда только злое они замышляют.
Пер. В. В. Вересаева.
[1027]
В полдень
солнце кажется неподвижно стоящим в зените. Карпов переводит «полдень жгучий», так как σταθερά можно считать не только ж. р. прилагательного σταθερός («неподвижно стоящий»), но и (правда, с натяжкой) словом, производным от глагола σταθεύω («жечь»).
[1028]
О Симмии
см.: Федон, преамбула.
[1029]
Ивик
(VI в.) – лирик из Регия (Южная Италия), автор хоровых песен. По преданию, убит разбойниками, злодейство которых раскрыли журавли (ср. балладу Шиллера «Ивиковы журавли»). Фрагменты Ивика см. в изд. Диля, т. II и Эдмондса, т. III. Данная строка – fr. 22 Diehl. Ср. пер. В. В. Вересаева в книге «Эллинские поэты», фр. 12.
[1030]
Стесихор
(VII–VI вв.) из Гимеры в Сицилии – лирический поэт, автор хоровых песен и устроитель хоров (отсюда и его имя). К строфе и антистрофе хора добавил еще эпод, так называемый припев. В словаре Суда* (Στησίχορος) читаем: «Говорят, что он, написав хулу на Елену, был ослеплен. По велению же во сне заново сочинил Елене хвалу, палинодию (παλινωδία: букв. „обратную песнь“. – А.Т.‑Г.),
и вновь прозрел». Фрагменты Стесихора в т. II изд. Диля и в т. III Эдмондса. Данные стихи – fr. 11 Diehl.
* Suidae lexicon graece et latine / Rec. G. Bernhardy. Holis et Brunsvigae, 1853.
[1031]
Ср.: Хармид, прим. 29; Ион, прим. 14 и 16; Менон, прим. 46.
[1032]
В Дельфах
было прорицалище Аполлона (см.: Алкивиад I, прим. 46), в Додоне (Северная Греция, Эпир) – Зевса. В Додоне
толкования оракула давали по шелесту листьев дуба, а в Дельфах – по предсказанию Пифии, треножник которой стоял над расселиной скалы. К этим оракулам в трудных обстоятельствах обращались не только люди по своим личным делам, но и целые государства в целях политических. Уже Гомер знает Додонский оракул, где его пророки‑жрецы «ног не моют себе и спят на земле обнаженной» (Ил. XVI 233–235), а также «храм Аполлона, метателя стрел на Пифоне скалистом» (Ил. IX 405). Именно сюда перед Троянской войной приходил вождь всех ахейцев Агамемнон (Од. VIII 79‑82).
[1033]
См.: Феаг, прим. 15.
[1034]
«Мантический»
– букв. «пророческий», «манический», «вдохновенный», «безумствующий». Рассуждения Сократа (ниже в тексте) о происхождении слов «ойонистика» (от οιωνός – «птица») – птицегадание – и «ойоноистика» (искусственно образовано Сократом от οίωνίζομαι – «предчувствовать» и νοέω – «думать») – гадание посредством ума – созвучны рассуждениям об этимологии слов в «Кратиле».
[1035]
Подробнее см.: Горгий, прим. 80.
[1036]
См.: Кратил, прим. 41.
[1037]
См.: Горгий, прим. 80 (с. 812).
[1038]
См. там же (с. 813).
[1039]
См.: Менон, прим. 23.
[1040]
О теле
как могиле души см.: Горгий, прим. 45.
[1041]
Учение об истечениях
('απορροή) от предмета, которые воздействуют на чувственное восприятие человека, характерно особенно для натурфилософских воззрений Эмпедокла и Демокрита. Эмпедокл пишет: «Знай, что из всех существующих предметов истекают токи» (В 89 Diels). Для Эмпедокла свет – это «тело, вытекающее из светящегося тела» (А 57 Diels); «цвета несутся к зрению истечениями» так же, как запахи, которые «суть истечения», причем «из элементов только один огонь дает истечения, другие же нет» (А 86 Diels). Демокрит, по свидетельству Теофраста, считал, что «от всего всегда происходит некоторое истечение», поэтому «мы видим вследствие вхождения в нас идолов (образов)» (А 135, 1 Diels).
[1042]
Здесь столь излюбленная Сократом игра слов. По‑греч. «частица» – μέρος, «влечение» – ίμερος. Исхождение частиц можно сравнить с исхождением от предметов его «эйдолов» – отображений (см. прим. 35). По Гиппократу, благодаря жизненной силе «проникают в человека части всех частей» и «каждая же [отдельная] душа колеблется между обладанием бόльшим и меньшим числом частиц, приобретая для себя всякие частицы» (22 С 1 Diels).
[1043]
Ср.: Кратил, прим. 15. Птерот
– от τό πτερόν («крыло»). О гомеридах
см.: Ион, прим. 6.
[1044]
См.: Кратил, прим. 56.
[1045]
Ганимед
– сын царя Троса, похищенный Зевсом и ставший на Олимпе виночерпием богов (Ил. XX 231–235) и любимцем Зевса (01. I 43‑45 Snell – Maehler). В обмен Зевс подарил Тросу божественных коней (Ил. V 265–267).
[1046]
Под тремя олимпийскими состязаниями
здесь в переносном смысле понимается путь, трижды пройденный душой. Победа одерживается в том случае, если душа трижды, т. е. в течение трех тысяч лет, избирает одну и ту же истинно философскую жизнь. Ср. 248с – 249d – о переселении душ в материальные тела на земле и о суде над душами.
[1047]
Душа, расставшаяся с нечистым телом, но еще проникнутая телесностью, тяжелеет, и «эта тяжесть тянет ее в видимый мир», где она, как призрак, «бродит среди надгробий и могил» (Федон 81 с). Однако души тех, кто сильно любил, получают награду за свою любовь, стремятся отрастить крылья и не сходят во мрак.
[1048]
Покаянная песнь,
палинодия – ср. прим. 25.
[1049]
Полемарх,
старший брат Лисия, и отец его Кефал
– участники диалога Платона «Государство». См.: указ. диалог, преамбула.
[1050]
Государственный муж
– возможно, Архин (см. Менексен, прим. 4), который был против предоставления сицилийцу Лисию афинского гражданства. Эта история рассказана Плутархом в «Жизни десяти ораторов», в главе «Лисий» (835с – 836b). Сочинитель речей
– «логограф» (см., например, Евтидем, прим. 58).
[1051]
Излучина на Ниле,
сокращавшая путь между Навкратисом и Мемфисом, но чрезвычайно опасная, именовалась древними евфемистически «сладкой» или «доброй». Ср. например, Мыс Доброй Надежды (вместо Мыса Бурь) или Понт Евксинский – «Гостеприимный» (вместо Понта Аксинос – «Негостеприимный»). Здесь выражение употреблено в переносном смысле: государственным людям приятно писать речи, но это трудно, и они отказываются от своей задачи, боясь прослыть софистами, которых всегда порицали афинские обыватели, те самые «многие», «толпа», с чьим мнением, по Платону, Сократ никогда не считался, хотя они и могли принести большой пред. См.: Критон, прим. 6, 11.
[1052]
Творец речи уходит из театра, радуясь
– может быть, потому, что в афинском театре происходили часто заседания народного собрания. В греч. тексте ό ποιητής – слово, которое можно понимать узко – «поэт» и широко – «автор вообще». Это или прямое сравнение: он уходит «с веселием в сердце, как поэт из театра» (Карпов), или подразумеваемое: «Если предложение принято, то поэт (Dichter), полный радости, уходит со зрелища домой» (О. Апельт).
[1053]
Ликург
(см.: Критон, прим. 15), по Фукидиду (I 18), жил в IX в., по Плутарху (Ликург VII, XXXIX // Сравнительные жизнеописания. Т. 1), – в X–IX вв. О Солоне
см.: Менексен, прим. 50. Дарий I
прославился укреплением и расширением своего государства. При нем началась греко‑персидская война. См.: Менексен, прим. 21.
[1054]
Сирены
привлекали путников сладостным пением и губили их. У Гомера (Од. XII 39‑54, 166–200) мимо них проплыл Одиссей, привязав себя к мачте и заткнув воском уши своих товарищей. Гомер знает двух сирен; в более позднее время считали, что их три. Когда мимо них проплыли аргонавты, заглушая их пение музыкой Орфея (Аполлоний Родосский
IV 893–921), сирены бросились в море и превратились в скалы (Orphei Argonautica 1284–1290 Abel).
[1055]
Музы
– дочери Зевса и Мнемосины; по Гесиоду – пиэрийские, геликонские, олимпийские. Их девять сестер: Клио, Евтерпа, Талия, Мельпомена, Эрато, Терпсихора,
Полигимния, Урания, Каллиопа.
Они богини искусства и вдохновительницы поэтов: им также ведомы правда и ложь, «что было, что есть и что будет». Они не просто поют, но славят «священное племя бессмертных», «добрые нравы богов» и «законы», следуя за «царями, достойными чести», и облегчая жизнь тем, кто «сохнет, печалью терзаясь» (см.: Гесиод.
Труды и дни 1 сл., а также Теогония – 1‑104, подробная характеристика Муз).
Среди гомеровских гимнов есть один (XXV), обращенный к Музам и Аполлону. В орфической литературе тоже есть гимн «Музам» (LXXVI). Из поздних гимнов к Музам отметим гимн «Музе» Месомеда с о. Крит (I–II в. н. э.), к которому (наряду с гимнами Солнцу и Немесиде) сохранились древние нотные знаки, на основании которых существует ряд музыкальных реставраций (Musici scriptores graeci / Rec. С. Janus. Lipsiae, 1895. P. 454–473). Знаменитый неоплатоник Прокл (V в. н. э.) тоже оставил «Гимн к Музам».) (III). Музы у него – это «свет, возносящий ввысь человеческий род». Они через «вдохновенные книги» спасают «души людей, поглощенные бездною жизни», они «опьяняют» философа «умными мифами мудрых», увлекая «душу странника к чистому свету», душу, «насыщенную медом их собственных ульев». См.: Античные гимны. См. также прим. 18.
[1056]
Миф о цикадах,
созданный Платоном, – изящная метаморфоза, «превращение» с этиологической, как это постоянно бывает, основой. Интересно, что этиология здесь не ограничивается узкой задачей самой метаморфозы – показать, откуда взялись цикады. Мифологема органически связана с композицией диалога. Слова Сократа: «Значит, по многим причинам нам с тобой надо беседовать, а не спать в полдень» – раскрывают суть этого мифа, подчеркивая деятельное начало в человеке, лишенном рабской или животной лености ума, и наталкивают собеседников на дальнейшее развитие темы.
Превращение людей в иные существа – основная тема «Метаморфоз» Овидия. Однако для него превращение человека в животное, растение, камень или ручей – следствие наказания его богами или внутренняя моральная невозможность сохранить человеческий облик. Миф, где бы сила искусства заставила людей умирать в самозабвении и затем превращаться в цикаду, – плод неуемной фантазии Платона. Кузнечики всегда считались прекрасными певцами. Еще у Гесиода (Труды и дни 582–584):
…на дереве сидя,
Быстро, размеренно льет из‑под крыльев трескучих цикада
Звонкую песнь свою средь томящего летнего зноя.
Пер. В. В. Вересаева.
Плутарх называл кузнечиков «священными и музыкальными» (Quaest. conv. VIII 7, 3). Феофилакт Схоластик в одном из своих писем (Ер. 1) именует кузнечика «музыкантом», «охотно распевающим песни и по своей природе очень болтливым», особенно в полуденный час, когда он «как бы опьяняется солнечными лучами», и «стрекочет певец, превратив дерево в жертвенник, поле – в театр и предлагая путникам свое музыкальное искусство» (Epistolographi graeci / Rec. R. Hercher. Paris, 1873). Рассказ этот следует платоновской традиции. Схолиаст к Аристофану (Облака 984) тоже говорит о «музыкальных кузнечиках», которые близки Аполлону. Так же как люди, которые ничего не ели, распевая, и кузнечики, облик которых эти люди приняли, по поверьям древних, ничего не едят. Артемидор в своем знаменитом «Соннике» (III 49) пишет, что «кузнечики обозначают музыкальных людей на основании рассказа о них; пищи никакой для них не надо» (Artemidori Daldiani Onirocriticon, Libri V / Ed. R. Pack. Lipsiae, 1963). Аристотель (История животных IV 7, 532b 14) тоже полагает, что кузнечики питаются только росой. В известном анакреонтическом стихотворении (fr. 32 Bergk) кузнечик «пьет немного росы» и поет «как царь», «сладостный пророк жары», которого «любят Музы». Кузнечик здесь «мудрый», «рожденный землей, любитель песен, не испытывающий страданий, бескровный, почти что подобный богам». В небольшом рассказе Элиана (De nat. an I 20 Hercher) «О цикадах» говорится о «болтливости» цикад, о том, что они «питаются росой» и распевают в самую жару, «как трудолюбивые хоревты». Страбон (VI 1 9) приводит историю о том, как однажды на состязаниях кифаредов на пифийских играх, когда у победителя «одна струна лопнула, цикада вскочила на кифару и восполнила недостающий звук струны». Победитель посвятил Аполлону в родном городе Локры свою статую с цикадой, сидящей на кифаре. Многие видели в кузнечиках нечто пророческое. Так, Теофраст считал, что «кузнечики, расплодившиеся в большом количестве, свидетельствуют о годе болезней» (Theophrasti opera / Ex rec. F. Wimmer, I.Lipsiae, 1862, fr. VI 4. P. 129).
[1057]
Ср. пер. В. В. Вересаева: «Слово, какое скажу я, не будет достойно презренья» – обращение Нестора к Агамемнону с советом испытать доблесть воинов, распределив их по племенам и фратриям (Ил. II 361–363).
[1058]
Т.е. пустяки.
[1059]
Плутарх (Apophtegmata laconica 233b // Moralia. Vol. II) в собрании различных остроумных ответов спартанцев (19) пишет: «Когда некий оратор похвалялся искусством красноречия, один лаконец сказал: „Клянусь богами, никогда нет и не будет искусства без истины“».
[1060]
Сократ ведет воображаемый разговор с доказательствами,
персонифицируя их. Ср.: Критон 50а и прим. 12.
[1061]
Искусству красноречия
посвящен диалог «Горгий».
[1062]
Упоминаются герои поэм Гомера, Нестор
и Одиссей
– искусные ораторы. Паламед
– сын Навплия, известный умом и проницательностью, изобретатель мер и весов, игры в кости и шашки. См. также: Апология Сократа, прим. 56; Гиппий меньший, прим. 4.
[1063]
О Горгии
см.: Апология Сократа, прим. 9. Фрасимах
из Халкедона преподавал в Афинах риторику. Платон порицал его как софиста. Фрагменты Фрасимаха см. в изд. Дильса (Bd. II, cap. 85); русск. пер.: Маковельский А.
Софисты, вып. 2. Баку, 1941. Феодор
из Византия – софист и ритор, считался учителем Лисия (не имеет отношения к Феодору Киренаику, участнику «Теэтета»).
[1064]
Имеется в виду Зенон (см.: Алкивиад I, прим. 28). О Паламеде см. прим. 57.
[1065]
См.: прим. 12, а также Кратил 408 b‑d и прим. 70.
[1066]
Мидас
– фригийский царь, известный своей страстью к золоту, из‑за которой он чуть не погиб (Овидий.
Метаморфозы XI 90‑145). Известен еще и тем, что предпочел свирель Пана кифаре Аполлона, получив в наказание от бога ослиные уши (там же 146–193). Ниже в тексте приводится надпись,
принадлежащая либо Клеобулу из Линда, либо Гомеру (VII 153 Beckby).
[1067]
Одиссей идет за нимфой Калипсо: «Быстро шагая, за нею же следом и он устремился» (Од. V 193).
[1068]
Определение диалектика
как человека, умеющего ставить вопросы и давать ответы, см. в Кратиле 390с. О противопоставлении диалектики и эристики, т. е. спора, см.: Менон, прим. 9. См. также: Апология Сократа, прим. 24.
[1069]
О Дедале
см.: Ион, прим. 10.
[1070]
Ср.: Апология Сократа, прим. 10.
[1071]
Тисий
из Сиракуз (V в.) – ритор, ученик Коракса, учитель софиста Горгия. Тисий и Коракс определяли риторику как «демиурга убеждения» (IV, р. 19 Walz). Они строили свои доказательства на основе «вероятности», установили технику разделения речи на части (см.: Федр 266de), заложили основы античной риторики (VI, р. 13 Walz). Как пишет Максим Плануд, «риторика появилась и возросла в Сицилии» (V, р. 215 etc. Walz). В творчестве Коракса, Тисия и Горгия сказывается преемственность ораторских традиций, характерная для сицилийской школы.
[1072]
См.: Апология Сократа, прим. 9.
[1073]
См. там же.
[1074]
О Поле
см.: Феаг, прим. 23. Ликимний
– учитель Пола, который, как пишет схолиаст к «Федру» (267с), «разделил имена на имена в собственном смысле слова, сложные, схожие, приложения и на некоторые другие», чему он и обучил Пола.
[1075]
См.: Евтидем, прим. 32.
[1076]
Т.е. Фрасимаха. Ср.: Евтидем, прим. 16.
[1077]
См.: Пир, прим. 16.
[1078]
См.: Феаг, прим. 13 и 17.
[1079]
Подразумевается софист Антифонт. Адраст,
мифический фиванский полководец, известный своей мудростью, убедил Тесея похоронить тела павших вождей, ходивших с сыном Эдипа Полиником на Фивы. Для этого Тесей вступил в сражение с фиванцами, победил их и похоронил павших вождей в элевсинской земле. Тиртей (fr. 9, v. 8 Diehl) называет Адраста «медоустым». О Перикле
см.: Феаг, прим. 19.
[1080]
См.: Апология Сократа, прим. 27.
[1081]
См.: Протагор, прим. 11.
[1082]
Схолиаст к этому месту «Федра» пишет, что волк, увидев пастуха, поедающего мясо овцы, сказал: «Какой бы был поднят шум если бы это сделал я». Возможно, что этот рассказ связан с мотивами Эзопа.
[1083]
О трудном, но прекрасном пути,
ведущем к цели см. у Гесиода (Работы и дни 288–292):
Путь не тяжелый ко злу, обитает оно недалеко,
Но добродетель от нас отделили бессмертные боги
Тягостным потом: крута, высока и длинна к ней дорога.
И трудновата вначале. Но если достигнешь вершины,
Легкой и ровною станет дорога, тяжелая прежде.
Пер. В. В. Вересаева
[1084]
Навкратис
– торговый город в Нижнем Египте.
[1085]
Тевт,
видимо, бог Тот. Цицерон пишет (О природе богов III 2, 56) о пяти ликах Меркурия, причем пятый, «которому поклоняются фенеаты, как говорят, убил Аргуса, по этой причине бежал в Египет и сообщил египтянам законы и письменность. Его египетское имя Тот, и так же называется у них первый месяц в году». (Философские трактаты / Пер. с лат. М. И. Рижского. М., 1985). В истории рассказанной Сократом, есть, таким образом, доля мифологической традиции. Приводимые ниже в тексте слова о припоминании вместо памяти и мнимой мудрости вместо истинной вполне соответствуют мнению Сократа и Платона (см.: Менон, прим. 23).
[1086]
См.: Алкивиад II, прим. 14.
[1087]
См. прим. 26.
[1088]
Садами Адониса
называлась зелень, высаженная в горшки к весеннему празднику бога Адониса и быстро увядающая; она символизировала кратковременность земной жизни.
[1089]
Рапсоды
– исполнители эпических песен.
[1090]
См.: Феаг, прим. 23.
[1091]
Характерна молитва Сократа о внутренней
красоте, в которой так и чувствуется учение о прекрасном, благе и неотделимости добродетели от красоты.
[1092]
Схолиаст поясняет: «Для тех, кто щедро отдает» Пословица зародилась в Великой Греции (Южная Италия), где Пифагор учил о совместном владении имуществом. Согласно схолиасту, «Клеарх рассказывает, что, когда халкидяне с Евбеи послали в Дельфы дары Аполлону и Артемиде и вопросили там, поровну ли будут распределены приношения, оракул ответил: „У друзей все общее“».
[1093]
Здесь, видимо, идет речь об одном из эпизодов многолетней Коринфской войны, когда в 369 г. афиняне, союзники Спарты, послали свои войска во главе с Ификратом на Истм против фиванцев.
[1094]
Эрин
вблизи Элевсина – место, где, по преданию, Плутон похитил Кору (Павсаний
I 38, 5).
[1095]
Кирена
– город в Киренаике (Северная Африка), родина математика Феодора, философов‑гедонистов Аристиппа и Анникерида, стоика Карнеада, поэта Каллимаха, географа Эратосфена.
[1096]
Указание на портик
свидетельствует о том, что диалог происходил в палестре.
[1097]
Суниец
– житель Суния, южной оконечности Аттики с храмом Афины.
[1098]
Речь идет о детской игре в мяч,
когда, как указывает схолиаст к Платону, побежденного усаживали на осла. Видимо, об этой игре читаем у Гомера (Од. VIII 371–376):
Взяли тотчас они в руки пурпуровый мяч превосходный;
Был этот мяч изготовлен для них многоумным Полибом.
Мяч тот, откинувшись сильно, один под тенистые тучи
Быстро бросал, а другой, от земли подскочивши высоко,
Ловко ловил его прежде, чем почвы касался ногами.
Пер. В. В. Вересаева.
[1099]
Сократ,
товарищ Теэтета, фигурирует у Платона в «Софисте» (218b) в качестве безмолвного персонажа. В «Политике» (257d) он вступает в разговор вместо утомившегося Теэтета. О. Апельт считает, что именно об этом Сократе упоминает Аристотель в «Метафизике», когда пишет: «И то сравнение живого существа [с медным кругом], которое обычно делал младший Сократ, неправильно: оно уводит от истины и заставляет считать возможным, чтобы человек был без частей тела, как круг без меди» (VII 11, 1036b 24‑28).
[1100]
Сторона квадрата,
[площадь которого выражена продолговатым числом
], т. е. иррациональная сторона квадрата. Текст 147d – 148b y многих комментаторов вызывал разного рода сомнения, которые можно преодолеть, только если принять во внимание следующее главное обстоятельство. Как бы ни понимать употребляемые здесь Платоном термины, во всяком случае ясно одно: если разных знаний много, то это значит, что есть некое знание вообще; если в геометрии имеются квадраты и прямоугольники, то это возможно только потому, что есть некая четырехугольная фигура вообще, и если существуют разные типы чисел, то это значит, что есть число вообще. Числа и фигуры привлечены здесь для иллюстрации этой мысли Платона относительно знания. Впрочем, здесь, возможно, содержится намек на некий способ доказательства несоизмеримости отрезка длиной √п
(где n
– неквадратное число) с единичным отрезком.
Термин δύναμις, который использует здесь Платон, имеет несколько математических значений: квадрата, квадратного корня, стороны квадрата, степени. Об употреблении этого термина Платоном см. книгу французского исследователя Ж. Суйе (Souilhé J.
Йtude sur le terme dynamis dans les dialogues de Platon. Paris, 1919).
[1101]
Сын повитухи
– Сократ, сын Фенареты, как известно, называл свое искусство диалектики майевтикой, т. е. «повивальным искусством», которое помогает рождению правильного знания.
[1102]
Богиня‑дева Артемида
в греческой мифологии объединялась с Илифиями – божествами, помогавшими женщинам при родах, и сама носила имя Артемиды‑Илифии (Геродот
IV 34‑35). См. также: Пир, прим. 76.
[1103]
О духовном рождении с помощью диалектики см.: Пир 208с – 210e.
[1104]
О каком боге
здесь идет речь, не совсем ясно. Этот бог не может быть гением (Даймоном) Сократа (ср.: Апология Сократа, прим. 29, 34), ибо гений только накладывал запрет, но никогда не побуждал к действию. Правда, Сократ говорит в «Апологии» (21, 23) о своем исследовании человека как о служении богу, имея в виду Аполлона Дельфийского. В «Федоне» (85b) Сократ считает себя таким же служителем Аполлона, как и лебеди: ведь его «владыка наделил даром пророчества не хуже, чем лебедей», – и потому так спокойно расстается с жизнью.
[1105]
См.: Феаг. прим. 30; а также Лахет, преамбула и прим. 1.
[1106]
О чувственной основе знания
учил Протагор. Однако в противоположность натурфилософам он отрицал возможность объективного познания из‑за текучести чувственного мира (А 16 Diels). Ср.: Аристотель о досократиках в «Метафизике» (IV 5, 1009b 1‑15).
[1107]
Положение Протагора (см.: Евтидем, прим. 32), исходящее из признания текучести материи (см. прим. 14), было связано с релятивизмом, который был свойствен гераклитовцам и раскритикован Платоном в «Кратиле» (44а‑d).
[1108]
Хариты
– дочери Зевса и Океаниды Евриномы, богини вечной юности и дружеского расположения. По Гесиоду (Теогония 907–911), их три сестры – Евфросина («Благая радость»), Аглая («Сияющая») и Талия («Цветущая»). В комедии Аристофана «Облака» (773) Сократ также клянется Харитами.
[1109]
О Пармениде
см. прим. 48, а также: Софист, прим. 19; ему и Протагору посвящены одноименные диалоги; О Протагоре
см.: Евтидем, прим. 32; о Гераклите
– Гиппий больший, прим. 21; об Эмпедокле
– Менон, прим. 12; об Эпихарме
– Горгий, прим. 58; см. также: Протагор, прим. 42; Федон, прим. 18. Все они признавали вечное становление материи в единстве составляющих ее разнородных элементов. К ним причисляет Сократ и Гомера,
у которого Гера как будто отправляется в гости к своим родителям – Океану
и Тефии,
имевшим бесчисленное потомство Океанид и речных нимф (Ил. XIV 201, 302). Здесь (см. ниже в тексте) Океан и Тефия – символы воды, т. е. вечного движения и изменчивости.
[1110]
У Гомера Зевс похваляется, что боги не сумеют низринуть его с неба, даже если все до одного ухватятся за золотую цепь,
подвешенную между небом и землей (Ил. VIII 18‑22). Сам же Зевс может повлечь за собой этой цепью, обвязав ее вокруг Олимпа, землю и море, так что «весь мир на цепи той повиснет» (23‑27). Согласно Сократу, золотая цепь – это Солнце, ибо оно устойчиво и вечно пребывает на своих неизменных путях. Недаром Гераклит писал (В 94 Diels): «Ибо Солнце не преступит положенной ему меры. В противном случае его настигнут Эринии, блюстительницы правды», т. е. Солнце движется по незыблемым законам, которые в лице Эриний бдительно следят за ним. Элий Аристид в речи «К Зевсу» (5, 1‑5) философски толкует золотую цепь Зевса как «излияние» и эманацию в виде нисходящего от владыки мира сонма богов. Ф. Крейцер счел необходимым сделать ссылку на Гомера в §97 «Первооснов теологии» Прокла, где говорится, что «всякая причина, первоначальная для какого‑нибудь ряда, уделяет данному ряду свое свойство». Крейцер полагает, что образ «ряда» (σειρά, что соответствует лат. catena, русск. – «цепь») перенесен в философию гомеровскими экзегетами. Отсюда можно сделать вывод, что Зевс, держащий в своих руках золотую цепь, уделяет ей ряд своих свойств. Говоря словами Прокла, то, чем является он первично, «этим самым данный ряд является ослабленно»; «он дает всему одну идею, согласно которой оно и упорядочено в один и тот же ряд». Таким образом, Зевс концентрирует в себе божественную силу, которая эманирует в его порождениях уже ослабленно, почему все боги и не в силах одолеть владыку мира. Зевс – идея, упорядочивающая нисходящий от него ряд богов. Доддс в своем издании «Первооснов теологии» Прокла (Proclus.
The Elements of Theology / A Revised Text with Transi., Introd. and Comm. by E. R. Dodds. 2ed. Oxford, 1964) оставляет без внимания §97 и ссылается на Гомера в комментарии к §21, где выставляется тезис, что «всякий разряд, ведущий начало от монады, эманирует во множество, однородное с монадой, и множество каждого разряда возводится к одной монаде». У Прокла монада, представляющая собой начало, рождает множество. Поэтому один ряд и один разряд переходят от монады во множество. Доддс считает, что термин «ряд» пришел от Гомера через орфиков к неоплатоникам (op. cit., p. 208).
Некоторые современные толкователи Гомера видели в золотой цепи Зевса довольно прозаический образ монархического правления, где вся власть сосредоточена в руках одного человека (Buffiere F.
Les mythes d'Homère et la pensée grecque. Paris, 1956, p. 349).
[1111]
Имеются в виду слова Ипполита (Еврипид.
Ипполит 612): «Язык мой клялся, а сердце нет», отражающие, видимо, одно из распространенных софистических ухищрений самооправдания.
[1112]
Ср.: Аристотель в «Метафизике» (I 2, 982b 11‑20) о созерцательном, а не действенном характере науки, «занимающейся рассмотрением первых начал и причин». На данное место из «Теэтета» ссылались неоплатоники, например Прокл и Олимпиодор в своих «Комментариях к „Алкивиаду I“» (см.: Initia philosophiae ас theologiae ex Platonici fontibus ducta, sive procli Diadochi et Olympiodori in Platonis Alcibiadem Comment / Ed. F. Creuzer. Vol. I–III. Francofurti a. M., 1820–1821). Толкуя слово θαυμάζει/ν («удивляться»), Олимпиодор пишет (р. 24): «Это выражение употребляется для рассмотрения, так как начало всякой философии – удивление. Удивляясь, ведь мы идем от „чего“ к „почему“. Философствовать – значит отдавать себе отчет в причинах сущего, если только философия – это познание сущего или само сущее. В связи с этим богиня‑вестница Ирида ["Радуга"], дочь Тавманта, ["Удивляющегося», см.: Гесиод.
Теогония 265 сл., 780], есть символ философии», так как, продолжает Олимпиодор (р. 25), «она вопрошает о сущем». Противоположную позицию занимает Демокрит, который, как «и все другие философы», по словам Страбона, восхваляет «это свойство – не изумляться» (68 А 168 Diels). «Неудивление» Демокрита, по мнению Климента Александрийского, есть не что иное, как автаркия Гекатея, или психагогия Аполлодора Кизикийского, или акатаплексия Навсифана (В 4 Diels), т. е. оно указывает на невозмутимость человека перед лицом окружающего мира.
[1113]
Здесь Платон имеет в виду философов‑сенсуалистов, которые признавали наличие только чувственных вещей. В «Софисте» (246а‑с) Платон устами элейского гостя дает живописную характеристику двух противоположных направлений, одинаково чуждых самому Платону, – те, кто непосредственно выводит бытие из физических ощущений, и те, кто, как мегарцы, начисто отделяет идеи от тела. Именно к крайностям мегарской школы можно отнести слова Аристотеля о «неподвижных сущностях» (Метафизика XIV 4, 1091b 13) и об «обособленном существовании идей» (Метафизика XIII 4, 1078b 30 сл.).
[1114]
Платон выступает здесь против наивного сенсуализма с его приматом отдельного ощущения.
[1115]
См. прим. 14 и 17.
[1116]
Схолиаст так поясняет это место: на пятый день после рождения ребенка помощницы при родах, очистив руки, «бегают с младенцем вокруг очага, дают ему имя, а друзья, родственники и просто близкие посылают ему дары». См. также прим. 9.
[1117]
Известно сочинение Протагора под названием «Истина». Намек на это есть выше (152с), где говорится об истине,
которую Протагор открывал только посвященным. Кинокефал
(собакоголовый) – порода обезьян.
[1118]
Фукидид (I 6, 5) писал, что лакедемоняне первые в гимнастических состязаниях «выступали обнаженными в присутствии других», согласно же Элиану (Пестрые рассказы III 38), афиняне «первые ввели гимнастические состязания обнаженных и натертых маслом противников».
[1119]
Протагор,
по словам Цицерона, высказал следующее положение: «О богах я не могу утверждать ни что они существуют, ни что их нет», за что он был изгнан, а книги его сожжены в народном собрании (А 23 Diels). Диоген из Эноанды пишет (там же), что Протагор стремился избежать прямолинейности атеиста Диагора, но по существу отрицал богов. Ср.: А 3, 12; В 4 Diels – одна и та же мысль Протагора, переданная разными источниками (Гесихий у схолиаста к «Государству» Платона. Секст Эмпирик, Диоген Лаэрций, Евсевий).
[1120]
Сократ противопоставляет философов‑диалектиков спорщикам
– софистам (см.: т. 3, Государство V 454). См.: Менон, прим. 9.
[1121]
См.: Апология Сократа, прим. 11.
[1122]
Платон не раз сравнивает спорщика‑софиста с легковооруженным воином (пелтастом)
, пращником или кулачным бойцом (см.: Горгий 456de).
[1123]
Т.е. Теэтет.
[1124]
Скирон
– разбойник, сбрасывавший путников со скалы в море, сам погиб от руки юного Тесея (см.: Федон, прим. 5).
[1125]
Антей
– сын Земли и Посейдона, великан в Ливии, убивавший всякого чужеземца и сам задушенный Гераклом, который оторвал Антея от земли, откуда тот черпал силы (Аполлодор
II 5, 11).
[1126]
Ирония Сократа. О Геракле
см.: Лисид, прим. 7; о Тесее
– Федон, прим. 5.
[1127]
Имеются в виду стихи Гомера: «Ведь потому‑то так много врагов и набилося в дом к нам» (Од. XVI 121).
[1128]
Протагор ко времени беседы Сократа и Федона уже умер (410–405). Здесь имеется в виду внезапное появление тени умершего, как в афинском театре.
[1129]
См.: Апология Сократа, прим. 26.
[1130]
О неспособности философов заниматься общественными делами см.: Горгий 484с‑е. В «Государстве» Платон пишет, что занимающиеся долго философией выходят «большею частью людьми странными, чтобы не сказать негоднейшими»; причем многие из философов «делаются бесполезными для общества» (VI 487cd).
[1131]
Водяные часы
– клепсидра, по которым измеряли время в суде.
[1132]
Пословица, как отмечает схолиаст к «Теэтету», направлена против многознающего и опытного в делах.
[1133]
Цитата из Пиндара: fr. 292 Snell – Maehler.
[1134]
Рассказ о Фалесе,
наблюдавшем звезды, есть у Диогена Лаэрция. О Фалесе как об астрономе сообщает Тимон в своих «Силлах». На статуе Фалеса в Милете есть надпись, свидетельствующая о том, что к нему относились как к старейшему из астрономов (см.: Диоген Лаэрций
I 34).
[1135]
Признак благородного и воспитанного человека – умение изящно набросить плащ
на правое плечо. Ср. у Аристофана (Птицы 1567–1573): эллинский бог Посейдон говорит варварскому богу Трибаллу: «Ты что ж на левое плечо накинул плащ? На правое направь его по правилам. Беда с тобой!.. Урод в послы богами избирается!.. Доселе я таких богов не видел неотесанных».
[1136]
Платон не раз говорит, что все происходящее от богов
– благо. Ср., например, Государство X 613а.
[1137]
Сократ метафорически говорит о «постукивании», т. е. о проверке добротности глиняных сосудов. Ср.: Филеб 55 с: «Обстучим же все это потщательней, не дребезжит ли тут что‑нибудь».
[1138]
И Гераклитовцы,
и эфесцы
– ученики и последователи Гераклита из Эфеса (см.: Гиппий больший, прим. 21).
[1139]
См. прим. 17.
[1140]
Мелисс
(V в.) – ученик Парменида, элеат, автор сочинения «О природе, или О сущем» (А 4 Diels). Парменид
(ок. 515 – ок. 544), глава элейской школы, учил о Едином как вечно сущем бытии, неподвижном, однородном, неделимом и законченном в себе (В 8 Diels), противопоставляя это бытие становлению и кажущейся текучести материи (А 22 Diels).
[1141]
Имеется в виду обращение Елены к Приаму (Ил. III 172):
Свекор мой милый, внушаешь ты мне и почтенье и ужас.
Пер. В. В. Вересаева.
[1142]
Сократ, по преданию, в ранней молодости слушал Парменида. Об этом у Платона – Софист 217 с; см. также: Парменид, преамбула. Однако поздняя античность сомневалась в этом. Макробий (указывая на вольности, которые допускал Платон) писал в своих «Сатурналиях» (I 1): «На самом деле Парменид настолько старше Сократа, что детство последнего едва захватило старость Парменида. И однако, они беседуют на темы очень трудные» (A. Th. Macrobii Saturnalia / Ed. I. Willis, I. Lipsiae, 1963).
[1143]
В деревянном
коне, с помощью которого греки взяли Трою, были спрятаны воины, каждый из которых самостоятелен в своих чувствах, но все они вместе составляют единство идеи и воли (Од. VIII 492–520).
[1144]
Мнемосина
(«Память») – мать Муз
– именуется в «Теогонии» Гесиода «царицей» (54), «пышноволосой» (915), родившей Зевсу Муз, «в золотых диадемах ходящих» (916).
[1145]
Платон здесь нарочито употребляет гомеровское слово κέαρ вместо обычного классического καρδία ради созвучия со словом κηρός («воск»).
[1146]
У Гомера говорится о «косматом сердце» Пилемена (Ил. II 851) и о «косматом сердце» Патрокла (XVI 554). «Волосатое сердце» здесь употребляется синекдохически вместо «волосатая грудь». Собственно говоря, Гомер имеет в виду мощную волосатую грудь героя, как, например, в Ил. I 188 сл.:
…И яростный гнев охватил Ахиллеса.
Сердце в груди волосатой меж двух колебалось решений…
Пер. В. В. Вересаева.
Для Сократа же это метафора – невосприимчивое, жестокое сердце.
[1147]
Схолиаст к «Теэтету» пишет, что проводник через реку вброд на вопрос о том, какова глубина воды, отвечал: «Сама покажет».
[1148]
Имеются в виду гласные звуки.
[1149]
О различении букв
см.: Кратил 424cd, их характеристику – 426с – 427с.
[1150]
Труды и дни 456:
Но ведь в телеге‑то сотня частей.
[1151]
См.: Горгий, прим. 77; см. также комедиографов Магнета и Менандра.
[1152]
Сократ должен был предстать перед архонтом‑басилевсом, к которому обычно поступали обвинения в бесчестии. О Мелете
и его доносе на Сократа см.: Апология Сократа, прим. 1.
[1153]
Имеется в виду обращение одного из женихов Пенелопы к другому, оскорбившему Одиссея (Од. XVII 483–487):
Нехорошо, Антиной, что несчастного странника бьешь ты!
Гибель тебе, если это какой‑нибудь бог небожитель!
В образе странников всяких нередко и вечные боги
По городам нашим бродят, различнейший вид принимая,
И наблюдают и гордость людей и их справедливость.
Пер. В. В. Вересаева.
[1154]
Ср. Од. XVII 486, где имеются в виду боги, обходящие города и наблюдающие нравы. Ср. у Платона отождествление мудрости и божественности: «мудр и божествен» поэт Симонид Кеосский (Государство I 331 е).
[1155]
В диалоге «Тимей» (19е – 20b) Сократ также говорит о необходимости отличать софистов
от философов
и политиков,
так как софисты, «бродящие по городам и нигде не основывающие себе собственного жительства», люди «опытные в красноречии», не могут действовать в неродной для них области.
[1156]
См.: Теэтет, прим. 50.
[1157]
См.: Теэтет, прим. 7.
[1158]
Элеец в своем определении рыболова
пользуется дихотомическим принципом. Весь правый столбец таблицы входит в определение ловли рыбы с помощью удочки. Таким образом, софист
ловит людей, привлекая их ложной мудростью, как рыболов на крючок:

[1159]
Элеец считает софиста скотником, исходя из следующего разделения:
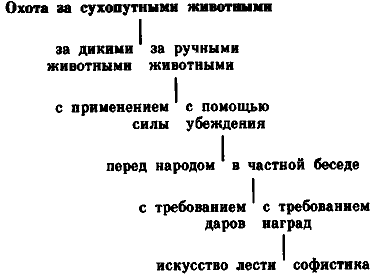
Ср.: Евтидем, прим. 37.
[1160]
Определение софиста как торговца добродетелью
вытекает из следующего рассуждения:

[1161]
Определение софиста
как спорщика ради денег видно из следующего разделения:

[1162]
О невольных заблуждениях
души ср. Законы IX 860d: «Все злые люди бывают во всем злыми лишь против воли… Все совершают несправедливости лишь против своей воли».
[1163]
Представление Платона о несоразмерности и безобразности
заблуждающейся души
небезынтересно сопоставить с мыслью пифагорейца Филолая о том, что «душа облекается в тело через посредство числа и бессмертной бестелесной гармонии» (44 В 22 Diels).
[1164]
См.: Апология Сократа, прим. 53.
[1165]
Благородная софистика,
или искусство обличения, внешне походит на обычную софистику, но на самом деле это, по Платону, подлинная мудрость, и такого «софиста» нельзя ставить в один ряд с софистом, которого выше определили как рыболова, охотника, торговца, мастера в состязаниях.
[1166]
Пословицы
из обихода борцов в палестре не раз встречаются у Платона, для которого спор тоже имеет характер состязания и борьбы. В «Государстве» VIII 544b читаем: «Итак, подобно борцу, повтори прежнюю схватку"» в «Законах» III 682е: «Наше рассуждение дает нам случай снова ухватиться за нашу тему».
[1167]
Протагор считается автором сочинения «О борьбе». Искусный спорщик, «отец целого рода эристиков», он, по свидетельству Диогена Лаэрция, с юношеских лет был очень сильным и с большой ловкостью носил огромные тяжести, остроумно изобретя для этого свои приемы (IX 52‑55). На природную сметливость юноши обратил внимание Демокрит, привел его к себе и, «наставив его в философии, сделал из него то, чем он стал впоследствии» (Gelli noctium Atticarum libri XX / Ed. S. Hosius. Leipzig, 1903. V 3). См. также: Евтидем, прим. 32.
[1168]
Платон относит софистов к людям, которые обладают ложным знанием, основанным на подражании,
а в подражании не может быть истины, в нем только призрак истины. На эту тему Платон подробно рассуждает в «Государстве» и почти теми же словами, когда пишет, что подражатель‑ремесленник «созидает и землю, и небо, и богов, и работает на небе, в Аиде, под землей» (X 596с). Такого подражателя он называл софистом. Платон продолжает: «Искусство подражания далеко от истины» (598b), оно схватывает в ней нечто малое. Подражатель плох тем, что он имеет в виду «не знание каждой вещи, почему она дурна или полезна», и его подражание направлено к тому, чтобы казаться «прекрасным невежественной толпе» (602b). Ср.: Кратил, прим. 86.
[1169]
В «Законах» (698cd) рассказывается о том, как по приказу персидского царя Дария войска Датиса брали в плен всех эретрийцев. Враги распространили слух, будто персидские солдаты, «взявшись за руки, окружили сетью всю Эретрию».
[1170]
Интересно рассуждение о двух видах подражания: творящем образы
и создающем призрачные подобия.
Платон считает всякое искусство подражательным (см. прим. 16) и уже по одному этому далеко отстоящим от «образца», или идеи, которой пытается уподобить свое произведение художник. Однако подражание может быть более близким или, наоборот, отдаленным. Создание «подобного» образа, т. е. на первый взгляд более близкого к идее, тем не менее продукт механического, чисто внешнего подражания. «Фантастическое» («призрачное») подражание, несмотря на свою внешнюю отдаленность, с определенной точки зрения гораздо интереснее, так как в нем проявляется субъективное отношение художника к миру, позволяющее схватить предмет в самых неожиданных его позициях. Однако не следует думать, что слово «фантастический» и связанные с ним «фантасма», «фантасия» адекватны нашему современному пониманию фантазии, выдумки, вымысла. Даже такой позднеэллинистический автор (II–III вв. н. э.), как софист Филострат, автор «Жизни Аполлония Тианского», полагавший основой искусства не подражание, а фантазию, все же не идет в ее понимании дальше субъективно понятого подражания. См. об этом: Тахо‑Годи А. А.
Классическое и эллинистическое представление о красоте в действительности и искусстве // Эстетика и искусство. М., 1966. С. 47–53.
[1171]
См.: Теэтет, прим. 48.
[1172]
«О природе» (В 7 Diels). Бытие Парменида тождественно с мышлением и никогда не может быть небытием, т. е. чем‑то непознаваемым. Утверждение Парменида о наличии только бытия было использовано Аристотелем в «Метафизике» (XIV 2, 1089а 1‑5, ср. 1088b 26‑30).
[1173]
Намек на мифологическую многоголовую гидру, которую победил Геракл. В «Евтидеме» Платона (297с) Сократ говорит: «Мне далеко до Геракла, но и он не мог сражаться в то же время и против гидры, этой софистки, у которой по причине ее мудрости вместо одной отсеченной словесной головы рождались многие».
[1174]
Схолиаст к «Софисту» характеризует пословицу как нечто «слишком ясное». О ней упоминает Аристофан (в «Богатстве») и Менандр.
[1175]
Существующее тройственно
– видимо, у каких‑то ионийских философов. Может быть, речь идет о Ферекиде Сирском, у которого действуют три космогонические силы: Зевс (Дзас), Время (Хронос) и Земля (Хтония) (7 В 1 Diels). Однако в другом фрагменте читаем: «Фалес Милетский и Ферекид Сирский считали воду началом всего, а Ферекид зовет ее Хаосом, вычитавши это, вероятно, у Гесиода, говорящего [Теогония 116]: „Прежде всего зародился Хаос“» (В 1а Diels).
Другие натурфилософы учили о двух изначальных потенциях. У Теофраста читаем (68 А 135 Diels) о «теплом и холодном, которые [некоторыми философами] признаются началами». У Архелая «началом движения было отделение друг от друга теплого и холодного, причем теплое двигалось, холодное же пребывало в покое» (А 4 Diels); из смешения теплого и холодного появились люди и животные. Таким образом, Архелай, как и его учитель Анаксагор, учил о смеси материи (ср.: Федон, прим. 46). Первоэлементами у Феагена Регийского (8, 2 Diels) были влажное и сухое, легкое и тяжелое, теплое и холодное, которые «сражаются между собой». Согласно древней традиции, два первых элемента рождали третий. В орфических фрагментах говорится о двух началах – «воде и гуще (ΰλη)», из которой появилась земля. Затем вода и земля породили «нестареющее Время – Хронос» (1 В 13 Diels). Сочинение «О едином», или «О целом», которое приписывали Пифагору (14 В 19 Diels), свидетельствует о глубоких истоках учения элейцев. У оратора Исократа (см.: Евтидем, прим. 58) находим следующее резюмирующее рассуждение о теориях древних ученых: «Одни утверждали, что есть бесконечное множество сущих [начал], Эмпедокл же находил четыре, и среди них вражду и дружбу, Ион – не больше трех, Алкмеон – только два, Парменид и Мелисс – одно, а Горгий и совсем ни одного» (XV 268 // Isocratis orationes / Ed. Benseier – Blass. Vol. I–II. Lipsiae, 1913–1927).
[1176]
Ксенофан
Колофонский (VI–V вв.), основатель школы элеатов, был известен как критик антропоморфного представления о богах в архаической мифологии и эпосе Гомера и Гесиода. Стремясь очистить и возвысить понимание божества, Ксенофан писал: «Все, что есть у людей бесчестного и позорного, приписали богам Гомер и Гесиод» (В 11 Diels). Ксенофан считал недостойным богов то, что, по мнению людей, «боги рождаются, имеют одежду, голос и телесный образ, как и они» (В 14 Diels). Материя Ксенофана – единое бытие, вечное, неизменное, шаровидной формы, неподвижное, ограниченное, безначальное. По одному из свидетельств, «Ксенофан сомневался относительно всего и принимал только одно положение – что все едино и оно есть бог, конечный, разумный, неизменяемый» (А 35 Diels). Однако это не мешало Ксенофану производить все сущее из земли, хотя вместе с тем у него «мир нерожден, вечен и неуничтожим» (А 37 Diels).
[1177]
Под сицилийскими Музами
подразумевается Эмпедокл (см.: Лисид, прим. 24). Под более строгими из Муз
(ниже) – Гераклит (см.: Гиппий больший, прим. 21; Алкивиад I, прим. 13).
[1178]
Аристотель в «Метафизике» (VII 1, 1028b 2‑7) отмечает извечную сложность вопроса об определении бытия,
или сущего, и разные критерии этого определения, качественные или количественные.
[1179]
О природе (28 В 8. 43‑45 Diels).
[1180]
Элейский гость критикует – с диалектических позиций самого Платона – механическое тождество частей и целого. «Единое» обладает уже совсем новыми качествами и не может быть просто «всем», т. е. механической совокупностью отдельных частей.
[1181]
Борьба
философских школ изображается здесь в ироническом духе – как борьба олимпийских богов и титанов в «Теогонии» Гесиода (674–719). Здесь, видимо, противопоставляется наивный сенсуализм (может быть, киников) крайнему идеализму мегарской школы.
[1182]
Опять ироническое сравнение сенсуалистов с мифологическими «спартами», появившимися из земли, из посеянных Кадмом зубов дракона (Аполлодор III 4, 3‑5). Те из них, которых породила земля,
– афиняне (см.: Менексен, прим. 45).
[1183]
Люди земли
– то же, что «автохтоны» (см.: Менексен, прим. 45).
[1184]
Критика крайностей учения о бытии
как покое или вечном движении
и попытка стихийно‑диалектически совместить эти противоположности. Аристотель в «Метафизике» посвящает целую главу (IV 8) доказательству ложности посылки тех и других философов, которые приходят только к одному результату, именно к тому, что сами себя упраздняют. Аристотель отрицает не только один лишь покой и одни лишь движения, но даже временный покой и временные движения, т. е., мы бы сказали, чередование покоя и движения. Совмещение покоя и движения воплощается у Аристотеля в идее первого двигателя, т. е. по сути дела в высшей мировой силе, управляющей всем универсумом.
[1185]
Аристотель в своей «Физике» отмечает, что древние философы «беспокоились… как бы не оказалось у них одно и то же единым и многим» (I 185b 25‑27); отсюда их боязнь путем прибавления «есть» сделать единое многим, как будто «единое», или «сущее», говорится только в одном смысле. Аристотель подчеркивает невозможность механического разделения единого
и многого,
так как «единое существует и в возможности и в действительности» (186а 36 сл.).
[1186]
Здесь Платон завершает объединение всех трех кардинальных противоположностей – движения и покоя (249bс), одного и многого (251b), иного и тождественного (252b), которым соответственно посвящены «Теэтет» (180de), «Софист» и «Парменид».
[1187]
Схолиаст к «Софисту» поясняет, что это поговорка о тех, кто сам себе предсказывает зло, как чревовещатель Еврикл,
по которому был назван этот род пророчества («Еврикловый»). В лексиконе Суда дается ссылка на Еврикла в комедии Аристофана «Осы» (1017–1020).
[1188]
О взаимоотношении движения
и покоя
подробно – в «Эннеадах» неоплатоника Плотина (VI 2, 7). Комментарий к данной главе этого трактата, посвященной категориям бытия, см. в книге А. Ф. Лосева «Античный космос и современная наука» (М., 1927. С. 296, прим. 41); автор указывает на шесть пунктов Плотинова доказательства того, что, если есть движение, должен быть и покой. Однако нельзя думать, что покой вполне тождествен сущему, ибо тогда и движение было бы тождественно с сущим. Если движение отличается от сущего как тождественное и не тождественно ему, то и покой надо отделять и не отделять от сущего, чтобы отражать в уме особую категорию. «Отождествлен покой и сущее в том смысле, как можно было бы отождествить движение и сущее. Мы не смогли бы отличить покой от движения, отождествляя их при помощи приравнения того и другого сущему».
[1189]
Платон не раз прибегает к аналогии с помощью букв
(Кратил 424с – 426d, Филеб 17b – 18е). Такая аналогия была обычна и у атомистов. Левкипп, например, говорил о разнообразных сочетаниях атомов, когда «вследствие перемен в составе то же самое кажется противоположным в том или другом отношении и изменяется при незначительной примеси и вообще кажется иным при перемещении какой‑нибудь входившей в состав его единицы» (А 9 Diels). Подобное перемещение напоминает ему, по словам Аристотеля, разницу между отдельными драматическими жанрами, ибо «из одних и тех же [букв] возникает трагедия и комедия» (там же).
[1190]
Здесь высказано намерение Платона написать диалог, в котором будет дано определение философа.
[1191]
Высшие роды (γένη) Платон иногда обозначает термином είδη («виды», «идеи»).
[1192]
Платон различает пять
главных категорий: бытие, движение, покой, тождество и различие. Неоплатоник Плотин пишет (V 1, 4): «Первыми категориями являются Ум, или сущее, инаковость, тождество. Надо присоединить еще движение и покой».
[1193]
Отделять все от всего,
т. е. оперировать только отдельными понятиями или единичными чувственными данностями, не поднимаясь до общего, было присуще софистам, мегарцам и киникам, с которыми резко расходился Платон. Недаром чужеземец называет подобных лиц необразованными
и нефилософами.
[1194]
Имя
(существительное) – όνομα, глагол
– ρήμα. Здесь дело не в грамматическом, а в философско‑диалектическом разделении на действующее лицо и действие. Только соединение этих двух компонентов создает целостную речь. Замечания о том, что одно выражение действия, например «идет», «бежит», «спит», не составляет речи, повторяется почти буквально у Аристотеля в «Категориях» (I a 16‑19). Это не соответствует современным представлениям о правомерности предложения, состоящего из одного глагола, или сказуемого.
[1195]
Тождество мысли
и слова трактуется в «Теэтете» (189е – 190а), где размышляющая душа разговаривает, спрашивает, отвечает, утверждает и отрицает. Мнение рождается в тот момент, когда размышление приводит к позитивному решению. В «Филебе» тоже говорится о единстве речи
и мнения, когда размышление делает душу похожей на какую‑то книгу, так как память, ощущения и впечатления «будто записывают речи в душах наших» (38е – 39а).
[1196]
Созидательная деятельность бога
красочно изображена Платоном в «Тимее». Там Демиург упорядочивает бесформенную материю и вкладывает в мировое тело наделенную умом душу (29d – 30b).
[1197]
Мнение о том, что вся природа выводится из слепой случайности или в силу самопроизвольной причины,
отмечается также Аристотелем. «Случай» и «самопроизвольность», по его словам, некоторые включают в число причин. Аристотель подробно рассматривает эти понятия в «Физике»: «Есть и такие [философы], которые причиной и нашего неба, и всех миров считают самопроизвольность: ведь [они считают, что] сами собой возникают вихрь и движение, разделяющее и приводящее в данный порядок Вселенную» (II 4, 196а 24‑28). Аристотель имеет здесь в виду учение атомистов Демокрита и Левкиппа о вихрях. Левкипп говорит, что миры выделяются из беспредельного в великую пустоту и «они, собравшись, производят единый вихрь, в котором, наталкиваясь друг на друга и всячески кружась, они разделяются, причем подобные отходят к подобным» (А 1 Diels). У Демокрита бесчисленные атомы «носятся во Вселенной, кружась в вихре, и таким образом рождается все сложное: огонь, вода, воздух, земля» (Ibidem). По сведению Симплиция, комментатора аристотелевской «Физики», Демокрит, утверждая, что «вихрь разнообразных форм отделился от Вселенной» (каким же образом и по какой причине, он не говорит), по‑видимому, считает, что он «рождается сам собою и случайно» (А 67 Diels). Если это действительно так, то так называемое мнение толпы, о котором читаем у Платона, есть не что иное, как мнение атомистов.
[1198]
Разделение в ширину
находим в «Федре» Платона, где говорится о правой и левой сторонах человеческого тела или о правом и левом делении безумия (266а). В данном случае все творческие искусства делятся в ширину на присущие человеку и присущие богу. Дальнейшее деление, мы бы сказали, происходит в глубину (у Платона в длину
) – от самого общего творческого искусства к наиболее частному его виду – софистике.

[1199]
Итак, после длительных логических разделений Платон приходит к определению софиста
как мнимого мудреца. Ср. Аристотель в «Метафизике»: «Софисты подделываются под философов (ибо софистика‑это только мнимая мудрость)… Софистика… занимается тою же областью, что и философия, но философия отличается… от софистики выбором образа жизни… Софистика – это мудрость мнимая, а не действительная» (IV 2, 1004b 17‑26).
[1200]
Клазомены
– ионийский город в Малой Азии, родина философа Анаксагора (см.: Апология Сократа, прим. 27).
[1201]
Мелит
– аттический дем.
[1202]
См.: Евтифрон, прим. 17.
[1203]
Керамик
– северо‑западное предместье Афин (часть Керамика находилась внутри города). Ср.: Протагор, прим. 21.
[1204]
Сократ иронически отмечает одну и ту же суть учения Парменида и Зенона («единое» Парменида и «не многое» Зенона), хотя Зенон пытался в отсутствие Парменида проявить самостоятельность.
[1205]
О том, что лаконские щенки
очень ценились в древности, есть намек у Петрония («Сатирикон» гл. XL, лаконские собаки богача Тримальхиона).
[1206]
Здесь излагается платоновское учение об идеях
(см.: Евтифрон, прим. 18). Парменид толкует слова Сократа так, будто идеи существуют сами по себе, независимо от мира чувственных вещей.
[1207]
Об обособлении идей, воплощенных отдельными своими качествами сразу во всех вещах, писал также Аристотель. См.: Метафизика VII 14, 1039а 33b 2.
[1208]
Пример Сократа об идентичности в дне одного
и многого
напоминает диалектику Гераклита.
[1209]
Согласно приводимому аргументу, количество идей
бесконечно, так как каждая вещь уподобляется идее, которая в свою очередь есть образец для новой вещи. Ср.: Аристотель.
Метафизика I 9, 991а 31.
[1210]
Парменид отрывает знание сущности от познания чувственных вещей. Платон же в «Государстве» (IV 438с‑е), различая знание само по себе
и знание о вещах, связывает их воедино, так как знание «само по себе» принадлежит себе одному, но вместе с тем, обладая какими‑то качествами, оно «принадлежит чему‑нибудь качественному», т. е. становится знанием отдельной вещи. Отсюда проистекает категория науки вообще и классификация частных наук.
[1211]
Парменид предлагает Сократу изучать предмет во всех его связях и опосредствованиях независимо от того, имеет ли это значение в данном случае для познания самого предмета или нет.
[1212]
Об Ивике см.: Федр, прим. 24. Имеются в виду следующие его стихи (фр. 2):
Эрос влажномерцающим взглядом очей своих черных глядит из‑под век на меня
И чарами разными в сети Киприды
Крепкие вновь меня ввергает.
Дрожу и боюсь я прихода его.
Так на бегах отличившийся конь неохотно под старость
С колесницами быстрыми на состязанье идет.
(Эллинские поэты) Пер. В. В. Вересаева.
[1213]
Об этом Аристотеле
см. преамбулу.
[1214]
Для понимания платоновской диалектики единого
(одного) и иного, которое будет развиваться в последующих главах диалога, необходимо иметь в виду, что Платон различает несколько типов единого. Первый тип единого настолько противоположен всякой множественности, что он оказывается лишенным всякой раздельности и потому всякой раздельности в идеальном смысле слова. Он есть чистое «сверх», о котором Платон говорите «Государстве» (VI 509с), что оно «по ту сторону сущности». Второй тип единого – это то, что является объединением множественного, которое Платон называет не просто εν («одно»), но «εν όν („единое сущее“). Третий тип единого – это та единица, с которой начинается счет и которая противопоставлена любому другому числу из натурального ряда чисел. Эту теорию трех типов единого в ясной форме дает Плотин (Эннеады V 1,8).
Прокл с его гораздо более развитой и тонкой дифференциацией категорий, опираясь на традицию Платона – Плотина – Ямвлиха (впоследствии на эту позицию станет и Дамаский), насчитывает уже пять типов единого (см.: Лосев А. Ф.
Античный космос и современная наука, с. 281).
[1215]
Определение единого
(одного) Парменидом как беспредельного,
бесконечного, неизменяемого, неподвижного, лишенного движения, т. е. идеального бытия в области чистого мышления, противоположно по своей сути натурфилософскому пониманию Сфероса Эмпедокла, который связан с миром чувственных вещей через отторгнутые от него Враждой единичности и имеет космологическое значение.
[1216]
Мысль о наличии бытия
и единого
в «существующем едином», а также в каждой из бесконечно делимых частей этого «существующего единого», в отдельном «бытии» и в отдельном «едином» была использована Плотиной как модель для взаимодействия его категорий. В «Эннеадах» (VI 2, 7) он пишет о взаимодействии «сущности» и «жизни», «жизни» и «ума», «движения» и «единого». В каждой отдельной из бесконечно делимых частей обязательно наличествуют, по Плотину, оба их начала – единое и бытие.
[1217]
О бесконечности числа
много трактовали неоплатоники. В частности, у Дамаския (Damascii successoris dubitationes et solutiones de primis principiis in Platonis Parmenidem / Ed. С. Ruelle. Paris, 1889) есть целое рассуждение (§200) о природе числа, которая заключается в соединении и разделении до бесконечности. Эта бесконечность понимается не в смысле чего‑то не имеющего конца, но в смысле отсутствия границ для разделения. Поэтому всякое общее делится, присутствуя во множестве конкретных вещей, заключающих в себе как в части это общее. Интересно, что у Дамаския «единое‑в‑себе», «иное‑в‑себе» и «бытие‑в‑себе» непричастны друг другу только мысленно, но в реальном мире одни вещи связаны с другими, и, какова бы ни была одна вещь, она одновременно и другая. Дамаский прямо ссылается на «Парменида» (144а), излагая свои соображения о бесконечности и множественности, причем множественность оказывается у него бесконечной благодаря своей причастности бесконечности, так же как она может быть конечной, будучи причастна конечному. Всякое число, по Дамаскию, ограничено самим собой, но число в простом, чистом виде (απλώς) всегда бесконечно в отличие от конечного множественного. Таким образом, мы находим у Дамаския интересное размышление о диалектике бесконечного и предела, которая, однако, по его мнению, недоступна пониманию человека, так как предел этот установлен божеством.
[1218]
Взаимодействие единого
и сущего, т. е. бытия,
их равенство, их неотделимость друг от друга, их парность толкуются Аристотелем в «Метафизике» (IV 2, 1003b 23‑26, 32‑34).
[1219]
Мысль «Парменида» о едином,
находящемся в себе самом,
исходит из диалектики целого и части. У Аристотеля в «Физике» тоже обсуждается этот вопрос, когда он пишет о непрерывности и множественности единого (I 2, 185b 11‑15).
У Секста Эмпирика в его «Трех книгах Пирроновых положений» (пер. Н. В. Брюлловой‑Шаскольской. СПб., 1913) есть глава «О целом и части» (III 14, 98‑101). Секст тоже, как и Аристотель, находится в затруднении, так как, с одной стороны, либо целое есть нечто иное, чем его части, либо сами части составляют целое. Если целое – иное, чем части, то оно ничто, так как при уничтожении частей ничего не остается. Если же части составляют целое, то оно не имеет собственного существования и является только пустым именем. Отсюда Секст с присущей ему категоричностью заключает, что целого не существует, но не существует и частей, причем этот вывод он старается подтвердить остроумными софизмами.
[1220]
Рассуждения о диалектике единого
и иного, т. е. не‑единого,
части и целого, целого и части, об отношениях различия и тождества иной раз воспринимались в древности как бесплодное упражнение ума, в чем, может быть, повинен сам Платон, у которого Парменид в начале беседы с Аристотелем говорит о «замысловатой игре», готовясь доказать сначала наличие «одного», а затем и его отсутствие. Во всяком случае неоплатоник Дамаский, который базирует свои первые принципы на «Пармениде» Платона, писал: «Парменид подобен играющему. И уже некоторым казалось, что он занимается логикой напоказ» (§320). Однако вся история античной философии говорит нам об обратном, свидетельствуя о постоянном углублении и дифференциации намеченной у Платона именно диалектики единого, а вовсе не о софистических упражнениях.
[1221]
Здесь выдвигаются две категории – «существующее вне чего‑нибудь» и «соприкосновение», которые выражают диалектику единого и иного. Аристотель («Физика») указывает в чисто описательном виде ряд формально‑логических категорий, среди которых находим «вместе», «раздельно», «касание», «промежуточное», «следующее по порядку», «смежное», «непрерывное». См.: V 2, 227b 1‑2; 3, 226b 21 – 227а.
[1222]
В «Тимее» (52а‑с) Платона есть целое рассуждение о разных видах существующего.
Один – свойственный мышлению, никуда не входящий, не рождающийся, вечный, невидимый, не чувствуемый, т. е. подвластный знанию. Второй – тоже относящийся к области мышления, но уже рожденный, доступный чувствам, подвижный, являющийся, исчезающий – подвластный мнению. Третий – пространство, вместившее в себя бесконечность материи, доступное недостоверному суждению, которое убеждает нас на основании чувств (а они тоже недостоверны), что «все существующее должно неизбежно находиться в каком‑нибудь месте и занимать какое‑нибудь пространство» (52b). Однако, по Платону, идеи не могут вмещаться в материальное пространство, они не постигаются чувствами в отличие от материальных вещей, занимающих какое‑то пространство.
[1223]
В «Пармениде» единое есть
и становится старше и моложе себя,
так как, переходя от «было» к «будет», оно встречается с «теперь», которое, будучи границей между прошлым и будущим, заключает в себе сразу пребывание и становление. У Аристотеля в «Физике» две главы (IV 10‑11, 217b 29 – 219а 26) посвящены времени и его движению в связи с категорией «теперь». В них высказывается близкая платоновскому «Пармениду» точка зрения об одновременном нахождении частей времени в прошлом и будущем, причем «одна часть его была и уже не существует, другая – в будущем, и ее еще нет"» отсюда делается вывод: «То, что слагается из несуществующего, не может, как кажется, быть причастным существованию» (218d 2‑3). Поэтому если время существует, то его нельзя делить механически на части, но необходимо ввести понятие «теперь», которое всегда иное и иное; «исчезнуть в самом себе ему нельзя, потому что тогда оно есть; исчезнуть „теперь“ в другом „теперь“ немыслимо».
Однако в отличие от диалектики «Парменида», где единое есть
и становится
благодаря «теперь», Аристотель, признавая в «теперь» наличие предыдущего и последующего, видит в этом только затруднение для определения времени, которое не определяется ни качеством, ни количеством и, «таким образом, не есть движение». Но оно и «не существует без движения», так как, «если бы „теперь“ не было каждый раз другим, а тождественным и единым, времени не было бы» (218b 26‑27). «Теперь» измеряет время, поскольку оно предшествует и следует. Оно «всегда в ином и ином времени (в этом и состоит его сущность, как „теперь“)». Аристотель делает вывод, что «если времени не будет, не будет и „теперь“, а если „теперь“ не будет, не будет и времени», т. е. он приходит к тому же выводу, что и Парменид, о «теперь» как источнике бытия и становления времени.
[1224]
Понятие «вдруг» параллельно понятию «теперь», о котором говорилось выше. В своей основе они тождественны, так как «вдруг» есть точка, от которой происходит изменение в одну и в другую сторону, это граница между покоем и движением, так же как «теперь» – граница между бытием и становлением. Аристотель, так же как и Платон, считает «вдруг», или «внезапно», моментом начала изменения движения: «"Внезапно» – то, что выходит из своего состояния в неощутимое по своей малости время, а всякое изменение но природе есть выхождение из себя» (Физика IV 13, 222b) 15 сл.).
[1225]
Проблеме диалектического единства предела и беспредельного будет отведено значительное место в «Филебе». Идея единства этих двух как будто бы столь различных категорий бытия всегда была близка античности. У пифагорейца Филолая «предел и беспредельное – начала» (А 9 Diels). У него читаем: «Природа же при устроении мира образовалась из соединения беспредельного и предела, весь мировой порядок и все вещи в нем [представляют собой соединение беспредельного и предела]»; далее: «Все существующее должно быть или предельным, или беспредельным, или тем и другим вместе» (В 1, 2 Diels).
Архит (А 24 Diels) тоже считает, что новый предел всегда влечет за собой новое беспредельное. Элеец Мелисс (30 В 5, 6 Diels) полагал, что наличие двух сущностей создает «пределы» в их отношениях, а одно сущее может быть «беспредельно», и именно из беспредельности сущего он вывел его единство на основании следующего: «Если бы оно не было единым, то оно граничило бы с другим».
[1226]
По Пармениду, «единое существующее» вечно и неподвижно. В своей поэме «О природе» (28 В 8, 34‑41 Diels) он ничего не признает, кроме бытия
– одного, сущего, которое судьба (Мойра) «связала с законченностью и неподвижностью». Поэтому возникновение и гибель, бытие совместно с небытием,
изменение и движение – только пустой звук, «названия», выдуманные смертными. Здесь же, в беседе с Аристотелем, Парменид утверждает, что изменения из бытия в небытие испытывает не «единое существующее», а предполагаемое единое несуществующее.
[1227]
Понимание блага
как радости, удовольствия
и наслаждения
близко к сенсуализму и гедонизму киренаика Аристиппа, ученика Сократа. Однако следует иметь в виду, что у Аристиппа удовольствие и наслаждение не лишены разумности. А тезис Филеба, подчеркивает Сократ, резко противоречит разумению, мышлению
и памяти;
в этом крайность суждений Филеба.
[1228]
Этими словами Филеб передает нить разговора в руки Протарха. Филеб хочет сказать, что он совершил священный ритуал очищения перед самой богиней
Афродитой, по его мнению, – покровительницей удовольствия, и уже не отвечает за дальнейший исход спора.
[1229]
Сократ не без умысла ссылается на слова Филеба. Сам‑то он хорошо знает, что Афродита
не просто покровительница удовольствия,
как это думает юный Филеб.
[1230]
Сократ отделяет Афродиту
от удовольствия, понимая имя божества в соотношении со всей глубиной его сущности. В словах Сократа о подлинном имени богини Афродиты слышится отзвук его рассуждений о правильности имен, даваемых богами, и о неточности имен, которые дают люди, ограниченные в своем знании. См.: Кратил, 391d – 392b, 400d – 401а.
[1231]
Сократ противопоставляет свое мнение об удовольствии
в его различных видовых проявлениях ходячему мнению о единой природе удовольствия как блага вообще.
[1232]
Метафора из морской практики: мысль – это корабль, который сорвался с якоря и который надо пригнать назад
в гавань.
[1233]
Недосказанный миф
– букв. «прерванный», «исчезнувший», «погибший». Ср. о «спасенном» сказании в Государстве 621b.
[1234]
Здесь спор метафорически изображается как сражение. Ср. далее 15d, 16ab; см. также метафоры борьбы в Федре 236с, в Государстве VIII 544b и Законах III 682е.
[1235]
Ср.: Парменид 128ab, где Парменид утверждает существование единого,
а Зенон отрицает существование многого,
т. е., собственно говоря, оба философа утверждают одно и то же.
[1236]
Пословица, которую, по словам схолиаста, произносили жители Родоса, не желавшие поднимать упавшего Колосса, причинившего массу разрушений. Здесь имеется в виду твердое, хотя и неверное, убеждение Филеба в превосходстве удовольствий. Затронув это убеждение, Сократ разрушит всю концепцию Филеба до основания.
[1237]
Под божественным даром
подразумеваются искусства и наука. О Прометее
см.: Протагор, 320d – 322а.
[1238]
О пределе
и беспредельном
см.: Парменид, прим. 26. Подробную трактовку беспредельного у Платона, а также предела в толковании Аристотеля дает Р. Бёри в приложении к своему изданию «Филеба» (Bury R. G.
The Philebus of Plato. Cambridge, 1897). См. также: Лосев А. Ф.
История античной эстетики. Софисты. Сократ. Платон. М., 1969. С. 254–274. Здесь беспредельное определяется как непрерывное становление, являющееся общим фоном для устойчивых структур. Предел – это принцип устойчивости, ограниченности, оформленности. Беспредельное можно также понять как материю, а предел как форму, что и было сделано впоследствии Аристотелем.
[1239]
О неразличении звука
и буквы у античных авторов см.: Кратил, вступит. замечания и прим. 18.
[1240]
Сократ говорит о том, что музыкальные интервалы распределяются по законам числа, а не как беспредельное множество.
Разная упорядоченность интервалов создает определенные системы, или гармонии – лады (см.: Алкивиад I, прим. 25).
[1241]
См.: Кратил, прим. 85.
[1242]
О Тевте
см.: Федр, прим. 80; о разделении звуков (букв) и их значении см. также: Кратил 424cd и Теэтет 203b. Классификация Тевта соответствует современным гласным, согласным и плавным (полугласным). О науке грамматике
см.: Софист 253ab.
[1243]
См.: Апология Сократа, прим. 11.
[1244]
Здесь характерные для речи Сократа поговорки. Вторичное плавание
означает вторую попытку.
[1245]
Т.е. Афродита.
[1246]
См. прим. 8.
[1247]
Смешение,
или смесь, является в «Филебе» третьим принципом жизненно‑эстетических категорий. Это, собственно говоря, «диалектический синтез прерывности и непрерывности, данный как подвижная структура», который соответствует у Платона числу, будучи «расчленением нерасчлененного и непрерывного беспредельного» и превращением «предела из абстрактного принципа в конкретную целостность» (Лосев А. Ф.
История античной эстетики. Софисты. Сократ. Платон. С. 256). Вполне возможно, что эту смесь можно трактовать как единство материи (беспредельного) и формы (предела).
[1248]
Подразумевается, очевидно, Афродита‑Урания («Небесная»; см.: Пир, прим. 40) с ее умеренностью и стремлением к пределу. Однако есть мнение (Бёри, Шталбаум) о том, что здесь идет речь о гармонии, сочетающей в себе телесное и духовное здоровье.
[1249]
Причина
смешения и возникновения, или творящее начало, есть не что иное, как «идейная насыщенность живой структуры», одухотворяющая ее. У Платона это ум, душа, мудрость, т. е. конкретное воплощение того абстрактного принципа, который называется пределом (см.: Лосев А. Ф.
Указ. соч. С. 257 сл.).
[1250]
Участник
– ум, ибо идет своеобразное соревнование между умом и удовольствием, приверженцами которых выступают соответственно Протарх и Филеб.
[1251]
См.: Горгий, прим. 18.
[1252]
Искусник
– скорее всего софист, не признающий твердо установленного предела и все ставящий под сомнение.
[1253]
Под вселенским огнем
подразумевается, возможно, богиня Гестия. Ср.: Кратил, прим. 41.
[1254]
Для Платона, как и для всей античности, характерны представления об одушевленном
космосе. Отсюда учение о макрокосме – Вселенной
и микрокосме – человеке, обладающих аналогичной структурой, но представленных в разных пропорциях.
[1255]
О природе души Зевса
и других богов см.: Федр, 246е – 247b; Горгий, прим. 80.
[1256]
Вопрос о третьем состоянии
помимо радости и скорби, удовольствия и страдания подробно разрабатывается Платоном в «Государстве» (538b – 585b).
[1257]
Забвение
(букв. «Лета») Платон определяет здесь как отсутствие ощущений. Эту дефиницию можно дополнить рассуждением Сократа в «Федоне» (75d), где Сократ называет забвением «потерю знания». В «Пире» (208а) забвение – это «убыль знания».
[1258]
См.: Менон, прим. 23.
[1259]
Проблема вожделения,
занимающая важное место в психологическом учении Платона, развивается далее Аристотелем, относящим вожделение к способностям души (О душе II 3, 414а 31 – 414b 6).
[1260]
Голод
и жажда
являются у Платона обычными телесными лишениями, соответствуя лишениям душевным в виде неразумия и невежества. Принятие пищи и обладание умом восстанавливают тело и душу (см.: Государство IX 585аb).
[1261]
Об истинных удовольствиях,
присущих душе, и ложных удовольствиях,
более свойственных телу и противоречащих природе, см.: Государство IX 585de.
[1262]
О ложном мнении,
соответствующем ложному удовольствию, см. ниже, 36d, а также: Горгий, прим. 15. О правильном (истинном) мнении
см.: Менон, прим. 44.
[1263]
Букв, το διαδοξάζειν εγχειρεϊν. Согласно Апельту, следует читать το δι' ό δοξάζειν έγχωρεϊ: «…и то, с помощью чего мы можем мнение составить».
[1264]
Здесь имеются в виду примитивные изображения богов и их символических атрибутов.
[1265]
Метафора «душа – книга» внешне напоминает знаменитое суждение Дж. Локка о душе ребенка – нетронутой восковой дощечке (tabula rasa), где воспитатель может начертать новые записи, но процесс познания в целом рисуется Платону принципиально иначе.
[1266]
Создание образов
εικόνας живописцем
есть не что иное, как воображение (φαντασία), объединяющее чувственные восприятия и мнение. В прим. 18 к диалогу «Софист» указана разница между античной «фантасией» и позднеевропейской фантазией.
Созерцание предмета издали или вблизи указывает на эффект воздушной среды, воды и зрительной перспективы, известный живописцам и не раз отмеченный Платоном. В «Государстве» говорится о «чарах» живописи, об изменении образов в воде (X 602cd).
[1267]
О перспективе в живописи см.: Софист 235d – 236а
[1268]
Возможно, это намек на Гераклита, у которого читаем: «Путь вверх и вниз один и тот же» (В 60 Diels). У Демокрита атомы в течение всей вечности носятся вверх и вниз (А 49 Diels = 45 Маков.; ср. А 61 Diels = 81 Маков.).
[1269]
Кого понимать под противниками Филеба,
отрицающими удовольствие, не совсем ясно. Это могут быть Антисфен, глава кинизма, и его последователи; могут это быть и пифагорейцы, известные своим аскетическим образом жизни, а также атомисты, проницательные исследователи природы. В списке сочинений Антисфена, например, значатся сочинения «Об удовольствии», «О благе» (Диоген Лаэрций VI 16‑17). Вместе с тем хорошо известно, что одним из идеалов счастливого человека у киников считался Геракл, проведший свою жизнь в страданиях и трудах.
[1270]
См.: Менексен 247е и прим. 50.
[1271]
Слова Ахиллеса (Ил. XVIII 108 сл.), оплакивающего гибель своего друга Патрокла.
[1272]
Возможно, здесь содержится намек на состояние очищения от аффектов (катарсис), которое переживали зрители древнегреческого театра. Вопрос о катарсисе, впервые поднятый в связи с вопросом о трагедии Аристотелем (Поэтика 6, 1449b 27 сл.), вызвал к жизни огромную литературу. Новейшую классификацию теорий катарсиса с различными толкованиями находим в книгах: Else G. F.
Aristotle's Poetics: the argument. Leiden, 1957. P 221–232; Aristotle's Poetics / Introd., comm. and app. by D. W. Lucas. Oxford, 1968. P. 273–290. Интерпретации соответствующего места «Поэтики» (VI 1449b, 25) посвящена специальная книга: Brunius T.
Inspiration and Katharsis. Uppsala, 1966.
Еще в древности спорили о катарсисе как принадлежности не только трагедии, но и комедии. Эти споры, возможно, нашли отклик у неоплатоника Прокла в его комментариях к «Государству» Платона (I 49 Kroll). Для Платона вообще не могло быть существенного различия между трагедией и комедией. См. также: Пир, прим. 99. Ср. также Филеб 50ab.
[1273]
См.: Алкивиад I, прим. 46.
[1274]
Ср.: Менон 71е и Критон, прим. 11.
[1275]
Отнесение очертаний
(геометрических фигур) к чистым удовольствиям характерно для Платона (подробнее об этом см.: Лосев А. Ф.
История античной эстетики. Ранняя классика. М., 1963. С. 264–300).
Краски,
или цвета, в понимании античной классики являются, с одной стороны, чем‑то телесным, а с другой – некоторого рода абстрактной всеобщностью. Наиболее показательным в данном смысле является учение о цветах у Демокрита и Платона. Цвета у Платона обладают определенной формой (Менон 75bc, 76a‑d) и сущностью (Кратил 423d), являясь идеальным предметом (Филеб 51cd). Белый цвет (Филеб 52е) – самый беспримесный и прекрасный, а весь космос со своими сферами представляет собой сложную цветовую гамму (Федон 110b‑e). В «Тимее» (67с – 68d) дается тончайшая характеристика конкретных цветов, простых и смешанных, наиболее разреженных (например, белый цвет) и уплотненных (например, черный цвет), т. е. уже потерявших свою «цветность», переставших быть цветом.
Звуки
также доставляют людям несмешанное удовольствие, и тем больше, чем они проще, непритязательнее и безотносительнее к окружающему. «Созвучия» (άρμονίαι) способствуют гармонизации, т. е. укреплению расстроенной души (Тимей 47d), а вечное движение звуков в жизни космоса «является подражанием божественной гармонии» (там же, 80ab, 47d).
Запахи
более тонки, чем вода, и более плотны, чем воздух (Тимей 66е), но они возбуждают удовольствия менее божественные, так как они «не сводятся к большому числу простых форм» (там же, 67а), но только к двум родам – «приятному и неприятному». См. также: Менон, прим. 8, 14.
[1276]
Кого здесь имеет в виду Сократ, трудно сказать. Большинство исследователей видят в этих искусниках
Аристиппа и киренаиков, другие – атомистов, иные – гераклитовцев и учеников Протагора с их гипертрофией становления (ср.: Теэтет 152d). О. Апельт выдвигает мегариков, ссылаясь на Аристотеля, который критиковал подобные взгляды в «Никомаховой этике» (VII 13, 1152b 7‑13).
Что касается киренаиков с их теорией наслаждения, то они нигде не говорят о становлении наслаждения, а только о частичном, или частном, наслаждении и блаженстве, которое является суммой частичных наслаждений и предпочтительно именно своей целостностью (В 169, 170 // Aristippi et cyrenaicorum fragmenta / Ed. E. Mannebach. Leiden, 1961).
[1277]
Метафора из области гончарного ремесла. Ср.: Теэтет 179d, где также идет речь о сосуде, который надлежит обследовать, «постучав» по нему.
[1278]
Разделение искусств:
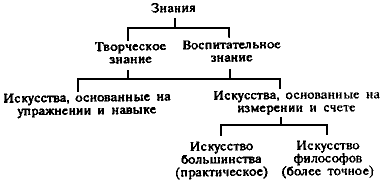
[1279]
См.: Горгий и вводные замечания к диалогу.
[1280]
Имеется в виду изучение внешних явлений чувственного мира, дающих основание для мнения и фиксирующих моменты становления во времени, но не пребывание космоса в непреходящей вечности.
[1281]
См.: Горгий 499а и прим. 50.
[1282]
См.: Кратил, прим. 62 и Евтифрон, прим. 20.
[1283]
Ср.: Ил. IV 451–453:
Так же, как две наводненных реки, по ущелистым руслам
С горных вершин низвергая шумящие грозно потоки,
В общей долине сливают свои изобильные воды.
Пер. В. В. Вересаева
[1284]
Беседа Сократа с умом и разумением (63b – 64а) – персонификация, напоминающая его беседу с Законами в «Критоне». См.: Критон 50а – 54d и прим. 12.
[1285]
В ориг. φερεΰσαι – букв. «поохотиться». См.: Евтидем, прим. 37.
[1286]
Этот орфический стих (fr. 14 Kern) находим у Плутарха (De E apud Delphos 391d // Plutarchi chaeronensis moralia / Rec. et emend. W. Paton, M. Pohlenz, W. Sieveking. Vol. III. Leipzig, 1972), где говорится о «некоем пятом, чистом и несмешанном с горем удовольствии». Ссылки на толкование этих стихов у Прокла (II 100, 23 Kroll) и на других авторов, древних и новых, приведены у Керна (Kern).
[1287]
Структурный анализ основных категорий «Филеба» приведен в кн.: Лосев А. Ф.
История античной эстетики. Сократ. Софисты. Платон. С. 679.
[1288]
Схолиаст отмечает, что первая чаша
предназначалась Зевсу Олимпийскому и олимпийским богам, вторая – героям, третья
– богам‑спасителям (хранителям). Чаша эта считалась совершенной (см… напр.: Еврипид.
Андромеда: fr. 148 N. – Sn.). Ср.: Пир, прим. 19.
[1289]
Имеется в виду шествие на празднестве богини Артемиды‑Бендиды. Бендида – фракийская богиня, отождествлявшаяся с греч. Артемидой. В Пирее были святилища этой богини (Хеп., Hell. II 4, 11).
[1290]
Конский пробег с факелами
обычно посвящался Прометею и Афине как богам, связанным с огнем, ремеслами и науками.
[1291]
Полемарх
– см. стр. 614.
[1292]
Приносящие жертву надевали на голову венок.
[1293]
О двух путях к пороку и добродетели см. у Гесиода: Путь не тяжелый ко злу, обитает оно недалеко.
Но добродетель от нас отделили бессмертные боги
Тягостным потом: крута, высока и длинна к ней дорога…
(«Труды и дни», стр. 288–290, перев. В. В. Вересаева
).
[1294]
У Гомера (II. XXIV 487) отец Ахилла «стоит на пороге старости скорбной».
[1295]
Схолиаст приводит здесь пословицу: «Галка садится рядом с галкой». Однако к данному тексту ближе другая: «Сверстник радует сверстника, старик – старика» (ср. «Федр», 240с).
[1296]
Софокл
(496–405 гг. до н. э.) – великий греческий драматург, с большим трагизмом изобразивший старого, слепого, одинокого царя Эдипа («Эдип в Колоне»). Однако поэт замечал, что «старости нет у мудрецов – тех, кому присущ ум, вскормленный божественным днем [юности]» (фр. 864 N. – Sn.).
[1297]
Фемистокл
: см. т. 1, «Горгий», прим. 57. Сериф, о‑в Кикладского архипелага, из‑за своей незначительности и бедности жителей был предметом насмешек зажиточных греков. Разговор Фемистокла и жителя Серифа помещен также у Плутарха в «Сравнительных жизнеописаниях» (т. I, «Фемистокл», XVIII).
[1298]
О Пиндаре
см. т. 1, «Горгий», прим. 38. Здесь – фр. 214 Sn…
[1299]
О поэте Симониде
Кеосском см. т. 1, «Протагор», прим. 24, 46.
[1300]
Полемарх
– наследник
имущества Кефала и как его старший сын, и как преемник в его разговоре с Сократом.
12a
Кефал
, задав тон своим определением справедливости, с которым не согласен Сократ, удаляется и больше в диалоге не участвует.
[1301]
О справедливости как воздаянии добра друзьям и зла врагам см. т. 1, «Менон», 71е. Эта традиционная этическая норма вызывала постоянный протест Сократа. Ср. т, 1, «Критон», прим. 11; «Горгий», прим. 28.
[1302]
У Гомера читаем об Автолике
:
И был он великий
Клятвопреступник и вор. Гермес даровал ему это.
Бедра ягнят и козлят, приятные богу, сжигал он,
И Автолику Гермес был и спутник в делах, и помощник.
(Од. XIX, 395–398, перев. В. В. Вересаева
).
[1303]
О семи мудрецах см. т. 1, «Протагор», прим. 55.
[1304]
Периандр
, сын Кипсела, тиран Коринфа (VII–VI вв. до н. э.), прославленный своей государственной деятельностью и умом. Его причисляли к семи мудрецам, хотя Геродот (III 48–53; V 92) и рисует его жестоким, властным и неумолимым человеком. Воз: можно, что Периандр‑мудрец не имеет ничего общего с этим тираном. Во всяком случае уже античность сомневалась в мудрости сына Кипсела (см. Diog. Laert. I 7, 97). Платон не считает его мудрецом (см. «Протагор», 343а).
Пердикка
II – Македонский царь, отец известного Архелая. См. Платон
. Соч., т. 1, «Горгий», прим. 20; Ксеркс
. См. т. 1, «Горгий», прим. 36; Исмений
. См. т. 1, «Менон», прим. 30.
[1305]
Усмехнулся весьма сардонически
: «сардонический», или «сарданский», смех, как пишет схолиаст к II. XV 102, это «когда кто‑нибудь смеется не по внутреннему настроению». Связь этого названия с о. Сардинией объясняет Павсаний (X 17, 13), пишущий о ядовитой зелени о‑ва Сардинии, вызывающей предсмертные конвульсии в виде смеха. См. также схолии к данному месту Платона. Все тексты о сардоническом смехе подобраны и переведены у А. Ф. Лосева
(Античная мифология в ее историческом развитии. М., 1957, стр. 136–139).
[1306]
Замечательная характеристика иронии Сократа дана в речи Алкивиада («Пир», 215а‑216а, 221d‑222b). См. также А. Ф. Лосев
. Ирония античная и романтическая (сб. «Эстетика и искусство». М., 1966).
[1307]
Намек на то, что софисты брали всегда плату за обучение своей «мудрости». Ср. т. 1, «Апология Сократа», прим. 12, 13.
[1308]
О справедливости как праве сильного рассуждает софист Калликл в диалоге «Горгий». См. т. 1, «Горгий», 485а‑492с и прим. 33.
[1309]
Схолиаст пишет: «Полидамант из Скотуссы в Фессалии, знаменитый, самый сильный пятиборец, который, находясь в Персии у паря Оха, убивал львов и, вооружившись, сражался обнаженным».
[1310]
Софист Клитофонт иронизирует здесь над своим противником.
[1311]
Схолиаст отмечает, что эта пословица употребляется (довольно редко в классическом языке) в отношении тех, кто пытается взять на себя нечто невозможное.
[1312]
Единодушие
(homonoia) и дружба
(philia) были возведены в принцип справедливой государственной власти с развитием новых, космополитических, а че узкополисных идей растущего эллинистического общества. Еще у Ксенофонта Сократ в беседг с софистом Гиппием говорит: «Единодушие граждан, по общему мнению, есть величайшее благо для государства… везде в Элладе есть закон, чтобы граждане давали клятву жить в единодушии, и везде эту клятву дают» (Mem. IV 4, 16). Часто оперируют этим термином ораторы Исократ (Panegyr. 3, 104; Panath. 42, 77, 217, 225, 226, 258; Philipp. 16, 40, 141; Nicocl. 41; Агеор. 69) и Демосфен (I 5; IX 38; XVIII 246; XX 12, 110; XXII 77; XXIV 185; XXV 89).
Аристотель в «Никомаховой этике» отличает единодушие
, или единомыслие
, от дружбы
, которой он посвятил VIII книгу. Единомыслие понимается Аристотелем не в плане личном, как простое совпадение мнений, а как категория социальная и этическая. В связи с этим Аристотель пишет: «Те государства мы назовем единомыслящими, которые имеют одинаковые воззрения на то, что полезно, и, стремясь к полезному, осуществляют его сообща». «Единомыслие есть политическая дружба», и она существует «между нравственными людьми», воля которых «направлена на полезное и на справедливое» и которые «к этой цели стремятся сообща». Единомыслия не может быть у дурных людей, так как они везде, где чуют наживу, стремятся к излишней выгоде и «польза общества» их не касается (Eth. Nic. IX 6, 1167 а22‑b15). Идее единодушия
посвятил три речи (38‑40) блестящий оратор и деятель греческого Возрождения (1‑11 вв. н. э.) Дион Хризостом.
[1313]
Платоновское сравнение любознательного человека с лакомкой получило развитие и детализацию у историка Полибия, III–II вв. до н. э. (III 57, 7‑9), у Юлиана, IV в. н, э. (Orat. II 69с), ритора Фемистия, IV в. н. э. (Orat. XVIII 220), и у других авторов.
[1314]
О платоновском понимании полезного
и его отличии от пригодного
см. т. 1, прим. 31 к диалогу «Гиппий больший».
[1315]
Идея общественного договора, основанного на взаимном согласии людей, а не обусловленного природой, была широко распространена в античности у досократиков – атомистов и софистов. Согласно этой теории, всякое законодательство – продукт искусства, все боги «существуют не по природе, а вследствие искусства и в силу некоторых законов», прекрасным же «по природе является одно, а по закону – другое», «справедливого же вовсе нет по природе» («Законы», 889е‑890а).
[1316]
Геродот рассказывает о царе Гиге
, сыне Даскила (VII в. до н. э.), в бытность копьеносцем убившем Кандавла, своего господина, правителя Лидии, и завладевшем его богатством, женой и царством (I 8‑15). Кольцо Гига Платон упоминает также в кн. X «Государства» (612b), сопоставляя его способность делать человека невидимым со шлемом Аида у Гомера (II. V 845). Волшебное кольцо Гига и шапка Аида фигурируют также у Лукиана (Bis accusatus, 21).
Платоновский Лид
(здесь – отец Гига
), по Геродоту, – сын Атиса, эпоним лидийцев (I 7). Вполне возможно, что Платон здесь, как это у него часто бывает, сам творит миф, придавая ему глубокий нравственный смысл. О «многозлатом Гигесе» знал Архилох (фр. 22 Diehl)
[1317]
См. Эсхил
. Семеро против Фив, 592 (о прорицателе Амфиарае, одном из семерых вождей, идущих па Фивы).
[1318]
Эсхил
. Семеро против Фив, 593 сл. (также об Амфиарае).
[1319]
Поговорка эта восходит к Гомеру, у которого поток Скамандр (Ксанф) зовет на помощь своего брата Симоента, чтобы одолеть Ахилла: «Милый мой брат! Хоть вдвоем обуздаем неистовство мужа!» (Ил. XXI 308, перев. В. В. Вересаева
},
[1320]
Гесиод
. Труды и дни, 233 сл.
[1321]
Гомер
. Од. XIX 109–113.
[1322]
Myсей и его сын
, а может быть и отец, Евмолп – мифические певцы. Мусей обычно фигурирует в качестве учителя или ученика Орфея. В именах этих певцов ясно чувствуется персонификация одного из видов искусств – пения.
[1323]
Здесь явная насмешка над некоторыми аспектами орфических представлений о загробной жизни. Ср. у Плутарха (Сomp. Cim. et Lucull. 1).
[1324]
По преданию, Данаиды, убившие своих мужей, были осуждены вечно лить воду в бездонные амфоры (ср. намек на это у Горация, Саrm. III 11, 22‑24).
[1325]
У Солона читаем: «много дурных людей обогащается, а хороших – страдает» (фр. 4, 9 Diehl). Феогнид восклицает (377–380):
Как же, Кронид, допускает душа твоя, чтоб нечестивцы
Участь имели одну с теми, кто правду блюдет,
Чтобы равны тебе были разумный душой и надменный,
В несправедливых делах жизнь проводящий свою?
[1326]
Платон в «Законах» пишет о вроде, который люди наносят «при помощи ворожбы, зачаровывающих песен и так называемых пут» (XII 933а).
[1327]
Гесиод
. Труды и дни, 287–290.
[1328]
Это слова старца Феникса, обращенные к Ахиллу, остававшемуся неумолимым в ответ на просьбы ахейских послов (Гомер. Ил. IX 497–501).
[1329]
О Мусее
и Орфее
см. выше, прим. 9, а также т. 1, «Апология Сократа», прим. 52, и «Ион», прим. 25. Первые упоминания об Орфее
относятся к VI в. до н. э. (Ивик, фр. 27 D: «славно именитый Орфей»). Пиндар (Pyth. IV 176 Sn.) называет его «прославленным отцом песен». Геродот (II 81) знает об орфических таинствах наряду с пифагорейскими и вакхическими. Родина Орфея – фессалийская Пиерия у Олимпа, где, согласно мифам, обитали Музы. По другой версии, он родился во Фракии от Музы Каллиопы и царя Эагра. Аристотель (фр. 9 Rose) прямо отрицал существование поэта Орфея, в то время как софист Гиппий считал его предшественником Гомера и Гесиода (86 В 6 D).
Орфею приписывали теогоническую поэму в 24 песни, так называемые «Священные слова»; отрывки из этой поэмы помещены в известном издании О. Керна
(Orphicorum fragmenta. Berlin, 1922). Сборник «Орфические гимны» содержит гимны с VI в. до н. э. и кончая первыми веками н. э.
[1330]
Здесь имеются в виду орфики и их таинства. См. т. 1, «Горгий», прим. 82.
[1331]
Пиндар
, фр. 213 Sn.
[1332]
Эти слова принадлежат поэту Симониду Кеосскому (фр. 55 Diehl).
[1333]
Архилоху, знаменитому ямбографу VII–VI вв. до н. э., принадлежат две стихотворные басни о лисице и обезьяне (фр. 81 Diehl, а также фр. 88–95), которые подразумевают личные отношения Архилоха и Ликамба, отца его возлюбленной Необулы, вероломно обманувшего поэта. Обе басни известны в пересказе Эзопа (I 1, 14, см. в изд.: Corpus fabularum Aesopicarum, I, 1 of)., A. Hausrath. Lips., 1957; см. также «Басни Эзопа», перев. статьи и комм. М. Л. Гаспарова. М., 1968).
[1334]
Крупнейшие государства
: имеются в виду Афины, особенно чтившие элевсинские мистерии; дети богов
– Мусой и Орфей.
[1335]
Смысл этой эпиграммы: Главкон и Адимант – «дети Аристона
», буквально «лучшего человека», и отличаются в споре так же, как в сражении под Мегарой (409 или 405 г. до н. э.), о чем и написал некий поклонник Главкона (по одной из догадок это, может быть, Критий, хотя в дошедших до нас его элегических фрагментах таких строк нет).
[1336]
Возникновение государства в связи с необходимостью удовлетворить потребности человека рассматривается Платоном также в «Законах», где исторический план повествования перемежается с легендарными представлениями о катастрофах, потопах, завоеваниях, замедливших развитие человечества, по вместе с тем способствовавших объединению людей в общества с установленными законами (III 676а‑682е).
Аристотель в «Политике» критикует Платона и Сократа с их государством, основанным на объединении классов ремесленников и земледельцев, удовлетворяющих нужды общества. Аристотель утверждает, что «все эти классы, по мнению Сократа, заполняют собою „первое“ государство, как будто вечное государство образуется лишь ради удовлетворения насущных потребностей, а не имеет предпочтительно своею целью достижение прекрасного существования» (Polit. IV 3, 12, 1291а 10‑19). Совершенно очевидно, что Аристотель напрасно сетует здесь на Платона, так как Платон разделяет причину возникновения государства и цель, для которой оно создано. Вряд ли Платон отрицал «прекрасное существование» (конечно, понимаемое как высшее благо
, а не чисто прагматически и утилитарно) в качестве цели государства.
Об аристотелевской теории государства в связи с Платоном см. Д. Well. Aristote et 1'histoire. Essai sur la Politique. Paris, 1960, стр. 327–339.
[1337]
Если еще Гомером было замечено, что «люди несходны, те любят одно, а другие'–другое» (Од. XIV 228), то Ксенофонтов Сократ не только подтверждает отличие людей «по природе», но также их значительный прогресс благодаря упражнению «в той области, в которой хотят стать известной величиной» (Mem. Ill 9, 3).
[1338]
Охотники
: это можно понимать в прямом смысле (ср. «Законы», 823b – об охоте на разных зверей и птиц, а также об охоте на людей во время войны) либо в переносном, как в диалоге «Софист», где дается определение софиста в виде рыболова, поддевающего своих собеседников на крючок ложной мудрости (221 d‑e).
Сам Сократ, по Ксенофонту, тоже считает себя опытным в «охоте за людьми» и советует Критобулу «быть хорошим человеком» и «ловить нравственных людей» (Xen. Mem. II, 6, 28– 29).
[1339]
О двух типах воспитания см. т. 1, «Критон», 50d‑e и прим. 13.
[1340]
Критику Гомера и Гесиода мы находим уже у досократиков. Особенно был известен в этом отношении элеат Ксенофан Колофонский, «порицавший обманщика Гомера» (А 1 D) и считавший, что «одинаково нечестиво поступают как те, которые утверждают, что боги родились, так и те, кто говорит, что боги умерли» (А 11 D).
По словам Ксенофана, Гомер и Гесиод «весьма много беззаконных дел рассказали о богах: воровство, прелюбодеяния и взаимный обман» (В 12). В своей известной 1‑й элегии он утверждал, что «не должно воспевать сражений титанов, гигантов и кентавров – вымысел прежних времен» (В 1).
[1341]
Здесь имеется в виду узкий круг посвященных в мистерии, быть может в элевсинские, на которых приносили в жертву поросенка.
История оскопления Урана Кроносом и низвержения Кроноса в Тартар его сыном Зевсом красочно описана у Гесиода (Theog. 154–210, 452–505). Этот миф причислялся Ксенофаном к «беззакониям» Гесиода (В 12).
[1342]
О битве титанов с олимпийцами см. у Гесиода (Theog. 674–735); о битве богов – у Гомера (II. XX 1‑75; XXI 385–514).
Что касается намека, о котором здесь идет речь, то, видимо, имеются в виду аллегорические толкования Гомера Гераклидом Понтпйским и другими авторами.
[1343]
Гомер
. Ил. XXIV 527–533.
[1344]
В этой строке неизвестного происхождения содержится мысль, близкая Гесиоду и Пиндару. У Гесиода читаем о богах, что «в руке их кончина людей, и дурных и хороших». У Пиндара – что «Зевс уделяет и то и другое, Зевс – владыка всего» (Isthm. V 52, сл. Sn.).
[1345]
О нарушении клятв Пандаром и его коварном выстреле см. Гомер
. Ил. IV 68‑126.
[1346]
Решение Зевса уничтожить по просьбе матери‑Земли человеческий род в Троянской войне (отзвук этого мы находим в «Илиаде», I 5) было принято им совместно с Фемидой (см. Ргосli chrestomat., p. 102, 13 Alien), бывшей некогда (по словам Пиндара) «древней супругой Зевса», «благосоветной», «небесной» (фр. 30 Sn.).
[1347]
Эсхил
, фр. 156 N. – Sn. (трагедия «Ниоба»).–159.
[1348]
Ниоба
, гордившаяся своими многочисленными сыновьями и дочерьми, потеряла их из‑за зависти богов Аполлона и Артемиды, убивших всех ее детей (Ovid. Met. VI 146–312).
Пелопиды
– потомки царя Пелопса, испытавшие на себе проклятие Зевса и вероломно убитого Пелопсом возничего Мир‑тила. История Пелопидов, или Атридов (Атрей – сын Пелопса), стала предметом многих греческих трагедий (Эсхил
– «Орестея»; Софокл
–"Электра»; Еврипид
–"Электра», «Орест» и др.).
[1349]
Гомер
. Од. XIII 485 сл.
[1350]
Протей
– см. т. 1, прим. 35 к диалогу «Ион». Фетида
– дочь Нерея, морская богиня, супруга смертного героя Пелея и мать Ахилла. Она, как и Протей, была наделена даром бесконечных превращений (подобно самому морю – родной стихии обоих богов).
[1351]
Схолиаст к «Лягушкам» Аристофана (ст. 1344) относит эти стихи к одной из драм Эсхила (фр. 168 N. – Sn.). Дочь Инаха, Ио, возлюбленная Зевса, была жрицей Геры.
[1352]
Относительное представление о правде и лжи было широко распространено в Греции. У Геродота прямо говорится: «Где ложь нужна, там следует лгать. Ведь цель правды и лжи одна и та же. Одни лгут в расчете убедить ложью и извлечь из того пользу, другие говорят правду для того, чтобы правдивостью добыть корысть и внушить к себе больше доверия, таким образом, в обоих случаях мы преследуем одну и ту же цель, хотя и различными средствами» (III 72). Софокл говорит: «Нехорошо лгать, но когда правда ведет к страшной гибели, то извинительно и нехорошее» (фр. 326 N. – Sn.). У Аристотеля в «Никомаховой этике» читаем: «Говоря безотносительно, ложь дурна и заслуживает порицания, истина же прекрасна н похвальна», но «настоящему лжецу самая ложь правится», а другим людям она нужна ради выгоды (IV 13, 1127а 28‑1127b it).
[1353]
Зевс послал Агамемнону обманный сон, желая испытать твердость ахейского войска (Гомер. Ил. II 1‑41).
[1354]
Согласно преданию, Аполлон играл на форминге во время свадьбы Пелея и Фетиды, будучи вместе с тем, по словам Геры, «всегда вероломным» (Гомер
. Ил. XXIV 62 сл.). Здесь цитируется фр. 350 из неустановленной трагедии Эсхила.
[1355]
Царство смерти не должно, по Платону, пугать мужественных воинов, так как умирать, сражаясь за родину в первых рядах бойцов, почетно и прекрасно; об этом писал еще поэт Тиртей (6. 7 D).
[1356]
С этими словами тень Ахилла обращается к Одиссею, спустившемуся в царство мертвых (Гомер
. Од. XI 489–491).
[1357]
Гомер
. Ил. XX 64 cл.
[1358]
Эти слова принадлежат Ахиллу, не сумевшему удержать явившуюся к нему ночью тень своего погибшего друга Патрокла (Гомер
. Ил. XXIII 103 сл.).
[1359]
В Аиде способность мыслить оставлена только фиванскому прорицателю Тиресию. Остальные души лишены разума и памяти (Гомер
. Од. Х 495).
[1360]
Речь здесь идет о душе убитого Гектором Патрокла, которая горестно отлетает в Аид (Гомер
. Ил. XVI 856 сл.).
[1361]
Так уходит душа Патрокла из рук пытавшегося обнять ее Ахилла (Гомер
. Ил. XXIII 100 сл.).
[1362]
С летучими мышами сравниваются души убитых Одиссеем женихов Пенелопы, которых бог Гермес ведет в Аид (Гомер
. Од. XXIV 6‑9). О судьбе души в загробном мире см. т. 1, прим. 82 к диалогу «Горгий».
[1363]
Кокит
, Стикс
– см. т. 2, прим. 70, 71 к диалогу «Федон».
[1364]
Здесь цитируются стихи из «Илиады» Гомера, описывающие горе и тоску Ахилла после гибели его друга Патрокла (Ил. XXIV 10‑13 и XVIII 23‑27).
[1365]
Гомер
. Ил. XXII 413 сл. Троянский царь Приам, отец Гектора, просил сограждан отпустить его к Ахиллу, чтобы умолить того прекратить надругательство над телом убитого сына.
[1366]
Эти слова произносит мать Ахилла, морская богиня Фетида, вышедшая из моря со своими сестрами Нереидами, чтобы утешить сына, оплакивающего своего друга Патрокла (Ил. XVIII 54).
[1367]
Зевс произносит эти слова, глядя на преследование Ахиллом Гектора (Ил. XXII 168 cл.).
[1368]
Зевс горюет, предугадывая гибель своего сына Сарпедона от руки Патрокла (Ил. XVI, 433 сл.).
[1369]
Ил. I 599 сл.
[1370]
О необходимости лжи, идущей на пользу государственному человеку, Платон говорит и далее, 414 с.
[1371]
Гомер
. Од. XVII 384 сл. Свинопас Эвмей перечисляет здесь тех, кто «для смертных желанны везде на земле беспредельной» (Од. XVII 386).
[1372]
Диомед обращается с этими словами к Сфенелу, несправедливо упрекающему царя Агамемнона во лжи (Ил. IV 412).
[1373]
Первая из этих строк – Ил. III, 8, вторая – там же, IV 431.
[1374]
Так гневный Ахилл бранит Агамемнона (Ил. I 225).
[1375]
Слушая пение Демодока во дворце царя Алкиноя, Одиссей восхваляет радость пиршественного стола (Од. IX 8‑10). Здесь Платон как бы забывает, что гомеровский Одиссей хвалит не только пышную трапезу, но и «радость светлую», наполняющую сердца гостей, внимающих «песнопениям прекрасным» мужа, «по пению равного богу» (IX 2‑8).
[1376]
Эти слова служили убедительным аргументом для спутников Одиссея, зарезавших священных коров Гелиоса (Од. XII 342).
[1377]
Здесь имеется в виду обольщение Зевса Герой (Ил. XIV 295), замыслившей погубить троянцев во время сна Зевса.
[1378]
Певец Демодок на пиру у царя Алкиноя поет о Гефесте, заковавшем в нерасторжимые сети свою жену Афродиту, изменившую ему с Аресом (Од. VIII 266–366).
[1379]
Одиссей сдерживает себя, возмущенный бесчинством женихов в его собственном доме (Од. XX 17 сл.).
[1380]
Эта строка приписывается Гесиоду {Суда
, v. dфra), видимо, по созвучию с мыслями поэта о «дароядных людях» (Орр. 221) и «царях – дароядцах» (там же, 263).
[1381]
См. Ил. IX 515
[1382]
См. Ил. XIX 278
[1383]
См. Ил. XXIV 175 сл.
[1384]
См. Ил. XXII 15 сл
.
[1385]
См. Ил. XXI 130–132, 211–226, 233–329 – поединок Ахилла с богом реки Скамандром.
[1386]
Ил. XXIII 140–151. Платон забывает, что Ахилл должен был посвятить свои волосы реке Сперхею и в память о Патрокле, гибель которого как бы предвещала его собственную.
[1387]
См. Ил. XXII 395–405.
[1388]
См. Ил. XXIII 175
[1389]
Пелей, царь мирмидонян, – сын Эака и внук Зевса.
[1390]
Хирон‑сын Кроноса и Филиры (Apollod. I 2, 4), мудрый кентавр, воспитавший на горе Пелион многих героев, и в том числе Пелея.
[1391]
Тесей и его друг, царь лапифов Пирифой, пытались похитить супругу Аида, богиню царства мертвых Персефону. Хотя Платон называет Пирифоя сыном Зевса, но он – сын царя Иксиона, тоже святотатца, пытавшегося, согласно преданию, овладеть супругой Зевса Герой (Find. Pyth. II 21‑48).
[1392]
См. «Государство», II 379а.
[1393]
Эсхил
. Ниоба (фр. 162 N. – Sn.). Эти слова, видимо, принадлежат Ниобе и относятся к ее отцу, сыну Зевса Танталу.
[1394]
Здесь явно содержится отзвук слов Фрасимаха (см. выше, I 343а‑344а).
[1395]
Сократ делит здесь всю поэзию на три рода, образцы которых он приводит в дальнейшем (394с): 1) повествование самого поэта, например дифирамб; 2) подражание поэта в трагедии и комедии и 3) эпический род, совместивший в себе рассказ и драматическую речь.
Следует отметить, что классическая античность в любых видах искусства видела преимущественно только разную степень мимесиса, т.e. подражания (Aristot
, Poet. I 1447a13‑1447b29). У Аристотеля мы читаем: «Именно подражать в одном и том же и одному и тому же можно, рассказывая о событии как о чем‑то отдельном от себя, подобно тому, как это делает Гомер, или же так, что подражающий остается сам собою, не изменяя своего лица или представляя всех изображаемых лиц как действующих и деятельных» (Poet. Ill 1448a 20‑24, перев. Аппельрота
).
Если здесь Аристотель рассматривает все искусства как подражательные, уточняя лишь степень этой подражательности в разных видах искусства, то Платон в данном тексте достаточно резко расходится с Аристотелем, полагая, что истинное искусство вообще не может быть подражательным. Такой настоящей поэзией Платон считает дифирамб (см. 394с), древний вид поэзии, который, по Платону, выражает безыскусственное чувство.
О термине мимесис
у досократиков см. т. 1, прим. 57 к диалогу «Кратил».
О двух типах подражания – создающих истинные образы и кажущиеся (подобия) – см. т. 2, прим. 16 и 18 к диалогу «Софист». Сводка новейших работ по теории мимесиса имеется в книге: Aristotle poetics, introd., comm., and appendices by D.W.Lucas, Oxf., 1968, Append. I, p. 258
[1396]
Сократ рассказывает начало «Илиады» (I I‑42), где вождь ахейцев Агамемнон навлекает на свое войско чуму, посланную Аполлоном за то, что Агамемнон оскорбил бога, отняв у жреца Хриса его дочь.
[1397]
Гомер
. Ил. I 15 сл.
[1398]
См. Ил. I 7‑21.
[1399]
В «Илиаде» изображен ряд военных эпизодов последнего года осады Трои.
О‑в Итака
– родина Одиссея, героя поэмы «Одиссея».
[1400]
Сократ нарочито прозаически пересказывает «Илиаду» (I, 11‑42).
[1401]
Ср. утверждение Сократа, противоположное этому, в «Пире» (223d). См. также т. 2, прим. 97 к диалогу «Пир».
[1402]
Стражи государства должны искусно владеть своим ремеслом – «охраной свободы», т.e. укреплением законов, но которым строго соблюдается сознательная иерархия подчинения одного сословия другому.
[1403]
О «многознайстве» еще Гераклит говорил, что оно «не научает уму» (В 40 D).
[1404]
Об этической стороне гармонии (лада) и ритмов см. выше, прим. 14 к диалогу «Филеб».
Классические труды античных авторов по гармонии и ритму см. в изданиях: Aristides Quintilianus de musica, ed. R. P. Winnington‑Ingram. Lips., 1963; Aristoxenus von Tarent. Ubers. u. erlaut. v. R. Westphal. Leipz., 1883; Die harmonischen Fragmente des Aristoxenus, griechisch und deutsch, herausgeg. v. P. Marquard. Berl., 1868; Scriptores musici, ed. C. Jan. Lipsiae, 1895.
[1405]
Тригон
, букв. «треугольник» – музыкальный щипковый инструмент, близкий к лире; издавал слишком нежные и мягкие звуки. Пектида
– многострунная разновидность лиры лидийского происхождения. На ней играли без плектра, перебирая струны пальцами. Многострунные инструменты, но Платону, раздробляя единую гармонию на множество оттенков, способствуют как бы дроблению целостности человека, развивая утонченность, изощренность и распущенность. На этом же основании из государства изгоняется флейта (см. ниже), известная своим многоголосием и обостренным, экстатическим звучанием, далеким от классической простоты.
[1406]
Инструмент Аполлона
– лира, а Марсия
– флейта. Известен миф о музыкальном состязании бога Аполлона и дикого сатира Марсия, подобравшего флейту, брошенную Афиной. Аполлон – победитель – приказал содрать с Марсия кожу и повесить ее в пещере, где она, колеблясь от ветра, издает жалобные звуки (Овидий
. «Метаморфозы», VI 382–400; Ксенофонт
. «Анабазис», I 2, 8). В этом мифе‑символическое противопоставление благородной сдержанности лиры и дикой страстности флейты, то есть классической Греции и ее хтонических древних истоков.
[1407]
В греческом стихосложении, основанном на пропорциональном чередовании долгих и кратких слогов, различали три главных типа ритмических форм: равные формы, где долгая часть стопы равна ее краткой части (2:2 – дактиль – U U; анапест U U –; спондей –); двойные формы, где долгая часть стопы вдвое длиннее, чем краткая (2:1 – ямб U –; трохей, или хорей – U; ионики U U –); полуторные формы, где долгая часть стопы в полтора раза длиннее краткой (3:2 – все четыре вида пэонов – U U U, U – U U, U U – U, U U U –; кретик –; бакхий – U). Об этих ритмических формах, которые можно назвать также двудольными, трехдольными и пятидольными. см. в кн.: А. Ф. Лосев
. Античная музыкальная эстетика. М., 1960–1961, стр. 94–104. Древние авторы подчеркивали обычно «важность», «торжественность», «величавость» дактило‑спондея, образующего эпический гекзаметр; мягкость и печальность элегического стиха; маршеобразный, бодрый характер анапеста; «ужас» и «страшность» трохея; «быстроту», «ярость», «неукротимость» ямба; расслабленность и размягченность иоников; «энтузиастичность» пэонов, связанную с культом фригийских корибантов – Великой матери богов Кибелы.
Под четырьмя звучаниями имеется в виду музыкальным тетрахорд
, состоящий из двух топов и одного полутона, который заполняет один из интервалов в начале, середине или конце тетрахорда, создавая тем самым определенное чередование, т.e. гармонию или лад – фригийский, лидийский, дорийский, ионийский.
[1408]
Дамон
– см. т. 1, прим. 27 к диалогу «Протагор». Дамон изобрел «спущенный» лидийский (гиполидийский) лад, противоположный миксолидийскому, но весьма сходный с ионийским (Plat
. De mus. 16). По другим сведениям, у Плутарха (там же), лидийский лад изобрел флейтист Пифоклид.
[1409]
Дактилическая
стопа входит в эпический гексаметр, почему здесь и объединяется с героическимразмером
(эноплием), который схолиаст к «Облакам» Аристофана (651) отождествляет с кретиком, или амфимакром (– U –). Вместе с тем схолиаст как будто сближает эноплий с пиррихием (U U), когда называет его «видом ритма, при котором танцевали, потрясая оружием».
[1410]
Ямб
(U –) и трохей
(– U) – см. прим. 53.
[1411]
Ср. «Протагор», 326b – о кифаристах, которые, обучая музыке, «заставляют души мальчиков свыкаться с гармонией и ритмом, чтобы они стали более чуткими, соразмерными, гармоничными, чтобы были пригодны для речей и для деятельности; ведь и вся жизнь человеческая нуждается в ритме и гармонии.
[1412]
См. т. 1, прим. 38 к диалогу «Протагор».
[1413]
Взаимоотношения любящего и любимого не раз рассматриваются в «Пире» Платона. Взаимная любовь, по Платону, учит стремиться к прекрасному. См. т. 2, прим. 31, 32, 40 к диалогу «Пир».
[1414]
О связи гимнастики и мусического воспитания см. т. 1, прим. 13 к диалогу «Критон»; о гимнастике, воспитывающей тело человека, см. т. 2, прим. 50 к диалогу «Пир».
[1415]
Мысль Платона о том, что добрая душа благотворно влияет на тело, ср. с созвучным этому замечанием Демокрита: «Людям следует больше заботиться о душе, чем о теле, ибо совершенство души исправляет недостатки тела, телесная же сила без рассудка нисколько не улучшает душу» (68 В 187 в = Маков
. 384).
[1416]
О знаменитых сиракузских кулинарах см. т. 1, прим. 77 к диалогу «Горгий».
[1417]
По преданию, коринфяне славились легкостью своих нравов. Об этом см. у Фемистия (Oral XXIV, р. 301Ь = Themistii orationes, emend, a G. Dindorfio. Lips., 1832).
[1418]
Об аттических лакомствах читаем у Афинея (XIV 643е‑648с), который перечисляет бесконечное количество изделий из теста, сладостей, печений, варений на виноградном сиропе и меду, каждый раз указывая, кто из греческих авторов упоминает данное редкое блюдо.
[1419]
Асклепиады
(от Асклепия‑бога врачевания)‑общество врачей, известное своей деятельностью на о‑вах Родосе, Косе и Книде.
[1420]
Асклепий
– см. прим. 65 и т. 1, прим. 2 к диалогу «Ион».
[1421]
Сыновья Асклепия – Махаон и Подалирий, участники осады Трои. Они прославились исцелением Филоктета (Apollod. Epit. 5, S
}.
[1422]
Платон объединяет здесь два разных эпизода «Илиады». В кн. XI (638–641) пленница Нестора Гекамеда угощает Нестора я раненого Махаона смесью из козьего сыра и ячной муки на прамнийском вине. В кн. XI (842–848) Патрокл исцеляет раненого Еврипила, вынув у него из бедра наконечник стрелы и присыпав рану целебным порошком горького корня.
[1423]
О Геродике
см. т. 1, прим. 26 к диалогу «Протагор».
[1424]
Фокилидиз
Милета (VI в. до н. э.) – известный гномический поэт, автор высокоморальных изречений в форме элегических стихов (I 48‑51 DiehL). Здесь упоминается фр. 9 D
.
[1425]
В Ил. (IV 212–219) Махаон, залечивая рану Менелая, высасывает из нее кровь и посыпает рану лекарствами, как учил его отца Асклепия мудрый кентавр Хирон.
[1426]
Мидас
– см. т. 2, прим. 60 к диалогу «Федр».
[1427]
Пиндар подробно описывает рождение Асклепия
, его удивительные способности целителя; вместе с тем он замечает, что «корыстью ослепляется и мудрость», и рассказывает драматическую историю гибели Асклепия, которого, как оказывается, совратило золото, «заблиставшее в руках», «великая плата» за то, чтобы «он возвратил от смерти уже плененного ею человека». За это Зевс испепелил его молнией (Pyth. III 55‑58 Sn.).
[1428]
См. Ил. XVII 587 сл.: Аполлон, обращаясь к Гектору, упрекает его за бегство от Менелая, который все время был «копьеборцем ничтожным».
[1429]
Ср. т. 1, прим. 15 к диалогу «Менон».
[1430]
Три рода испытаний, о которых здесь говорит Сократ, употреблялись в практике античного воспитания, особенно у спартанцев.
[1431]
См. выше, 389 b‑d.
[1432]
«Финикийский вымысел» – т.e. чужеземная и вместе с тем очень древняя выдумка (схолиаст Платона производит это выражение от имени финикийца Кадма, сына Агенора), которую использовали на благо народа умелые законодатели. В «Законах» Платон приводит миф о Кадме как пример того, что «можно убедить души молодых людей в чем угодно» (II 664а).
[1433]
Миф о порождении людей землей не раз упоминается Платоном. См. т. 2, прим. 29 к диалогу «Софист»; прим. 25 к диалогу «Тимей».
[1434]
У Эсхила в трагедии «Семеро против Фив» Этеокл призывает граждан «на защиту детей и милой матери, родной земли» (ст. 16–20).
[1435]
Сократ использует здесь гесиодовский прием объединения истории поколений человеческого рода с металлами разного достоинства – золотом, серебром, медью и железом; градация эта свидетельствует о неуклонном ухудшении людей (Hesiod
. Opp. 109–201). Это разделение на поколения было подвергнуто резкой критике Аристотелем, который скептически отнесся и к «Государству» и к «Законам» Платона (Polit. II, 2, 1264Ь 6‑25).
[1436]
Имеются в виду так называемые сисситии (совместные трапезы), которые были приняты у спартанцев. В «Законах» сисситии считаются обязательными (VI 762с).
[1437]
Здесь также отзвуки обычаев, перенятых в Спарте. Плутарх сообщает, что спартанские эфоры приговорили к смерти друга полководца Лисандра Торака, «вместе с ним командовавшего войском и уличенного во владении золотом» (Lys. XIX). Ксенофонт, описывая Лакедемонское государство и его законодательство, основанное Ликургом, отмечает, что этот последний «запретил свободным гражданам все, что имеет отношение к прибыли, заставив их думать только о том, что доставляет свободу городу»; поэтому «золото и серебро тщательно разыскиваются, и если окажутся, то владелец подвергается штрафу» (Rep. Lac. VII 3, 6).
[1438]
Ср. «Гиппий больший», 290 b‑d, где утверждается, что «каждую вещь делает прекрасной то, что для каждой вещи подходит».
[1439]
Речь идет об игре в шахматы, при которой «город» как бы разделен на две враждующие стороны.
[1440]
Древнее изречение, быть может пифагорейское. Ср. «Государство», V 449с, и «Законы», V 739с, где проводится идея общности жен, детей и всего имущества.
[1441]
Гомер
. Од. I 351 сл.
[1442]
В «Законах» Платон тоже говорит об огромном воспитательном значении игры (VII 797b).
[1443]
У Ксенофонта Сократ говорит своему другу Херекрату: «Да разве не принято, чтобы младший при встрече уступал старшему дорогу? Если он сидит, чтобы вставал, чтобы в знак уважения отдавал ему лучшую постель, чтобы при разговоре предоставлял ему первое слово?» (Mem. II 3, 16). У Аристотеля также читаем:
«Вообще говоря, мы обязаны выказывать почтение каждому старшему лицу, вставая перед ним, уступая ему почетное место»
(Eth Nic. IX, 2, 1165а 27 сл.).
[1444]
Здесь – сравнение с лернейской гидрой
, у которой вместо отсеченной Гераклом головы вырастало десять новых. Имеется в виду вред, приносимый законодателями, заботящимися не об общественной пользе, а только о личной выгоде и тщеславии, когда внесение одного, якобы полезного, закона порождало множество бедствий.
[1445]
Аполлон считался покровителем упорядоченного государства (см., например, Эсхил
, «Эвмениды») и общественной гармонии. В «Законах» прямо говорится, что «надлежит заимствовать законы из Дельф и ими пользоваться, назначив для них истолкователей» (VI 759с).
[1446]
Отечественный наставник
– это бог Аполлон, отец Иона, родившегося от соблазненной богом афинской царевны Креусы. История Иона, родоначальника афинян, названных по его имени ионийцами (Herod
. VIII 44), послужила сюжетом для драмы Еврипида «Ион».
[1447]
В Дельфах, у святилища Аполлона, находился так называемый «Омфал», «пуп Земли» – тот самый камень, который, согласно мифу, некогда Рея дала проглотить Кроносу вместо младенца Зевса. Когда Кронос изверг его обратно, камень «поместили в Дельфы под самым Парнасом» как святыню, обозначавшую центр Земли (Hesiod
. Theog. 497–500). Омфал (из глыбы белого мрамора) умащали возлияниями, облачая его в разные одежды. Сведения об Омфале находим у Павсания (X 16, 3), Страбона (IX 3, 6), Эсхила (Eum. 39‑41), Пиндара (Paean. VI 15‑17 Sn.).
[1448]
О добродетели и ее видах см. также т. 1, «Менон» 70а‑81b.
[1449]
Халестрийский поташ
– щелочный натр. Назван но имени города Халестра, или Халастра, в Мигдопии.
[1450]
Здесь – характерное употребление музыкальной терминологии – созвучие
(symphonia) и гармония
– для нравственной характеристики человека, который этими качествами объединяется
с порядком
, т.e. космосом
, основанным на мировой гармонии и созвучии сфер (ср. «Тимей», прим. 32, а также «Государство», Х 616с‑617с).
[1451]
Рассудительность
, по Платону, создает гармоничное звучание всех «струн» города, т.e. гармоничную жизнь его сословий.
[1452]
Платон часто приводит эту пословицу. См. т. 1, «Гиппий больший», 304е и прим. 37.
[1453]
Для Платона человек‑«микрокосм» соответствует не только обществу, но также Вселенной‑«макрокосму»; поэтому для человека и общества, хоть и в разной степени, характерен принцип автаркии (ср. «Тимей», прим. 42). Как видно из дальнейших строк (441с‑d), у Платона элементы души и соответствующие им нравственные качества отдельного человека типичны для целых государств и народов.
[1454]
Фракия
–крайний север Греции, на границе с Македонией. Скифия
– причерноморские и приазовские земли, бывшие для греков далекими северными пределами. О Скифии см. Геродот
, IV.
[1455]
В этом месте устанавливается логический закон противоречия
, звучащий формально по сравнению с диалектическим законом единства противоположностей
. У Платона можно найти и другие тексты, подтверждающие закон противоречия: «Ничего другого не остается по отношению к каждой вещи, кроме как либо знать, либо не знать» («Теэтет», 188 а‑b): «Большое никогда не согласится быть одновременно и большим и малым», и «вообще ни одна из противоположностей, оставаясь тем, что она есть, не хочет ни превращаться в другую противоположность, ни быть ею, но либо удаляется, либо при этом изменении гибнет» («Федон», 102е‑103е).
[1456]
Платоновское учение о душе
наиболее кратко излагает Диоген Лаэртский (III, 67), отмечая самодвижностъ
(aytocineton) и трехчастность
души, причем ее разумная часть (logisticon meros) находится, по Диогену, в голове, яростная
(thymoeides) – в сердце, вожделеющая
(epithymeticon) – в области пупка и печени.
[1457]
Намек на эту историю есть во фрагментах аттических комедиографов (см. Коек
, I, р. 739, Theopompi fr. 24).
[1458]
Гомер
. Од. XX 17.
[1459]
Здесь у Платона Гиппократова теория происхождения болезни. По Гиппократу, здоровье основано на «равномерном соотношении крови, слизи, желчи (желтой и черной) при их смешении друг с другом», а болезнь происходит, если «что‑либо из них находится в меньшем или большем количестве, чем это установлено в теле» (De nat. horn. VI 40 с 4). Ср. в «Тимее» (82 а‑b):
избыток и недостаток в теле четырех элементов (земля, огонь, вода и воздух) и перемещение их из своего места в другое приводят к болезням и нарушениям порядка человеческого тела.
[1460]
Для Сократа главное в жизни государства – мудрость, а не факт управления его одним или многими людьми. В «Политике» Платон пишет, что важно не наличие «немногих или многих, свободных или несвободных, не бедность или богатство, а некое знание» (292с). Платон, видимо, предпочитает власть одного человека, ибо единственно правильного правления можно искать «между немногими – в малом, в одном». Все же остальные виды правления он считает «подражаниями» («Политик», 297с).
[1461]
Ответ на этот вопрос дается в VIII книге, где подвергаются критике извращенные формы государственного правления, куда включаются тимократия, олигархия, демократия и тирания.
[1462]
См. выше, кн. IV 424а и прим. 3.
[1463]
Поговорка, указывающая на бездумное занятие.
[1464]
Адрастея
, она же Немесида, – богиня судьбы и мести. См. т. 1, прим. 82 к диалогу «Горгий» (стр. 575). Сократ молится Адрастее, так как опасается ее мести за слишком смелые мысли об общности жен и детей в государстве.
[1465]
Критяне и спартанцы, славившиеся своим суровым законодательством, раньше других греков обратили внимание на систему физического воспитания своих граждан с юных лет и до старости. На Крите и в Спарте гимнастикой занимались в обнаженном виде, хотя у большинства эллинов и «варваров», например у лидийцев, «даже мужчина считает для себя большим позором, если его увидят нагим» (Геродот
, I 10). Фукидид (I 6, 5) сообщает, что спартанцы первые стали заниматься в палестре обнаженными и «жирно умащали себя маслом». У Еврипида в «Андромахе» старик Пелей возмущен спартанскими девушками, которые, покинув дом и сняв с себя одежды, состязаются в беге с юношами в палестре (595–601).
[1466]
По преданию, дельфины всегда спасали терпящего бедствие человека. Плиний (Hist. nat. IX 8, 7) рассказывает о дельфине, который в бурю вынес ребенка на берег и, когда ребенок скончался, умер на прибрежном песке.
[1467]
О противопоставлении у Платона спора (эристики
) методу беседы и рассуждения (диалектике
) см. т. 1, прим. 10 к диалогу «Менон».
[1468]
Возможно, здесь содержится намек на комедию Аристофана «Женщины в народном собрании», которая осмеивает социальные теории, в равной мере известные Платону и Аристофану. В этой комедии женщины устанавливают общность имущества, денег, рабов, одежды, жилищ (ст. 590–594, 597–610, 673–692), жен (611–634), детей (635–650) и т. д. Особенно бросаются в глаза некоторые параллели, например: Платон 457 сл. сл. = Аристофан 614 сл.; 463с, 461d = 635–637; 462а = 590–594. Цитируемый здесь стих принадлежит Пиндару (фр. 209 Sn.).
[1469]
О терминах полезный
и вредный
в соответствии с терминами пригодный
и непригодный
см. т. 1, прим. 31 к диалогу «Гиппий больший».
[1470]
Аристотель в «Политике» (II 1) подвергает резкой критике общность жен и детей в платоновском государстве: по его мнению, объединение государства в единую семью приведет к его уничтожению. Множество детей, имеющих такое множество отцов, что «любой человек будет в равной степени сыном любого же отца» (там же, 1261b 39‑1262a 1), приведет к тому, что «все сыновья в равной мере будут пренебрегать своим отцом» (там же, 1262а 1). Точно так же физическое сходство между родителями и детьми послужило бы доказательством их реальных родственных отношений и нарушило бы пресловутое единство. Более того, проступки, совершаемые в обществе, будут оскорблять чувства всех отцов, матерей и близких, причем искупить преступление будет нельзя, так как «когда не знаешь, каких близких ты оскорбил, то не может быть и никакого искупления» (1262а 30‑32). Далее, отцы, сыновья и братья будут вступать в любовные отношения, «которые оказываются наиболее предосудительными» (1262а 34‑36). Аристотель делает вывод, что закон об общности жен и детей «ведет к результату, противоположному тому, какой надлежит иметь законам» (1262Ь 3‑7).
[1471]
Геометрическая необходимость
– т.e. соображения разумного плана. Ср. т. 1, «Горгий», 508а и прим. 63: геометрическим
в этом месте «Горгия» названо «истинное, наилучшее равенство».
[1472]
Священным браком
называли брак Зевса и Геры на горе Иде (Ил. XIV 291–360) или вообще идеальный брак божественной пары. Платон в «Законах» именует священным
тот брак, который одобрен законом и совершен по закону. Нарушивший такой брак лишается «всех почетных гражданских отличий как действительно чуждый государству» (VIII 841е).
[1473]
Здесь Платон, как и ниже (461с), по‑видимому, осуждает на смерть детей с физическими недостатками: это отзвук обычая, бытовавшего в Спарте. Плутарх говорит по поводу смерти такого ребенка, что «жизнь не нужна ни ему самому, ни государству» (Lye. XVI).
[1474]
Рождение детей от родителей «цветущего» возраста (для женщин – с 20 до 30 лет, а для мужчин – приблизительно с 25 до 55 лет) устанавливается здесь Платоном по аналогии со спартанским законодательством. Ксенофонт (Rep. Lac. I 6) и Плутарх (Lye. XV 4) сообщают приблизительно такие же сведения. В «Законах» Платон также определяет границы возрастов: мужчина вступает в брак в 25‑30 лет (VI 772d) или в 30‑35 (785b), женщина выходит замуж между 18 и 20 годами (785b). Еще Гесиод писал: До тридцати не спеши, но и за тридцать долго не медли.
Лет тридцати ожениться – вот самое лучшее время.
Года четыре пусть зреет невеста, женитесь на пятом.
(«Труды и дни», 696–698, перев. В. В. Вересаева
)
Аристотель в «Политике» также одобряет родителей, вступающих в брак в «цветущем возрасте», т.e. до пятидесяти лет, так как «потомство перезрелых родителей», так же как и потомство слишком молодых, и в физическом и в интеллектуальном отношении несовершенно (VII 14, 1335b 29‑31).
[1475]
Пифия
– пророчица Аполлона в Дельфах.
[1476]
Для Платона характерно целостное восприятие человека. «Все, что возникло, возникло ради всего целого, так чтобы осуществилось присущее жизни всего целого блаженное бытие» («Законы», 903с). Поэтому главное – это «спасение и добродетель целого» (там же, 903Ь), так что «всякий врач, всякий искусный ремесленник всё делает ради всего целого и направляет всё к общему благу; он занимается частью ради целого, а не целым ради части» (903с).
[1477]
Античные авторы часто идеализировали примитивный коммунизм варварских племен. У Геродота, например, племя агафирсов, известное своими мягкими нравами, имеет общность жен, «чтобы всем быть братьями между собой и родными и не возбуждать друг в друге ни зависти, ни вражды» (IV 104).
[1478]
Представление о государстве как теле (sфma) характерно для античности, где даже человек представлялся в первую очередь неким телом, а не личностью в позднейшем смысле слова. Интересные материалы на эту тему находим у Ксенофонта, Фукидида, Демосфена, хотя в эллинистическое время «телом» именуют уже не свободных граждан, а рабов или тех, кто попал в зависимость. О телесном, «соматическом» понимании человека в Греции см. A. Tacho‑Godi. Podstawy fizicznego pojmovania osoby ludzniej w swietle analizy terminu soma («Menander», 1969, № 4, стр. 157–165)
.
[1479]
Победители на Олимпийских играх имели много привилегий: они, например, обедали в течение всей жизни на общественный счет или сражались в бою в первом ряду бок о бок с царями (спартанцы).
[1480]
См. выше, IV 419а.
[1481]
Гесиод пишет:
Дурни не знают, что больше бывает, чем всё, половина.
(«Труды и дни», 40, перев. В. В. Вересаева
).
[1482]
Гомер
. Ил. VIII, 162; выше (468d) – также цитата из «Илиады» (VII, 321).
а Гесиод
. Труды и дни, 121 сл.
[1483]
Гомер
. Ил. VIII, 162; выше (468d) – также цитата из «Илиады» (VII, 321).
а Гесиод
. Труды и дни, 121 сл.
[1484]
Обычай снимать оружие и доспехи с побежденного убитого врага издавна был распространен в Греции. У Гомера находим драматические картины битвы за мертвое тело и доспехи. Например, в «Илиаде», XVII, Менелай совершает подвиги, отбивая тело убитого Гектором Патрокла и снимая доспехи с убитого Евфорба. Вешать оружие врага в храм было узаконено. Фукидид сообщает (III 114, 1), что после одной из побед Демосфена в храмы Аттики принесли «триста полных доспехов». По Плутарху, только спартанцы не следовали этому обычаю (Apophtheg. Lac. 224b), так как считали, что «доспехи принадлежат трусам». Может быть, отказ от древних диких обычаев происходит здесь у Платона под воздействием высоко ценимых им спартанских законов.
[1485]
Греки были глубоко убеждены в своем коренном отличии от «варваров» и по природе своей, и по установлениям. Героиня драмы Еврипида «Ифигения в Авлиде» искренне верит, что отдает свою жизнь за Элладу потому, что «у эллинов в обычае властвовать над варварами, а не у варваров – над эллинами: они – рабское племя, а эллины – свободные» (Iphig. Aul. 1397–1401). Эсхил в «Персах» также дал великолепные образы свободных по природе и законам демократии греков, с одной стороны, и персов, извечных рабов своего деспота, – с другой (176–196).
[1486]
B кн. IV 441с Сократ говорит, что он уже переплыл одно препятствие, а в кн. V 457b он избегает волны, чтобы не захлебнуться, излагая законодательство о женщинах. Третья волна, в представлении греков, все равно что у нас – девятый вал.
[1487]
Этот знаменитый тезис Платон стремился воплотить в жизнь, совершив три путешествия в Сицилию к тиранам Дионисию Старшему и Дионисию Младшему и надеясь превратить этих тиранов в просвещенных правителей (см. А. Ф. Лосев
. Введение к наст. изд., т. 1, стр. 28–36).
[1488]
Обнаженные
: как борцы в палестре.
[1489]
Ср. у Лукреция о «медунице» (IV 1160). О «медовом цвете» говорит также Феокрит (X 27).
[1490]
Схолиаст сообщает, что в Афинах было 10 фил, каждая из которых делилась на три части – «триттии», которые в свою очередь делились на фратрии. Каждая триттия имела своего триттиарха.
[1491]
Ср. «Пир», 203d, где философией всю жизнь занят Эрот, так как «Эрот» – это любовь к прекрасному, вечное стремление к знанию и мудрости (204Ь). См. также т. 1, прим. 32 к диалогу «Горгий».
[1492]
В греч. подлиннике стоит слово aneleytheria: «несвободный». «недостойный свободного человека» образ действия; схолиаст объясняет это слово как «низменное отношение к деньгам», противопоставляя его щедрости
и широте души
(megaloprepeia). Этим последним термином Платон обозначает великодушие
или выдающуюся
натуру (см. ниже, 487а), т.e. нравственную щедрость человека, а не только щедрость в отношении денег. См. также т. 1, прим. 8 к диалогу «Менон».
[1493]
О
значении соразмерности
и меры
у Платона см. выше, прим. 41 к диалогу «Филеб».
[1494]
Mом
– бог злоязычия и насмешки, сын Ночи (см. Гесиод
. Теогония, 214). У Лукиана Мом критикует все, что создали Афина, Посейдон и Гефест («Гермотим», 20).
[1495]
Козлоподобный олень
, или «трагелаф», – фантастическое составное существо. У Аристофана («Лягушки», 937) трагелаф наряду с «конепетухом» символизирует высокопарность и сложность эсхиловской трагедии.
[1496]
Мандрагора
– растение с корнем в виде человеческой фигурки, известное своим снотворным действием.
[1497]
Этот эпитет применили к Сократу его обвинители. Ср. т. 1, «Апология Сократа», 18b‑с и 19b‑с, а также прим. 8 и 11.
[1498]
Аристотель приписал поэту Симониду Кеосскому слова, чти «мудрецы постоянно торчат у дверей богатых» (см. Rhet. II Id, 1391а 8‑12). Однако схолиаст к данному месту приводит разговор Сократа с неким Евбулом, которому Сократ остроумно возразил, что мудрецы у дверей богатых знают, что им нужно из того, что раздают богачи, а эти последние не знают, что они получат от мудрецов. Близкий к этому рассказ о беседе философа киренаика Аристиппа и тирана Дионисия Сиракузского находим у Диогена Лаэртского (II 8, 69).
[1499]
Отзвук этой поговорки мы встречаем в «Пире» (176с): «Сократ не в счет».
[1500]
Божественный удел
, по Платону, даруется людям независимо от воспитания. В «Меноне», например, говорится о том, что государственные люди не научаются добродетели (94b‑e), но мудры «от бога» (99b‑d).
[1501]
Схолиаст к данному месту Платона поясняет эту пословицу рассказом о Диомеде и Одиссее, похитивших палладий Афины в Трое.
[1502]
О разнице между истинной философией и софистикой см. т. 1, прим. 32 к диалогу «Горгий». Вопросу определения софиста посвящен Платоном диалог «Софист» (см. т. 2).
[1503]
Феаг
упоминается в «Апологии Сократа» (33е) среди учеников Сократа. См. т. 1, прим. 38 к «Апологии Сократа». Этому лицу посвящен у Платона диалог «Феаг».
[1504]
О божественном знамении
, или о гении Сократа, см. т. 1, прим. 29а и 33 к «Апологии Сократа».
[1505]
Об этой пословице см. выше, прим. 15 к кн. IV.
[1506]
У Гераклита «не только ежедневно новое солнце, но солнце постоянно, непрерывно обновляется» (В6 D).
[1507]
Гомеровское обычное наименование героев: «божественный», «подобный богу», «равный богу» идет от мифологического представления о причастности героев богам, от которых они некогда все произошли; кроме того, здесь наличествует поэтическое понимание «божественного» как наилучшего, прекрасного.
[1508]
См. кн. IV 439с‑d.
[1509]
Об идее блага, воплощенной в творце мира – демиурге – см. «Тимей», 29а. Ср. «Государство», VI 507с, 510а‑511d. Единое «Парменида» есть также не что иное, как высшее благо. Учение Платона о благе
было настолько известно в античности, что вошло даже в поговорку. Диоген Лаэртский приводит слова из комедии Амфиса: «А что касается блага, какое оно… то я знаю о нем не больше, чем я знаю о благе Платона» (фр. 6 Kock).
[1510]
О разных пониманиях блага
см. в «Филебе» (11b), где для одних оно – «радость, наслаждение, удовольствие», а для других – «разумение, мышление, память и то, что сродно с ними: правильное мнение и истинные суждения». По Аристотелю, «люди образуют понятия блага и блаженства сообразно с жизнью, которую они ведут», причем «толпа» видит благо в наслаждении (Eth. Nic. I 3, 1095e 14‑16).
[1511]
В «Филебе» Сократ говорит Протарху, что нельзя верить учению, которое все противоположности приводит к единству (13е‑14а); он имеет здесь в виду обычную софистическую игру словами.
[1512]
О знании
и мнении
см. т. 1, прим. 44 к диалогу «Менон». Весь диалог «Теэтет» посвящен критике сенсуализма как источника ложных мнений.
[1513]
Родитель
: здесь – то высшее благо
, которое в «Тимее» именуется демиургом
(ср. выше, прим. 18).
[1514]
Все предшествующие рассуждения, начиная с 508а, подводят собеседников Сократа к мысли об идее высшего блага, которое ни от чего не зависит, само себя определяет, находясь за пределами бытия (epeceina tкs ousias – 509b), и является не чем иным, как тем беспредпосылочным началом
(archк anypothetos – 510b), которое символически можно выразить в образе Солнца (509а), всё одаряющего, дающего человеку возможность видения мира, но вместе с тем ослепительно недоступного.
Идея Солнца как высшего блага была чрезвычайно симптоматична для кануна эллинизма, каковым явилось время написания «Государства». Поздняя античность видела в Солнце объединяющую и организующую весь мир силу в противовес архаической матери‑Земле и раннеклассическим четырем элементам (вода, воздух, земля, огонь) натурфилософов.
Такую первостепенную роль Солнце получило не сразу. В традиционной генеалогии Гесиода Гея и Уран рождают, среди других своих детей, титанов Гипериона и Фейю (Theog. 132–135), которые, «сочетавшись в любви», в свою очередь рождают Солпце‑Гелиоса, Селену‑Луну и Эос‑Зарю (371–374). У Гомера Гелиос имеет свой остров Тринакию, где пасутся тучные стада быков и овец (Od. XII 380 ел.).
Мифологический Гелиос у досократиков отождествлялся с Зевсом (Ферекид А 9), Гефестом, Аполлоном и огнем (Феаген, 2), прямо именуясь у орфиков Гелиосом‑Огнем (1 В 21). Он – «владыка» у Эмпедокла (31 В 47) и «отец растений» у Анаксагора (59 А 117), хотя тот же Анаксагор видит в Солнце только «огненную массу» (А 1), а Гераклит говорит: «Солнце не преступит положенной ему меры» (22В94). Скромное место Солнца, хотя оно и «бог» (5 В, la), наглядно выступает у пифагорейцев, в космологической системе которых в центре Вселенной находится мировой огонь – Гестия, а Солнце занимает место рядом с Луной и Землей (Филолай А 16).
Объединение Солнца‑Гелиоса с Фебом‑Аполлоном, великим организующим и оформляющим началом, способствовало представлению о Солнце как универсальной мировой силе. Это объединение, начавшееся еще в доклассическую эпоху, превратилось в прямое отождествление в литературе и философии эпохи эллинизма. У стоика Корнута (XXII) Аполлон прежде всего – это Солнце и огонь. Дионисий Галикарнасский тоже прямо отождествляет Аполлона и Солнце (Opusc. II 256, 14‑16). Аполлону‑Солнцу посвящен гимн Месомеда, вольноотпущенника императора Адриана (С. Jan
. Musici scriptores graeci. Lips., 1895, 460–468). Дион Xpисостом (II в. н. э.) говорит, что «некоторые считают одним и тем же Аполлона, Гелиоса и Диониса» (I р. 347, 27 ел.). Но для Плутарха (De Pyth. orac. 12) Аполлон является Солнцем не в буквальном, физическом смысле, но по своим «истечениям и переменам», когда Аполлон одновременно становится всеми стихиями, в том числе и огненной (De E Delph. 21), и утверждается, что «Солнце является его порождением и вечно становящимся произведением всего сущего» (De def. orac. 42). Плутарх, таким образом, впервые делает попытку философски осмыслить принцип, объединяющий Аполлона и Солнце, прокладывая тем самым дорогу неоплатоническому единому
, «формообразующей» монад» Ямвлиха (In Nicom. arithm. introd. 13, 1‑14, 3). У Плотина, как И у Платона, божественное нельзя созерцать физическими глазами, но только внутренним зрением (V 8, 10). Для Порфирия Аполлон – «солнечный ум» (см. Prod. In Plat. Tim. I 159, 26 сл.). Прокл не сомневается в тождестве Аполлона и Солнца (In Tim. Ill 284, 1‑4), причем, по Проклу, аполлоновский свет, проходя через мировой ум
, освещает весь чувственный мир. Наконец, понимание Солнца как максимально универсальной мощной живительной силы, однако не личностной, а физической, нашло свое воплощение в знаменитой речи «К царю Солнцу» неоплатоника Юлиана. Так представление о Солнце как высшей надмировой идее, управляющей Вселенной и ее организующей, укрепилось в поздней античности. Ср. также т. 2, «Теэтет», 153d.
Анализ беспредпосылочного начала
Платона со ссылками на современные философские учения дан в книге А. Ф. Лосева
«История античной эстетики» (М., 1969, стр. 627–634). А. Ф. Лосеву принадлежит также вышеуказанный перевод этого термина.
[1515]
Рассудок
(dianoia) является здесь промежуточной категорией между мнением
(doxa) и умом
(nous), причастными соответственно чувственному и идеальному мирам.
[1516]
Разум
(noesis) и рассудок
(dianoia) относятся Платоном к сфере умопостигаемой, а вера
и уподобление
– к сфере чувственной.
[1517]
Гомер
. Од. XI 490–491. Ср. выше, кн. III, прим. 2.
[1518]
Знаменитый символ пещеры у Платона дает читателю образное понятие о мире высших идей и мире чувственно воспринимаемых вещей, которые суть не что иное, как тени идей, их слабые копии и подобия.
Ограниченность человеческой жизни примитивным существованием выражена Платоном также в «Федоне» (109а‑111d), в мифе о двух Землях – нашей, человеческой, и вышней, небесной, – согласно которому люди обитают в глубоких впадинах, в грязных и изъеденных морской солью расселинах нашей Земли, не догадываясь, что есть истинное небо, истинный свет и истинная Земля.
В греческой философской традиции пещера как символ духовной ослепленности встречается очень редко, и трактовку, которую дает Платон, можно считать оригинальной. Намек на этот символ есть в «Прикованном Прометее» Эсхила, где описывается безрадостная жизнь жалких человеческих существ, которые наподобие «проворных муравьев» обитают в «глубинах бессолнечных пещер» и, «глядя, не видят», «слушая, не слышат», а жизнь их подобна «образам сновидений» (447–453). Видимо, символ пещеры был знаком и пифагорейцам (Porphyr. De antro nymph. 8 Nauck), а также Эмпедоклу, у которого во фрагментах «душеводительные силы» говорят: «Пришли мы в эту закрытую пещеру» (31В120). Ферекид Сирский в своих символах «углублений», «ям», «пещер» и «ворот» намекает на «рождение и умирание души» (7 В 6 D).
[1519]
Об Островах блаженных
, обители героев‑праведников, см. т. 1, прим. 82 к диалогу «Горгий», стр. 573. Геродот указывает, что в Египте, в семи днях пути от Фив через пустыню, есть город Оасис, по‑эллински называемый Островом блаженных.
[1520]
Здесь узники
– сословия земледельцев и ремесленников в противоположность стражам, приобщенным к «свету», т.e. к наукам.
[1521]
О терминах чистый
(catharos), чистота
(catharotкs) и очищение
(catharsis) у Платона см. в кн.: А. Ф. Лосев
. История античной эстетики. М., 1969, стр. 302–310, где рассматривается чистота физическая, чистота ума, души, идей и магический смысл катартики. Самая ценная чистота для Платона – это «чистота узрения предмета мысли, как такового», и она‑то и есть «максимальная красота» всех областей бытия, «начиная от телесных и земных и кончая эфирными и небесными» (там же, стр. 305).
[1522]
Здесь речь идет о роли случая, на основе которого построена игра в камешки, или черепки
. Ср. «Федр», 241b.
[1523]
О Паламеде
см. т. 1, прим. 53 к «Апологии Сократа». Об Агамемноне
см. т. 2, прим. 15 к диалогу «Пир».
Паламед считался изобретателем шашек (игры в кости), алфавита и счета (Aesch., фр. 182; Soph. фр. 438; Eur. фр. 578), хотя Эсхил приписывал изобретение цифр и букв Прометею (Prom. vinct. 459–461).
[1524]
Чувственно воспринимаемая единица
(«одно») всегда включает в себя также и множество (один город – много людей, один человек – много частей тела, одна рука – много пальцев и т. д.). Попытки найти такое одно, которое не предполагает ничего, кроме себя, ведет к мысленному восхождению к беспредпосылочному началу, или Единому
, т.e. наука о числах способствует стремлению к философским размышлениям.
[1525]
Здесь имеется в виду бесконечная делимость конкретного числа, воплощенного в вещах, и неделимость идеального числа.
[1526]
Известно, какое громадное значение Платон придавал геометрии. При входе в Академию была надпись: «Негеометр – да не войдет». В Академию вообще не принимались те, кто был далек от музыки, геометрии и астрономии. Диоген Лаэртский сообщает (IV 10), что глава Академии Ксенократ сказал человеку, не сведущему в вышеуказанных науках: «Иди, у тебя нечем ухватиться за философию». Среди учеников Платона были крупные математики Евдокс и Менехм, а геометр Евклид «был близок платоновской философии» (Prod. in Euclid. 68).
[1527]
Дать задний ход
– метафора от команды моряков.
[1528]
Здесь имеется в виду стереометрия (греч. stereos – твердый), изучающая положение твердых тел в пространстве.
[1529]
Под кубом
понимается здесь любое тело, имеющее три измерения. Сократ говорит, видимо, о задаче «удвоения куба», которой занимались пифагорейцы и разрешение которой с применением не стереометрии, а планиметрии предложил Гиппократ Хиосский (42 В 4 D).
[1530]
Ср. у Эсхила: «ночь в расшитом узорами одеянии» (Prom. vinct. 24 – о ночном звездном небе) или у Эврипида: «узоры звезд» (Неl. 1096).
[1531]
О Дедале
см. т. 1, прим. 10 к диалогу «Ион».
[1532]
Платон связывает между собой астрономию и музыку, так как, согласно учению пифагорейцев, которому он тут следует, движение небесных тел, доступное зрению, создает гармонию сфер, лежащую в основе музыкальной гармонии, доступной человеческому слуху.
[1533]
Здесь критикуется пифагорейское экспериментаторство. Изучением качества звука занимался древний пифагореец Гиппас: он изготовил медные доски и извлекал из них «симфонию звуков» «по причине некоторой соразмерности» (18 А 12 D). Ему принадлежит учение о быстром и медленном движении звуков, которые он наблюдал на сосудах, в разных соотношениях наполненных жидкостью (А 13).
[1534]
Диалектика, по Платону, является единственно правильным и универсальным методом
постижения высшего блага
, так как все науки изучают только чувственно‑вещественное его проявление в осязаемом, видимом мире (см. ниже, 533d).
[1535]
Ср. «Государство», VI 511b‑а.
[1536]
Незрелый разум детей можно, по Платону, сравнить с бессловесностью линий или с величинами, значение которых «неизреченно» или «невыразимо» (arrкtoi, alogoi), т.e. с величинами иррациональными.
[1537]
См. Солон
, фр. 22 D.
[1538]
Ср. эту персонификацию с персонификацией законов и государства в «Критоне» (50a‑54d; см. также т. 1, прим. 12 к диалогу «Критон»).
[1539]
Ср. рассуждение Аристотеля о том, что «молодой человек не пригоден к занятию политической наукой, так как он неопытен в делах житейских». Кроме того, считает Аристотель, он под влиянием аффектов не получит пользу от изучения политических теорий. Людям, подверженным аффектам, познание приносит мало пользы (Eth. Nic. I 1, 1095а 2‑11).
[1540]
См. выше, кн. VII 514а и ниже. Здесь имеется в виду повседневная практическая деятельность философов.
[1541]
Возможно, здесь содержится намек на идеальную жизнь уже за пределами чувственного мира, которая вдохновенно изображена Платоном в «Федоне» и в Х книге «Государства».
[1542]
Схолиаст к данному месту считает это профессиональным выражением борцов, когда результатом борьбы оказывается ничья и надо повторить схватку. Ср. «Федр», 236с; «Законы», 682е.
[1543]
Известны спартано‑критские пристрастия Платона, ощутимо выраженные в «Законах». В Спарте, согласно Платону, устанавливал законы Аполлон, на Крите – Зевс, с которым общался царь Минос, действовавший «сообразно его откровениям» (I 624a‑625а).
Перикл высоко ценил традиционное уважение младшими старших у спартанцев (Xen. Mem. III 5, 15). Аристотель же в «Политике», обсуждая государственный строй Спарты и Крита (II 6‑7), находит в Спарте много недостатков (в том числе свободное положение женщин и несоразмерность владения собственностью), соглашаясь с Платоном лишь в том, что система спартанского законодательства рассчитана «на часть добродетели, именно на добродетель, относящуюся к войне» (1271 b1‑3).
[1544]
Олигархия – «власть немногих». Подробный анализ олигархии дан у Аристотеля в «Политике» (IV 5). Здесь указано, что власть обеспечена высоким имущественным цензом, закрывающим доступ к должностям большинству гражданского населения. Аристотель устанавливает четыре типа олигархии, иной раз приближающейся то к аристократическому, то к династическому наследственному правлению.
[1545]
Демократическая форма правления рассмотрена у Аристотеля («Политика», IV 4) также с подробным анализом пяти ее типов, различающихся по степени осуществления равенства, имущественному цензу и отношению к закону.
[1546]
Аристотель, рассматривая тиранию («Политика», IV 8), выделяет три ее типа. Первые два близки к царской власти, покоясь на законном основании и на добровольном признании со стороны подданных, хотя «власть в них осуществляется деспотически, по произволу тиранов» (1295а 15‑17). Третий вид – тирания по преимуществу – соответствует абсолютной монархии, но возникает «против желания подданных», так как «никто из свободных людей не согласится добровольно подчиняться такого рода власти» (1295а 17‑23). В «Риторике» Аристотель определяет тиранию как «неограниченную (aoristos) монархию» (I 8, 1366а 2).
[1547]
Наследственная власть
, или «династия», – вид правления, по Аристотелю, когда власть переходит по наследству от отца к сыну и господствует не закон, а должностные лица (Polit. IV 5, 1292b 5 сл.).
[1548]
Приобретаемая за деньги царская власть
– это, по Аристотелю, правление наподобие того, что было в Карфагене (Polit. II 8, 1273а 36).
[1549]
К промежуточной форме правления, видимо, относится власть «эсимнетов» (Arist
. Polit. IV 8 1295а 10‑14), как, например, на о. Лесбосе, где такими монархами, избранными пожизненно и обладающими законодательной властью, были Питтак и Мир‑сил.
[1550]
Ср. выше, IV 445с‑d.
[1551]
Ср. т. 1, «Апология Сократа», 34d и прим. 39.
[1552]
Под тимократией
(греч. timк – «честь», «цена», «плата») подразумевается правление, основанное на принципе ценза, обусловленного имущественным положением, как, например, в Афинах до конституции Солона или в Коринфе после падения рода Кипсела.
Аристотель указывает, что из трех видов правления (монархия, аристократия и тимократия) «лучшее – монархия, худшее – тимократия» (Ethic. Nic. VIII 12, 1160a31‑1160b69).
[1553]
Здесь, видимо, намек на «Илиаду» (XVI 112).
[1554]
Пророчество Муз о гибели идеального государства основано на так называемом «Платоновом (или „брачном“) числе». Это загадочное число – обычная для Платона попытка математически осмыслить наилучшие условия для процветания идеального общества, которое строится по типу человеческого организма, в свою очередь являющегося отражением высшего и благого космического ума
. У Платона, испытавшего большое влияние пифагорейцев, познание космоса, общества и человека сопряжено с определенными числовыми соотношениями и обосновывается геометрически. Согласно учению Платона, человеческие порождения, а значит и общество, могут достичь совершенства только при осуществлении равномерной, или «равносторонней», «квадратной» гармонии. «Продолговатые же числа выражают неравномерность, неправильность развития.
Что касается вопроса о конкретном математическом значении «брачного числа», то он вызывал многочисленные дискуссии на протяжении веков и продолжает оставаться спорным. Некоторые комментаторы усматривают здесь связь с периодом (количестве дней) утробного развития ребенка. Подробно относительно всевозможных математических толкований этого места см. в кн.: А. Ф. Лосев
. История античной эстетики. Софисты. Сократ. Платон М., 1969, стр. 319
[1555]
См. Гесиод
. Труды и дни, 109
[1556]
См. выше, III 415a
.
[1557]
Платон рисует здесь образ государства, близкий по своим главным чертам к Спарте V в. до н. э., где была объединена суровая простота военного лагеря с жадным накоплением богатств И небывалой роскошью. О скупости спартанцев читаем в «Андромахе» Еврипида (451) и в «Мире» Аристофана (621), где спартанцы названы «корыстолюбивыми» (aischrocerdeis). Хотя накопление золота н серебра в Спарте формально запрещалось, о больших богатствах спартанцев сообщает Ксенофонт (Rep. Lac. VII b)
О смешанном
виде правления в Спарте Платон упоминает н раз. В «Законах» Мегилл прямо говорит, что не знает, к каком роду следует это правление причислять. То оно «похоже даже на тиранию», а то «на самое демократическое из всех государств»; хотя в нем «странно не признать и аристократию», и «пожизненную царскую власть» (IV 712d‑e).
[1558]
Главкон
, как сообщает Ксенофонт, будучи едва двадцатилетним юношей, хотел «стать во главе государства» и «чувство вал себя великим человеком», слыша иронические похвалы Сократа (Mem. Ill 6, 1‑2); последний в конце концов отговорил его, посоветовав, если он хочет «пользоваться славой и уважение» в городе», стараться добиться «как можно лучшего знания в избранной сфере деятельности» (III 6, 18).
[1559]
Здесь несколько перефразируются слова Этеокла, repot трагедии Эсхила «Семеро против Фив», обратившегося к вестник} с просьбой рассказать «о вождях, поставленных со своими войсками у других ворот» (Aesch. Sept. 451).
[1560]
Здесь имеется в виду бог богатства Плутос, слепой
по своей природе (см. комедию Аристофана «Плутос») и потому несправедливо распределяющий богатство среди людей.
[1561]
См. выше (552с‑d) аналогию с трутнями.
[1562]
Ср. Демосфен
(Olynth. II 21), где проводится аналогия между болезнями тела и государства. Они не замечаются, когда тело здорово или войны происходят с внешними врагами, но тотчас становятся заметными, когда тело заболевает или война происходит внутри государства.
[1563]
Лотофаги
– сказочное племя, употреблявшее в пищу лотос, съев который чужеземцы теряют память и забывают родину (Гомер
. Од. IX 83‑102).
[1564]
Здесь – персонификация, близкая к той, что находим в VII кн. «Государства» (см. прим. 22 к этой книге).
[1565]
Эсхил
, фр. 351 N. – Sn.
[1566]
Схолиаст указывает, что эта пословица имеет в виду «подобие управляемых с управляющими».
[1567]
Аристотель пишет: «Большая часть тиранов вышла, собственно говоря, из демагогов, которые приобрели доверие народа тем, что клеветали па знатных» (Polit. V 8. 1310b 14‑16).
[1568]
Об этом оракуле, данном в Дельфах Крезу, сообщает Геродот (I 55).
[1569]
Гомер
. Ил. XVI 775.
[1570]
Схолиаст приписывает этот стих трагедии Софокла «Аякс Локрский» (фр. 13 N. – Sn.). У Эврипида, как указывает схолиаст, тоже есть такой стих.
[1571]
Ср. Эврипид
. Троянки, 1169.
[1572]
О
понятии «калокагатии» (ближе всего переводится как достоинство
) в Древней Греции см. А. Ф. Лосев
. Классическая калокагатия и ее типы (сб. «Вопросы эстетики», № 3. М., 1950). где платоновская «калокагатия» определяется (по «Тимею», 87с‑89d) как «соразмерность души, соразмерность тела и соразмерность того и другого» (указ. соч., стр. 457).
В «Государстве» (III 401d‑e) это понятие выражено через учение о «симметрии» души, переходящей в «симметрию» жизни И поступков; тем самым устанавливается связь с ритмом, гармонией и музыкой, «проявляющимися внутри человека и вовне, в его суждениях и поступках» (указ. соч., стр. 459).
[1573]
Соответствует русской пословице: «Из огня да в полымя».
[1574]
Об Эроте см. т. 2, прим. 25 к диалогу «Пир».
[1575]
Схолиаст к данному месту поясняет, что это поговорка о тех, кто, не зная ответа сам, ищет его у своего собеседника, задавшего вопрос.
[1576]
Эта характеристика сына, воспитанного в стремлении к тирании, имеет великолепную комедийную параллель в «Облаках» Аристофана, где также показан процесс формирования будущего демагога, для которого нет ничего святого и который готов поднять руку на собственных родителей. См. особенно спор Правды и Кривды (ст. 889–1104) и конец комедии, где сын, презирая отца, бьет его и еще ловко доказывает, что бьет его «по справедливости», а отец в отчаянии бранит его «отцеубийцей», «мошенником» и «нечестивцем» (1325–1335), в ответ на что сын обещает избить также еще и мать (1444). Сын – Фидиппид – обучается философии жизни в школе, якобы возглавляемой Сократом. Известно, что враги Сократа распространяли слухи о его влиянии на Алкивиада, стремившегося к тирании, и Крития – одного из Тридцати тиранов, которые как раз очень рано отошли от Сократа, не найдя в его учении подходящей для себя почвы.
[1577]
«Родина
‑мать
»: лексикограф Фотий (v. metrida) поясняет, что «Платон и комик Ферекрат употребляют это слово в значении отечество
».
[1578]
Хор в античном театре обычно олицетворял собою народную мудрость и давал оценку всему происходящему.
[1579]
О тройственном составе человеческой души см. вып кн. IV, 439b‑441а и прим. 19.
[1580]
Сократ показал, во‑первых, рабское состояние города, не павшего под власть тирана, и жалкую жизнь самого тирана, запуганного своей же властью (577с‑580с); во‑вторых, что философ обладает тем высоким удовольствием, которое соответствует разумной части души (580d‑583а); наконец, в‑третьих, он собирается доказать, что удовольствие других людей – только тень истинного, чистого удовольствия, доступного философу.
Метафора здесь взята от пиршественных возлияний; ср. выше, прим. 59 к диалогу «Филеб».
[1581]
Об удовольствиях от запахов см. также «Филеб», прим 46.
[1582]
Подобный же образ есть в «Горгии» (493b), где люди, не просвещенные разумом, разнузданные и алчные, сравнивают с дырявой бочкой.
[1583]
О Стесихоре
и его палинодии Елене см. также т. 2, прим. 25 к диалогу «Федр».
[1584]
Платон, как это для него чрезвычайно характерно, очень часто передает моральные качества и состояние человека посредством геометрических фигур, требующих простейших арифметических расчетов. Здесь перед нами Сократ рисует разные форм правления и типы удовольствий, которыми обладает тот или иной правитель, причем выясняется, насколько подлинное удовольствие царя превышает так называемое удовольствие тирана. Счастье тирана есть лишь тень тени истинного счастья и может быт выражено только квадратом, сторона которого равна 9, а площадь – числу 81. Однако, чтобы выразить всю глубину падения тирана или, что то же самое, всю глубину царственного удовольствия, необходимо создание тела с тремя измерениями, т.e. куб (9 х 9 х 9 = 729).
Итак, мы имеем следующие пропорции: 9: 81: 729. Царственное счастье, следовательно, в 729 раз превосходит удовольствие тирана. Это число, по Платону, соответствует сумме чисел дней и ночей в году: 364 1/2 + 364 1/2 (ср. Филолай
, 44 А 22). Но это же число выражает так называемый большой год, согласно пифагорейцу Филолаю (см. там же), состоящий из 59 лет и 21 добавочного месяца, что всего составляет 729 месяцев; возможно, здесь имеется в виду именно этот большой год.
Что касается жизней
, то, может быть, жизнь царя равна числу 729, разделенному на 12 месяцев, т.e. приблизительно 67 годам, что превышает обычно отмеряемые античностью годы полной жизни – 60 лет.
[1585]
Намек на Фрасимаха, который в кн. I (343d‑344с) доказывал, что несправедливость сильнее и могущественнее справедливости и приносит человеку больше пользы, чем последняя.
[1586]
Химера
, Скилла
, Кербер
– мифологические чудовища. Химера
– существо с телом дракона и головой льва. Скилла
– чудовище с шестью собачьими головами, обитающее в пещере над морем и пожирающее мореходов пастью с тремя рядами зубов. Кербер
– пес с 50 головами, рожденный Ехидной и Тифоном. У римских авторов Вергилия (Aen VI 417–423) и Овидия (Met. IV 449 сл.) Кербер с тремя головами и змеиным хвостом. Он стережет вход в Аид.
[1587]
Ср. Данте
. Вступление к «Божественной Комедии», где говорится об одном из трех страшных грехов, воплощенном в образе рыси «в ярких пятнах пестрого узора».
[1588]
Эрифила
– мать Алкмеона и супруга Амфиарая, не желавшего по своему благочестию выступить в поход против Фив. Она выдала своего мужа, соблазнившись драгоценным ожерельем (Гомер
. Од. XI 326 сл.).
[1589]
См. выше, кн. I 343а‑b.
[1590]
В «Законах» все виды общества объявляются Платоном лишь «сожительством граждан, где одна часть владычествует, а другая рабски повинуется», а не подлинным «государственным устройством». Подлинному государству «надо было бы дать название по имени бога, истинного владыки разумных людей» (IV 713а). Таковым, по древнему мифу, было государство при самом Кроносе. Но царство Кроноса – это «золотой век» (ср. Hes. Орр. 109–126), когда правят не цари, а существа божественного рода, демоны (гении) («Законы», 713b‑с). Для трех собеседников в «Законах» естественно строить идеальное государство по подобию божьему.
[1591]
Гомер
рисуется основателем «подражательной» (драматической) поэзии не только у Платона (ср. «Теэтет», 152е, где величайшим в трагедии поэтом назван Гомер), но и у Аристотеля, который писал: «Гомер был величайшим поэтом, потому что он не только хорошо слагал стихи, но и создавал драматическое изображение» (Poet. 4, 1448b 34 сл.).
[1592]
Живописец, по мнению Сократа, наиболее далек от истинной идеи вещи, так как он подражатель третьей степени, подражающий плотнику, сделавшему скамью по образцу идеи. Замечательно, что идея скамьи есть нечто существенно отличное от того, что кажется подражающему ей художнику. Художник подражает не самой идее скамьи, а только ее различным видимым глазу воплощениям, и тем самым он далеко отстает от истины и от «царя», т.e., по Платону, от устроителя и создателя космоса – демиурга.
О подражании («мимесисе») см. выше, прим. 41 к кн. III.
[1593]
Об Асклепии
см. т. 1, прим. 2 к диалогу «Ион», и выше, прим. 73 к кн. III.
[1594]
Харонд
– см. т. 1, прим. 55 к диалогу «Протагор». Солон
– см. вводные замечания (стр. 661) и прим. 11 к диалогу «Тимей», а также т. 1, прим. 55 к диалогу «Протагор».
[1595]
Фалес
– см. т. 1, прим. 2 к диалогу «Гиппий больший». Анахарсис
– легендарный скиф, прославившийся во время путешествия в Грецию своей мудростью и под влиянием Солона посвятивший себя философии. О нем сообщает Геродот (Геродот
, IV 76).
[1596]
Пифагор (VI в. до н. э.) из г. Регия (Юж. Италия) – древнегреческий философ, с именем которого связано много легендарных мотивов. После многочисленных путешествий на Восток поселился на юге Италии, в Кротоне, где основал школу, в которой особое внимание уделялось математическим наукам и аскетическим упражнениям.
[1597]
Схолиаст к данному месту сообщает, что Креофил с острова Хиос был женат на дочери Гомера, получил от последнего в дар «Илиаду» и принял поэта в свой дом. Страбон (XIV I, 18) говорит, что самосец Креофил, оказав Гомеру гостеприимство, получил от него поэму «Взятие Эхалии» с разрешением считать ее своею. Судя же по эпиграмме Каллимаха, приводимой Страбоном,; эта поэма принадлежала самому Креофилу, которого даже считали учителем Гомера. Павсаний упоминает Креофила как автора «Гераклеи» (IV 2, 2).
Имя Креофил
означает, возможно, «порождение мяса» или «из рода [породы] мяса» (creas – «мясо», phyle – «род»).
[1598]
Протагор
– см. т. 1, вводные замечания к диалогу «Протагор», стр. 543.
Продик
– см. т. 1, прим. 13 к «Апологии Сократа». Ср. «Протагор», 318а, где Протагор неумеренно восхваляет пользу, которую он приносит ученикам.
Комментатор Aст со ссылкой на Эразма Роттердамского объясняет приведенную здесь пословицу от греческого обычая носить детей в корзине на голове. Выражение это встречается у Фемистия (Orat. XXI р. 254а) и Диона Хризостома (IX р. 141а).
[1599]
Гесиод
– см. т. 1, прим. 52а к «Апологии Сократа».
[1600]
Поэт, по мнению Сократа и Платона, стоит, как и живописец, слишком далеко от образца, которому подражает, являясь подражателем третьей степени, в то время как музыкант‑флейтист знает о пользе своего искусства, т.e. он гораздо ближе к истинному пониманию образца, чем поэт‑подражатель.
[1601]
Здесь имеется в виду закон перспективы.
[1602]
В «Законах» Платон пишет о том, что «поэты стали сравнивать философов с собаками‑пустолайками», когда эти последние пытались доказать стройность всех небесных явлений, основанных на действии разума (XII 967b‑с). В речи Сократа на суде тоже приводится пример аристофановской критики софистов, Сократа, Анаксагора. См. т. 1, прим. 9 к «Апологии Сократа».
[1603]
По поводу «лающей собаки» ср. прим. 12.
[1604]
Ср. «Федон» (107с), где Платон соотносит краткость «нынешнего времени, которое мы называем своей жизнью», со «всеми временами», т.e. вечностью.
[1605]
Здесь повторяется третий аргумент о бессмертии души, данный в «Федоне» (78b‑81а) при установлении самотождества идеи души.
[1606]
Морское божество Главк
, согласно мифам, был некогда рыбаком, а затем, отведав волшебной травы, получил бессмертие и бросился в море, где Океан и Тефия сделали его богом.
[1607]
По Платону, душа, отягченная злом, теряет свои крылья и получает земное тело («Федр», 246с‑e). В «Федоне» такая душа так же отличается от справедливой души, как истинные небо и занебесная Земля от нашей Земли (109b‑111с).
[1608]
О перстне Гига
см. выше, кн. II, прим. 3. О шлеме Аида
см. т. 1, прим. 46 к диалогу «Горгий» (стр. 567).
[1609]
Буквально в тексте стоит «повесив уши»: плохой бегун метафорически понимается как лошадь или собака, опускающие уши от усталости.
[1610]
Рассказ Одиссея о его странствиях на пиру у царя Алкиноя
(Гомер
. Од. IX–XII) длился в течение трех дней.
Имя памфилийца Эра
трактуется различно. В лексиконе Суды (v. кr) это «собственное еврейское имя». В Евангелии от Луки (3, 28) Эр
– предок Иосифа‑плотника. Климент Александрийский отождествляет его с Зороастром, сыном Армения, памфилийцем (Stromat. V, гл. XIV, 103, 2‑4, St‑Frucht).
[1611]
О загробном пребывании Эра рассказывает также Плутарх, называя, правда, его сыном Гармония (Quaest. Conv. X 740). Подобные рассказы встречаются у Оригена как аргументация воскресения Христа перед неверующими (Contr. Gels. II 16), а также у Макробия (Somn. Scip. I 1, 9 Will.).
[1612]
Две расселины, или два «устья» (см. 615d), упоминаются у Плутарха в рассказе о круговороте душ, оплакивающих свой жребий (De genio Socrat. 591с), и у Порфирия (De antro nymph. 29, 31).
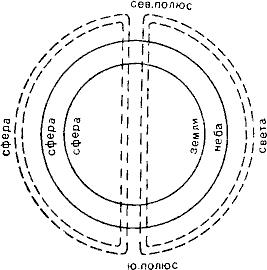
Рис. 1
[1613]
Ср. судьбу грешников в аду Данте («Божественная комедия»), где черти бросают их вилами в кипящую смолу («Ад», п. 21‑22).
[1614]
Световая сфера связует землю и небо наподобие обшивки корабля и пронизывает небо и землю насквозь в виде светящегося столпа в направлении мировой оси, концы которой совпадают с полюсами (см. рис. 1).
[1615]
Веретено Ананки (Необходимости) находится в центре светящегося столпа и привязано к концам небесных связей, причем ось веретена есть не что иное, как мировая ось, а вал (или «пятка») устроен наподобие полушария или усеченного конуса, включающего в себя семь других полушарий, образующих с первым восемь небесных сфер (см. рис. 2 и 2а). Ананка вращает это веретено между своими коленями.
Восемь небесных (или планетных) сфер имеют различную величину поверхностей, образующих определенную пропорцию. Первая, внешняя, сфера, заключающая в себе все остальные, – самая большая и является небом неподвижных звезд (см. также прим. 48 к диалогу «Тимей» и рис. 1).

Рис. 2.
Античное веретено, которому соответствует форма веретена Ананки. АВ – ось веретена; С – вал
[1616]
Цвета сфер соответствуют цвету самих планет. Сфера неподвижных звезд самая пестрая, так как передается всеми оттенками составляющих ее светил, седьмая сфера – солнечная – самая яркая, восьмая – Луна и Земля – сияет отраженным светом Солнца; вторая – Сатурн – и пятая – Меркурий – золотисто‑желтоваты; третья – Юпитер – раскалена до белизны, четвертая – Марс – пылает красным цветом; шестая – Венера – яркой белизны. Подробности см. в прим. 52 к диалогу «Тимей», где даются объяснения цветовой значимости планет.
[1617]
О вращении небесных сфер см. «Тимей», 38b‑с.
[1618]
Интервалы между восемью сферами составляют октаву, или гармонию, так что весь платоновский космос звучит, как хорошо настроенный инструмент, тем более что на каждой сфере сидит сирена и поет в определенной тональности. См. также «Тимей», прим. 48.
[1619]
О Необходимости – Ананке
– и ее ипостасях, а также о трех Мойрах
см. т. 1, прим. 82 к диалогу «Горгий» (стр. 575). Имена этих вершительниц судьбы человека означают: Лахесис
– «дающая жребий» (lagchano – «получать по жребию»); Клото
– «пряха», «прядущая нить человеческого жребия» (clotho – «прясть»); Атропос
– «неизменная», «неколебимая» (букв.: «та, которая не поворачивает назад»). Таким образом, первая Мойра вынимает жребий для человека в прошлом, вторая прядет его настоящую жизнь, а третья неотвратимо приближает будущее. Соответственно Клото – настоящее
– ведает внешним кругом неподвижных звезд; Атропос – будущее
– ведает подвижными планетами внутренних сфер; Лахесис, как определяющая жребий, объединяет оба типа движения.
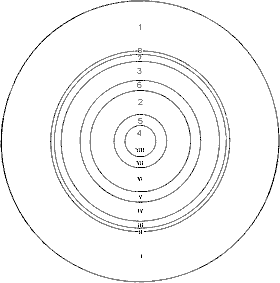
Рис. 2а.
Вид веретена Ананки сверху. Римские цифры обозначают порядок сфер. Арабские – соотношение их поверхностей
[1620]
Здесь речь идет о гении
(«демоне») человеческой души, доброй или злой. У Горация читаем о гении, направляющем с самого рождения звезду человека и умирающем с каждым из людей, «то светлым, то мрачным» (Epist. II 2, 187–189). Гений этот заботится о краткотечной человеческой жизни (Epist. II 1, 143 сл.). Пиндар (01. XIII 105) вспоминает о «демоне рождения» и борьбе в человек двух демонов – доброго и злого (Pyth. Ill 34). Ср. «Федон» (107d) – о гении, или «демоне», достающемся человеку при жизни и сопутствующем ему в смерти. Важно отметить мысль Платона о выборе гения самим человеком, что свидетельствует о свободе воли. См. также А. Ф. Лосев
. Античная мифология в ее историческом развитии. М., 1957, стр. 55–60.
[1621]
Орфей
– см. выше, прим. 16 к кн. II.
[1622]
Фамира
– см. т. 1, прим. 11 к диалогу «Ион».
[1623]
После гибели Ахилла его оружие присудили не храбрейшему греку Аяксу
, сыну Теламона
, а «хитроумному» Одиссею. Этому сюжету посвящена трагедия Софокла «Аякс‑биченосец».
[1624]
Агамемнон
– см. т. 1, прим. 20 к диалогу «Кратил».
[1625]
Аталанта
. – дочь Иаситна и Климены – дева‑охотница из Аркадии, участвовавшая в Калидонской охоте и получившая из рук Мелеагра голову убитого вепря.
[1626]
Эпей
– см. т. 1, прим. 10 к диалогу «Ион».
[1627]
Ферсит
– см. т. 1, прим. 89 к диалогу «Горгий».
[1628]
Одиссей
– см. т. 1, прим. 54 к «Апологии Сократа».
[1629]
Лета
– река забвения в царстве мертвых, испив которую души умерших забывали свою земную жизнь. О «долине Леты» упоминает Аристофан (Ran. 186).
[1630]
Река Амелет
– т.e. «уносящая заботы», «беззаботная». Ср. у Вергилия (Аеп. VI 714 сл.), где души умерших «у волн реки Леты пьют беззаботные струи и долгое забвение», т.e. Лета п Амелет здесь отождествляются, так как забвение дает полное отсутствие заботы.
В этих образах Леты и реки Амелет есть отзвуки преданий о воде Мнемосины, т.e. памяти, с одной стороны, и Леты, т. e. забвения, с другой. Павсаний пишет о прорицалище Трофония в Лебадее, где паломник пьет сначала воду из источника Леты, чтоб забыть о заботах и волнениях, а затем из источника памяти, чтобы запомнить все, что он видел в пещере Трофония (IX 39, 8). О реках Аида см. «Федон», 113а‑d.
[1631]
История загробного существования души, ее странствий и перевоплощений подробно освещена с учетом других сочинений Платона в т. 1, прим. 82 к диалогу «Горгий».
[1632]
Сократ призывает своих собеседников стремиться вверх, т.e. восходить к высшему благу
(см. также т. 2, «Федр», 256b‑257а и прим. 40, 41 к тому же диалогу).
[1633]
Сократ напоминает о разделении общества на сословия
в идеальном государстве, о чем шла речь в беседе, состоявшейся два дня назад (Государство II 369а – 374е).
[1634]
Ср.: Государство II 375с, 376с.
[1635]
О воспитании
в идеальном обществе см.: Государство II 376е – 379а, о мусическом воспитании
– III 398с – 403с. См. также: Критон, прим. 13.
[1636]
См.: Государство III 415d – 417b.
[1637]
См. там же, V 451с – 457е.
[1638]
См. там же, V 457d – 461а.
[1639]
О браке по жребию
см. там же, V 460а.
[1640]
См. там же, III 415bc, V 460cd.
[1641]
См.: Апология Сократа, прим. 9; Феаг, прим. 4.
[1642]
Локры Италийские
славились своим законодательством, установленным Залевком, учеником Пифагора (см.: Законы I 638а), в VII в. Залевк и Харонд, согласно Диодору (XII, 11‑19 // Diodori bibliotheca historica / Ed. Vogel – Fischer. Vol. I. Lipsiae, 1893), считались идеальными законодателями в городах Сицилии и Юж. Италии. В италийских городах пифагорейского союза законодателями и политиками часто были философы, например Пифагор, Филолай, Архит, и их ученики. Тимей тоже, как известно, занимал высокую государственную должность.
[1643]
О семи мудрецах
и Солоне
см.: Гиппий больший, прим. 2.
[1644]
Аристотель в «Риторике» (I 15, 1375b 32‑34) пишет об элегиях Солона, обращенных к Критию. Полулегендарная‑полуисторическая родословная Крития и Платона (по схолиям к «Тимею», Диогену Лаэрцию, Плутарху и Проклу) может быть представлена следующим образом: родоначальником являлся морской бог Посейдон, отец фессалийца Нелея, правнуком которого считался последний афинский царь Кодр. Солон и Дропид были потомками Кодра, а Критий‑старший – сыном Дропида; Критий‑младший был внуком Дропида, а Платон – его правнуком. См. также: Хармид, прим. 16.
[1645]
Имеется в виду Афина.
[1646]
Если следовать исторической хронологии, то 90‑летний Критий рассказывал это предание своему 10‑летнему внуку, тоже Критию, приблизительно около 505–510 гг.
[1647]
Третий день праздника Апатурий
(27‑29‑го числа месяца Пианепсиона – октябрь – ноябрь) назывался Куреотис,
так как мальчики и девочки (κούροι и κόραι) в этот день принимались в члены отцовской фратрии; может быть, однако, и потому, что мальчики в этот день приносили в жертву богам прядь своих волос (κουρά – стрижка). Этимология слова «апатурий» неясна. Возможно, оно означает «совместный, общий праздник отцов фратрии» (όμος – общий, πατήρ – отец).
[1648]
Фратрия
– совокупность нескольких родов. Несколько фратрий составляли филу.
[1649]
О путешествии Солона в Египет и философских беседах со жрецами из Гелиополя и Санса сообщает Плутарх (Солон XXVI). Смуты,
упоминаемые здесь, видимо, начались после отъезда Солона из Афин в 571 г., когда его младший родственник Писистрат пытался установить тиранию, и длились несколько лет.
[1650]
Город Саис,
славившийся своими мудрецами, назван по имени первого царя – Саиса из племени финикийцев; ном
– область. Амасис
из рода простых саисских граждан был провозглашен царем мятежниками, убившими с его согласия законного правителя, внука Псамметиха Априю. Амасис и Априя похоронены в Саисском храме (Геродот
II 161–163, 169). О царствовании Амасиса как времени изобилия, роскоши и строительства богатейших храмов см.: Геродот II 172–182.
[1651]
Саисский храм Афины,
или богини Нейт,
славился гробницей божества, которое Геродот, как он пишет, назвать по имени считает грехом (II 170). Цицерон перечисляет пять Минерв, т. е. Афин, и среди них ту, которую египтяне почитают в Саисе, родом с Нила (0 природе богов III 23, 59). Плутарх (De Iside et Osiride 9) пишет о Саисском храме Афины, «которую называют Изидой» и статуя которой имеет надпись: «Я есмь все бывшее, сущее и будущее, и никто из смертных еще не снял моего покрывала». Саисской богине посвящено знаменитое стихотворение Шиллера «Саисское изваяние под покрывалом». Некий юноша – искатель истины, сорвав покров со статуи богини, пал наземь полумертвым:
О том, что видел он и что узнал,
Он не поведал никому. Навеки
Он разучился радоваться жизни,
Терзаемый какой‑то тайной мукой,
Сошел он скоро в раннюю могилу.
Шиллер Ф.
(Собр. соч. М., 1955. Т. 1. С. 196 сл.)
Египтяне считали себя родственниками греков, так как, согласно мифам, потомки Зевса и Ио были братья Египет и Данай, сыновья и дочери которых насильственно должны были вступить в брак (Эсхил.
Прометей прикованный 846–869). См. также: Менексен, прим. 45.
[1652]
Фороней,
согласно мифам, сын аргосского царя Инаха и океаниды Мелии (Аполлодор
II 1, 1); по мнению Павсания (II 15, 6), он «первый соединил людей в общество, а до тех пор они жили разобщенно, каждый сам по себе. И то место, где они впервые собрались,
было названо городом Форониконом». Правда, страна Форонея затем была, согласно Павсанию (II 16, 1), названа уже по имени его внука Аргоса. Ниоба
– здесь дочь Форонея от нимфы Теледики (Аполлодор II 1, 1) и первая смертная супруга Зевса, родившая от него сыновей Аргоса и Пеласга (там же II 1, 2 = Α fr. 25 FGH; см. также: Государство II, прим. 35), Девкалион,
сын Прометея и Климены, и его жена Пирра
были единственной парой людей, спасшейся от потопа,
посланного Зевсом на преступный человеческий род (Овидий.
Метаморфозы I 246–380). Из камней, брошенных Девкалионом и Пиррой, на земле вновь появились люди (там же, 381–415). Девкалион и Пирра являются родоначальниками нового поколения людей – эллинов, названных так по имени их сына Эллина и сменивших более древних потомков Форонея и его внука Пеласга – пеласгов. Фукидид, указывая на разобщенность греков до Троянской войны, справедливо замечает (I 2, 3), что «Эллада во всей совокупности и не носила еще этого имени», что «такого обозначения ее вовсе и не существовало раньше Эллина, сына Девкалиона, но что название ей давали по своим именам отдельные племена, преимущественно пеласги».
Идея смены поколений и племен Древней Греции мифологически нашла свое отражение в мифах о потопе, трижды опустошавшем страну. Согласно схолиасту, первый потоп произошел при аттическом царе Огиге, второй – при Девкалионе и третий – при царе Дардане. Мифам о потопе с особой разработкой истории Девкалиона посвящена книга: Usener H.
Die Sintfluthsagen. Bonn, 1899. Древность пеласгов как догреческого этнического субстрата засвидетельствована современной наукой, хотя иногда их влияние чрезмерно преувеличивается (см., например, Windekens V.
Le Pelasgique. Louvain, 1952, а также этимологические исследования А. Карнуа (Carnoy)).
[1653]
Плутарх сообщает (Солон XXVI), что Солон беседовал в Гелиополе с Псенофисом, а в Саисе – с Сонхисом – «самыми учеными жрецами».
[1654]
Историю Фаэтона, сына Гелиоса
и Климены, см. в «Метаморфозах» Овидия (II 1‑328). Прагматическое толкование этого мифа египетским жрецом (см. ниже, 22de) несколько напоминает ранних античных логографов (Гекатей, Эфор) и как бы предваряет собой широко распространенный в поздней античности так называемый евгемеризм (например, у историка Диодора Сицилийского, I в.), получивший свое название от историка Евгемера, возведшего в принцип истолкование мифов как чисто исторических фактов.
[1655]
Принято улучшение текста Дж. Кука Уилсона (J. Cook Wilson). О неизбежности мировых катастроф и гибели в связи с этим культурных традиций, ремесел и наук (22с) Платон пишет также в «Законах» (III 676а – 678b).
[1656]
Имеется в виду Афина (см. прим. 19).
[1657]
Один из первых царей Аттики, Эрихтоний, родился (по рассказу мифографа Гигина) от семени бога Гефеста,
упавшего на землю (Гею),
когда этот бог безуспешно домогался Афины. Весь нижеследующий рассказ египетского жреца имеет в виду историю основания Афин богиней Афиной и ее покровительство Аттике. См. также: Менексен, прим. 45.
[1658]
Египет считался в древности частью Азии.
[1659]
Геракловы столпы
– Гибралтар.
[1660]
Так древние называли Африку.
[1661]
Тиррения,
или Этрурия, – область в Средней Италии, у побережья Тирренского моря.
[1662]
Трофеи
воздвигались из отнятого у врага оружия (см., например: Плутарх.
Аристид XX).
[1663]
Атлантида
– легендарная страна, главным источником сведений о которой являются два диалога Платона – «Тимей» и «Критий». Существование этого богатого и цветущего государства, а также его исчезновение в связи с мощной геологической катастрофой были предметом споров еще со времен античности. Среди античных авторов были скептики, например известный историк и географ Страбон, критиковавший философа Посидония за его мнение, что «история об острове Атлантида, возможно, не является выдумкой» (II 3, 6). Плиний Старший в своей «Естественной истории» упоминает среди земель, погруженных в море, «огромное пространство» Атлантиды, «если верить Платону» (II 92). Неоплатоник Лонгин (III в. н. э.) не считал этот рассказ у Платона излишним, но признавал его лишь в качестве некоего, мы бы сказали, литературного отступления, или обрамления (Procl in Tim. 204, 18‑24), хотя неоплатоники Порфирий и Ямвлих видели в изложении Платона полное единство с намерением всего диалога (Ibid. 24‑29). Среди платоников и неоплатоников стало традицией признавать достоверность истории, созданной основателем Академии, причем достоверность,' имеющую глубокий символическо‑философский смысл. Непосредственный ученик Платона и комментатор «Тимея» Крантор принимал рассказ Платона об Атлантиде за подлинный факт истории (Ibid. 75, 30‑76, 2). Для самого Прокла является вполне достоверным рассказ некоего безвестного Маркелла (которого, впрочем, Прокл, может быть, путает с современным ему географом Маркианом из Гераклеи Понтийской) в сочинении «Эфиопики» о громадном острове, некогда существовавшем в Атлантике, посвященном Посейдону и сохранившемся в памяти жителей другого большого острова в океане, также связанного с именем Посейдона (Ibid. 177, 10‑21). Другие неоплатоники, не отрицая исторического факта существования Атлантиды, видят в этом рассказе «образы» противоположностей, предсуществовавших «во всем», в универсуме (имеется в виду борьба афинян и атлантов).
Сведения о спорах вокруг Атлантиды в средние века и до начала XIX в. см. в кн.: Martin Η.
Etudes sur le Timee de Platon. Paris, 1841. T. 1. P. 257–333. Новейшие зарубежные работы об Атлантиде: Silbermann О.
Un continent perdu. L'Atlantide. Paris, 1930; Saint‑Mighel L.
Aux sources de l'Atlantide Etat actuel de la question atlaneene avec la traduction des textes platoniciens. Bourges, 1953; Sprague de Camp L.
Lost continent. The Atlantis theme in history science and literature. New York, 1954; Галанопулос А. Г., Бэкон Э.
Атлантида. За легендой – истина. М., 1983.
[1664]
О большом количестве ила
по ту сторону Геракловых столпов сообщает Аристотель (Метеорологика I 354а 22), а также Теофраст (Hist. plant. IV 6, 4 // Theophrasti opera… / Ed. F. Wimrner. T. I–III. Lipsiae, 1854–1862. T. I).
[1665]
Здесь имеются в виду идеи, изложенные в диалоге «Государство».
[1666]
Для Платона космос
– это прежде всего вращающееся небо
(см. преамбулу, с. 605). По традиции пифагорейцев, космос означает не только небо, но вообще Вселенную. Гераклитовский космос – это «мировой порядок», «тождественный для всех» (В 30), причем в отличие от Платона этот мировой порядок «не создал никто ни из богов, ни из людей» (там же). Об истории термина «космос» см.: Cron Chr.
Zu Heraclitus («Philologus». 1899. Ν 47. S. 209–234, 400–425, 599–617), а также: Kerschensteiner J.
Kosmos. München, 1962, хотя в этих работах делается основной упор на досократиков. Сравнение платоновского космоса с космосом атомистов и пифагорейцев дано В. Кранцем (Kranz W.
Kosmos. Bonn, 1958. S. 43‑54). История космоса как макрокосма в его взаимоотношении с человеком как микрокосмом представлена у В. Шадевальдта (Schadewaldt W.
Das Welt‑Modell der Griechen: Neue Bundschau. 1957. N 68 = Schadewaldt W.
Hellas und Hesperien. Zürich, 1960. S. 426–450).
[1667]
Творец
(ποιητής) и родитель
(πατήρ) – наименования, характерные для античного мышления, начиная с грубой архаической мифологии и кончая утонченными формами поздней философии. Творец в своем прямом, первоначальном значении – это «делатель» вообще (ποιέω – «делаю»), и в этом смысле он равнозначен демиургу
(«ремесленнику», «мастеру», «строителю»), причем функции его распространяются на самые широкие сферы труда, ремесла, поэзии, искусства, науки, прорицания, жречества и т. д. и никогда не ограничиваются узкорелигиозной теорией и практикой.
[1668]
Для Платона несомненна истинность
вечного бытия
и его познания, что противопоставляется текучему и смутному рождению,
принятому на веру.
[1669]
Ср.: Государство VII 531d.
[1670]
Здесь чувствуется принципиальное отличие доброго (благого)
демиурга у Платона от богов архаической мифологии и примитивной веры. Эти боги апеллируют к силе, страху и ужасу, будучи и сами ужасными, страшными. Таковы не только все чудовища теогонического процесса, как, например, сторукие киклопы, титаны, Тифон, потомство Тифона и Ехидны (Гесиод.
Теогония 139–156, 233–239, 270–336, 820–835) и т. д., но и обобщенно‑символические образы Силы, Ужаса, Страха, Раздора, Обмана, Мести, свидетельствующие о постепенной трансформации мифологического восприятия ужасов жизни древнего человека в абстрактные понятия.
[1671]
Ср. учение Анаксагора об упорядочивающем все Уме. См.: Горгий, прим. 18.
[1672]
Учение о мире чувственном и мире мыслимом находим уже у досократиков, которые признавали истинно сущее, умопостигаемое, и мнимо существующее, чувственное (28 В 1 Diels). См.: Парменид, прим. 11 и 27. Анаксагор тоже предполагал «некоторое двойное устроение мира, одно – умственное, другое – чувственно воспринимаемое, отдельное от первого» (В 14 Diels).
[1673]
Единство мира, несмотря на его видимое разнообразие, о котором говорит Тимей, издавна нашло свое выражение в учении элеатов о Едином: у Парменида («умопостигаемое, единое бытие и множество вещей», 28 А 24 Diels), у Мелисса («существует только единое», В 8 Diels) и у Зенона («сущее не может быть множественным, вследствие того что в сущем вовсе нет единицы, множество же есть совокупность единиц» (А21 Diels). См. также: Теэтет, прим. 48; Софист, прим. 24.
[1674]
Огонь
и земля
(согласно Платону, «основные роды») – «элементы», «начала», типичные для учений античных натурфилософов. Отметим, что, по Платону, сущностью огня является не столько его физическая природа, сколько его зрительная предметность, так же как для земли характерна осязаемая предметность. О разных соотношениях «начал» бытия см.: Софист, прим. 23. См. также: Лосев А. Ф.
Эстетический смысл греческих натурфилософских понятий периода ранней классики. Киев, 1966 (Тезисы доклада на III Всесоюзной конференции по классической филологии). Четыре «элемента» в раннеклассической натурфилософии также рассмотрены у А. Ф. Лосева (Лексика древнегреческого учения об элементах // Вопросы филологии. М., 1969).
[1675]
Взаимоотношения элементов, которые устанавливаются здесь Платоном, являются не чем иным, как геометрическими пропорциями. Платоновское учение о пропорциях всегда имеет телесно‑материальную основу (в данном случае – тело космоса), т. е. базируется на отождествлении геометрического и физического тела. Для геометрической пропорции между плоскими фигурами («без глубины») достаточно одинаковых средних членов, а трехмерные тела нуждаются в двух разных средних членах. О геометрическом строении космоса см. в кн.: Лосев А. Ф.
История античной эстетики. Софисты. Сократ. Платон. С. 615–620.
[1676]
Сферическое тело, согласно античным мыслителям, всегда наиболее совершенно. Поэтому у Ксенофана божество шарообразно, а Демокрит считает, что «бог есть ум в шарообразном огне"» шарообразны земля у Анаксимандра и космос пифагорейцев; частицы Левкиппа, более плотные по своему составу, образуют «некоторое шарообразное соединение» или «систему» (А 1, 74; В la Diels).
[1677]
Платоновский самодовлеющий
(αυτάρκης) космос в виде живого организма (32d – 34а) близок по своей структуре и замыслу пифагорейскому космосу, тоже состоящему из соотношения четырех элементов – огня, воды, земли и воздуха. Этот космос – одушевленный (εμψυχον), умный (νοητόν), сферический (σφαιροειδης) (58 В la Diels), а значит, и совершенный. «Самодовление» как термин у досократиков в философском смысле встречается лишь однажды – у Демокрита, который называет самодовлеющей природу (68 В 176 Diels). Зато послеплатоновская эллинистическая философия киников и стоиков широко использует это понятие в своем учении о независимости человека от внешних благ, которые надо искать в себе самом.
[1678]
Здесь упоминается только один, главный вид движения, свойственный самодовлеющему, ни в чем не нуждающемуся живому организму, в то время как созданные впоследствии одушевленные существа, находящиеся в зависимости от окружающего мира, имеют все шесть родов движения.
Ниже в «Тимее» (43b) упоминаются движения вперед, назад, направо, налево, вверх и вниз, связанные с развитием деятельности органов чувств живых существ. Цифра «семь» в данном случае, возможно, имеет некий символический смысл, что не помешало Аристотелю в «Метафизике» посмеяться над этой страстью к мистике числа «семь» (XIV 6, 1093а 13‑15), заметив при этом, что числа не могут быть причиной вещей и что важно не само число, а соотношение чисел. Что же касается единообразного вращения космоса в одном и том же месте,
то это не что иное, как круговое движение вечного бытия в самом себе, движение, не знающее пространственных перемен и не зависящее от перемены места, космос не стареет и не становится, но он есть, т. е. он неподвижно покоится в вечности (ср.: Аристотель.
Метафизика XII 7, 1072b 3‑10).
[1679]
Душа
космоса находится в его центре.
Ср.: Кратил, прим. 41.
[1680]
Душа
космоса мыслится старше тела.
[1681]
Душа создается из смешения вечной сущности и той, что подвержена времени, т. е. той, которая потом воплотится в бесконечности рожденных тел. Они объединяются третьей, связующей их сущностью, а также имеют еще и причину смешения, которой в данном случае является демиург. Вся эта структура души космоса находит себе аналогию в рассуждениях Платона в диалоге «Филеб», где идет речь о смешении предела и беспредельного в некую смесь с помощью особой причины смешения.
[1682]
Разделение целого тела космоса можно понять, только учитывая связь Платона с пифагорейской традицией символики чисел. Платон берет здесь две последовательности чисел: 1, 3, 9, 27 и 2, 4, 8, имеющих чисто телесный смысл, считая, что 1 есть абсолютная неделимая единичность, 3 – сторона квадрата, 9 – площадь квадрата, 27 – объем куба с ребром, равным 3. Таким образом, данная последовательность чисел выражает категории определенности, т. е. тождество физического и геометрического тел. Но так как космос не есть только определенное бытие, он включает в себя становление иного, неопределенного, текучего, которое тоже выражается через ряд чисел: 2, 4, 8 и помещается в общем ряду, чередуясь с числами, выражающими определенность. Таким образом, единое целое космоса составляет ряд: 1, 2, 3, 4, 8, 9, 27, где совмещается единораздельность единого (одного) и иного, тождества и различия, прерывного и непрерывного, создающая трехмерное тело космоса. С точки зрения Платона, это и есть структура всех сфер, составляющих космос: если считать Землю находящейся в центре, то 1 – это самая близкая к Земле сфера Луны, 2 – сфера Солнца, 3 – Венеры, 4 – Меркурия, 8 – Марса, 9 – Юпитера, 27 – Сатурна (см. рис. 1; здесь кроме Луны и Солнца подразумеваются те 5 планет, которые были известны в античности). См. также ниже, 38cd. Между числами данного космического семичлена существуют некие пропорциональные отношения, которые можно выразить, заполнив промежутки между указанными числами. Это можно сделать, только учитывая наличие трех типов пропорции (по нашей терминологии, прогрессии) – арифметической (1, lЅ, 2), геометрической (1, 2, 4) и гармонической (1, 1/3, 2). Эти пропорции (прогрессии) соответствуют пифагорейскому учению о количественных отношениях музыкальных тонов; таким образом, космос Платона весь строится по принципу музыкальной гармонии (подробно об этом см. в кн.: Лосев А. Ф.
История античной эстетики. Софисты. Сократ. Платон. С. 607–615). Кроме того, надо сказать, что вся космическая пропорциональность покоится на принципе золотого деления, или гармонической пропорции, когда целое так относится к большей части, как большая часть относится к меньшей. О разделении космического семичлена см. в кн.: Лосев А. Ф.
Античный космос и современная наука. С. 202 (таблица).

Рис. 1
[1683]
Действия демиурга можно представить себе следующим образом. Всю образовавшуюся массу он делит и складывает так, что получает плоскости экватора и солнечной эклиптики, которые пересекаются под наклонным углом (согласно современному представлению, 23°27'42») в точках равноденствия, вращаясь вокруг мировой оси, причем внешняя плоскость экваториальная, а внутренняя эклиптическая. Обе же они в свою очередь объяты небесным сводом, по кругу которого происходят их движения. Внешняя плоскость обнимает внутреннюю, управляет ею и идет в правом
направлении, т. е. с востока через запад снова на восток, так как всякое рождение и начало связано по античной традиции с правой стороной, с востоком, и знаменует собой природу благого, истинного, тождественного.
Эклиптика же вращается внутри, справа налево,
т. е. с запада через восток снова к западу, и означает природу иного,
изменчивого, неразумного. Движение экваториальной плоскости Платон называет движением вдоль стороны прямоугольника,
а движение плоскости эклиптики – движением вдоль диагонали того же прямоугольника.
Собственно говоря, это не что иное, во‑первых, как движение экваториальной плоскости вокруг мировой оси по прямому направлению вправо, выраженное при помощи мысленно вписанного в небесный свод прямоугольника, две стороны которого параллельны поперечнику экватора (см. рис. 2). Во‑вторых,
это движение эклиптики под углом влево, вдоль диагонали мысленного прямоугольника, т. е. вдоль поперечника эклиптики, а значит, движение непрямое, иррациональное. Движение экваториальной плоскости, тождественное себе
и пребывающее в самом себе, а значит, по Платону, разумное, имеет перевес, являясь единым и неделимым. Движение эклиптики, изменчивое и постоянно стремящееся к иному,
демиург делит на семь неравных кругов, которые, как видно из дальнейшего изложения (38cd), и являются сферами планет.
Вращение планетных сфер неравномерно. Ниже (38d) Платон указывает, что меньшие сферы имеют большую скорость и наоборот. Однако три сферы, а именно Солнца, Венеры («Утренняя звезда») и Меркурия («Гермесова звезда»), имеют одинаковую скорость. Сатурн, Юпитер, Марс и Луна вращаются с неодинаковой скоростью, хотя и не изменяют порядка своего неравномерного движения, на что указывал позднее Цицерон (О природе богов II 20).

Рис. 2
[1684]
Таким образом, космическая душа
(см. 36d – 37с) у Платона мыслится не абстрактно, а в связи с конкретным строением космоса.
[1685]
Следует отметить, что тезис Платона о слове,
находящемся в душе и изрекаемом ею, положил начало глубокому и развитому стоическому учению об «имманентном слове» (λόγος ένδιάθετος) и «слове изреченном» (λόγος προφορικός), например, у Хрисиппа (fr. 135, 223 SFV II).
[1686]
Время
и вечность
у Платона несоизмеримы. Время только некое движущееся подобие вечности (см. 38а), ибо все рожденное (демиург рождает мировую материю, а значит, и время) не причастно вечности, имея начало, а значит, и конец, т. е. оно было
и будет,
в то время как вечность только есть.
[1687]
Демиург рождает Солнце, Луну
и пять других светил.
Мы находим здесь у Платона геоцентрическую систему космоса. Однако Коперником была установлена известная нам гелиоцентрическая система. Кроме того, Платону, как и всей античности, неизвестны были Уран (открыт в 1781 г.), Нептун (в 1846 г.) и Плутон (в 1930 г.).
[1688]
О названиях планет Платон подробно говорит в «Послезаконии» (987b – d), где перечисляет Утреннюю звезду, носящую имя Афродиты (Венера), звезду Гермеса (Меркурий), звезду Зевса (Юпитер), звезду Кроноса (Сатурн), звезду Ареса (Марс) с красноватым оттенком. Имена богов впоследствии стали означать самое планеты. Однако в греческой традиции были также названия планет, соответствующие их внешнему виду и указывающие на интенсивность излучаемого ими света: Сатурн назывался «Светящийся», Юпитер – «Сияющий», Марс – «Огненный», Венера – «Несущая свет» или «Вечерняя», Меркурий – «Блестящий».
Относительно движения иного,
пересекающего движение тождественного,
см. прим. 51 и рис. 4. Именно эти два типа движения создают движение планет вокруг своей оси («тождественное») и вокруг земли («иное») в противоположных направлениях, что и придает этому движению в целом спиралевидную форму. Сферы и масса планет обратно пропорциональны их скорости, поэтому Сатурн движется медленнее, а Луна быстрее остальных планет и движение Луны обгоняет также прохождение Солнца по эклиптике, хотя по внешним наблюдениям она отстает от Солнца, так как в один и тот же промежуток времени совершает движение по эклиптике 12 раз, а Солнце только один.
[1689]
Здесь демиург зажигает свет Солнца,
в то время как, по Эмпедоклу, сияние возникает около земли «вследствие отражения небесного света» (В 44 Diels).
[1690]
Ср. у Гесиода в «Теогонии» о «черной Ночи», рожденной из Хаоса и родившей вместе с Эребом «сияющий День» (123 сл.). Примечательно, что у Гесиода Ночь порождает День в виде своей противоположности. По Пармениду, все вообще состоит из света и ночи (В 9, 1 Diels).
[1691]
В ориг. έδέαι.
[1692]
Боги в «Тимее» Платона созданы из огня. В античности существовала традиция, объединяющая их с эфиром, т. е. тончайшей огненной материей. Во всяком случае у Гомера и Гесиода боги живут в эфире (Ил. II 412, IV 166, XV 610; Од. XV 523; Труды и дни 18). Для Платона эфир и огонь – разные элементы (Послезаконие 981с), хотя в эфире присутствует «огненность». Из чистого огня Платон создает высших богов; из эфира – видимые живые существа, а именно божественный род; из воздуха и воды – полубогов, демонов, зримых и незримых; людей и животных – из земли (там же, 984b‑e).
[1693]
В средневековых космических системах наиболее совершенные звезды – неподвижные;
например, в «Божественной комедии» Данте они составляют так называемое седьмое небо. Правда, в системе Данте было еще «десятое небо» – эмпирей (т. е. «огненное»), которое находится уже вблизи самого бога, источника высшей любви и блага. Со времен пифагорейцев, Аристотеля и Эратосфена неподвижные звезды изображались объемлющими все семь планетных сфер.
[1694]
Имеются в виду существовавшие в древности наглядные
модели Вселенной.
[1695]
Здесь дается родословная богов и титанов, несколько отличная от традиционной теогонии Гесиода, где Тефия, Океан, Кронос и Рея – все дети Урана и Геи (126–138), а Форкий – сын Понта и его матери Геи (237 сл.).
[1696]
Три смертных рода:
обитатели воздуха, воды и суши.
[1697]
Подражание
здесь предполагает более слабую степень эманации божественной сущности.
[1698]
Т.е. перенестись на подобающие тела; последние сотворены, следовательно, живут во времени, т. е. являются орудиями времени. Образ души,
подобной колеснице,
известен хорошо из «Федра» (245с – 249d). См. также: Горгий, прим. 80 (с. 810). Законы рока,
о которых здесь идет речь, соответствуют установлениям Ананки, Адрастеи, Немесиды, Дики (см. там же). Представление о том, что каждая душа имеет свою звезду, в христианском средневековье было широко распространено как представление, что каждая душа имеет своего ангела‑хранителя.
[1699]
Здесь дается обоснование теории перевоплощения душ как своеобразного наказания, состоящего в непрерывном рождении души в мир, что уже само по себе приобщает ее к миру времени, текучести и смерти. В этом перевоплощении лучшей природой мыслится мужская; женская же присуща второму рождению и дается даже как наказание (42а, с). См. также: Горгий, прим. 80.
[1700]
Посев душ:
ср. в греческой мифологии историю спартов (σπαρτός – «посеянный»), рожденных из посеянных зубов дракона (Павсаний.
Описание Эллады IX 10 / Пер. С. П. Кондратьева. Т. I–II. М., 1938–1940; Аполлодор
III 4, 3‑5). Об орудиях времени
см. прим. 66.
[1701]
О сотворении человеческого рода см.: Протагор, прим. 31. Эмпедокл (В 62 Diels) сообщает, что из воды и земли под воздействием огня появились первые, еще не разделенные на мужчин и женщин формы. См. также: Пир, прим. 56.
[1702]
Здесь отдельные тела разделены на те же сферы и имеют те же самые связующие члены, что и само тело космоса. Однако их материальная и смертная сущность мешает слаженному и гармоническому движению, характерному для космоса (см. прим. 50).
[1703]
См.: Горгий, прим. 80.
[1704]
Натурфилософы, как, например, Эмпедокл, говоря о формировании первых живых тел, подчеркивали первоначально хаотическое и уродливое соединение их частей под воздействием Любви. Однако все то, что «возникало для какой‑нибудь цели», уцелело, так как «соединилось надлежащим образом» (В 61 Diels). Все остальное было обречено на гибель. По Платону, первые тела, созданные богами, задуманы по высшему образцу и в высшей степени целесообразны; поэтому здесь с самого начала исключены уродливые сочетания.
[1705]
Механизм зрения Платон объясняет еще по старой традиции досократиков истечением тончайшей материи. См.: Федр, прим. 36,37.
[1706]
Обычно эти стихи относят к «Финикиянкам» Еврипида (ст. 1762).
[1707]
Здесь выражено твердое убеждение Платона, не раз высказанное им в «Государстве» и «Законах», о пользе музыки в жизни общества и образовании юношества.
[1708]
Необходимость,
вершительница судеб богов, космоса и душ (см.: Пир, прим. 63), здесь, в «Тимее», действует целесообразно только в союзе с умом, будучи сама по себе лишь «движущей силой для тел», как ее назвал Прокл (II 206, 10‑16 Kroll), так как высшее начало – это сам демиург.
[1709]
См.: Кратил, прим. 85.
[1710]
Первообраз
– вечный и тождественный себе, интеллигибельный мир. Мир видимый, рожденный и осязаемый чувствами подражает высшему образцу; см. 27d – 29b.
[1711]
Восприемница
и кормилица
– это материя, так как через нее высшие идеи реализуются в мир чувственных феноменов и она же «вскармливает» все живое.
[1712]
Здесь Платон говорит о круговороте первоэлементов (по Платону – основных «родов»), диалектику которого выразил еще Гераклит: «Огонь живет смертью земли, воздух живет смертью огня, вода живет смертью воздуха, земля – смертью воды» (В 76 Diels).
[1713]
Платон разделяет неизменную сущность предмета (нечто, то, это)
и его качества (такой),
которые изменяются и переходят в другие качества.
[1714]
Треугольник
по античной традиции – одно из формообразующих тел (см. ниже, 53с). О мгновении,
в которое одно
переходит в иное,
см.: Парменид, прим. 24 и 25.
[1715]
См. прим. 79. «Мать», «бесформенная», «незримая», «всевосприемлющий вид», «принимающая любые оттиски» – всё это, по Платону, первичная материя. Платоновская материя резко отличается от материи досократиков, которая тождественна природе, наделена качествами, лишена пустоты, устойчива. Так же резко отличается платоновское понимание материи и от ее понимания у стоиков и орфиков, где материя, или природа, является активной силой, «художницей», «демиургическим началом», «творческим огнем» (fr. 172, 599, 171 SVF I; 217, 1134 SVF II).
Хотя орфики, говоря о материи (X Quandt), именуют ее так же, как и Платон, «кормилицей», «матерью», она, как и у досократиков, наделена у них качествами, т. е. она «конечная» и «бесконечная», «круглая», «вечная», «всетекучая», «несущая движение», «плодоносная», «нетленная», «перворожденная», в то время как платоновская материя абсолютно бескачественна; она вечно становится и меняется, ибо вечным, самоудовлетворенным (см. прим. 45) и самотождественным бытием у Платона обладает только космическая душа.
[1716]
О знании (здесь – уме)
и об истинном
(правильном) мнении
см.: Менон, прим. 44 и Теэтет.
[1717]
Образ
и число
, наряду со строем и мерой – важнейшие категории античной философии, причем вторая пара характерна для гераклитовцев, а первая – для пифагорейцев с их геометрическими фигурами.
[1718]
См. прим. 43.
[1719]
См. прим. 80.
[1720]
См. 57cd.
[1721]
См.: Государство, кн. X, прим. 24.
[1722]
Выражение, смысл которого неясен, так как в рукописях есть разночтения. Может быть, имеется в виду лава или базальт.
[1723]
У Гомера, например, соль именуется «божественной» (Ил. IX 214).
[1724]
Игра слов: κερματίζω – делить на мелкие части, расщеплять;
Οερμόν – тепло, жар.
[1725]
Зависимость ощущения вкуса от формы частиц подробно разработана у поэта Лукреция (О природе вещей II 308–477), использовавшего учение древнегреческих атомистов.
[1726]
Представление Платона о цвете
и сочетании
цветов основано на учении о стягивании и разрежении цвета, понимаемого как трехмерное тело с его телесными пластическими функциями. Подробно обо всем этом см. в кн.: Лосев А. Ф.
История античной эстетики. Софисты. Сократ, Платон. С. 582–590.
[1727]
Образ смертной части души в виде зверя у кормушки
в своем логове (возможно и другое толкование: «скотина у кормушки») можно сравнить с образом души как «пестрого и многоглавого зверя», данным в «Государстве» (IX 588b‑d).
[1728]
Древние придавали печени
очень важную роль в жизни человеческого организма. У Гомера, например, она мыслилась одним из средоточий жизни. Так, Гекуба жаждет умертвить Ахилла, вонзившись зубами в его печень (Ил. XXIV 212–214). В языке зависимость настроения человека от состояния печени выразилась также в том, что «гнев» именовался «желчью» (χολή), а гневный человек – «желчным» (χολωτός).
[1729]
Ср.: Ион; см.: Менон, прим. 46.
[1730]
Ср.: «Познай самого себя» (см.: Алкивиад I, прим. 24).
[1731]
Имеются в виду кости
головы и грудной клетки.
[1732]
Сравнение из области орошения садов находим у Гиппократа: «Что земля для деревьев, то желудок для животных: он и питает, и согревает, и освежает; освежает, когда пуст, согревает, когда наполнен» (О влагах I 11 // Сочинения / Пер. В. И. Руднева. Т. 2. М., 1944).
[1733]
На взаимоотношениях скорости движения
и высоты звука
подробно останавливается Аристотель при изучении голосов животных (De gener, animal. V 7).
[1734]
Гераклейский камень
– магнит; см.: Ион, прим. 12.
[1735]
Тело любого живого существа понимается в «Тимее» как замкнутая система микрокосма, соответствующая системе вселенского движения в макрокосме. См. также прим. 34.
[1736]
Аристотель также отмечает «беспечальную смерть в старости», так как, пишет он, «освобождение души от уз становится совершенно нечувствительным» (De respirat. 479a 20‑23).
[1737]
Флегма
– слизистое выделение.
[1738]
Имеются в виду судороги и корчи. Тетанус
– от глагола τείνω («натягивать», «напрягать»), опистотонус
(όπισθότονος) – букв, «натянутый назад», т. е. стягивание назад членов (корчи).
[1739]
Имеется в виду эпилепсия.
[1740]
Здесь – типичное для классической эстетики представление о соразмерности в прекрасном,
чуждое эстетизации иррационального, безобразного и ужасного, характерной для европейского романтизма. О категории меры в античной эстетике см.: Лосев А. Ф., Шестаков В. П.
История эстетических категорий. М., 1965. С. 13–27.
[1741]
О гимнастическом и мусическом воспитании очень много говорится в «Государстве». См. также: Критон, прим. 13; Протагор, прим. 38.
[1742]
Ср. прим. 83.
[1743]
Очищение
(«катарсис»): здесь употреблен тот же термин, который Аристотель применяет для выражения следствия трагического действа – эстетического, этического и даже физиологического очищения человека от страданий (Поэтика VI 1449b 28).
[1744]
Гесиод в «Трудах и днях» рассказывает, что после своего ухода из жизни люди золотого века стали «благостными демонами», которые «волей великого Зевса людей на земле охраняют, зорко на правые наши дела и неправые смотрят» (121–124).
[1745]
По Платону, прикоснуться к истине и обрести бессмертие и блаженство может только философ, вечно стремящийся к познанию мудрости и высшему благу. Это, собственно, и является центральной мыслью его «Государства».
[1746]
Чтение образ бога умопостигаемого
(νοητοί) основано на том, что Барнет следует рукописной традиции F
и Y
вопреки чтению «образ бога творящего» (ποιητοί) по рукописям А
и Р
. В диалоге космос как чувственный бог имеет образец в виде бога мыслимого. Эта идея подтверждается автором сочинения «Тимей Локрский о душе, космосе и природе» (судя по языку – дорийцем) в его рассуждении о космосе, который «был создан некогда по лучшему образу эйдоса нерожденного, вечного и мыслимого» (см.: Plato Dialogi / Ed. Hermann. Lipsiae, 1922. IV 105a). В «Эннеадах» Плотина (VI 2, 22 sqq. Diehl) есть выражение «явления» (ινδάλματα) в качестве образа мыслимого, а не творящего бога, т. е. Плотин, как и Платон, противопоставляя бога мыслимого и бога чувственного, вместе с тем четко разделяет понятие мыслимого и творящего божества. Возможно, что разночтение рукописей А
и P
возникло не раньше IV в. н. э.
[1747]
Здесь имеется в виду тот демиург, который действовал в диалоге «Тимей».
[1748]
Критий
был известен как поэт. Фрагменты его элегий – у Дильса, т. I, гл. XXII. Собеседники Крития именуются (108d) зрителями в театре.
[1749]
См.: Кратил, прим. 86.
[1750]
Пеон
(или Пеан) – эпитет Аполлона, букв, «целитель».
[1751]
См.: Евтидем, прим. 17.
[1752]
См.: Тимей, преамбула, а также Менексен, прим. 50.
[1753]
Имеется в виду предание,
о котором рассказывал в «Тимее» Критий (20d – 25e). О Геракловых столпах
см.: Тимей, прим. 27.
[1754]
См. также: Тимей 24е, 25d и прим. 32.
[1755]
Как рассказывает Гомер (Ил. XV 185–195), сыновья Кроноса и Реи – Зевс, Аид и Посейдон – по жребию получили в удел соответственно небо, подземный мир и море, но «земля и высокий Олимп» остались для всех троих общими. То, что раздел произошел вопреки сказанному не так уж мирно, сообщает Эсхил (Прометей прикованный 197–206).
[1756]
Здесь Платон использует старинное гомеровское сравнение владыки, или вождя, с пастухом, пастырем народа. См., например, Ил. II 85, 243, 254, 772 и другие места. Платон нередко пользуется этим образом.
[1757]
Порожденные землей
– см. прим. 12, а также Тимей, прим. 25. Наша страна
– Аттика. О Гефесте
и Афине
см.: Протагор, прим. 33.
[1758]
Т. е. египетские жрецы, с
которыми беседовал Солон и которые рассказали ему об Атлантиде (см.: Тимей 22а). Происхождение упоминаемых здесь древнейших аттических царей, согласно мифам, тесно связано с землей. Родоначальником аттической династии был Кекроп,
рожденный землей, его наследником был также рожденный землей Кранай, далее – Эрихтоний,
рожденный дочерью Краная Аттидой (по ее имени названа Аттика). Есть и другая версия этой генеалогии, по которой Аттида умерла до брака. Родоначальниками династии, согласно этой версии, были богиня земли Гея, Гефест и Афина, от которых произошел Эрихтоний. Потомками Эрихтония были аттические цари Эрехтей,
Эгей и Тесей.
[1759]
Ср. слова Гесиода (Теогония 924–926), рисующего рождение богини из головы Зевса в полном вооружении, с доспехами.
[1760]
О разделении на сословия в идеальном государстве см.: Государство II 369b – 372а и др., о сословии воинов – II 373е – 376е.
[1761]
Истм
– иначе Коринфский перешеек, соединяющий Среднюю Грецию с полуостровом Пелопоннесом. Киферон
– горная цепь на севере Аттики. К востоку от Киферона – гора Парнеф (или Парнет). Оропия
– местность на северном берегу Аттики, оспариваемая Беотией. Асоп
– название нескольких рек в Греции. Здесь – река в Аттике, берущая начало в Беотии.
[1762]
Зевс
был богом не только ясного неба (о чем говорит этимология этого имени: др. – инд., dyauh – небо, dyauspita – «отец неба», ср. лат. Diespiter, Juppiter), но и дождей, туч, непогоды.
[1763]
См.: Тимей, прим. 20.
[1764]
Границы афинского акрополя,
по этой легенде, очень значительны по сравнению с историческим акрополем. Реки Илисс
и Эридан
– это южная граница Афин; гора Ликабет
– северо‑восточная; Пникс
– холм к востоку от акрополя. Исторический акрополь ограничен ареопагом и агорой (рыночной площадью).
[1765]
Так по Герману, который читает ίερών (священные предметы) вместо ιερέων (жрецы). Согласно Барнету: «…все то, что необходимо иметь воинам и жрецам».
[1766]
В идеальном государстве Платона воины
вообще не имеют частной собственности, кроме самого необходимого, никогда не касаются ни золота, ни серебра, храня в своей душе «золото» добродетели (Государство III 416de).
[1767]
По поводу поэзии Солона см.: Тимей 21b‑d.
[1768]
Деда Крития звали также Критием. Об их родословной см.: Тимей, прим. 12.
[1769]
Стадий
– мера длины = прибл. 193 м. Посейдон
– повелитель морей, сын Зевса.
[1770]
Возможно, по мифам, что Евенор
и его жена
родились из камней, брошенных Девкалионом и Пиррой (см. прим. 17). Имена первых обитателей Атлантиды нигде более не засвидетельствованы. Клейто,
согласно мифу, стала женой морского бога Посейдона и родоначальницей населения Атлантиды (см. ниже, 113de).
[1771]
Кроме Атланта,
сына Посейдона и Клейто, был титан Атлант, брат Прометея и отец Гесперид (Гесиод.
Теогония 507–509; Од. I 52), держащий на крайнем западе на своих плечах небесный свод.
[1772]
Ср.: Кратил, прим. 15. Гадир
– владыка области, занимавшей земли около Кадикса.
[1773]
Все имена царей Атлантиды имеют определенное значение: Евмел
– «богатый стадами», Евэмон
– «пылкий», Амферей
– «круглый», Мнесей
– «мыслитель», Автохтон
– «рожденный землей», Еласипп
– «всадник» («погоняющий коней»), Мнестор
– «жених», Азаэс
– «знойный», Диапреп
– «великолепный, славный».
[1774]
См.: Тимей, прим. 29.
[1775]
Орихалк
– желтая медь.
[1776]
Здесь Платон следует традиционному представлению о жизни людей золотого века, когда земля рождала сама все в изобилии, без вмешательства человека (ср.: Гесиод.
Труды и дни 117 сл.).
[1777]
Плетр
– греч. мера длины = 1/6 части стадия (т. е. около 32 метров).
[1778]
См.: Лахет, прим. 17.
[1779]
Акрогерий
– скульптурный орнамент над углами фронтонов здания.
[1780]
Характерно, что цари Атлантиды живут у Платона по предписаниям Посейдона,
т. е. по законам божественным, не созданным людьми. В «Тимее» (24cd) развивается аналогичная мысль.
[1781]
Зевс,
согласно мифам, не раз налагал кару
на род человеческий. Достаточно вспомнить Девкалионов потоп (см. Тимей, прим. 20), попытку Зевса уничтожить старый род людей и «насадить» новый (Эсхил.
Прометей прикованный 231–233). Троянская война в сущности тоже есть следствие мольбы матери‑Земли, Геи, к Зевсу покарать людей за их нечестие (см. Ил. I 5).
[1782]
См. Законы V, прим. 15.
[1783]
О наружности Теэтета см.: Теэтет 143e.
[1784]
Разделение теоретических и практических искусств дано в «Филебе», прим. 49.
[1785]
Два типа врачей
рассматриваются в «Законах» (IV 720с‑е).
[1786]
Имеются в виду персидские цари.
[1787]
Это рассуждение Платона можно проиллюстрировать следующим образом:

[1788]
Имеются в виду птицы.
[1789]
Все разделение знания, приводящего к царственному искусству политика, можно представить следующим образом:
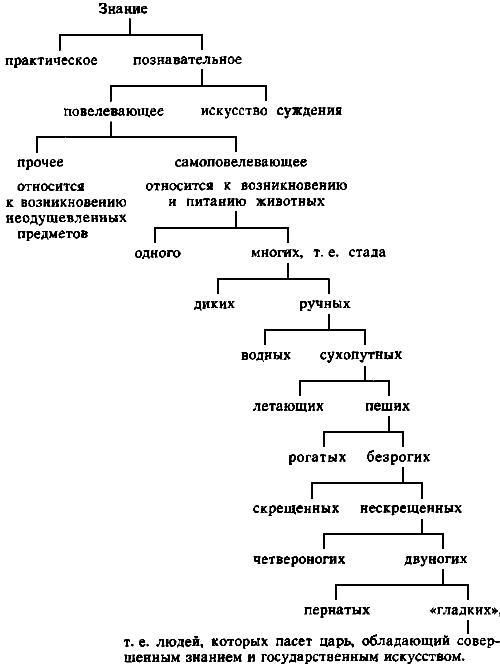
[1790]
Платон использует миф
, в котором переплетаются древние представления об истории человеческого рода и собственные мысли Платона. Ср. мифы, излагаемые в «Протагоре», прим. 31, и «Горгии», прим 80, тоже трактующие проблемы историко‑культурные, социальные и этические.
[1791]
Атрей
и Фиест,
дети Пелопа, известные взаимной ненавистью и преступлениями, которые были следствием проклятия, наложенного на Пелопа богами.
[1792]
Жена Атрея Аэропа передала Фиесту, соблазнившему ее, золотого агнца, рожденного по воле Гермеса в стаде Атрея и являвшегося символом незыблемости царской власти Атрея.
[1793]
В ужасе от злодейства Атрея, бросившего в море свою жену, а затем угостившего Фиеста блюдом из его убитых детей, Солнце – Гелиос – изменило свой путь.
[1794]
См.: Евтидем, прим. 34. Евтифрон, прим. 15, Кратил, прим. 29, Горгий, прим. 80.
[1795]
По Гесиоду (Теогония 182–187), земля, принявшая в себя кровь Урана, через несколько лет родила гигантов в доспехах и с копьями в руках. Лукреций (V 821–825) прямо пишет, что «заслуженно носит матери имя земля, потому что сама сотворила весь человеческий род», а также зверей и птиц.
[1796]
О создании космоса, его движении и душе см.: Тимей 30a‑c, 40 ab, а также прим. 61, 62.
[1797]
Перевод буквальный. Очевидно, идет речь об оси космической сферы.
[1798]
Блаженную жизнь при Кроносе
рисует Гесиод (Работы и дни 109–126).
[1799]
Кормчими
именуются боги также у Эсхила (Прометей прикованный 148).
[1800]
В противоположность высказанной здесь точке зрения «Законы» (X 902е – 903а) прямо говорят о попечении
богов над миром в большом и малом. См. также «Тимей» 42d о – посеянных душах.
[1801]
См.: Тимей 34ab.
[1802]
Ср.: Тимей 33b – 34b, прим. 41‑44.
[1803]
Имеется в виду богиня Афина.
[1804]
О периодических катастрофах, постигавших человеческий род, см.: Критий, прим. 40. См. также: Законы III 677a, 679d.
[1805]
См. выше, 271de – о даймонах, т. е. божественных существах, пасущих стада смертных.
[1806]
См. также: Критий, прим. 12.
[1807]
Уточнение таблицы, данной в прим. 8, можно представить так:
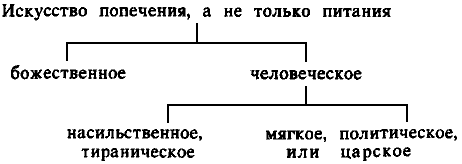
[1808]
Платон не случайно сравнивает здесь искусства разделения
и соединения
с шерстопрядильным искусством и ткачеством вообще; этот образ он использовал и в других диалогах (Парменид, Софист, Федон).
[1809]
Апельт дает в этом месте истолковывающий перевод: «…другая часть искусства измерения направлена на неизбежную сущность становления».
[1810]
Ср.: Филеб, прим. 46 – о чистых удовольствиях, полученных от геометрических фигур, красок и звуков, т. е. бестелесных предметов.
[1811]
Семь родов
перечисленных здесь вспомогательных искусств
, не относящихся к искусству политическому, можно считать также практическим искусством, свойственным большинству в отличие от теоретического искусства меньшинства, принимая во внимание разделение, данное в «Филебе» (см.: Филеб, прим.49).
[1812]
Ср. мнение Платона о рабах
с аристотелевским (Политика I 2).
[1813]
У вас
– т. е. у афинян. Аристотель также сообщает (Политика III 9, 1285b 9‑19), что древние греческие цари сами совершали жертвоприношение, так как «это последнее не составляло специальной функции жрецов», и впоследствии, когда многие функции царя отпали, это право за ними сохранилось.
[1814]
Кентавры,
мифологические существа, сочетали в себе природу коня и человека, обитали в диких горах и чащах и отличались буйством и невоздержанностью. Исключение составлял мудрый кентавр Хирон – сын Кроноса, воспитатель героев (Ил. XI 831 сл.). Сатиры
– лесные козлообразные демоны, изображались как спутники бога Диониса.
[1815]
Аристотель пишет: «Тот, кто испытывает недоумение и изумление, считает себя незнающим» (Метафизика I 2, 982b 17 сл.).
[1816]
Типы государственного устройства рассмотрены подробно Платоном в VIII кн. «Государства». См. прим. 4‑9, 12 к указанной книге диалога.
[1817]
См. прим. 8.
[1818]
В «Законах» Платон прямо говорит, что «ни закон, ни какой бы то ни было распорядок не стоят выше знания. Не может разум быть чьим‑либо послушным рабом; нет, он должен править всем, если только по своей природе подлинно свободен» (IX 875cd).
[1819]
Ср.: Законы II 690a‑c – о взаимоотношениях закона и разума, насилия и добровольного подчинения.
[1820]
Гомер. Ил. XI 514. Платон цитирует эти стихи также в «Пире» (214b).
[1821]
Плутарх сообщает, что при Солоне законы писались на деревянных таблицах, так называемых кирбах, поворачивающихся на своей оси (Солон XXV // Сравнительные жизнеописания. Т. 1–2. М., 1961–1963. Т. 1).
[1822]
Возможно, имеются в виду афинские демагоги, осмеянные еще Аристофаном во «Всадниках».
[1823]
Ср. рассужлдения Платона в «Законах» (VI 712de) о якобы близком к идеалу государственном строе Лакедемона и Крита, который вмещает в себя все формы правления, основываясь по сути дела на божественных законах. См. также: Законы I, прим. 1.
[1824]
См. также: Законы, кн. IV, прим. 11 и Филеб, прим. 6. Образ государства‑корабля, известный у греческого лирика Алкея (fr. 30 Diehl), не раз встречается у Платона. Ср. также данный образ у римского поэта I в. Горация (Carm. I 14).
[1825]
Арисотель имеет в виду рассуждения Платона в «Государстве» (VIII 544c – 576d) и в данном месте «Политика», а также свои в «Никомаховой этике» (VIII 12, 1170b 8 сл.), когда утверждает в «Политике», что «все эти формы государственного устроения вообще ошибочны» (IV 2, 128b 9‑11).
[1826]
Ср. выше, 291ab, где тоже невежественная толпа сравнивается с кентаврами
и сатирами
(см. прим. 33). Существовал особый тип драмы,
так называемой сатировской, где действовали эти хитроумные, но грубые и недалекие существа.
[1827]
Адамант
– по Гесихию, род железа; может быть, сталь – у Эсхила (Прометей прикованный 6) и Пиндара (Пифийские оды IV 25 // Пиндар, Вакхилид.
Оды. Фрагменты / Издание подготовил М. Л. Гаспаров. М., 1980). Теофраст впервые придал адаманту значение алмаза (fr. II 19 Wimm.).
[1828]
Народные ораторы играли огромную роль в демократических Афинах, особенно в эпоху их упадка и борьбы за независимость.
[1829]
Ср. «Горгий» 445а – о риторике: «Красноречие – это мастер убеждения, внушающего веру в справедливое и несправедливое, а не поучающего, чту справедливо, а чту нет».
[1830]
Сплетение частей добродетели, стремящихся к противоположным качествам, возможно здесь только при понимании их в плане не антиномическом, а диалектическом. О добродетели в искусстве управлять государством см.: Протагор, прим. 29.
[1831]
Ср.: Законы VI 773b, d.
[1832]
Конъектура.
[1833]
Заключительные слова вряд ли произносит юный Сократ. Скорее они принадлежат старшему Сократу, который начинал диалог.
[1834]
Если Минос, царь Крита, воспринял свое законодательство от Зевса,
то Ликург, легендарный спартанский законодатель, действовал по воле Аполлона Дельфийского
. Ксенофонт в своем сочинении «Лакедемонское государство» рассказывает, что Ликург вместе со знатнейшими гражданами отправился в Дельфы, испрашивая одобрения своим законам, и ввел их в действие только после ответа бога, вещавшего о «безусловной пользе» этих законов (Lac. pol. VIII 5 // Xenophontis scripta minora / Ed. Ruhl. Fasc. II. Lipsiae, 1920). По Геродоту, дельфийская прорицательница даже назвала Ликурга божеством, а сам он заимствовал свои законы с о‑ва Крит (I 65 // История. В 9 кн. / Пер. и прим. Г. А. Стратановского. Л., 1972). Ср.: Страбон.
География X 4, 19 (Пер. Г. А. Стратановского. М., 1964).
[1835]
См.: Одиссея XIX 178 cл. Ср.: Страбон
XVI 2, 38.
[1836]
О Радаманте
– судье в загробном мире – см.: Пиндар.
Олимпийские оды II 58‑88.
[1837]
Имеется в виду святилище Зевса
на отрогах горы Иды, где он, по одному из преданий, родился и воспитывался своей матерью Реей в окружении куретов и корибантов (Страбон
X 3, 11.19).
[1838]
Совместные трапезы
(сисситии) – совместная еда за общим столом, символизировавшая у дорян (на Крите и в Спарте) единство свободных граждан в частной жизни. Плутарх (Ликург XII // Сравнительные жизнеописания. Т. 1) подробно описывает эти трапезы, добавляя, что критяне зовут их андриями, а лакедемоняне – фидитиями. В гимнасиях
молодежь занималась телесными упражнениями. Античный архитектор Витрувий дает подробное описание гимнасия позднего времени (V 11).
[1839]
Крит
в отличие от Фессалии
(Сев. Греция) изрезан горными хребтами: на западе – Белые горы, на севере – их отроги, в том числе Берекинф, на востоке – Дикта, в центре острова – Ида, на юге – Кедрий.
[1840]
Об изначальной природе войны и раздора – у Гераклита: «Война есть отец всего, царь всего» (В 53 Diels) и Эмпедокла: «Рождения всего возникшего виновником и творцом является гибельная Вражда» (В 16 Diels).
[1841]
Афинянин, городу которого покровительствует богиня мудрости Афина, тоже причастен ее мудрости.
[1842]
Фраза основана на игре слов‑антонимов: κρείττον – лучший (сильный) и ήττων – худший (слабый).
[1843]
Тиртей,
уроженец Афин, – знаменитый поэт VII в. – прославился военно‑патриотическими элегиями. По преданию, его, хромого учителя, афиняне послали по совету Аполлона на помощь к своим союзникам – спартанцам во время их войны с мессенцами. Эмбатерии, военные элегии Тиртея, воодушевили спартанцев, и те одержали победу.
[1844]
Fr. 9 Diehl.
[1845]
Стихи из элегии Тиртея (см. прим. 10) – fr. 10‑12 Diehl.
[1846]
Theogn. fr. 77 Diehl. О Феогниде
см.: Менон, прим. 41.
[1847]
Мотив из стихотворения Тиртея.
[1848]
Ср. рассуждения Аристотеля в «Никомаховой этике» о «совершенной добродетели» – справедливости.
Он пишет: «Одна только справедливость из всех добродетелей, как кажется, состоит в благе, приносящем пользу другому лицу, ибо справедливость всегда относится к другим и приносит пользу другому лицу, будь оно властелин или все общество» (V 3, 1130а 2‑5).
[1849]
Градация добродетелей, или благ, – ниже (631с), где видно, почему мужество стоит на четвертом месте.
[1850]
Схолиаст поясняет, что дочери‑наследницы
– это круглые сироты, не имеющие братьев.
[1851]
Имеется в виду спартанский обычай посылать юношей воровать с целью воспитания ловкости и смелости.
[1852]
См.: Алкивиад I, прим. 41.
[1853]
Гимнопедии
– праздник, учрежденный в Спарте в VII в., на котором проходили гимнастические состязания молодежи.
[1854]
Диодор Сицилийский подробно описывает волнения в Фуриях (Южн. Италия) и в Милете (Diod. XII 11, XIII 104), где «приверженные к олигархии с помощью лакедемонян свергли демократическое правительство», воспользовавшись беспечностью граждан во время празднеств Диониса и предав смерти на агоре 300 самых богатых человек.
[1855]
Об однополой любви в Греции см.: Пир, прим. 31.
[1856]
См.: Федр, прим. 40.
[1857]
Дионису было посвящено несколько больших празднеств, среди которых Малые, или сельские, Дионисии (декабрь – январь, месяц Посидеон), Леней (январь – февраль, месяц Гамелион), Анфестерии (февраль – март, месяц Анфестерион) и Великие, или городские. Дионисии (март – апрель, месяц Элафеболион). Именно на Ленеях устраивались процессии на повозках, причем пелись песни, обличительный и язвительный характер которых вошел в пословицы (Luc. Iupp. Trag. 44).
[1858]
Тарант,
или Тарент, – город в Южн. Италии.
[1859]
Известно, что греки в отличие от «варваров» пили вино, разбавленное водой. У Анакреонта читаем: «Мы – не скифы, не люблю, други, пьянствовать бесчинно» (fr. 43 Diehl); у Горация (пер. Пушкина): «Теперь некстати воздержание, как дикий скиф хочу я пить» (II 7).
[1860]
Сиракузцы
победили локров
в 356 г. при Дионисии Младшем. О локрских законах
см.: Тимей, преамбула по Страбону, осаждаемые афинянами кеосцы
решили умертвить старейших из них, и тогда афиняне сняли осаду (X 5, 6).
[1861]
Возможно, вместо πύρους, «пшеничный хлеб», следует читать τυρούς, «сыр» (Барнет со ссылкой на Корнария).
[1862]
См.: Критон, прим. 13.
[1863]
Кадм
– основатель Фив (см.: Менексен, прим. 45). В битве под Фивами погибли семь вождей со своими воинами, осаждавшими город (Эсхил.
Семеро против Фив; Софокл.
Антигона). Павсаний пишет, что и победа фиванцев не обошлась без больших потерь, «поэтому победу, оказавшуюся гибельной для победителей, называют кадмейской или кадмовой» (X 9, 3).
[1864]
Платон устами Сократа восхваляет интерес к философии на Крите и в Лакедемоне, особенно отмечая краткость и остроту слова у спартанцев. См.: Протагор 342а‑е и прим. 55; о «лаконском немногословии» – там же, 343b и прим. 58.
[1865]
См.: Протагор, прим. 38.
[1866]
См.: Менон, прим. 19; Пир, прим. 59.
[1867]
Эпименид
– сын Досиада – полулегендарный критский мудрец, очистивший в 596 г. Афины от чумы, явившейся следствием так называемой килоновой скверны (умерщвление Мегаклом, сыном Алкмеона, заговорщиков у алтарей богов) (см.: Диоген Лаэрций.
О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов / Пер. М. Л. Гаспарова. М., 1968. I 100). Плутарх сообщает, что Эпименид «подружился с Солоном, во многом ему тайно помогал и проложил путь для его законодательства» (Солон XII). Павсаний добавляет, что «гнев бога – покровителя молящих неотвратим», и приводит примеры губительных последствий недозволенных убийств (VII 25, 1 сл.). У Диогена Лаэрция находим биографию Эпименида, где сообщается, что он был автором многих сочинений: «Теогонии», о рождении куретов и корибантов, об аргонавтах, а также автором критского законодательства и поэмы о Миносе и Радаманте (I 112).
[1868]
Ср. VII 803с – о человеке – игрушке богов. Парафразы этого платоновского образа находим у Плавта: «Людьми играют боги, точно мячиком» (Capt. 23). Климент Александрийский, рассуждая об исполнении человеком божественных законов и о свободе воли, скрыто спорит с Платоном, когда пишет о том, что «долг человека – повиноваться богу» (VII 3, 21 // dementis Alexandrini Opera / Rec. G. Dindorfius. Oxonii, 1869), вместе с тем утверждая, однако, что «божественное обетование осуществляется только через действие человека» (7, 48) и что «некоторые» даже не признавали «за человеческой душой самостоятельности и свободы выбора» и не понимали, что «до полного рабства она доведена быть не может» (3, 15), а в конце концов приходили даже к отрицанию божества (ср.: Законы X 888а – d). Образ же христианина, исполняющего предназначенную ему роль в «драме жизни» (11, 65), тоже, может быть, навеян Платоном.
[1869]
Многие издатели предлагали вместо διαφορά («отличие», «вражда») читать διαφθορά («вред», «пагуба»).
[1870]
О Музах
см.: Федр, прим. 50; об Аполлоне
– Феаг, прим. 15; о Дионисе
– Горгий, прим. 22, Кратил, прим. 62, Пир, прим. 26.
[1871]
Текст ненадежен.
[1872]
Древние придавали ритму
первостепенное значение. Поэтому Аристотель прямо говорил, что «стих, лишенный ритма, имеет незаконченный вид» (Риторика III 8, 1408b 26). Стих должен «обладать хорошим ритмом, а не быть лишенным ритма» (1409а 22 сл.). Квинтилиан, ссылаясь на Цицерона, также писал о ритме как непременном компоненте не только поэзии, но и прозы в противоположность «аритмии» (IX 4, 56 // М. F. Quintiliani institutiones oratoriae libri XII / Ed. L. Radermacher, V. Buchheit. I–II. Leipzig, 1971). О гармонии
см.: Алкивиад I, прим. 13.
[1873]
Участники хоровода
поют и танцуют под музыку. Умение участвовать в хороводе необходимо для воспитания, так как ритм и гармония помогают, по мнению древних, формировать тело и душу человека, воздействуя на него физически и этически. См.: Филеб, прим. 16, и Государство III 398с – 403с.
[1874]
Здесь игра близких по звучанию слов: «воспитание» – παιδεία, «игра» – παιδιά.
[1875]
Десять тысяч
– μυριάδα – было у греков синонимом бесчисленности. Так, Прометей у Эсхила (Прометей прикованный 94) говорит о себе, что он будет страдать «десять тысяч лет», т. е. бесчисленное количество лет. Египет с его древностью всегда вызывал удивление и почтение греков, о чем свидетельствует вся II книга Геродота, который пишет, что египтяне «ничего не заимствуют у иноземцев» (II 79). Египетская архаика у Геродота тоже близка по исчислению к десяти тысячам. От первого царя до последнего, по словам Геродота, прошло 11 340 лет, в течение которых жило 341 поколение, причем за все это время в Египте, по словам жрецов, «не было ни одного человекообразного божества», также «не произошло никакой перемены ни в произведениях земли или реки, ни в свойствах болезней или видах смерти» (II 142). Об устойчивом характере египетского искусства см.: Лосев А. Ф.
Художественные каноны как проблемы стиля // Вопросы эстетики. 1964. №6. С. 351–399.
[1876]
Исида
– египетская богиня, которую греки отождествляли с Афиной (см.: Тимей, прим. 19), – почиталась вместе со своим супругом Озирисом всеми египтянами (Геродот
II 42). В поздней античности с ее монотеистическими тенденциями олицетворяла собою основу мировой субстанции, являясь матерью природы, владычицей стихии, повелительницей мертвых и живых, одной богиней под множеством имен. Именно такую ее характеристику находим у Апулея (Метаморфозы XI 5 // «Метаморфозы» и другие сочинения / Пер. А. Кузнецова. М., 1988).
[1877]
Здесь имеются в виду эпические поэмы.
[1878]
Ср., что пишет Лукреций о методе усвоения трудной, но полезной науки. Он учит поступать как врачи, дающие полезное, но горькое лекарство вместе с медом (О природе вещей IV 10‑17), и тем самым представляет учение Эпикура «в сладкозвучных стихах пиэрийских, как бы приправив его поэзию сладостным медом» (21 cл.).
[1879]
Кинир
– мифический царь Кипра и Ассирии, о Мидасе
см.: Федр, прим. 61. Кинир и Мидас еще, по словам поэта Тиртея (fr. 9 Diehl), славились своим богатством.
[1880]
Цитируются стихи Тиртея (fr. 9, 1‑4 Diehl); фракийский Борей
– северный ветер.
[1881]
Из посеянных зубов
убитого сидонцем Кадмом дракона появились так называемые спарты (посеянные) – родоначальники пяти знатных фиванских родов. Павсаний сообщает их имена (IX 5, 2‑3), а Овидий красочно изображает подвиг Кадма (метаморфозы III 1‑131). См. также: Софист, прим. 30.
[1882]
См. ниже, 665ab.
[1883]
Пэаном
(Παιάν) именовался Аполлон (см. прим. 1). Этимология этого имени неизвестна. Древние связывали ее с глаголом «бью» (παίω). Как к Пэану к Аполлону обращается хор в «Трахинянках» Софокла (205–221). У Еврипида в «Иопе» к Аполлону взывают: «О, пэан, эвое, о, пэан, эвое» (125), соединяя эпитет Аполлона с восклицанием, традиционным для бога Диониса.
[1884]
У Платона, таким образом, ритмом, музыкой и пением пронизана вся жизнь – и частная, и государственная, и космическая (ср.: Государство X 617b‑d).
[1885]
Спартанская и критская молодежь объединялась с 17‑летнего возраста в агелы (άγέλας), букв. «стада», а у спартанцев такие союзы семилетних детей, по свидетельству Гесихия, назывались βουαί, букв, «стада бычков, телят». Выразительную картину жестокого и сурового воспитания детей» в Спарте рисует Плутарх (Ликург XVI).
[1886]
См. выше, 630cd, 631с.
[1887]
Обычно поэты и музыканты строго придерживались необходимых для данного жанра ладов и ритмов. Однако во времена Платона наблюдается упадок строгих правил, особенно в дифирамбической поэзии (Филоксен, Кинесий, Тимофей Милетский, Телест), где была уничтожена антистрофическая структура и повсеместно наблюдалось пренебрежение основами гармонии. Об Орфее
см.: Пир, прим. 36. «Возраст услад» – слова из приписываемых Орфею стихов (1 В 5а Diels). Возможно, это возраст зрелых, здравых суждений в отличие от юношеской неразборчивости.
[1888]
О ладах
см.: Лахет, прим. 22.
[1889]
Характерный для Платона образ. Здесь законодатель
такой же «ваятель», как в «Тимее» бог – «мастер» (демиург) и «плотник» (29а), а также «устроитель» (28с).
[1890]
Об Аресе
см.: Кратил, прим. 56.
[1891]
Мифограф Аполлодор рассказывает, что, «когда Дионис создал виноградную лозу, Гера наслала на него безумие, и он скитался по Египту и Сирии» (III 5, 1, 1 // Мифологическая библиотека. Л., 1972).
[1892]
Карфагенский
государственный строй пользовался у греков репутацией одного из лучших. Аристотель, например, считает, что это – «прекрасное государственное устроение», которое «превосходит» другие общества и близко к спартанскому (Политика II 8, 1272b 24‑41).
[1893]
Платон изображает древнейшее общество с установленным государственным строем и постепенным падением добродетели в Атлантиде. См.: Тимей, прим. 28, и Критий, прим. 32, 39. О периодически испытываемых человечеством катастрофах см.: Тимей 22а – 23d, а также Критий, прим. 47. У Платона возраст древнейших государств исчисляется в пределах 9 (Атлантида) – 11 тысяч лет (первые египетские цари).
[1894]
О Дедале
см.: Ион, прим. 10, и Менон, прим. 45; об Орфее
– Ион, прим. 11; о Паламеде
– Апология Сократа, прим. 56; о Марсии
– Пир, прим. 85; об Олимпе
– там же, прим. 86; об Амфионе
– Алкивиад II, прим. 10.
[1895]
Имеются в виду следующие стихи из поэмы «Работы и дни» (40 сл.):
Дурни не знают, что больше бывает, чем всё, половина,
Что на великую пользу идут асфодели и мальва.
Пер. В. В. Вересаева.
Древние видели здесь скрытый намек на особые качества мальвы и асфоделей, семена которых затем были использованы Эпименидом из‑за их чудесных качеств и «великой помощи» (Плутарх.
Застольные беседы 14 // Пир семи мудрецов).
[1896]
Од. XI 112–115, пер. В. Жуковского. Судя по данному примеру, династия ограничена законами для одной отдельной семьи, где власть принадлежит отцу. На Гомера ссылается Аристотель (Политика I 1, 1252b 22).
[1897]
Ионийцы – древнейшее греческое племя, населявшее Аттику, малоазиатский берег (города Смирна, Эфес, Милет, Колофон и др.), а также о‑ва Самос и Хиос. По преданию, происходили от Иона, сына афинской царевны Креусы, и Ксуфа, отцом которого был Эллин (Аполлодор I 7, 3, 2). См. также: Ион, прим. 32.
[1898]
О власти
старейшего в доме, или, что то же, «ойкономической» (οίκος – дом) власти в семье или роде как простейших ячейках государства, пишет Аристотель (Политика I 1, 125а 8). Именно эту власть родовых старейшин имеет в виду Фукидид, когда упоминает о «наследственной царской власти» (πατρικαί βασιλείαι – I 13, 1).
[1899]
Ил. XX 216–218, пер. В. В. Вересаева. Здесь объединяются две формы государственной власти: вторая
– в виде отдельных поселений на склонах горы Иды и третья – уже в виде большого и богатого города. Страбон, говоря о периодизации Платона, добавляет, что могут существовать четвертая, пятая формы и даже больше (XIII 1, 25).
[1900]
Осада Трои
изображена в «Илиаде» Гомера и в киклических поэмах «Эфиопида» и «Малая Илиада». Гибель Трои – в киклической поэме «Разрушение Илиона».
[1901]
О событиях на о‑ве Итака во время отсутствия царя Одиссея и после его прибытия повествует «Одиссея» Гомера. В «Агамемноне» Эсхила описывается убийство вернувшегося на родину царя Аргоса и Микен. В «Андромахе» Еврипида – гибель Неоптолема, сына Ахилла, в родном доме.
[1902]
Ахейцами
именовались греческие племена, разрушившие Трою. Дорийцы,
по одним сведениям, были потомками Дора, сына Эллина (Аполлодор
I 7, 3, 2 сл.). По другим – дорийцы происходят от Дориея, сына Неоптолема и Леонассы, дочери Клеодея (Androm. 24 // Scholia in Euripidem // Coll. E. Schwartz. Vol. I. Berolini, 1887). Историк Лисимах (FGH III В), на которого ссылается схолиаст, приводит имена братьев Дориея: Пергам, Пандар, Еврилох и Молосс – эпонимы одноименной страны.
[1903]
Указанные здесь цари происходят из рода Гераклидов. Это потомки Геракла и его сына Гилла: Темен
и Кресфонт
были сыновья Аристомаха, правнука Гилла, Прокл
и Еврисфен
– сыновья Аристодема, т. е. племянники Темена и Кресфонта. См.: Менексен, прим. 20.
[1904]
По Платону оказывается, что Троя входила в ассирийскую державу, основание которой Нином
Геродот (I 96) относит к 1273 г.
[1905]
Первое разрушение Трои приписывается Гераклу: он был разгневан тем, что не получил от царя Лаомедонта, дочь которого он спас от чудовища, обещанной награды – коней, некогда отданных Зевсом царю Тросу как выкуп за похищенного царевича Ганимеда (Гомер.
Ил. V 266–267; Аполлодор
II 5, 9, 11‑12). У Гомера сын Геракла Тлеполем похваляется перед троянцем Сарпедоном, что его отец Некогда прибыл сюда за конями Лаомедонта
Только с шестью кораблями, с значительно меньшим отрядом
И разгромил Илион ваш и улицы сделал пустыми.
Ил. V 640–642, пер. В. В. Вересаева.
[1906]
Собственно говоря, не сыновья Геракла, а его потомки.
[1907]
Пелопиды
– потомки царя Пелона – Агамемнон и Менелай, стоявшие во главе ахейского войска, осаждавшего Трою. Их именуют обычно по отцу – Атрею – Атридами.
[1908]
Взятие Трои (XII в.) было в историческом плане последним большим деянием ахейского союза племен – носителей богатейшей микенской культуры с центрами в Микенах, Аргосе и Тиринфе. Пришедшие с севера дорийцы
вытеснили ахейцев
на рубеже II и I тысячелетий.
[1909]
Прежде чем утвердиться в Пелопоннесе, Гераклиды многократно вопрошали оракул Аполлона Дельфийского. Так, Гилл‑младший, внук Геракла, получив изречение, что он должен ждать третьего плода и пройти в Пелопоннес по узкой воде, пытался пройти через перешеек Истм, но он неправильно истолковал предсказание и пал в битве. Его правнуки Темен и Кресфонт решили, что, как его потомки в третьем колене, они должны вторично проделать тот же путь, но уже по морю вблизи Истма, однако боги воспрепятствовали им, так как в пути они совершили насилие «ад одним прорицателем. По новому совету оракула – поставить во главе похода трехглазого – они избрали вождем одноглазого этолийского царя Оксила, ехавшего им навстречу на муле, затем успешно вторглись в Пелопоннес, убили сына Ореста Тисамена и поделили земли на три государства.
[1910]
Имеется в виду афинский царь Тесей,
поверивший клевете своей жены Федры, которая обвинила сына Тесея Ипполита
в преступной к ней любви. Отец проклял невинного сына, и тот был растоптан собственными конями, понесшими его от страха перед чудовищем, высланным Посейдоном по молитве Тесея (Еврипид.
Ипполит).
[1911]
Эта греч. пословица полностью соответствует лат. пословице «Neque litteras neque natare didicit». Светоний (Август 64) упоминает, что Август сам обучал своих внуков «и читать, и плавать», т. е. самому необходимому.
[1912]
См.: Горгий, прим. 35.
[1913]
В «Государстве» читаем: «…некоторым людям по самой их природе подобает быть философами и правителями государства, а всем прочим надо заниматься не этим, а следовать за теми, кто руководит» (V 474с). Таким образом, только философы, по Платону, имеют подлинное притязание на власть.
[1914]
См. прим. 3.
[1915]
Здесь характерное для этического и эстетического сознания классической античности провозглашение меры как принципа жизни вообще. В «Политике» Платон пишет, что все искусства, в том числе и государственное, «остерегаются того, что превышает умеренное или меньше него… потому что это затрудняет свершения: сохраняя таким образом меру, они совершают все хорошее и прекрасное» (284а). У Эсхила хор дружественных Океанид порицает Прометея за то, что он «слишком» (άγαν) свободно говорит (Прометей прикованный 180); не менее дружественный Гефест порицает Прометея за то, что он помогал людям «больше того, чем следовало по справедливости» (πέρα δίκης, 30); сам же Прометей оплакивает себя за свою «чрезмерную любовь к смертным» (123). Все, что «слишком», «чрезмерно» и «против законного установления», приводит человека к «дерзости» (ΰβρις), которая всегда карается богами. Здесь у Платона говорится именно о человеке, «ставшем дерзким», «обнаглевшим» (έξυβρίζοντα), так как он потерял чувство меры.
[1916]
Т.е. Аполлон Дельфийский, по велению которого получили царскую власть Прокл и Еврисфен (см. прим. 11) и в дальнейшем их потомки, разделившиеся на два рода – Агидов (по Агису – сыну Еврисфена) и Еврипонтидов (по Еврипонту – внуку Прокла).
[1917]
Имеется в виду законодатель Ликург, установивший так называемые герусии из 28 старейшин.
[1918]
Имеется в виду царь Теопомп, живший, по Плутарху (со ссылкой на Платона), через 130 лет после Ликурга и установивший власть ежегодно сменяемых пяти эфоров (Ликург VII).
[1919]
См. прим. 11 и 17.
[1920]
Эллада
– Спарта; одно из них
– Мессения (см. кн. VI, прим. 32). Во время греко‑персидской войны после 481 г. аргосцы вопросили Дельфийский оракул о возможном союзе со своими соседями против общего врага, но, узнав, что пифия советует им «сидеть настороже», «удерживать копье дома», «защищать голову, что спасет туловище», потребовали от спартанцев признания их главенства над союзом греческих племен и заключения тридцатилетнего мира. Оскорбленные словами спартанских послов, что аргосский царь может иметь только равный голос вместе со спартанскими царями, аргосцы, как пишет Геродот, «предпочли покориться варварам, нежели уступить лакедемонцам» (VII 148–149).
[1921]
О видах государственного устройства
см.: Государство VIII прим. 4‑9, 12.
[1922]
Имеется в виду Кир Старший
– персидский царь (559–529): см.: Менексен, прим. 21.
[1923]
См. там же.
[1924]
Дарий, собираясь захватить власть и свергнуть Лже‑Смердиса, вступил в заговор с шестью знатными персами, т. е. Дарий был седьмым среди них.
[1925]
Ксеркс
– сын Дария и Атоссы, дочери Кира. Его войска потерпели поражение от греков. О его плачевном возвращении на родину см. трагедию Эсхила «Персы». См.: Алкивиад I, прим. 5.
[1926]
Все персидские цари, по обычаю, именовались Великими.
См.: Апология Сократа, прим. 53.
[1927]
Классическим примером противопоставления персидскому деспотизму греческой свободы может служить аллегория из трагедии Эсхила «Персы». Царица Атосса видит во сне двух женщин, одну в персидском, другую в дорийском одеянии, которых царь Ксеркс впряг в свою колесницу.
Одна в наряде рабьем гордо шествует,
Покорно рот поводьям повинуется.
Зато другая вздыбилась. Руками в щепы
Сломала колесницу, сорвала ярмо
И без узды помчалась неподвластная.
181‑189, пер. А. Пиотровского.
[1928]
Подразумевается предпринятое Солоном разделение граждан по имущественному цензу, а не по знатности рода. Первый класс – пентакосиомедимны, получавшие ежегодно 500 медимнов хлеба (1 медимн = прибл. 52 л); второй – всадники, получавшие 300 мер или содержавшие лошадь; третий – зевгиты, получавшие 200 мер. Эти три класса платили соответственные имуществу налоги, участвовали в управлении государством и занимали высшие должности. Четвертый класс – феты – не платил налогов, но и не занимал должностей. Феты только присутствовали в народном собрании и могли быть судьями (Плутарх.
Солон XVIII).
[1929]
Датис
возглавлял персидский флот и овладел островами Эгейского моря. Однако при Марафоне был разбит греками. См.: Менексен, прим. 22, 24, 26.
[1930]
Эретрия
находилась на о‑ве Эвбея, расположенном вдоль берегов Беотии и Аттики.
[1931]
См.: Менексен, прим. 25.
[1932]
Афон
– гора на п‑ове Халкидика, соединенном с материком узким перешейком в 5 м высоты и 3 тыс. шагов ширины. Воины Ксеркса в течение трех лет прорывали здесь канал, так как персидские корабли, огибая Афон, потерпели кораблекрушение. Геродот, сообщивший эти сведения (VII 22‑23), добавляет, что Ксеркс приказал перекопать перешеек «из высокомерия, из желания выставить на вид свое могущество и оставить по себе памятник» (VII 24), хотя можно было без труда перетащить корабли через перешеек. Геллеспонт
– пролив между Фракийским Херсонесом и Троадой в Азии, соединяющий Эгейское море и Пропонтиду. В самом узком месте ширина его около полутора километров. Ныне – Дарданеллы.
[1933]
См.: Менексен, прим. 26.
[1934]
Френ
– заплачка, погребальная песнь. Пэан
– гимн в честь Аполлона, которому были посвящены также просодии, ном, гипорхема (вместе с мимическими телодвижениями), парфении (Аполлону и Артемиде). Дионис
сам именовался дифирамбом.
Этимология этого слова, принадлежащего к Эгейскому субстрату древнегреческого языка, неясна. Может быть, *tityr – ambos («в четыре шага»), т. е. четырехстопный размер (ср.: *Fi – ambos – «в два шага», triambos – «в три шага». Hofmann J. В.
Ethymologisches Worterbuch des Griechischen. Munchen, 1950).
[1935]
Номы
(νόμοι), т. е. «законы», – в музыке не что иное, как твердо установленные лады, или гармонии, по‑греч. являются омонимом «законов государственных».
[1936]
См. II, прим. 18.
[1937]
Ср. комедию Аристофана «Облака»: по мнению автора, софистическое воспитание приводит к непочитанию родителей, отрицанию древних богов и законов.
[1938]
Люди, по преданию, обладают двойной природой – дионисийской и титанической. Титаны,
растерзавшие Диониса и вкусившие его тела, были испепелены молниями Зевса, а из копоти появились люди (Olympiod.
In Phaed. 61c // Commentarii in Platonis Phaedonem, ed. Norvin. Lips., 1913). По Оппиану, люди «рождены из божественной крови титанов» (De pise. V 9 сл.), а по Элиану (фр. 189) – «из семени титанов», но Дион Хрисостом считает, что «человеческий род получил свое существование от богов, а не от титанов и гигантов» (XXX, р. 337, 27 сл.).
Цицерон комментирует: «Наш Платон полагает, что из рода титанов происходят те, которые так противятся должностным лицам, как титаны противились небесным богам» (De Legg. II 2, 5). По Гесиоду, титаны были низвергнуты в Тартар Зевсом и олимпийскими богами (Теогония 665–731).
[1939]
Букв, «свалиться с осла» – άπ' όνου (см. Suidae). В греч. это звучит одинаково с από νοΰ, т. е. «с ума», «сойти с ума». Чтобы избежать двусмыслицы, излюбленной комиками, Платон вставляет между предлогом и существительным местоимение: в греч. тексте читаем: «С какого‑то осла».
[1940]
Поговорка, которая встречается также в «Федре» (242b) и означает «хорошее известие».
[1941]
Если стадий
около 180 м, то город отстоит от моря примерно на 14 км.
[1942]
Гесиод в «Работах и днях» тоже полагает, что людям «в море пускаться» нет нужды, если «получают плоды они с нив хлебодарных» (236 cл.). Гораций мечтает о богатых, изобильных землях вдали от иноземцев, куда бы не устремлялся корабль аргонавтов и «не направили туда кораблей ни пловцы‑финикийцы, ни рать Улисса, много претерпевшего», так как «Зевс уготовил брега те для рода людей благочестных» (Epod. XVI 59‑63).
[1943]
Критский царь Минос
пошел войной на афинян и заставил их платить дань (семь юношей и семь девушек ежегодно), после того как в Афинах был убит его сын Андрогей, превзошедший соперников на состязаниях (Плутарх.
Тесей XV).
[1944]
О морском владычестве Миноса – у Геродота (III 122). Фукидид пишет: «Минос раньше всех, как известно нам по преданию, приобрел себе флот, овладел большею частью моря, которое называется теперь Эллинским, достиг господства над Кикладскими островами, старался насколько мог уничтожить на море пиратство, чтобы тем вернее получать доходы» (I 4). Он «очистил острова от разбойников и тогда же заселил их колонистами» (там же, I 8, 2).
[1945]
Ср. признание поэта Архилоха, наемного воина, ничуть не смущенного тем, что он бросил свой щит:
Носит теперь горделиво саиец мой щит безупречный;
Волей‑неволей пришлось бросить его мне в кустах.
Сам я кончины зато избежал. И пускай пропадает
Щит мой. Не хуже ничуть новый могу я добыть.
Фр. 6, пер. В. В. Вересаева.
Геродот (V 95) сообщает, что поэт Алкей спасся бегством в битве, а оружием его завладели афиняне и повесили его в храме Афины. Алкей, не смущаясь, описал этот случай в стихах и послал другу (fr. 49 Diehl).
У Анакреонта также есть стихи о том, кто бежал,
Бросив щит свой на берегах
Речки прекрасноструйной.
Фр. 51, пер. В.В Вересаева.
[1946]
Ил. XIV 96‑102.
[1947]
Пентеконтарх
– начальник 50 гребцов на судне, вообще – командир отряда из 50 человек.
[1948]
См.: Менексен, прим. 26.
[1949]
См. там же, прим. 24 и 27.
[1950]
См. там же, прим. 26.
[1951]
В греч. тексте διακυβερνωσι, букв, «правят кораблем», т. е. бог, судьба и благовремение – кормчие, а государство – корабль. См.: Политик, прим. 43.
[1952]
Удачливый,
или счастливый, тиран, как его изображает здесь Платон, не имеет ничего общего со «счастливым» тираном из «Государства» (см.: прим. 14 к IX кн.).
[1953]
См.: Политик, прим. 35; см. также: Государство IX, прим. 14 – о достоинствах властителей.
[1954]
См.: Гиппий Меньший, прим. 4.
[1955]
О Лакедемонском государстве см.: кн. I, прим. 1; Критон, прим. 15; Государство VIII, прим. 16.
[1956]
Как видно из дальнейшего, речь идет о Кроносе.
[1957]
Платон не раз привлекает мифы для разъяснений важных идей. См., например: Протагор, прим. 31, Горгий, прим. 80. Иные мифы он создает сам – см.: Пир, прим. 75, Федр, прим. 51.
[1958]
Блаженное царство Кроноса еще Гесиод относил к золотому веку истории, когда люди жили «как боги, с беззаботным сердцем, вдали от трудов и горя». Они не знали старости, владели богатствами в изобилии, а пашня «сама по себе» (αϋτομάτην) рождала им плоды. Умирали они, «будто охваченные сном», становясь после смерти демонами Зевса, дарователями благ и блюстителями правды на земле (Гесиод.
Работы и дни 109–126). Царство Кроноса, где царит вечность и нет ничего преходящего, мыслится на островах Блаженных, см.: Горгий, прим. 80; см. также: Политик 269а – 272d.
[1959]
Ср. греч. νόμος – закон и διανομή – разделение, установление, в наст. переводе – определение.
[1960]
Ср.: Государство 338е – 339а, где софист Фрасимах заявляет, что всякая власть издает законы сообразно с ее пользой и объявляет их справедливыми.
[1961]
Ср.: Горгий 483d, где говорит софист Калликл: «Сама природа… провозглашает, что это справедливо – когда лучший выше худшего и сильный выше слабого».
[1962]
См.: Горгий, прим. 35.
[1963]
По Апельту и др., вместо «богам» – «законам».
[1964]
Здесь зоркость, или острота зрения, οξύ βλέπεις, равнозначна зоркости и остроте ума, которых не хватает молодым. См. в «Федоне» (75а), где «мысль возникает и может возникнуть не иначе как при помощи зрения, осязания или иного чувственного восприятия». У Гомера герои обычно «мыслят» глазами, что равносильно видению (Ил. III 21, IV 200, V 95, VI 470, VII 17, XX 419, XXI 49, XXII 136, XXIII 415 и мн. др.). О зрительном восприятии глагола «мыслить» см.: Лосев А. Ф.
Эстетическая терминология ранней греческой литературы // Ученые записки МГПИ им. Ленина. Т. 83. М., 1954. С. 130–132.
[1965]
Это древнее представление о божестве отмечено схолиастом к данному месту со ссылкой на орфический стих: «Зевс – начало, Зевс – середина, от Зевса все устроено. Зевс – корень (πυθμήν) земли и звездного неба» (fr. 21 Kern.). Ср. также фр. 21а, где Зевс именуется «первым» и «последним», «главой» и «серединой», «корнем моря» (πόντου ρίζα).
[1966]
См.: Тимей 33d – 34d, прим. 34, 44‑47, 56.
[1967]
О правосудии
– Дике см.: Горгий, прим. 80. О Дике, мстительнице, «носящей меч», поет хор в «Вакханках» Еврипида (992 сл., 1012 сл.).
[1968]
О мере
см. кн. III, прим. 23; о стремлении подобного
к подобному
– Горгий, прим. 63.
[1969]
Здесь дается простейшая иерархия божеств, которая в дальнейшем у неоплатоников дошла до утонченной дифференциации. У Ямвлиха (IV в. н. э.), например, есть боги «надмирные», «небесные», или «водительные», которых оказывается 360; 72 ряда «поднебесных» богов; 42 ряда богов «природы», боги «охраняющие» и демоны для отдельных народов и людей (Procl. In Tim. Ill 197, 12‑20 // Procli Diadochi in Platonis Timaeum commentaria / Ed. E. Diehl. Vol. 1‑3. Lipsiae, 1903–1906). У неоплатоника Саллюстия (IV в. н. э.) боги делятся на создающих мир (Зевс, Посейдон, Гефест), одушевляющих его (Гера, Деметра, Артемида), упорядочивающих (Афродита, Аполлон, Гермес) и охраняющих (Гестия, Арес, Афина) (Fragmentae philosophorum graecorum. Ed. F. Mullach. III. Paris, 1881, p. 30–50).
Пифагорейцы полагали, что «число – самое мудрое из всех вещей» (58 С 2 в Diels), поэтому они учили о богах в связи с математическими и астрономическими построениями (44 В 19; А 14 Diels). Нечетные числа здесь предназначены небесным богам, так как они не могут дробиться в отличие от четных, уходящих при раздроблении в бесконечность. Так, например, Афина, будучи у неоплатоников принципом неделимости ума (Procl. In Tim. II 145, 18), у пифагорейцев оформляется уже в нечетное (а значит, неделимое) число – пентаду, «пятерицу», или гептаду, «седмерицу» (Ps. – Jambl.
Theolog. arithm. 41, 18 Falc. = Theologumena arithmeticae / Ed. V. de Faico. Lips., 1922), или гебдомаду (Philon.
De opificio mundi 33 = Philonis Alexandrini Opera quae supersunt / Ed. L. Cohn et P. Wendland. I. Berl., 1896).
[1970]
См.: Горгий, прим. 80.
[1971]
Работы и дни 289–292.
[1972]
О поэтическом творчестве см.: Ион и прим. 14, 16.
[1973]
См.: Кратил, прим. 86; Софист, прим. 18; Государство III, прим. 38, X, прим. 2.
[1974]
Это место интересно тем, что здесь Платон отражает действительный факт дифференциации внутри класса рабов в классическом античном обществе, когда среди рабов появился слой, близкий по своим занятиям к свободным. У Платона нам известны знаменитые врачи из свободных – Эриксимах («Пир») и Геродик («Протагор»).
[1975]
Платон придает огромное общественное и государственное значение браку. См.: Государство V, прим. 14.
[1976]
Чтение по Асту; вместо «к необходимости», по Штальбауму – «к власти», по Барнету – «к схватке».
[1977]
Платон говорит о «проэмии», т. е. вступлении в песне, прозе или в специальном риторическом произведении; в греческой метрике употребляется еще и другой вид вступления, так называемая анакруза, или затакт.
[1978]
Вероятно, имеется в виду Мегилл.
[1979]
Схолиаст отмечает происхождение пословицы от обычая вторично приносить жертву, после того как в первый раз она была неблагоприятной. См.: Hesich.
Δεύτερον άμεινόνων.
[1980]
Платон противопоставляет свой тезис общему мнению о славе и почете олимпийских победителей. Ср.: Апология Сократа 36de, где также Сократ считает себя не хуже олимпийских победителей.
[1981]
Зевс‑Гостеприимец
(Ксений), покровитель – сакральный эпитет Зевса. См. у Гомера (Од. XIV 389), Пиндара (Немейские оды XI 9; Олимпийские оды VIII 28), Эсхила (Агамемнон 61, 362; Suppl. 641) и мн. др.
[1982]
Молящих пощады
защищал Зевс‑Гикесий. Ср. обращение к нему в трагедии Эсхила «Умоляющие» (1 сл., 40‑43, 86‑95, 162–180).
[1983]
Похвала правде
и осуждение лжи Платоном обращали на себя внимание многих авторов. Так, Плутарх одно из своих сочинений (Quomodo adul. ab amico internosc. 1) начинает ссылкой на Платона. Юлиан, говоря о правде, от которой происходит все благое, вспоминает Платона, Пифагора и Сократа (Orat. VI 188с // Juliani Imperatoris quae supersunt omnia / Rec. R. Hertlein. Bd 1‑2. Lipsiae, 1875–1876). Платон служит примером и для Климента Александрийского (II 4, 18, 1 // Строматы, творение Климента Александрийского / Пер. Н. Корсунского. Ярославль, 1892).
[1984]
См.: Федон, прим. 58.
[1985]
По Апельту, в тексте возможно искажение.
[1986]
Ср.: Апология Сократа 20аb, где также сравнивается воспитание юношей с выращиванием жеребят и бычков.
[1987]
Платон использует здесь термин ритуального очищения
для политических реформ государства. Ср. замечания об очищении от скверны, проведенном в Афинах Эпименидом (см. кн. I, прим. 34) и Диотимой (Пир 201d).
[1988]
В политической борьбе греческих государств часто практиковалось изгнание
в разных видах, например остракизм (посредством голосования на черепках, «остраконах») граждан, считавшихся особенно опасными по своему влиянию. Так, остракизму подверглись соперники в руководстве греко‑персидской войной – Аристид в 483 г. (см.: Плутарх.
Аристид VII) и Фемистокл в 471 г. (Фукидид
I 135). Последним из подвергшихся остракизму был, по словам Плутарха, Гипербол во время Пелопоннесской войны (благодаря стараниям Алкивиада и Никия). Перикл, боясь остракизма, в молодости даже не занимался политикой (Плутарх.
Аристид VII // Сравнительные жизнеописания. Т. 1). Плутарх пишет, что остракизм не был наказанием за какой‑нибудь низкий проступок: благопристойности ради он назывался «усмирением и обузданием гордыни и чрезмерного могущества» (там же).
[1989]
Здесь имеется в виду выселение граждан при основании колоний.
[1990]
См.: Менексен, прим. 20.
[1991]
Ср. слова Сократа у Ксенофонта, что «воздержание есть основа добродетели» (I 5, 4), где, как и у Платона, употребляется один и тот же строительный термин – «цоколь», «основание», «фундамент» (κρηπίς).
[1992]
Герман предлагает вместо μεταβάσεως – «переход» читать της βάσεως – «основание».
[1993]
Здесь также употреблен термин из архитектурно‑строительной техники: έρμα – «герма», «краеугольный камень», «подпора», «опора», «подставка». Ср. у Плутарха о «прочной опоре города» в трактате «Наставления о том, как следует управлять государством» (17, 814с).
[1994]
Все граждане колонии – земледельцы,
т. е. геоморы (γεωμόροι – «получившие надел земли»), или, что то же, клерухи (κληροΰλοι – «получившие надел по жребию»); см. также: Евтифрон, прим. 12. В Афинах, например, Тесей все население разделил на сословия (Плутарх.
Тесей XXV) евпатридов («благородных»), геоморов («земледельцев») и демиургов («ремесленников»). У Геродота говорится о сиракузских геоморах (VII 155).
[1995]
О святилищах в Дельфах
и Додоне
см.: Федр, прим. 27; об Аммане
– Алкивиад II, прим. 14. Геродот рассказывает (II 55), как две черные голубки из египетских Фив прилетели в Ливию и в Додону и человеческими голосами попросили учредить прорицалище Зевсу и Аммону. Без вопрошения этих оракулов не предпринималось ни одно серьезное дело. Недаром Цицерон писал: «Когда же греки посылали колонии в Эолию, Ионию, Азию, Сицилию, Италию, не спросив оракула пифийского или додонского или Аммона? Или начинали войну без совета богов?» (О гадании I 1, 3 // Философские трактаты / Пер. с лат. М. И. Рижского. М., 1985).
[1996]
Тирренские таинства,
по преданию, были установлены пеласгами – древнейшим, догреческим населением Греции, – которые, по свидетельству Геродота (II 51), установили и самофракийские мистерии. Кипрские таинства
были посвящены Афродите. Павсаний сообщает о том, что ассирийцы первые почитали Афродиту‑Уранию, «а после ассирийцев из жителей Кипра – пафийцы» (I 14, 7); см. также: Пир, прим. 40.
[1997]
Поговорка, взятая из игры в шашки: так как решительный ход делался на середине доски, это пространство называлось священным.
[1998]
См.: Федр, прим. 87.
[1999]
Ср. образ Матери‑Земли у Гесиода (Теогония 177 сл.). См. также: Тимей, прим. 83.
[2000]
Ср. ниже, 818е.
[2001]
Ср.: Государство III, прим. 80.
[2002]
Класс
здесь соответствует имущественному положению граждан (τιμήματα), так что подобное государство начисто отрицает родовой принцип.
[2003]
См.: Кратил, прим. 41.
[2004]
Клисфен (VI в.) уничтожил разделение Аттики на 4 племенные филы, поделив ее географически на 10 фил, в свою очередь разделенных каждая на 10 сельских округов – демов.
Политическую роль рода – фратрии
– он также уничтожил, оставив за ней религиозное значение. По Аристотелю (Поэтика III 1448a 35‑37), афинские демы соответствуют дорийским комам.
Обычно «кома» – селение.
[2005]
Ср.: Государство IV 436а – о корыстолюбии египтян и финикиян.
[2006]
Разночтение в рукописях: одно чтение – έναίσιοι («благоприятные»), другое – άναίσιοι (видимо, «несчастливые») – слово, нигде больше в греческой литературе не встречающееся. Аст предлагает читать εξαίσιοι («несправедливые», «чрезмерные»).
[2007]
Проверка прав граждан, домогающихся правительственных должностей, или юношей, включающихся в списки граждан, называлась в Афинах докимасией. См. ниже, 753е.
[2008]
О возлагании дощечек
или камешков на алтарь см. у Плутарха (Фемистий XVIII, Перикл XXXII // Сравнительные жизнеописания. Т. 1).
[2009]
Игра слов: греч. αρχή – это и «начало», и «власть».
[2010]
Гиппарх
– начальник конницы. Отряд, принадлежавший к одной и той же филе, называется «фила», или «таксис» (строй); во главе него стоял филарх,
или таксиарх.
[2011]
По Ксенофонту, войско обычно все решения принимало поднятием рук, см., например, Анабасис III 2, 38.
[2012]
О пританах
см.: Апология Сократа, прим. 26. Гоплиты
– тяжеловооруженные воины, см.: Алкивиад I, прим. 50.
[2013]
Аристотель считает, что платоновское государство есть среднее между демократией и олигархией и «носит название политии» (Политика II 3, 1265b 27), но никак не является соединением демократических и монархических элементов (там же, 1266а 23‑25).
[2014]
Ср.: Пир, прим. 61.
[2015]
Плутарх в своих рассуждениях о боге Платона, действующем всегда в качестве превосходного геометра (см.: Quaest. conv. VIII 2, 1 // Quaestionum convivalium libri IX // Op. cit. / Rec. C. Hubert. Vol. IV. Leipzig, 1971), приходит к мысли, что отношение «арифметического» равенства большинства, характерное для демократии, было справедливо изгнано Ликургом и заменено отношением «геометрического» равенства, основанного на достоинствах человека, а не на простых количественных соотношениях. Таким образом, равенство в платоновском государстве предусмотрено, если следовать Плутарху, самим богом. По мнению Плутарха, Платон, следуя Ликургу, отдает должное добродетели человека, обусловливая равенство справедливостью, а не ставя справедливость в зависимость от равенства. Геометрические отношения, создающие подлинное равенство, соответствуют закону и здравому смыслу, являясь проекцией божественного установления на земле (VIII 2, 2). Аристотель же в «Политике» (II 3) критикует почти всю законодательную сторону государства у Платона.
[2016]
См.: Политик, прим. 43.
[2017]
Смотрители («неокоры») – служители, «наводящие порядок в храме и подметающие его» (Etym. Magn. Ζάκορος).
[2018]
Астиномы
– должностные лица, наблюдающие за порядком на улицах города; см. ниже, 763d. Агораномы
– должностные лица, наблюдавшие за порядком на городских рынках; см. ниже, 763с.
[2019]
По Апельту – «низшее сословие народа (демоса) и высшее». К. Риттер также считает, что здесь равнозначны demos и vulgus именно как низшее сословие и речь совсем не идет о жителях данных округов (демов) и тех, кто в них не входит (Штальбаум, Зуземиль).
[2020]
Ср.: Плутарх.
Ликург XVI.
[2021]
Фрурарх
– начальник стражи крепости или городского гарнизона. Здесь это должностное лицо, заботящееся о военной безопасности своей области, в то время как агроном
в отличие от агораномов (см. прим. 12) – это должностное лицо по сельским и земельным делам.
[2022]
Этому замечанию Платона созвучна мысль Аристотеля, гораздо более определенная и четкая. Человек, живущий в системе государственных законов, – «совершеннейшее из творений», а «вне закона и права занимает жалчайшее место в мире». Природа дает человеку интеллектуальную и моральную силу. Однако без нравственных устоев человек «оказывается существом самым нечестивым и диким» (Политика I 2, 1253а 29‑37).
[2023]
Следующий далее до конца абзаца фрагмент выпадает из контекста.
[2024]
Примеры из практики живописцев см. у Платона в «Кратиле» (430b – 432d), «Государстве» (IX 586с), «Политике» (277с).
[2025]
Аристотель в «Поэтике» (21, 1457b 23‑25), говоря о «вечере жизни», ссылается на выражение Эмпедокла, назвавшего старость «закатом жизни» (31 В 152 Diels).
[2026]
В кратере вино смешивали с водой, т. е. умеряли буйное действие Диониса трезвостью водяного божества. Это место «Законов» часто цитировали поздние писатели (Plut.
De aud. poet. 1; Athen.
X61, 444a; Псевдо‑Лонгин.
О возвышенном ХХХII 7 – о метафоре).
[2027]
Ликург в Спарте установил наказание для холостяков, в частности их не пускали на гимнопедии (Плутарх.
Ликург ХV)
[2028]
Деньги
посвящали Гере
как покровительнице брака.
[2029]
Плутарх сообщает, что прославленного спартанского полководца Деркиллида оскорбил как холостяка некий юноша, не уступивший ему места и сказавший так: «Ты не родил сына, который бы в свое время уступил место мне» (Ликург XV).
[2030]
У Барнета в тексте γηράσκειν («стареть», «созревать»). Данный перевод соответствует поправке на полях рукописи, которая приводится Барнетом в критическом аппарате: διδάσκειν («воспитывать», «наставлять»).
[2031]
Имеется в виду Дионис.
[2032]
Сравнение взято из обряда лампадодромий, бега с факелами
на Великих Панафинеях, когда надо было донести до цели неугасший факел, зажженный у алтаря Эроса, бога любви.
[2033]
См.: Алкивиад I, прим. 41.
[2034]
Гераклейцы
– жители Гераклеи на Понте Евксинском, мариандины
– народ в с.‑з. части М.Азии – Вифинии, пенесты
– племя в Фессалии, порабощенное завоевателями.
[2035]
Гомер.
Од. XVII 322 сл., пер. В. Жуковского с небольшим изменением, так как у Платона вместо гомеровских слов «половина доблести» стоит «половина разума».
[2036]
У Аристотеля в противоположность Платону – абсолютное признание естественности рабского состояния человека; см.: Менексен, прим. 19.
[2037]
Мессения
– самая ю.‑з. часть Пелопоннеса. Завоевана своим восточным соседом – Спартой – в результате ряда войн. Первая – 743–724 гг., вторая – 685 г., третья – 464–455 гг. Известны переселения мессенцев
на юг Италии, в Тарент и в Навпакт, у Коринфского перешейка. Один из главных источников о мессенских войнах – IV кн. «Описания Эллады» Павсания.
[2038]
Лексикограф Поллукс (Πατριώτης) сообщает: «Варвары именовали друг друга не гражданами (πολίτας), а соотечественниками (πατριώτας)…» Платон в «Законах» и греков называет «соотечественниками». У Гесихия Александрийского читаем: «Соотечественник (πατριώτης) у афинян – варвар, не гражданин (πολίτης)».
[2039]
Ср.: Аристотель.
Политика I 2, 1255b 33‑35.
[2040]
В трактате «О возвышенном» Псевдо‑Лонгин приводит эту метафору Платона как пример холодности речи возвышенного стиля (IV 6).
[2041]
Ср. слова Ликурга у Плутарха: «Лишь тот город не лишен укреплений, который окружен мужами, а не кирпичами» (Ликург XIX).
[2042]
Схолиаст поясняет эти слова как пословицу о тех, кто делает что‑либо напрасно, тщетно.
[2043]
Аристотель рассказывает: «Когда Ликург, по преданию, попробовал подвести под свои законы и женщин, они стали сопротивляться этому, так что Ликургу пришлось отказаться от своего намерения» (Политика II 6, 1270а 6‑8).
[2044]
Возможно, искажение текста. Перевод «жилье» – по Апельту, предложившему вместо βρωμάτων, «пища», читать στρωμάτων, «подстилка», «ложе».
[2045]
Дары Деметры
(см.: Кратил, прим. 56) и Коры,
ее дочери, – злаки, хлеб. О Триптолеме
см.: Апология Сократа, прим. 54.
[2046]
Ср.: Государство VIII 565d – о человеческих жертвах в храме Зевса Ликейского в Аркадии, о чем свидетельствует Павсаний (VIII 38, 7). Павсаний также рассказывает о Ликаоне, зарезавшем на алтаре Зевса младенца: «…сейчас же после этой жертвы он из человека был обращен в волка» (VIII 2, 3). Плутарх сообщает о человеческом жертвоприношении, совершенном Фемистоклом накануне Саламинской битвы в честь Диониса Оместа – «пожирающего сырое мясо» (Фемистокл XIII).
[2047]
Не вкушали мяса орфики и пифагорейцы. В «Послезаконии» Платон пишет о том, что «начатки знаний» – выращивание злаков и производство круп – в значительной мере отучили людей от питания мясом (975ab).
[2048]
См.: Пир, прим. 7.
[2049]
Не вполне ясное место. Перевод предположительный.
[2050]
Сравнение из торгового обихода. См.: Hesich.
Δείγματα.
[2051]
Имеется в виду выработка так называемой калокагатии; см.: Алкивиад I, прим. 48.
[2052]
Ср.: Аристофан.
Птицы 1290 – о «птицебезумии» афинян.
[2053]
См.: Критон, прим. 19.
[2054]
См. у Аристотеля рассуждение о том, что человек «потому и имеет руки, что он – разумнейшее животное» и что «рука – как бы инструмент инструментов», а тому, «кто может воспринять наибольшее число искусств, природа дала руку, наиболее пригодный из инструментов» (О частях животных IV 10, 687а).
[2055]
См.: Лисид, прим. 14.
[2056]
Панкратий
– борьба в соединении с кулачным боем. Спартанцы не занимались этим видом гимнастических упражнений.
[2057]
См.: Евтидем, прим. 52.
[2058]
Об Антее
см.: Теэтет, прим. 33. Керкион
– сын Посейдона (по схолиасту, сын Бронха и нимфы Аргиопы). Его убил в Элевсине по пути в Афины герой Тесей (Овидий.
Метаморфозы VII 439). Принуждал к борьбе путников и употребил впервые, по схолиасту, борьбу с помощью ног, в то время как Тесей изобрел кулачный бой. Эпей
– сын Панопея, прославился как кулачный боец. Победил Евриала на погребальных играх в честь Патрокла (Ил. XXIII 664–691). Известен также как строитель деревянного коня (Вергилий.
Энеида II 264). Амик
– сын Посейдона, царь страны Бебриков, заставлявший путников вступать с собой в кулачный бой. Был убит Полидевком (Аполлодор II 1‑97; Theocr. XXII). Первый изобрел ремни для обвязывания рук во время боя.
[2059]
Куреты
– критские «демоны» (жрецы), родственные корибантам; см.: Критон, прим. 19. См. также: Diod.
X 3, 6, 7. 19‑21. О Диоскурах
см.: Евтидем, прим. 41; см. также: Гомер.
Ил. III 236–244. Од. XI 298–304. Игры в их честь – Диоскурии – устраивались также в Афинах.
[2060]
Имеется в виду Афина. Ср. у Лукиана описание пляски
Афины, в полном вооружении
появившейся из головы Зевса: «А она уже скачет и пляшет военный танец, потрясает щитом, поднимает копье и вся сияет божественным вдохновением» (Разговоры богов 8).
[2061]
В Лакедемоне девушки устраивали хоры и танцы в честь девы Артемиды Кариатидской (Павсаний
III 10, 7).
[2062]
Ср. у Аристофана описание разных торжеств в Афинах (Облака 307–309).
[2063]
Имеются в виду низшие божества. О Мойрах
см.: Государство X, прим. 29.
[2064]
См. кн. III, прим. 42.
[2065]
Нечистые дни
(по словарю Суда и Гесихию) – те, когда приносят жертвы умершим. О нечистых, или «пагубных», днях рассуждает Лукиан. Это дни, «когда должностные лица не отправляют своих обязанностей, когда нельзя ни тяжбы ставить на рассмотрение суда, ни жертвы приносить, ни вообще совершать дела, требующие благих предзнаменований» (Лжец 12).
Как объясняет схолиаст, по одним сведениям, плакальщики на похоронах
были карийцы (М. Азия), а по другим – само погребальное пение нестройно и похоже на варварское, карийское.
Гесихий (Καρίναι) объясняет, что плакальщиков, сопровождавших покойника к могиле, называли каринами.
[2066]
Благоречье,
евфемия – не только благоговейная молитва, но и благоговейное молчание.
[2067]
Ср.: Государство III 401а‑с.
[2068]
Ср. метафору из морской практики в «Федоне» (85d), где говорится о плавании через жизнь на плоту или на более устойчивом судне.
[2069]
Гомер.
Од. III 26‑28. Пер. В. Жуковского.
[2070]
Ср. выше (803с), а также кн. I, 644а и прим. 35.
[2071]
Диодор Сицилийский, описывая законодательство Харонда, сообщает, что «все дети граждан должны были учиться читать и писать, обучаясь за счет государства, нанимавшего учителей» (XII 12).
[2072]
Савроматиды
– амазонки, от брака которых со скифами произошло племя савроматов (Геродот
IV 113–116).
[2073]
Имеется в виду Аттика.
[2074]
О гимнастических упражнениях
девушек и женщин в Спарте читаем у Плутарха (Ликург XIV, сл.).
[2075]
Красочное и детальное описание хозяйственных забот идеальной жены в зажиточной афинской семье находим у Ксенофонта (Домострой 7‑9 // Сократические сочинения).
[2076]
Ср. V 739а‑е.
[2077]
См. II 665d.
[2078]
В трагедии Эсхила «Семеро против Фив» Этеокл с возмущением говорит о женщинах:
Вас спрашиваю, женщины, несносный род,
Что это: помощь города спасению,
Опора сердцу войска осажденного –
Богов кумиры обнимать, упавших в пыль,
Вопить и плакать? Вы чума для мудрых всех!
И в дни беды и в счастья дни чудесные
Мне с женщинами тошно хороводиться.
Они упрямо‑дерзки в торжестве своем.
А в страхе – зло вдвойне семье и городу.
181‑190, пер. А. Пиотровского.
[2079]
Эта военная пляска метрически выражалась стопой, состоящей из двух кратких слогов (пиррихий), имитирующих быстрые и ловкие движения.
[2080]
Ср. у Ксенофонта (Пир 7) слова Сократа о танцах, которые изображают «такие положения, в которых рисуют Харит, Ор и нимф». Атеней рассказывает о танцовщицах на свадьбе, «одетых, как нереиды и нимфы» (IV 130а).
[2081]
Букв. «находящаяся в согласии с ладом», т. е. «приличная». Гесихий (Έμμέλεια) поясняет: «Вид пляски. Платон хвалит ее… Названа так по определенному ладу или по тому, что с ним связано. Пляска трагическая». В комедиях и сатировских драмах были пляски с резкими и непристойными телодвижениями, так называемые кордакс и сикин.
[2082]
Проблема объединения серьезного
и смешного
характерна для Платона как ученика Сократа. По этому принципу строится, например, жанр пира, где самые сложные темы преподносятся в обстановке смеха и шуток (см. «Пир» – одноименные сочинения – Платона, Ксенофонта, Плутарха). На единении серьезного и смешного построена также сократовская ирония. Ср.: прим. 99 к диалогу «Пир».
[2083]
Ср. этот диалог государственных мужей и трагических поэтов с обращением законодателей идеального государства к изгоняемому Гомеру (Государство III 398а).
[2084]
О необходимости
и ее силе см.: Тимей, прим. 74.
[2085]
Здесь, несомненно, пифагорейская увлеченность Платона наукой о числах, которая дала себя знать во многих диалогах, а особенно в кн. VIII «Государства» (см., напр., прим. 14 к ней) и в «Тимее» (см., например, прим. 48 к нему). Ср. также представление Платона о боге как геометре – прим. 9 к кн. VI.
[2086]
Ср.: Протагор 356е, Горгий 451b.
[2087]
Диодор Сицилийский подробно рассказывает об обучении письму (обычному и священному), арифметике, геометрии и астрологии египетскими жрецами своих сыновей. Дети простых людей обучаются своими родителями или родственниками определенному ремеслу. Обучать чтению имеют право лишь посвященные в искусства. Борьбе и музыке не обучают, так как первая предосудительна, а вторая изнеживает человека (I 81).
[2088]
Игру в шашки
Платон ставит рядом с арифметикой, искусством счета и геометрией. См.: Горгий 450d, прим. 6.
[2089]
Блуждающие
(πλανήτης), т. е. планеты.
[2090]
Утренняя звезда
– Геосфор и Вечерняя
– Геспер – не что иное, как одна и та же планета Венера, или по‑греч. Фосфор (несущая свет), которая при удалении к востоку бывает видна после захода солнца как яркая вечерняя звезда, а при удалении к западу перед рассветом – как яркая утренняя. Уже Пифагор знал о тождественности этих светил.
[2091]
О движении планет см.: Тимей, прим. 49, 53.
[2092]
О разных видах охоты
см.: Софист, прим. 7. Об охоте и образах охоты у Платона см.: Classen С. J.
Untersuchungen zu Platons Jagdbilderri. Berlin, 1960.
[2093]
См.: Горгий, прим. 84, а также прим. 46.
[2094]
О взаимоотношении души
и тела
см.: Горгий, прим. 45 и прим. 80.
[2095]
См.: Ион, прим. 11.
[2096]
Аттический стадий
равен 177,6 м. 60 стадий – около 11 км.
[2097]
Крит
с его пересеченной местностью был неудобен для конного спорта.
[2098]
Лай
– фиванский царь, отец Эдипа, похитивший Хрисиппа, сына Пелопа (Athen.
XIII 602f // Athenaeus.
The deipnosophists / By Ch. В. Gulick. I–VII. London, 1957–1963), за что был проклят сам, а также весь его род. Эту же историю рассказывают Аполлодор (III 5, 5, 10) и Элиан (Пестрые рассказы / Пер. С. Поляковой. М.; Л., 1963. XIII 5). См. также изложение мифа у Гигина (fab. 85 Rose).
[2099]
Фиест
и его дочь Пелопия были родителями Эгисфа (см.: Феаг, прим. 10), если судить по примечанию Цеца к сообщению Аполлодора, не указывающего имени дочери (Apollod.
Epitom. II 14). Об Эдипе
см.: Алкивиад II, прим. 2, 3. По Гигину (fab. 238 Rose), «Эол убил свою дочь Канаку из‑за кровосмешения с братом Макареем».
[2100]
Об Икке
см.: Протагор, прим. 24.
[2101]
О Крисоне
см. там же, прим. 44. Астил
из Кротона – бегун, победитель на 73‑х Олимпийских играх. Диопомп
– известный бегун, которого схолиаст именует фессалийцем.
[2102]
Имеется в виду Афродита
Пандемос, см.: Пир, прим. 31 и 40.
[2103]
О скромности брачных обычаев в Спарте пишет Плутарх, приписывая Ликургу введение «стыдливости и сдержанности», а также изгнание «пустого бабьего чувства ревности»: он научил «сограждан смеяться над теми, кто мстит… видя в супружестве собственность, не терпящую ни разделения, ни соучастия» (Ликург XV).
[2104]
В Спарте каждый участник общих трапез, сисситий, вносил ежемесячно в установленном размере ячменную крупу, вино, сыр, финики, смоквы и 10 оболов на мясо. На Крите все доходы с общинной земли делились пополам, одна половина шла на управление государством и на храмы, другая – на сисситий.
[2105]
Зевс
как охранитель рубежей
встречается крайне редко. Кроме Платона см. у Демосфена об алтаре Зевса – охранителя границ за пределами Херсонеса (VII 39 // Демосфен.
Речи / Пер. С. И. Радцига. М., 1954). Зевс – охранитель рубежей соответствует термину «божественное олицетворение границы» (Plut.
Num. XVI). «Охранитель рубежей» не является сакральным эпитетом Зевса и потому не засвидетельствован в изд. «Epitheta deorum quae apud poetas graecos leguntur». Coll., disp., ed. C. Bruchmann. Lips., 1893 (отд. изд. и в качестве дополнения в мифологическом лексиконе Рошера).
[2106]
«Единоплеменный» не является сакральным эпитетом Зевса. О Зевсе Гостеприимном
см. кн. V, прим. 2.
[2107]
Ср. сентенцию Гесиода о соседях:
Истая язва – сосед нехороший; хороший – находка.
В жизни хороший сосед приятнее почестей всяких,
Если бы не был сосед твой дурен, то и бык не погиб бы.
Работы и дни 346–348, пер. В. В. Вересаева.
[2108]
Богиня
– Деметра или богиня Урожая – Опора. Виноградная лоза посвящена Дионису. См.: Гомеровские гимны VII 39 сл. Пер. В. В. Вересаева // Античные гимны. М., 1988.
[2109]
Созвездие Арктура,
так называемого стража Большой Медведицы (Гесиод.
Работы и дни 566–568), иначе еще называли Волопасом (Боотом) (Гомер.
Од. V 272). Штраф
вносился в храм Диониса.
[2110]
Ср. строгую регламентацию ремесел в «Государстве», где каждый должен владеть только одним ремеслом, но зато хорошо (II 370bс; III 394с).
[2111]
Закон о
совместном столе.
[2112]
Колония, о которой идет речь, устраивается на древней земле магнетов,
выходцев из Фессалии.
[2113]
Т.е. метек
(см. ниже, 850с, IX 866с) – свободный иностранец, долгое время живущий в Афинах, но ограниченный в правах. Например, метеки не имели в собственности земли, однако несли военную службу и повинности. В Спарте же метекам оседлость не дозволялась (Хеn.
Lac. pol. XIV; Плутарх.
Ликург XXVII).
[2114]
Здесь метафора, происходящая от поверья, что семя, при посеве попавшее на рог вола, становится таким же твердым. См. у Теофраста (De causis plant. IV 12, 13 Wimmer).
[2115]
Ср. с унизительными наказаниями законодателя Харонда: вместо смертной казни он предписывал одевать мужчин в женское платье и заставлял их сидеть три дня на площади для всеобщего осмеяния и позора.
[2116]
Платон явно противопоставляет ученого и философствующего врача, какими были, например, Эриксимах и его отец Акумен (см.: Пир, прим. 16), врачу‑эмпирику. Первый лечит человека в целом, второй видит лишь какое‑то отдельное заболевание. Первый обладает свободно рассуждающим умом, второй рабски зависит от опыта.
[2117]
Букв, δόξα σοφίης – то, что Платон именует «мнением» в отличие от истинного знания и против чего он постоянно борется. Ср.: Менон, прим. 44.
[2118]
Как видно, по Платону, преступник, нарушивший закон в безумии или болезни, освобождается от наказания, но возмещает вред – пеней и религиозным очищением. В архаической Греции за преступление, и без смягчающих обстоятельств, даже за убийство, было достаточно пени. У Гомера читаем:
Ведь даже и брат за убитого брата
Вознагражденье берет, и отец за умершего сына!
И средь народа убийца живет, заплатив сколько нужно,
Пеню же взявший и мстительный дух свой, и гордое сердце –
Все укрощает.
Ил. IX 632–636, пер. В. В. Вересаева.
[2119]
Об очищении в храме Аполлона Дельфийского и недостаточности этого ритуала в случае преднамеренного убийства см.: Эсхил.
Евмениды.
[2120]
Ср.: Гомер.
Ил. XXIV 480–484, где убийца внушает ужас тем, с кем он встретился.
[2121]
Об изгнании убийцы читаем у Еврипида:
Нет, хорошо придумали отцы:
Как человек запятнан кровью, встречи
Он должен избегать и не позорить
Согражданам глаза, сначала пусть
Очистится изгнаньем.
Орест 512–516, пер. И. Анненского.
[2122]
См. 8, прим. 21.
[2123]
Выше, 865е, срок изгнания за то же преступление определен в один год.
[2124]
Наказание смертью, см. выше, 866с.
[2125]
Ср. беспощадность афинского законодателя к убийце родителей и трактовку этой темы у греческих трагиков, особенно у позднейшего из них, Еврипида (в «Оресте»), у которого мудрый Тиндар осуждает «кровавую цепь» убийств, когда вместо судьи над убийцей появляется палач. «…Убийцы не убивай. Иначе загрязнен всегда один последний мститель будет» (516 сл.).
[2126]
Имеется в виду стремление к наживе.
[2127]
Т.е. Дика – богиня справедливости. О ней Платон говорит не раз. См.: Горгий, прим. 80; Федр 247b.
[2128]
В трагедии Эврипида «Орест» граждане решают голосованием судьбу Ореста и Электры, убивших мать: «Камнями побить иль не побить?» (442).
[2129]
Интересно рассуждение Аристотеля о самоубийце, который, убивая себя «против веления истинного разума», чего не дозволяет закон, совершает преступление «против государства, а не против себя… поэтому‑то его и наказывает государство» и налагает на него «известного рода бесчестье» (Никомахова этика V 15, 1138а 9‑14).
[2130]
Ср., например, мнение Плутарха, который считал «нелепыми» аттические законы Солона о женщинах, включавшие убийство любовника жены или штраф в 100 драхм за похищение и изнасилование свободной женщины (Солон XXIII). См. также знаменитую речь Лисин «Об убийстве Эратосфена» (I). Муж, убивший любовника жены, оправдывает себя, ссылаясь на старинный аттический закон.
[2131]
Ср. вышеизложенные рассуждения Платона о наказаниях и книгу V «Никомаховой этики» Аристотеля, посвященные выработке определения справедливости и несправедливости в плане частном и государственном.
[2132]
Возможно, текст искажен.
[2133]
У Еврипида Гермиона призывает Зевса – покровителя родственных связей
(Андромаха 921), а у Аристофана к нему взывает раб Ксанфий (Ran. 750).
[2134]
Сократ в «Воспоминаниях…» Ксенофонта говорит своему собеседнику, что государство подвергает наказанию и «не допускает к занятию государственных должностей» тех, «кто не почитает родителей». «Если кто не украшает могил умерших родителей, и об этом государство производит расследование при испытании должностных лиц» (II 2, 13).
[2135]
Взгляд, впоследствии широко распространенный в эпикурействе с его междумириями, где обитают боги независимо от мира, см. также ниже, 888с.
[2136]
Доказательство существования богов
в данном месте можно сравнить с рассуждением Протарха в «Филебе» (28е), где для его признания он считает вполне достаточным чувственно представляемый мир с Солнцем, Луною и звездами. Подобную же аргументацию народного верования находим у эпикурейца Лукреция: люди стали верить в богов,
Видя, что ночь и луна по небесному катятся своду,
День, и ночь, и луна, и ночи суровые знаки,
Факелы темных небес и огней пролетающих пламя…
V 1189–1191, пер. Ф. Петровского.
Известны также знаменитые строки Цицерона о том, что всякий раз, «как мы смотрим на небо и созерцаем небесные явления», мы не можем «не почувствовать внутренне, что есть существо, превосходящее всех совершенством своего разума, которое всем этим управляет» (О природе богов II 2). В «Тускуланских беседах» Цицерон еще раз повторяет: «Мы верим в существование богов, потому что нет ни одного столь дикого народа, нет никого столь грубого из всех людей, чтобы представление о богах не завладело его умом» (I 13, 30).
[2137]
Здесь, возможно, Афины противопоставляются Спарте и Криту (как это очень часто встречается в «Законах»). Однако, по мнению некоторых, это место надо понимать более отвлеченно, а именно «в другом духовном мире».
[2138]
Имеется в виду поэма Гесиода «Теогония».
[2139]
См. критику гомеровского и гесиодовского представлений о богах у философа‑досократика Ксенофана (В 11, 12 Diels). См. также: Софист, прим. 24.
[2140]
Имеется в виду учение Анаксагора об Уме, которое не раз упоминается Платоном. См.: Горгий, прим. 18.
[2141]
Некоторые
– философы‑досократики, так называемые натурфилософы. О происхождении всего из природы
см.: Софист, прим. 23. О «случае» и «самопроизвольности» – там же, прим. 45. О соотношении природы и случая в историческом плане см.: Тахо‑Годи А.
Природа и случай как стилистические принципы новоаттической комедии // Вопросы классической филологии. 1971. №3‑4. С. 217–272.
[2142]
Имеются в виду те же натурфилософы.
[2143]
Ср.: Софист, прим. 16, 18.
[2144]
Ср.: Тимей 38е – о телах в космосе, связанных «одушевленными узами».
[2145]
Ср. происхождение космических тел и времени в «Тимее» (38с – 39с), где они связаны с деятельностью демиурга, а не природы
и случая,
по учению досократиков.
[2146]
Имеются в виду взгляды софистов с их апологией искусства, мастерства, сноровки человека. См.: Горгий 448с и прим. 2.
[2147]
Ср.: Горгий, прим. 32.
[2148]
Диоген Лаэрций свидетельствует, что первым учил об этом Архелай, учитель Сократа. У него «справедливое и постыдное существуют не по природе, а по закону» (II 4, 16), т. е. являются вещами относительными, условными, зависимыми от человеческих установлений. У Ксенофонта софист Гиппий говорит Сократу: «А разве можно придавать серьезное значение законам и повиновению им, когда сами творцы их часто отменяют их и переделывают?» (Воспоминания… IV 4, 14).
[2149]
Противопоставление природы
и закона
характерно для софистов. См.: Гиппий Больший, прим. 14, Протагор, прим. 46, Горгий, прим. 30.
[2150]
Ср.: Апология Сократа, прим. 23, где говорится о том, что в этом же грехе обвиняли Сократа его противники.
[2151]
Ср.: Тимей 34с – о душе,
которая старше тела
и господствует над ним.
[2152]
См. о семи видах движения:
Тимей, прим. 43.
[2153]
Здесь излагается точка зрения Анаксагора, см.: Горгий, прим. 18.
[2154]
Огонь как первоначало – у Гераклита, а вода – у Фалеса. См. также прим. 8. См.: Гиппий Больший, прим. 2, 21, Федон, прим. 47.
[2155]
О самодвижущей и вечной душе см.: Федр 245с‑е: «Вечнодвижущееся бессмертно… Только то, что движет само себя, раз оно не убывает, никогда не перестает и двигаться, и служить источником и началом движения для всего остального, что движется». Аристотель пишет о том, что «познание души может дать много нового для всякой истины, главным же образом для познания природы. Ведь душа есть как бы начало живых существ» (О душе I 1, 402а 4‑6).
Стоически настроенный Цицерон также рассуждает о вечности того, что постоянно движется, не имея ни начала, ни конца движения. То, что «само собой движется», не может «ни работать, ни умереть», а само это и есть не что иное, как душа, и притом, конечно, вечная, сознающая, что она «движется своею, а не чужою силою». Любопытно, что Цицерон, подбирая аргументацию вечности и самодвижности души, полагает, что «плебейские философы», т. е. те, которые не соглашаются с Платоном, Сократом и их последователями, «не только не изложат ничего так точно, но даже этого самого, хоть оно просто изложено, не поймут» (Тускуланские беседы I 23).
[2156]
В «Тимее» Платона сам Тимей, излагающий учение о космической душе
и демиурге, решительно утверждает его благость, боясь помыслить о том, что он может не быть благим (29а). Сам же космос, или космическая душа, тоже один живой организм (30d), созданный по образу творящего (31аb). Таким образом, представление о двух душах, или демиургических началах, из которых одно благое, а другое противоположно ему, противоречит «Тимею».
Плутарх в трактате «Об Изиде и Озирисе», рассматривая религии восточных народов – халдеев, персов, египтян, полагает, что «самые мудрые из них» признавали два принципа в основе мира (De Iside et Osiride 40 // Moralia. Vol. II / Rec. et emend. W. Nachstadt – W. Sieveking, J. B. Titchines. Leipzig, 1971). В связи с этим он излагает учение Зороастра о мировой борьбе блага – Ормузда и зла – Аримана. В подтверждение своей мысли Плутарх приводит доказательства из греческой философии (48). Он перечисляет Эмпедокла с его Любовью и Враждой, Гераклита с его Войной – отцом всех вещей, пифагорейцев с их оппозициями, Анаксагора, у которого есть благой Ум и дурная бесконечность – апейрон. Здесь же находит место Платон, обычно, как отмечает Плутарх, скрывающий свои взгляды, но все‑таки признающий одно – неизменное, благое и другое – изменяемое, злое. Однако в «Законах» Платон «без загадок и аллегорий» приходит к выводу о мире, управляемом доброй и злой душой, помещая между ними третью субстанцию, находящуюся всегда под влиянием этих двух мировых душ и выбирающую лучшую из них. На этом основании Плутарх сближает философию Платона с египетской теологией. Климент Александрийский со своей стороны полагает, что намек языческой философии на «дьявольское, демоническое начало заключается в учении о злой душе в десятой книге „Законов“ Платона» (Строматы V 14, 92, 5‑6).
[2157]
Ср.: Тимей 34b. – о душе, вложенной демиургом во вселенную, и 41de – о душах, которыми он наделил все светила.
[2158]
Ср.: Тимей 38с, 40d – 41b, где весь космос наполнен богами. По свидетельству же Аристотеля, еще Фалес высказал мысль о том, что «все полно богов» (А 22 Diels), причем эту же мысль Фалеса подтверждает Аэций: «Бог есть разум мира, вселенная же одушевлена и вместе с тем полна демонов» (А 23 Diels).
[2159]
См. прим. 2.
[2160]
Ср. «Работы и дни» Гесиода, где «боги и люди» негодуют на тех, кто «праздно жизнь проживает, подобно безжальному трутню» (303 сл.).
[2161]
Ср. «Тимей», где бог сам именуется демиургом, т. е. ремесленником, мастером
(28с) и даже строителем (29а).
[2162]
Конъектура.
[2163]
Гомер.
Од. XIX 43.
[2164]
О судьбе души в связи с мировой справедливостью см.: Горгий, прим. 80.
[2165]
Гомер.
Ил. IX 500.
[2166]
Само название тюрьмы от σώφρων – разумный – указывает на заключение с целью вразумления тех, кто совершил преступление не по злому умыслу, а по невежеству.
[2167]
Имеется в виду Солон, который требовал наказать смертью всякого покусившегося на чужое (Диоген Лаэрций
I 57).
[2168]
Схолиаст к этому месту поясняет, что это может быть Артемида, или Селена, освещающая дороги ночью, или Аполлон‑Агией, «Уличный», дающий свет днем, или Гермес – проводник путников. Однако Селена‑Луна, как известно, отождествлялась с Гекатой‑Тривией, «Владычицей перекрестков», так что, возможно, здесь имеется в виду эта последняя.
[2169]
Священная болезнь
– эпилепсия.
[2170]
На это место Платона и на авторитет Пифагора и Сократа ссылается Климент Александрийский (Строматы V 14, 99, 1‑3), признавая необходимость запрещения клятв.
[2171]
Помещение, где собираются агораномы.
[2172]
Помещение, где собираются астиномы.
[2173]
Гефест
– покровитель ремесленников, а особенно кузнецов. О его художественных работах см. у Гомера (Ил. XVIII 369–615 – щит Ахилла), Гесиода (Теогония 578–584 – венец Пандоры), Аполлония Родосского (Аргонавтика III 215–235 // Александрийская поэзия / Пер. Г. Церетели. М., 1972 – дворец, источники, медные быки, железный плуг). Афина
здесь – Эргана, «Работница» (Павсаний
I 24, 3), почиталась вместе с Прометеем в Академии (I 30, 2). Софокл писал о «рабочем люде, что грозноликой дочери Зевса Эргане» молится (fr. 760 N. – Sn.). См. также: Протагор, прим. 33, Кратил, прим. 64.
[2174]
Арес
– бог войны, покровитель воинов, настолько срастается с представлениями о кровавых сражениях, что даже отождествляется с копьем, несущим смерть (Ил. XII 442–444), или самой битвой (Эсхил.
Агамемнон 78). Мудрая Афина – покровительница героев, со своей стороны дает воинам разумность в защите государства. Ср.: Anth. Pal. XV 157 Beckby – об Афине Тритогении, которая «мощно хранит» детей города Кекропса.
[2175]
Т.е. Зевс
Полиух («Градодержец»), или Полней («Городской»), и Афина Полиада, Полиухос («Градозащитница») (Ил. VI 305 – έρυσίπτολις – покровители государственности).
[2176]
Имеется в виду надпись на дельфийском храме: «Познай самого себя». См.: Алкивиад I 124ab, прим. 46, Протагор 343ab.
[2177]
Отзвуки этого обычая можно найти в знаменитой легенде о Софокле, обвиненном в безумии своим сыном и оправданном судом. Поздний ритор и юрист Квинтилиан подтверждает, что по закону сын может только в том случае обвинить отца, если «причиной будет слабоумие» (VII 4, 10).
[2178]
См.: Софокл.
Эдип в Колоне 421–460, где изгнанный слепой Эдип проклинает своих сыновей Этеокла и Полиника.
[2179]
В «Илиаде» Гомера (444–480) старый Феникс
рассказывает о своем отце Аминторе,
проклявшем его в давние годы после того, как сын вмешался в распрю между отцом и матерью, задумав убить отца, а затем бежал из дома. Тесей,
обманутый женой, проклял Ипполита,
погибшего страшной смертью. См.: Эврипид.
Ипполит.
[2180]
В ответ на проклятие Аминтора и его обращение к Эриниям ему помогли Зевс подземный и Персефона (Ил. IX 457). Посейдон губит Ипполита, помогая Тесею. Алфея молила Аида, Персефону и Эринию о смерти своего сына Мелеагра; Эриния «просьбу ее услыхала в Эребе» (Ил. IX 565–572).
[2181]
О колдовстве и ворожбе см.: Феокрит.
Идиллия II («Колдуньи»), Аполлоний Родосский
III 844–868 (Медея готовит зелье Язону), Вергилий.
Буколики VIII 62‑101 (заклятия, обращенные к Дарнису).
[2182]
Фемида
– богиня правосудия, которая некогда, еще до Аполлона, владела Дельфами и была дочерью Геи‑Земли (Эсхил.
Евмениды 1‑8). Фемида даже отождествлялась с Геей‑Землей, имея, однако, «один образ под множеством имен» (Эсхил.
Прометей прикованный 209 сл.).
[2183]
Имеется в виду гомеровский гимн III «К Гермесу», сюжет которого – воровство и обманы ловкого малыша, сына Зевса и Майи, Гермеса.
[2184]
Осуждение безначалия
находим у Софокла:
А безначалье – худшее из зол.
Оно и грады губит, и дома
Ввергает в разоренья, и бойцов,
Сражающихся рядом, разлучает.
Порядок утвержден повиновеньем.
Нам следует поддерживать законы…
Антигона 672–677, пер. С. Шервинского.
[2185]
У Гесиода читаем:
Есть еще дева великая Дика, рожденная Зевсом,
Славная, чтимая всеми богами, жильцами Олимпа.
Если неправым деяньем ее оскорбят и обидят,
Подле родителя‑Зевса немедля садится богиня
И о неправде людской сообщает ему.
Работы и дни 256–260, пер. В. В. Вересаева.
[2186]
См.: Гомер.
Ил. XVI 792–800 – Аполлон сбивает шлем с головы Патрокла,
сына Менетия. XVII 125–127 – Гектор
снял с Патрокла доспехи. Доспехи Ахилла были подарены богами Пелею
в день его свадьбы с Фетидой (Ил. XVIII 83‑85).
[2187]
См.: кн. IV, прим. 5.
[2188]
Как сообщает схолиаст, фессалийца Кенея,
бывшего некогда девушкой Кенидой, превратил в мужчину Посейдон. Эта история рассказана Овидием в «Метаморфозах» (XII 189–209), где Кенида превращена в мужчину по собственной воле, получив в дар от Посейдона неуязвимость.
[2189]
Евфины
– 10 должностных лиц в Афинах, проверявших денежные отчеты в государстве. Греч, ευθύνη – отчет.
[2190]
Гелиос
– сын титана Гипериона (Гесиод.
Теогония 371–374), бог‑Солнце, с которым позднее отождествляли Аполлона.
[2191]
В греч. тексте остается неясным механизм первоначального избрания евфинов:
является ли 75‑летний возраст пределом пребывания в должности, или он ограничивает лишь возможность участия в выборах; не ясен также и механизм дополнительных выборов евфинов.
[2192]
Феория
– священное посольство. Например, известны феории. посвященные Аполлону, на о‑в Делос. См.: Критон, прим. 1, а также Федон 58а‑с.
[2193]
Пифия
– пророчица в Дельфийском храме Аполлона (см · Федр, прим. 27).
[2194]
Блаженным после смерти считается добродетельный и безупречный человек. Ср. у Гесиода об умерших людях серебряного века:
После того, как земля поколенье и это покрыла,
Дали им люди названье подземных смертных блаженных.
Работы и дни 140 сл., пер. В. В. Вересаева.
[2195]
См.: Апология Сократа, прим. 54.
[2196]
См. у Гесихия Александрийского и в словаре Суда о Радамантовой клятве (Ραδάμανθυς όρκος).
[2197]
Здесь феор
– блюститель законов. В Мантинее, например, феоры принимали договорные клятвы верности (Фукидид V 479).
[2198]
В Олимпии
(долина реки Алфея в с.‑з. части Греции, Элиде) была роща, посвященная Зевсу, его храм со статуей работы Фидия и стадион, где происходили Олимпийские игры и где некогда победителем оказался сам Аполлон (Павсаний
V 7, 6‑11). В Немее
праздновались игры, основанные семью вождями во время их похода на Фивы. На Истмийском
перешейке были роща и храм Посейдона и устраивались игры, основанные Тесеем (Плутарх.
Тесей 25). В Олимпии победителей увенчивали венком из маслины, в Дельфах – лавром, в Немее – венком из сельдерея, а на Истме – сосновым венком (Павсаний
VIII 48, 2). См. также: Критон, прим. 4, Феаг, прим. 25, Федр, прим. 27.
[2199]
Героический стих
– гекзаметр – шестистопный дактиль с усеченной последней стопой. Им писались героические поэмы.
[2200]
Солон, например, издал закон, запрещавший женщинам вопли и причитания по покойникам и хождение на чужие могилы, кроме как в день похорон (Плутарх.
Солон XXI).
[2201]
О видах добродетели
ср.: Менон, прим. 8, а также: Протагор, прим. 29, Горгий, прим. 27 и 31.
[2202]
Анельт предлагает поправку: вместо не очень уместного κεκτημένους – «имеющих», которые вынуждает переводчика добавлять «эти знания» (в тексте таких слов нет), – читать κεκλημένους – «называемых» и переводит: «Будем ли мы называть одинаково?» (т. е. одних и других).
[2203]
См. X, прим. 6.
[2204]
См. там же, прим. 7.
[2205]
Ср.: Государство X 607с и прим. 12.
[2206]
См. X, прим. 20.
[2207]
По схолиасту, эта поговорка из комедии Ферекрата «Человеко‑муравьи» основана на том, что в игре в кости трижды шесть свидетельствует о «полной победе».
[2208]
Ср. у Софокла (Эдип в Колоне 1215–1217, 1224–1227, пер. С. Шервинского
.):
Что нам долгие дни! Они
Больше к нам приведут с собою
Мук и скорби, чем радостей.
Или:
Не родиться совсем – удел
Лучший. Если ж родился ты,
В край, откуда явился, вновь
Возвратися скорее.
[2209]
Текст испорчен.
[2210]
Ср.: Тимей 34а – 36e – о числовых законах и соотношениях космоса, который есть не что иное, как божество.
[2211]
Для Платона с его пифагорейскими симпатиями все выразимо через число.
Ср.: т. 3, Государство, ки. VIII, прим. 14 – о брачном числе.
[2212]
Известны «Теогонии» Гесиода, Ферекида Сирского, Эпименида, орфиков.
[2213]
Неясно, что имеется в виду. Выше об этом не говорилось.
[2214]
Текст древних рукописей испорчен. Перевод по варианту более поздних рукописей, приводимому Барнетом в критическом аппарате.
[2215]
См.: Законы, кн. X, прим. 20.
[2216]
Ср.: Тимей, прим. 40, 70 – о геометрическом соотношении элементов и происхождении живых существ.
[2217]
Ср.: Тимей, прим. 57.
[2218]
См.: Политик, прим. 46.
[2219]
См.: Горгий, прим. 80; Государство, кн. X, прим. 29.
[2220]
Ср.: Тимей 40с.
[2221]
Ср.: там же 40d – 41а – о богах,
произошедших от Земли и Неба.
[2222]
См.: там же 41а – 42е – противопоставление богов народной религии «богам видимым», звездам
и даймонам.
[2223]
О даймонах
(гениях) см.: Апология Сократа 27с‑е, прим. 29; Пир, 202de.
[2224]
Имеются в виду нимфы вод, рек, источников.
[2225]
Неясное место; перевод «мог бы» – по принятой рядом издателей поправке, даваемой Барнетом в критическом аппарате. В самом тексте у Барнета, как в рукописях: «не мог».
[2226]
Солнечный и лунный год не одинаковы.
[2227]
Ср.: Федр, 246b, 247а‑с.
[2228]
Не вполне ясное место; в рукописях разночтение.
[2229]
Ср.: Тимей 38с и прим. 52 – об именах богов‑планет.
[2230]
См.: Законы IX, прим. 13.
[2231]
Ср.: Гесиод.
Работы и дни 383, 571, 597, 609, 615 сл., 619 сл. – о Плеядах Сириусе, Орионе, Арктуре. О видах движения ср.: Тимей, прим. 49, 52.
[2232]
Слово «геометрия» букв, означает «измерение земли».
[2233]
Ср. учение пифагорейцев о соответствии арифметических чисел и линий на плоскости, где единица соответствует точке, два – линии, определенной двумя точками, четыре – плоскости, определенной четырьмя точками, восемь – трехмерному телу, определенному восемью точками (кубу).
[2234]
Платон здесь имеет в виду числа 9 и 8: 9 состоит из 6 + 3, т. е. 1/2
числа 6, а 8 состоит из 6 + 2, т. е. 1/3 числа 6.
[2235]
Здесь явно учение о восхождении от единичного к
общему, родовому.
[2236]
Имеется в виду изучение законов космоса, неба, движения звезд, открывающих человеку мудрость демиурга, как его понимает Платон в «Тимее».
[2237]
Согласно «Федру», искусство диалектики
«в душе человека насаждает и сеет… речи, способные помочь и самим себе и сеятелю, ибо они не бесплодны, в них есть семя, которое родит новые речи в душах других людей, способные сделать это семя навеки бессмертным…»
[2238]
Enthymema – «то, что находится в уме» (en thymoi) – логическое доказательство, высказанное неполностью, часть которого подразумевается, т. е. такое умозаключение (силлогизм), в котором из двух высказываний (посылок) следует новое высказывание (заключение) той же структуры, что и посылки. Аристотель относил энтимему к
«риторическим доказательствам», к «самому важному из способов убеждения».
[2239]
Аподиктические
– доказательные. Эристические
софистические, эристика – софистический спор (от древнегреч. eris спор, раздор) ради спора, которому Платон противопоставлял диалектическую беседу, направленную на достижение истины.
[2240]
Платон не употребляет слова hyle для обозначения материи
, как это делает Альбин, заимствовавший его у пифагорейца Тимея Локрского и Аристотеля. О материи у Аристотеля и сравнении его понимания материи с платоновским см.: Лосев А. Ф
. История античной эстетики. Аристотель и поздняя классика. М., 1975, с. 56–68.
[2241]
О божественном образце
см.: Государство VI 500 E. В «Тимее» Платон называет создателя космоса демиургом, т. е. мастером.
[2242]
Для Платона идеи
не составляют мышления бога
. Они сами божественны, а «идея идей», т. е. предельное обобщение идей, тождественна божеству. Что касается настоящей трактовки, то здесь заметно влияние неоплатонической философии и терминологии.
[2243]
Ср. учение Анаксагора, у которого Ум
– Нус имел все функции божества.
[2244]
Вся дальнейшая характеристика ума
(3‑8) связана с представлениями Аристотеля об уме‑перводвигателе, получившими дальнейшую неоплатоническую разработку.
[2245]
Физиками
, или фисиологами, именовали в Древней Греции натурфилософов, или философов природы (от древнегреч. physis природа). Гераклит
(VI в.) из Эфеса в Ионии – один из основателей диалектики.
[2246]
См. «Тимей» 30 BC, где в оригинале ennoyn («мыслящий»), а не noeron, – термин, обычно употребляемый неоплатониками.
[2247]
Стихи из недошедшей трагедии Еврипида «Хрисипп». Фиванский царь Лаий
похитил Хрисиппа
, сына Пелопса, за что навлек на себя и свой род проклятие богов. Известна страшная судьба сына Лаия Эдипа и его детей.
[2248]
Здесь Альбин использует аристотелевские термины «потенция» или «возможность» (dynamis), и «действительность» (energeia) (в настоящем переводе возможное
и действительное
).
[2249]
Мысль, не раз высказываемая Сократом в платоновских диалогах, например в «Горгии»: «…если бы оказалось неизбежным либо творить несправедливость, либо переносить ее, я предпочел бы переносить».
[2250]
Идеальны
, по Платону, государства
, основанные на «беспредпосылочном начале»; это начало есть абсолютное благо, которое само себя обосновывает и символически выражено в образе солнца.
[2251]
Имя «Платон» происходит от древнегреч. platos – ширина, широта; имя «Феофраст» – от древнегреч. Theophrastos – «богоречивый», отличающийся божественным слогом. Феофраст
из Эреса (IV–III вв.) – философ‑перипатетик, ученик Аристотеля, автор ряда сочинений, в том числе «Характеры» и «О слоге, или стиле» (последний трактат до нас не дошел).
[2252]
Симмий
из Фив, друг Сократа, учился у пифагорейца Филолая.
[2253]
Таргелион
, одиннадцатый месяц аттического года – от середины мая до середины июня. Седьмой день
Таргелнона – 21 мая, когда на о‑ве Делосе, по преданию, родился бог Аполлон
.
[2254]
Гора Гиметт вблизи Афин славилась душистыми травами и медом.
[2255]
Мимы
– драматические бытовые сценки. Софрон
из Сиракуз (Сицилия) – автор V в.
[2256]
Кратил
из Афин – последователь Гераклита. Кратилу принадлежит высказывание о том, что нельзя войти в одну и ту же реку даже один раз. См. также «Кратил». Гермипп
из Смирны (Малая Азия) – греческий грамматик III в. Ему принадлежат жизнеописания философов. Парменид
, греческий философ, глава элейской школы (V в.), учил о едином бытии как истинном предмете мысли, находя в чувственном мире только смутные и нерасчлененные ощущения.
[2257]
Дионисий Старший – сиракузский тиран (Сицилия), при дворе которого в 389–387 гг. находился Платон, приглашенный туда своим другом, известным государственным деятелем Дионом.
[2258]
Диоген Лаэрций упоминает Аксиофею (а не Дексифею), которая даже одевалась по‑мужски.
[2259]
Приводимый оракул засвидетельствован только здесь.
[2260]
Имеются в виду философы‑стоики Древней Стои – Зенон, Клеанф, Хрисипп (IV–III вв.).
[2261]
Имеются в виду Эпикур (IV–III вв.) и его последователи, развивавшие учение о невмешательстве богов в жизнь мира.
[2262]
Перипатетики
– последователи Аристотеля, представители философской школы IV в. до н. э. – III в. н. э.
[2263]
Новые академики
– основатель Новой (3‑й) Академии Карнеад и его ученик Клитомах (III–II вв.) разрабатывали теорию вероятностного знания, т. е. стояли уже на пути к скептицизму.
[2264]
Спарты
– букв. «посеянные» (от древнегреч. speiro сею), по преданию, люди, появившиеся из земли, когда герой Кадм, убив дракона, посеял в землю его зубы.
[2265]
Ср. высказывание в «Пире» о том. что «все люди беременны как телесно, так и духовно».
[2266]
Автор «Пролегомен…» пользуется христианской и неоплатонической терминологией.
[2267]
Эсхин
(IV в.) – афинский оратор и политик, противник Демосфена. настроенный промакедонски.
[2268]
Агафон
– афинский трагический поэт (V в.), близкий к софистам.
[2269]
Фукидид
, сын Олора (V в.), – древнегреческий историк, автор сочинения «Описание Пелопоннесской войны», отличающегося сжатым, деловым стилем и стремлением к объективному изложению фактов. Описание доведено до 411 г.
[2270]
Прокл
(V–VI вв.) Афинский – знаменитый философ‑неоплатоник.
[2271]
Cпевсипп
, племянник Платона, возглавил после его смерти Академию.
[2272]
См. «Горгий», где проводится аналогия между риторикой
и поварским искусством
.
[2273]
Этимологии
посвящен диалог «Кратил».
|