Теоретические проблемы коммуникативной диалектологии
Страница 9
Анализ показывает, что диалектность слова воспринималась Клюевым прежде всего как признак народности, исконности речи, поэтому он мог включать в текст и инодиалектные лексемы, если в местной речи нужное значение передавалось словом, совпадающим с литературным, а текст требовал особых стилистических знаков. Так, по нашим данным и по данным областных словарей, грудок в значении “костер” не свойственно олонецким говорам, по крайней мере в настоящее время. Это, по-видимому, тверское, псковское слово, в Мегре и Коштугах говорят костер. Между тем у Клюева:
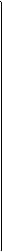 Тучи, как кони в ночном,
Тучи, как кони в ночном,
Месяц - грудок пастушонка.
Вся поросла ковылем
Божья святая сторонка.
И там же:
Но ср.:
И матка сорочья - сорока сорок
Крылом раздувала заклятый грудок.
То плющий костер из глазастых перстней
С бурмитским зерном, чтоб жилось веселей .
("Песнь о Великой Матери")
| |
Светит небесный грудок
Нашей пустынной любови.
Гоже ли девке платок
Супить по самые брови?
("Тучи, как кони в ночном .")
|
И слышно, как сова, спеша засеть в дуплище,
Гогочет и шипит на солнечный костер.
("Сготовить деду круп, помочь развесить сети .")
|
Если относительно отдельных диалектных особенностей, прежде всего — фонетических черт, не получающих явного выражения на письме (например, произношение конечного СТ как С, о чем говорят клюевские рифмы "Алконост" — "слез", "Алконост" — "Христос", или отсутствие в ряде случаев перехода Е в О под ударением: рифмы "для посева" — "веселый", "берестой" — "невестой"), еще можно предположить, что их появление в стихах не всегда замечалось автором, то не вызывает сомнений, что использование Клюевым большей части диалектных форм и слов — результат сознательного выбора мастера. Чтобы убедиться в этом, достаточно сравнить язык его заонежских песен, насыщенных фольклорными мотивами и формами и северо-западными диалектизмами, с языком других стихотворных циклов, где народно-поэтических и диалектных форм гораздо меньше. О том же свидетельствует и тот факт, что далеко не всякое северо-западное диалектное явление получает место в "пестрядинных" стихах Н.Клюева. Мы не находим в них глагольных форм 3 л. настоящего времени без конечного Т, не встречаем форм существительных Тв. п. мн. числа на -ам, характерных местных форм Пр. п. существительных (в избы, в Мегры и т.д.) и др. Это объясняется, на наш взгляд, тем, что, с одной стороны, такие морфологические диалектизмы заметно нарушали бы принятый графический облик слов, а у Клюева (это характерно для старообрядческой культуры в целом) — обостренное чувство письменной фактуры речи. Поэтический "звукоцвет" для него — "в белой букве, в алой строчке,// В фазаньи-пестрой запятой" ("Где рай финифтяный и Сирин ."); между словом и делом у Клюева стоит буква.[11]
С другой стороны, упомянутые морфологические диалектизмы не несут особого, дополнительного содержания и неизбежно делали бы текст просто малограмотным. Когда же за диалектными морфологическими формами может стоять добавочный смысл, особенно смысл, обусловленный спецификой крестьянской культуры, Клюев не пренебрегает ими. У него, например, наряду с формой в лесах неоднократно встречается и распространенная в севернорусских говорах форма во леся'х.[12] В мегорском говоре и сегодня наряду с "в лесу", "в лесах" фиксируется форма "в ли'сях" с особым оттенком обстоятельственногозначения: в местах и во время лесной работы, обычно — лесоповала. Вероятно, существованием этого оттенка и мотивировано использование Клюевым параллельных форм "в лесах" и "во лесях". Лексемы "грудок" и "костер" (см. выше) для Клюева, возможно, тоже не были абсолютными синонимами, так как "костёр" широко известно в русских, в том числе в олонецких говорах со значениями "куча хворосту, дров" и "поленница".
Клюев не "знакомит" читателя с устно-речевой народной культурой, не цитирует ее, а творит в уникальной сфере своей языковой личности, которая, конечно, не покрывается полностью текстами его произведений и включает в себя в значительной мере традиционную деревенскую культуру, устную и письменную традиции старообрядцев, семиотику современных ему литературных течений и другие культурные коды и произведения. Неизбежным следствием этого является сложность, а нередко и противоречивость интерпретации произведений поэта, которая делается особенно заметной при сопоставлении результатов осмысления клюевского слова в аспекте литературных норм и диалектного узуса. Яркий пример — форма "сучьё" в строфе:
За окном рябина,
Словно мать без сына,
Тянет рук сучьё.
И скулит трезором
Мглица под забором —
Темное зверьё.
("Погорельщина")
В современном русском литературном языке нет слова "сучьё". Уже в силу своей ненормативности оно воспринимается как экспрессивное образование. Построенные по той же модели собирательные существительные имеют в литературном языке нейтральное (дубье, батожье) или чаще, у собирательных названий живых существ, — резко отрицательное оценочное значение (воронье, комарье, зверье, мужичье, бабье и под.). "Сук" ассоциируется для носителей литературной речи скорее с жестким, твердым, старым, чем с гибким, мягким, молодым. Строка "Тянет рук сучье" создает образ больных корявых сучьев-рук, что как будто соответствует смыслу всей строфы.
В мегорском же говоре, как и во многих других говорах этого региона, по-другому, чем в литературном языке, строятся соотносительные категории единичности, множественности, собирательности, вещественности. Там "сучье", как и "кустье", "гвоздье" и под., — регулярная, узуальная и не экспрессивная форма. Кроме того, "сук" в мегорском и коштугском говорах не ассоциируется со старым и жестким, сучье-“ветви” может быть гибким и молодым; все это меняет образ рук-ветвей, не лишает его возможной нежности, женственности, по-своему трансформирует конфигурацию экспрессивности строфы.
С другой стороны, литературно говорящему читателю союз но в клюевских стихах сам по себе не кажется необычным, неожиданным, нарочитым. Между тем мегорский говор, как, видимо, и другие русские говоры, почти не знает данного книжного элемента. Уже одним этим определяется высокая экспрессивность фраз с союзом но в оценке их "с позиции" диалекта. Существенно и то, что но у Клюева (всегда в начале строки) используется нередко и в необычной для этого союза в народной речи композиционной функции, — функции темпорального и / или тематического переключения.[13]
Проявления народно-разговорного диалектного начала в поэзии Клюева не сводятся к собственно диалектизмам, как бы заметны и многочисленны они ни были. В его стихах (заметнее, чем в эпистолярном творчестве) прослеживается рассмотренный выше принцип речевого отражения мира, — принцип совмещения ситуации-темы и ситуации текущего общения. Одно из средств его реализации — использование междометий и междометных выражений для синхронизации ситуации-темы с ситуацией общения. В поэтической речи Клюева эту функцию часто играют междометия "чу" и "глядь". Например:
Осенняя явь Обонежья,
Как сказка, баюкает дух.
Чу, гул . Не душа ли медвежья
На темень расплакалась вслух?
("Пушистые, теплые тучи .")
или |
Над мертвою степью безликое что-то
Родило безумие, тьму, пустоту .
Глядь, в черепе утлом - осиные соты,
И кости ветвятся, как верба в цвету!
("Поле, усеянное костями .") |